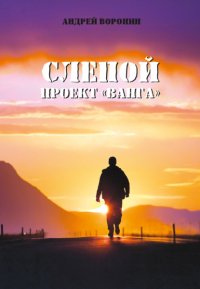Читать онлайн Слепой. Волчанский крест бесплатно
- Все книги автора: Андрей Воронин
© Подготовка, оформление. ООО «Харвест», 2007
* * *
Глава 1
С низкого серого неба крупными хлопьями валил мокрый снег. Резкий, пронзительный ветер гнал его навстречу, хлестал сырыми плетями по лицу, норовя залепить глаза, забивал тающую на лету дрянь в каждую щель, в каждую складочку одежды. Под ногами хлюпала и чавкала ледяная грязная каша; машины проносились мимо с мокрым шорохом и плеском, и за каждой, как коричневатый туман, облаком клубилась взметенная колесами грязь. Сквозь пелену косо летящего снега перемигивались разноцветными фасеточными глазами новомодные светофоры повышенной яркости; во многих окнах, несмотря на дневное время, горел свет, казавшийся в этой серой туманной мгле каким-то болезненным, нездоровым. Над Москвой бушевала очередная весенняя метель, и никто даже не пытался утверждать, что она последняя, хотя март уже перевалил за середину и подаренные дамам на праздник тюльпаны давно завяли и осыпались.
Ветер со снегом хлестал в согнутые спины прохожих, выворачивал наизнанку редкие мокрые зонты, рвал их из рук, задирал тяжелые полы намокших пальто. Под навесами автобусных остановок жались друг к другу, как овцы в загонах, люди; у обочин тихо гнили, заваленные слежавшимся, перемешанным с едкими химикалиями грязным снегом забытые нерадивыми хозяевами автомобили. Мокрые рекламные растяжки надувались, как паруса застигнутого внезапным шквалом корабля; по загорелым, обветренным щекам пятиметровых ковбоев с рекламы сигарет «Мальборо» текла талая вода, и казалось, что ковбои плачут, внезапно убоявшись рака легких, о котором предупреждала сделанная внизу рекламного плаката неброская надпись.
Человек, шагавший навстречу ветру по Тверской, не боялся ни рака легких, ни цирроза печени, ни мокрого снега, ни ветра, ни вообще чего бы то ни было – такой, по крайней мере, у него был вид. Кожа его широкого, скуластого лица была выдублена почище, чем у рекламных ковбоев; рост, ширина плеч, а также прочие габариты внушали невольное уважение всякому, кто бросал на этого прохожего мимолетный взгляд. На мохнатой шапке с болтающимся сзади пушистым волчьим хвостом тяжелой сырой нашлепкой лежал снег, грудь и плечи потертой кожаной куртки также были покрыты трескающейся, поминутно отваливающейся мокрыми пластами и сейчас же снова вырастающей снежной коркой. Сырые хлопья таяли на светлых прокуренных усах и налипали на густую рыжеватую бороду, придавая прохожему сходство с Дедом Морозом – вернее, с западным Санта-Клаусом, поскольку для Деда Мороза борода у него была коротковата.
Легкая не по сезону потертая коричневая кожанка, судя по всему, если и не поднималась в небо, то, как минимум, хранилась когда-то на складе вещевого довольствия ВВС – российских, а может, еще и советских. На ногах у этого странно и старомодно одетого человека красовались тяжеленные яловые сапожища на меху, с пряжками на икрах – теплые, непромокаемые, более уместные где-нибудь в заболоченной тайге, чем на Тверской, в самом центре Москвы. Обладателя давно вышедшей из моды волчьей шапки, военно-воздушной кожанки и сапог заполярного образца можно было, хоть и с некоторой натяжкой, принять за дачника, но только по одежде. Одного взгляда в это обветренное бородатое лицо было достаточно, чтобы понять: нет, такой человек не станет убивать время, возделывая грядки. У людей постарше, помнивших золотые времена расцвета диссидентства и бардовского движения, нездешний вид бородача вызывал вполне определенные ассоциации – что-нибудь наподобие «Песенки полярных летчиков»: «Кожаные куртки, брошенные в угол, тряпкой занавешенное низкое окно»…
Охранник салона-магазина «Эдем», специализировавшегося на торговле дорогими ювелирными изделиями, был слишком молод и недалек, чтобы помнить диссидентов, бардов и прочую муру, связанную с «флибустьерским дальним синим морем». Ему было двадцать три, он четырежды в неделю посещал тренажерный зал, наращивая мускулатуру, занимался боевыми единоборствами, обожал песни Михаила Круга и зачитывался романами Роберта Говарда – не всеми, разумеется, а лишь теми, что повествовали о подвигах Конана-варвара. Под белоснежной рубашкой, которая обтягивала крутые плечи охранника, на выпуклой, как наковальня, груди красовалась цветная татуировка, изображавшая того самого варвара – в полный рост, с выставленной напоказ чудовищной мускулатурой и громадным мечом в руке.
Короче говоря, никакой «фантастики-романтики» в вошедшем в магазин нелепо одетом человеке, облепленном тающим снегом, охранник не углядел. В зеркальном тамбуре, стряхивая с одежды мокрые хлопья, тут же превращавшиеся в воду, стоял типичный лох, по ошибке сунувшийся не в те двери, а то и вовсе завернувший погреться, как будто тут не элитный ювелирный салон, а дешевая тошниловка, где торгуют пивом и гамбургерами с собачатиной. Покинув стенку, которую до этого подпирал, охранник неторопливо двинулся навстречу вошедшему.
Собственно, фейс-контроль как таковой в его обязанности не входил: в конце концов, оставлять свои деньги в кассе магазина никому не возбраняется. Однако, судя по одежде, денег на то, чтобы сделать покупку в «Эдеме», у вошедшего могло хватить лишь в том случае, если он ради этой покупки продал собственное жилье.
Хотя… Обветренное бородатое лицо в сочетании с волчьей шапкой и тяжелыми сапогами наводило-таки на мысли о таежных просторах – тех самых, где скрываются неисчислимые богатства, от нефти и газа до алмазов величиной с кулак взрослого мужчины. Оттуда, из-за Уральского хребта, порой приезжают фрукты, способные в один присест опустошить даже витрины «Эдема», расплатившись за все наличными, прямо не отходя от кассы. И грязноватая матерчатая сумка – цилиндрическая, из тех, что когда-то звались «батонами», – висевшая за левым плечом странного посетителя, могла вмещать не бутылку водки, подштанники и драный, провонявший дымом свитер, а что-нибудь около миллиона зеленых американских рублей. Еще как могла!
Впрочем, с таким же успехом она могла содержать в себе и обрез охотничьей двустволки, заряженный медвежьим жаканом или, боже сохрани, крупной сечкой – то бишь рублеными гвоздями, которые при выстреле с небольшого расстояния производят в человеческом организме такие разрушения, что никакой картечи даже и не снились. Охранник представил себе, как смотрелся бы обрез в красной, здоровенной, как лопата, лапе таежного романтика. Увы, обрез гораздо лучше сочетался с этой разбойничьей рожей и яловыми сапогами, чем, скажем, тугая пачка стодолларовых банкнот.
Человек в волчьей шапке вдруг спохватился, повернулся к входной двери, приоткрыл ее и щелчком выбросил на улицу окурок папиросы, сделав напоследок глубокую затяжку. Входя из тамбура в торговый зал, он выпустил из легких дым, при этом отчетливо завоняло паленой паклей. Охранник, продолжая сомневаться, сделал еще один шаг, и тут посетитель впервые взглянул прямо ему в лицо.
Это был спокойный, заинтересованный взгляд, в котором без труда угадывался полунасмешливый вопрос: «Тебе чего, братишка?» Взгляд этот в сочетании с габаритами посетителя и его легкими, непринужденными движениями произвел на охранника неожиданно глубокое впечатление. Вообще-то, он неоднократно говорил всем, у кого было желание его слушать, что чем больше шкаф, тем громче он падает. Однако теперь охранник вдруг сильно усомнился в своей способности опрокинуть вот этот отдельно взятый, одетый в потертую пилотскую кожанку «шкаф». Почудилось вдруг, что силой остановить этого странного типа будет все равно что пытаться боксировать с паровозом. Охранник внезапно, впервые в жизни, устыдился своих наращенных с помощью химии мышц и своей самонадеянной татуировки. Перед ним стоял настоящий Конан-варвар – правда, в российском и слегка осовремененном варианте; это был один из тех самородков, о которые можно гнуть ломы и ломать дубовые брусья.
Короче говоря, охранник и сам не заметил, как слегка попятился, уступая посетителю дорогу. Тот отвел от него пристальный, обманчиво доброжелательный взгляд и прошел мимо, обдав охранника сложной смесью запахов. Пахло от него скверным табаком, мокрой псиной (это от шапки, пропади она пропадом!), водочным перегаром, чесноком и сапожным кремом. то есть, пардон, старорежимным удушливым гуталином.
Первые два или три шага по гладким, сверкающим, как зеркало, полированным каменным плитам посетитель сделал осторожно, как по катку, но затем, убедившись, по всей видимости, что подошвы находятся в достаточно надежном сцеплении с полом, зашагал увереннее. Мокрый волчий хвост мотался у него между лопаток, пятнистая от влаги матерчатая сумка висела за плечом, сапоги оставляли на стерильно чистом полу мокрые грязноватые отпечатки, потертая кожанка поскрипывала при каждом шаге. В просторном, как актовый зал, залитом ярким светом помещении сразу стало как-то тесновато. «Здоровенный, черт, – глядя в широкую спину посетителя, с завистью подумал охранник. – Метра два с гаком, и плечи, как у племенного быка. Здоровый, блин, как самосвал!»
Он поймал на себе удивленный, вопросительный взгляд продавца и, сделав непроницаемое лицо, отвел глаза. Ну, хрена ли пялиться? Да, тип, спору нет, странноватый, но у нас свободная страна, где каждый имеет право выглядеть как хочет. А здесь тебе не режимный объект, куда посторонним вход воспрещен, а магазин, хоть и дорогой. Не хочешь его обслуживать – сам ему об этом скажи, если говорилкой рискнуть не боишься. Порядка он не нарушает, стибрить ничего не пытается. по крайней мере, пока. Когда возникнут проблемы, тогда и посмотрим, как с ним быть, а пока что он, как говорится, в своем праве.
– Я могу вам чем-нибудь помочь? – с подчеркнутой, почти издевательской вежливостью поинтересовался продавец, бросив в сторону охранника еще один недовольный, полупрезрительный взгляд.
Посетитель, который рассеянно разглядывал витрину с массивными золотыми крестами, пользовавшимися большой популярностью у братвы, которая побогаче, и у политиков, которые недалеко от нее ушли, повернулся к нему всем своим массивным, кряжистым, как дубовый комель, телом и откровенно оглядел продавца с головы до ног. Похоже, осмотр его не удовлетворил: рыжеватая борода ехидно шевельнулась, серые глаза сощурились, скрывшись в густой сетке мелких морщинок, упрятанные под навесом прокуренных усов губы сложились в насмешливую улыбку, и хрипловатый голос поинтересовался:
– А постарше никого нету?
И без того достаточно индифферентная физиономия продавца окончательно закаменела, превратившись в некое подобие посмертной гипсовой маски.
– К сожалению, нет, – произнес он ледяным тоном.
Посетитель еще раз оглядел его от прилизанной макушки до того места, где фигура продавца переходила в свое отражение в стекле витрины, с явным сомнением цыкнул зубом, пятерней пригладил усы и бороду, собрав с них капельки талой воды, и равнодушно, как бы от нечего делать, спросил:
– А ты тут как – просто побрякушки продаешь или маленько разбираешься, что к чему?
– Маленько разбираюсь, – не без яду заверил его продавец и постучал указательным пальцем по приколотой к нагрудному карману рубашки табличке, где, помимо его имени и фамилии, была указана также должность: «продавец-консультант».
– Ишь ты – консультант, – с насмешливым уважением протянул посетитель. – Стало быть, тебя-то мне и надо. Ну-ка погляди, сколько это может стоить?
С этими словами он запустил свою огромную лапищу куда-то за пазуху, долго там рылся и наконец выудил оттуда какой-то предмет, который показал продавцу, держа на ладони. Охраннику была видна только массивная цепь желтого металла, свисавшая, покачиваясь, между его большим и указательным пальцами. Судя по характерному маслянистому блеску, это было червонное золото, и притом обработанное с мастерством, доступным далеко не каждому из теперешних ювелиров.
Охранник увидел, как у продавца разом округлились глаза и рот. Это длилось какую-то долю секунды; в следующее мгновение продавец овладел собой и протянул руку, чтобы пощупать лежавший в широкой ладони посетителя предмет.
– Э, э, – предостерегающе воскликнул тот, – полегче, сынок! Глазами смотри! Что ты, ей-богу, как маленький? Еще лизни его. Или на зуб попробуй.
Продавец послушно отдернул руку и даже убрал ее за спину, но тут же спохватился и оперся ею о прилавок.
– Ну? – спросил посетитель.
– Так, на глаз, что-то определенное ответить трудно, – замялся продавец. – Если это то, чем кажется.
– Когда кажется, креститься надо, – перебил посетитель. – На кой ляд ты тут стоишь, если на глаз золото от чугуна отличить не можешь? Стал бы я в такую даль переться, если б не знал, что везу. Я тебя, сынок, не спрашиваю, что это такое; я тебя спрашиваю: сколько ты мне за это дашь?
– Одну секунду, – сказал продавец и, судя по характерному движению руки, нажал спрятанную под прилавком кнопку.
Неприметная дверь в дальнем конце торгового зала почти сразу отворилась, и оттуда вышел Пал Палыч во всей своей красе – низенький, толстенький, морщинистый и лысый как колено. Лысину его окружали смешно торчащие в разные стороны седые кудряшки, из-за которых Пал Палыч смахивал скорее на Абрама Моисеевича или Гирша Мордехаевича. Колобком подкатившись к посетителю, он сунул любопытный нос ему в ладонь, чему бородач не препятствовал.
– Ну вот, – с добродушным упреком сказал бородач, адресуясь к продавцу, – а говоришь, ты тут самый старший. Ну как, папаша, хороша вещица?
Пал Палыч озадаченно хмыкнул, нацепил на переносицу очки, заглянул в ладонь бородачу через сильные линзы, а потом, словно этого было мало, извлек из внутреннего кармана мятого, засаленного пиджачка мощную лупу и глянул сквозь нее.
– Недурно, – заявил он наконец, – очень недурно! Поздравляю, молодой человек, вы обладаете довольно ценным предметом. Не желаете ли продать?
– А для чего, по-вашему, я сюда притащился? – грубовато осведомился бородач. – Ясно, желаю! Только эта штучка хороших бабок стоит, за рупь двадцать я ее хрен кому отдам.
– Разумеется, разумеется! – с энтузиазмом воскликнул Пал Палыч. – О чем вы говорите! Конечно же! Десять тысяч вас устроит?
– Рублей, что ли? – пренебрежительно уточнил бородач, делая попытку спрятать свое сокровище в огромном кулаке.
– Что вы, как можно?! – оскорбился Пал Палыч. – Евро, разумеется!
«Охренеть можно, – подумал ошеломленный охранник. – Десять тысяч евриков! Правильно говорят: не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Если сам Палыч вот так, с ходу, готов отвалить за эту хрень такие бабки, сколько же она на самом-то деле стоит? Что вдвое дороже – это факт, даже к гадалке не ходи. А пожалуй, что и больше. Вон, у старого хрена аж очки раскалились от жадности, прямо трясется весь, как эпилептик, впору «скорую» вызывать.»
Бросив вызывающий победный взгляд в сторону младшего продавца, – дескать, что, съел? – охранник начал осторожно, бочком придвигаться к бородачу, чтобы заглянуть ему в пятерню и увидеть наконец, что же он такое притаранил, из-за чего Палыча чуть Кондратий не обнял.
Не тут-то было! Бородач, словно у него на затылке под волчьей шапкой была припрятана запасная пара глаз, покосился на него через плечо и слегка выставил обтянутый коричневым облупленным рукавом локоть. Охранник, впрочем, успел разглядеть, что на ладони у него лежит крест – здоровенный нательный крестище, впору какому-нибудь епископу или даже патриарху, на массивной золотой цепи, которая одна, наверное, стоила половину его годового жалованья. а может, и больше. Тяжелый крест был богато изукрашен каменьями, и цветными, и прозрачными, – бриллиантами, рубинами, сапфирами, а не ограненным стеклом. Охранник быстро сообразил, что клиента, как говорится, разводят на пальцах: крестик этот стоил как-нибудь побольше десяти тысяч; имея связи и хорошо подвешенный язык, его можно было задвинуть за все тридцать, а при удачном стечении обстоятельств так и за добрых пятьдесят.
Ведь как оно нынче делается у умных-то людей? Допустим, предмет сам по себе имеет определенную ценность. Взять, к примеру, орден какой-нибудь – старинный, с брюликами. Святую Анну какую-нибудь. Ну, Анна и Анна. Вещь, конечно, дорогая, но и только. А вот если к этой Анне присочинить красивую историю – типа ее сам Суворов Александр Васильевич с груди снял и какому-нибудь герою, чудо-богатырю земли русской, на простреленный мундир прицепил, – тогда, ребята, за эту самую Анну с клиента можно вдесятеро содрать. Есть такие чудики, что готовы за вещицу с биографией не глядя отвалить целое состояние. И то, что биография эта в девяноста девяти случаях из ста на поверку оказывается липовой, их нисколько не волнует: каждый почему-то убежден, что обвести вокруг пальца могут кого угодно, но только не его. А некоторые, хоть и подозревают, наверное, что их разводят, заботятся только о том, чтобы легенда была сфабрикована на совесть – так, чтобы расколоть ее могла только самая тщательная, непредвзятая профессиональная экспертиза. На такую экспертизу они свое приобретение нипочем не отдадут и будут до конца жизни хвастаться перед знакомыми: видали, чего у меня есть? Ясно, орденов таких навалом, а вы гляньте-ка на это! Наградные документы – раз, письменные свидетельства очевидцев памятного события – два, а вот и тот самый мундир, на который генералиссимус Суворов собственноручно прицепил снятый прямо со своей груди орден, – зеленый, пыльный, с дыркой от пули и с пятном засохшей геройской крови. Мундир, конечно, зеленый и с дыркой, а не орден.
И между прочим, Палыч по части сочинения таких вот легенд был великий мастер. Точно, конечно, не скажешь, но похоже, что всю эту индустрию изобрел и наладил то ли он сам в одиночку, то ли в компании с коллегами. Но что у истоков стоял – это, братки, медицинский факт. Ясно, в последние годы он остепенился, забросил сомнительные делишки, начал, понимаешь, беречь репутацию. Однако когда подворачивался случай, вполне мог тряхнуть стариной. Вот как сейчас, например. Ведь видно же, что крест этот и сам по себе бешеных денег стоит, а если к нему еще легенду присобачить, это уже будет настоящая сенсация. Открытие сезона! Аукцион! Чемодан бабок.
Ай да Палыч! Ай да сукин сын!
А Палыч тем временем вовсю подтверждал высокое мнение охранника о своей персоне, обламывая клиента, который вздумал, видите ли, торговаться и вместо предложенных ему десяти кусков запросил аж двадцать. В чем-то он был, несомненно, прав, вещь того стоила, да только не на таковского напал: Палыч стоял насмерть, как двадцать восемь героев-панфиловцев в одном флаконе, и явно не намеревался ничего добавлять сверх предложенной суммы.
Аргументация у него была железная. Во-первых, втолковывал он клиенту, выручить за эту вещь больше десяти тысяч будет трудно – даже ему, Палычу, с его огромным опытом и солидной репутацией. А ведь есть еще накладные расходы, налоги и т.д., и т. п. Но, согласитесь, он же сидит здесь не просто так, не для собственного удовольствия, а ради материальной выгоды. Потому что есть-пить-одеваться надо даже старику. Верно? Верно!
Во-вторых, еще неизвестно, стоит ли вещь даже тех денег, которые он, Палыч, готов за нее заплатить.
– Вам повезло, молодой человек, такие вот кресты – моя слабость, мой конек. Пользуйтесь случаем, юноша, никто, кроме меня, за него вам столько не предложит.
В-третьих, происхождение данного предмета, прямо скажем, туманно.
– Нет, я вас умоляю, не надо мне ничего рассказывать! Сказать можно это, сказать можно то, но ясное, чистое происхождение – это знаете что? Документы, свидетельства, печати, фотографии. товарный чек, наконец. Прошу еще раз заметить: я обладаю достаточным опытом и репутацией, чтобы не бояться сопряженного с данной сделкой риска, но таких, как я, в Москве немного и с каждым днем становится все меньше. И я – единственный, кого интересуют именно нательные кресты. Кто-то другой просто не станет с вами связываться, побоится.
В-четвертых, юноша, я не сын Рокфеллера и даже не его племянник. Десять тысяч – это все, что я могу вам предложить. Больше нет ни в кассе магазина, ни в сейфе, ни даже, извините, в моем бумажнике. Что, простите? Подождать? Бога ради! Но, придя сюда завтра или, скажем, через неделю, вы можете обнаружить, что в моем распоряжении нет даже этой суммы. Более того, успокоившись и поразмыслив, я могу просто передумать.
О, разумеется, вы можете обратиться в другое место! Только не надо забывать, что это Москва. Вы телевизор смотрите иногда? Знаете, сколько людей пропадает без вести в нашей столице каждый год? Да что там, каждый божий день! Знаете? Ну вот. А я лично знаю людей, которые вас за эту вещицу прирежут и глазом не моргнут. И ничего им за это не будет, потому что они на таких делах собаку съели. И тело ваше никогда не будет найдено, и вообще. Да нет, я вас вовсе не пугаю. Я же вижу, это бесполезно. Вы же настоящий сибирский богатырь, вы ничего на свете не боитесь. Ступайте. Не силой же мне, старику, вас удерживать, это было бы смешно и неприлично. Ступайте, и дай вам бог вернуться из этого вашего коммерческого вояжа живым. Да нет уж, какие тут к дьяволу шутки.
Все это произносилось ласковой скороговоркой, с шутками и прибаутками, и примерно к середине разговора даже охранник, точно знавший, что к чему, невольно поверил, что Палыч питает к клиенту искреннее расположение и желает ему, дураку, только добра, даже в ущерб собственному бизнесу. О, Палыч был мастер обувать людей в лапти, да так, чтобы они, обутые, его еще и благодарили. Словом, на то, чтобы клиент окончательно спекся, старику понадобилось четыре с половиной минуты – охранник засек время по часам, заключил сам с собой пари и проиграл: он думал, что процесс уламывания продлится не меньше десяти минут.
– Короче, – сказал по истечении названного срока положенный на обе лопатки бородач. – Уговорил, отец. Забирай! Хороший ты человек, и дело с тобой иметь приятно. Недосуг мне по вашей Москве бегать, мне бабки срочно нужны. Жалко, что ты такой бедный, а то бы мы с тобой нормальный бизнес наладили.
– Бизнес? – рассеянно переспросил Палыч, изучая крест через мощный бинокуляр при свете двухсотсвечовой электрической лампы. За разговором он успел переместиться за свою конторку, и теперь клиент, поставив локти на прочный барьер, беседовал с его блестящей, обрамленной седыми кудряшками лысиной. – Бизнес – это хорошо. А бедность – понятие относительное. В конце концов, я мог бы взять ссуду в банке или у кого-то из своих старых клиентов. Было бы стоящее дело, а деньги, молодой человек, найдутся. На то, знаете ли, и бизнес, чтоб с бедностью бороться!
Говорилось все это рассеянно, между делом, просто чтобы не молчать. Денег у Палыча хватало для любого бизнеса – ну, разве что какой-нибудь металлургический комбинат был ему не по карману. Да и какой бизнес мог предложить ему этот сибирский валенок? Организовать шоу-программу и за деньги гнуть в ночных клубах подковы и прочие скобяные изделия? На что он еще годится, этот медведь с волчьим хвостом на затылке? Тряпок приличных купить не сумел, а туда же – бизнес.
– Бизнес, папаша, нормальный, – заявил между тем бородач. – Мировой бизнес, тебе такой и во сне не снился. Я гляжу, побрякушки у вас в витринах – так себе, ширпотреб.
– Клиенты не жалуются, – осторожно возразил Палыч, сдвигая на лоб бинокуляр. Его мутноватые стариковские глазенки вдруг сделались остренькими, как пара буравчиков. – А что, вы можете еще что-то предложить? Что-то, что, по вашему мнению, не является ширпотребом?
– Ну а то, – сказал бородач. – Стал бы я с тобой иначе разговоры разговаривать.
– И много у вас таких. э. предметов? – совсем уж осторожно, даже вкрадчиво, поинтересовался Палыч.
– А сколько тебе надо? – напрямую бухнул бородач, воображая, по всей видимости, что говорит уклончиво, намеками, и вообще ведет себя в высшей степени хитро и дипломатично.
Палыч, который, надо отдать ему должное, тоже умел видеть, что творится кругом, казалось, всей поверхностью тела, повернул голову и строго посмотрел сначала на младшего продавца, а потом и на охранника. Под этим суровым, предупреждающим взглядом охранник опомнился и аккуратно закрыл рот, а продавец, тоже опомнившись, выдвинул у себя за прилавком какой-то ящик и принялся без всякой видимой нужды что-то в нем перебирать.
– Прошу поправить, если я ошибаюсь, – сказал Палыч, – но у меня такое впечатление, что вы нашли клад или что-то в этом роде.
– Может, и нашел, – сказал бородач, верно оценив прозвучавшую в реплике Палыча вопросительную интонацию. – Только это, папаша, никого не касается, и тебя – в последнюю очередь. Нашел не нашел – твое дело сторона, понял?
– Понял, – ласково сказал Палыч.
От этой его ласковости охраннику стало немного не по себе. Он тоже кое-что понял.
Он видел, что руки младшего продавца замерли, перестали перебирать в ящике побрякушки, и понял, что продавец тоже обо всем догадался и теперь ждет событий, которых, кажется, уже не миновать. Клад. Да еще состоящий из таких или примерно таких игрушек, как этот крест! Поставки он решил наладить, олух царя небесного. Ну, теперь молись!
– Короче, – продолжал бородач, который, продемонстрировав свою непроходимую тупость, уже не казался охраннику таким уж мощным и несокрушимым, – мое дело предложить, твое – отказаться. Я привожу побрякушки, ты даешь нормальную цену, и мы расходимся до следующего раза – ты меня не видел, я тебя не знаю. Если устраивает, могу снова быть у тебя через неделю. Успеешь бабки достать?
– Думаю, да, – сказал Палыч, бросил еще один быстрый, косой взгляд на охранника и вдруг, подняв левую руку, трижды ущипнул себя за мочку уха.
Со стороны этот жест выглядел совершенно невинно. Люди вечно хватают себя за разные места, особенно когда задумаются и перестанут следить за своими руками. Но у Палыча, во-первых, была привычка в задумчивости массировать переносицу, а во-вторых, вот это движение – три щипка за мочку левого уха – было между ними оговорено давным-давно.
Это, черт его подери, был сигнал к вполне определенным, конкретным действиям.
– Палыч, – неожиданно охрипшим голосом произнес охранник, – мне бы в сортир на минутку. Ты не против?
– Против, – сказал Палыч. – Я против того, чтоб ты обмочился прямо тут и испортил нам все удовольствие от сделки. Давай, только быстро.
– И расстегнуться не забудь, – добавил бородач, явно почувствовавший себя здесь своим в доску – чуть ли не деловым партнером. – А то неприятно, когда в ботинках хлюпает.
Охранник не обратил внимания на это напутствие и поспешил скрыться в подсобном помещении, на ходу вынимая из висящего на поясе чехла теплую от соседства с телом трубку мобильного телефона.
* * *
Захар Макарьев сидел на переднем сиденье, справа от водителя, – на том месте, которое принято называть «хозяйским», – и сквозь забрызганное грязью окно смотрел на проплывающие мимо московские улицы.
Москва ему не нравилась – была она слишком большая, шумная и суетная да вдобавок ко всему еще и неожиданно грязная – словом, совсем не такая, какой Захар привык видеть ее по телевизору. А уж черных-то, черных!.. В самом деле, кавказцев тут было столько, что Макарьев, ей-богу, не понимал, против кого, собственно, чеченские террористы проводят свои террористические акты. Ведь тут же, куда эту треклятую бомбу ни подложи, непременно зацепишь парочку своих земляков! В метро куда ни глянь – черные. На улице – черные. В магазине – опять они. А уж на рынках-то, на рынках!.. Да мать моя, мамочка, чего про рынки говорить, когда подойдешь к менту дорогу спросить, а он обернется – ба! – и этот черный! По-русски лыка не вяжет, а туда же, погоны нацепил, страж порядка.
И машины. Это же сосчитать невозможно, сколько их тут! И все несутся как на пожар, хотя в правилах дорожного движения черным по белому написано: в черте города – шестьдесят кэмэ в час, и не больше. Читать они, что ли, не умеют или тут, в Москве, законы не такие, как во всей России?
Машин Захар побаивался даже тогда, когда шел по тротуару, отделенный от проезжей части широким газоном с деревьями и даже с металлическим ограждением. Что ограждение, когда они несутся, как из пушки? Не дай бог, откажет на такой скорости рулевое – никакое ограждение не спасет. На такой скорости можно сквозь кирпичную стену проехать.
Сейчас, когда он находился внутри несущейся по Тверской машины, а не снаружи, ему было ненамного веселее. Таксист гнал как сумасшедший, совершая такие маневры, за которые в родной Захаровой Волчанке его бы непременно догнали, выволокли за шиворот из машины и ввалили бы ему по первое число – так, чтоб забыл, где у машины перед, а где зад. Впрочем, другие участники движения в долгу не оставались, и только мужская гордость мешала Захару Макарьеву зажмуриться и сидеть так, пока они не прибудут по назначению.
Такси наконец остановилось, напоследок окатив погребенный под огромным сугробом газон потоком грязной талой жижи из-под колес. На противоположной стороне улицы Захар разглядел зеркальную витрину и вывеску с названием магазина – «Эдем». Это вроде бы рай. Ну-ну.
– Подождем, – сказал он таксисту.
Тот в ответ только равнодушно пожал плечами. Ему была обещана двойная оплата, счетчик щелкал, так почему бы и не подождать? Как говорится, солдат спит – служба идет.
Захар Макарьев выковырял из-под одежды трубку мобильника, казавшуюся в его мосластой ладони маленькой и несерьезной, вроде одноразовой китайской зажигалки, неуклюже потыкал пальцем в подсвеченные красным клавиши и с важным до комичности видом приложил трубку к уху.
– Ну, – сказал он недовольно, дождавшись ответа, – где ты лазишь? Я уже на месте. Что?.. Ага, вижу.
Он уже действительно разглядел Горку, который, вынырнув из стеклянных дверей какой-то забегаловки, торопливо шлепал по снеговой жиже к машине. Одной рукой Горка прятал в карман телефон, а другой – утирал влажные, лоснящиеся губы. Жест был очень характерный, и Захар подумал, что зря, наверное, взял с собой этого алкаша. Нужно было позвать кого-то другого, но кого? Кто в Волчанке не алкаш? Зато Горка – свой в доску, пуд соли вместе съели. И главное, он один из немногих, кто полностью в курсе – не чуть-чуть, не более или менее, а полностью. Больше Захара и Горки про все эти дела знал разве что мэр Волчанки Николай Гаврилович Субботин да этот его здоровенный прихлебатель, который, если верить Горке, в данный момент обретался внутри «Эдема».
Горка был невысокий, щупленький, весь какой-то сгорбленный, скрюченный, краснорожий и носатый. Из-за этой несерьезной внешности его, собственно, и звали Горкой – не Егором, не Егоркой даже, а именно Горкой, причем все, от мала до велика. Просто в голову никому не приходило назвать этого шибздика полным именем. Даже участковый как-то раз, составляя протокол за выбитое по пьяному делу соседово окошко, так и написал в своей филькиной грамоте: Горка. Потом, конечно, спохватился, зачеркнул и написал как положено.
Зато фамилия у Горки была знатная – Ульянов. Из-за этой фамилии, ясное дело, пытались его Лениным дразнить, однако кличка не прижилась – не похож он был на вождя мирового пролетариата, хоть убей. А еще Горка был охотник – чуть ли не первейший на всю волчанскую округу. Хаживал он и на лося, и на кабана, и на медведя – даже, между прочим, с рогатиной. Белку, бывало, бил в глаз с тридцати шагов – ясно, до тех пор, пока не начал всерьез закладывать за воротник. Зато с ножом Горка до сих пор управлялся, как никто. Ну, чистый артист! При желании мог прямо на ходу шкуру снять – неважно с кого.
Словом, если подумать хорошенько, лучшего напарника для поездки в Москву Захару Макарьеву было днем с огнем не найти.
Пока Горка, плюхая по слякоти растоптанными, сто лет не чищенными башмаками и поминутно оскальзываясь, шел к машине, Захар успел вспомнить все это и еще кое-что. То, например, как в метро их остановил милиционер – слава богу, не черный, а свой, русский, хотя тоже тот еще козел. Остановил, как водится, для проверки документов – принял, надо полагать, за гастарбайтеров из Украины или Белоруссии. Паспорта у них оказались в порядке, железнодорожные билеты тоже, так что все обошлось благополучно. А могло ведь и не обойтись, потому что у Горки, чтоб ему пусто было, при себе имелся пакет. Обыкновенный такой пакет – полиэтиленовый, черный, обтерханный и мятый, и этот пакет он непринужденно перекладывал из руки в руку прямо перед носом у мента, пока искал по карманам свой паспорт. Раз пять, наверное, переложил – будто нарочно, ей-богу. А Захар стоял рядом, обмирая, и ждал, что менту все это вот-вот надоест и он просто так, от нечего делать, пожелает взглянуть, что там, в этом пакете, лежит. А дальше – как в песне: «Вот пуля пролетела, и – ага.» Захар в тот момент едва-едва в штаны не навалил, а Горке – ну хоть бы что!
В последний раз поскользнувшись на узенькой, пробитой наискосок через толщу сугроба тропке и едва не сев при этом тощим задом в ледяную лужу, Горка уцепился одной рукой за дверную ручку, а другой – за крышу кабины. Пакет при этом с глухим стуком ударился о дверцу. Он так и ходил пропустить сто граммов с этим пакетом. Вот ведь сволочь отмороженная, прости господи!
Дверной замок негромко щелкнул, машину слегка качнуло, и Горка плюхнулся на заднее сиденье. Едва он закрыл дверь, как по салону разнесся отчетливый запашок – смесь ароматов только что выпитой водки и давно не мытого тела.
– Ну? – не оборачиваясь, спросил Захар.
– Туточки он, – дыша перегаром, скаля в довольной ухмылке мелкие гнилые зубы и шурша пакетом, доложил Горка. – В магазине.
– Ясно, что не в шалмане, где ты квасил, – не упустил случая съязвить Захар.
– Да ладно, квасил, – отмахнулся Горка. – Подумаешь, пропустил сто грамм для храбрости. Сто грамм даже солдатам перед атакой выдавали. Наркомовские, понял?
– Знаю я твои сто грамм, – проворчал Захар, вызвав на индифферентной морде таксиста тень понимающей усмешки. – Давно он тут?
– Да уж минут двадцать. Медленно ты добираешься.
– Сам попробуй быстрее, – огрызнулся Макарьев. – Это ювелирный? – спросил он у таксиста.
– Самый крутой, – ответил тот. – Ну, если не самый, то, как говорится, один из.
– Вот козел, – через плечо сказал Захар Горке.
– А то ты не знал, – откликнулся тот и опять красноречиво зашуршал пакетом.
– Слушайте, мужики, – сказал таксист, видимо что-то такое смекнув. Или просто почувствовав. – Вы соображаете, что в случае чего меня про вас обязательно спросят?
– Не факт, – тоже моментально все поняв, ответил Захар и достал из внутреннего кармана турецкой кожанки туго набитый бумажник. – Но если спросят, ты ведь найдешь что ответить? – добавил он, протягивая таксисту стодолларовую бумажку.
Тот бумажку не взял и продолжал смотреть Захару в лицо, как бы вовсе не замечая денег. Макарьев кривовато усмехнулся, достал из кошелька вторую бумажку. Таксист опять не шелохнулся.
– Будет с тебя, – ласково сказал ему Захар. – Жадность фраера сгубила.
Горка сзади зашуршал пакетом. Таксист моргнул, перестал играть в гляделки и взял деньги. Он действительно был сообразительным парнем.
Денег Захару было не жаль. Вчера они с Горкой – не в ущерб порученному делу, естественно, – впарили одному здешнему делку партию необработанных изумрудов. Камешки были плохонькие, зато делок попался валенок валенком, хоть и корчил из себя крутого столичного барыгу. Словом, деньги у Захара с Горкой сегодня водились. С учетом всего этого таксисту можно было отстегнуть и побольше, но с какой стати? Пусть спасибо скажет, что башку не отбили.
Около магазина, за которым наблюдали Захар с Горкой, вдруг остановился джип – здоровенный, как грузовик, черный, с тонированными, тоже черными, как полированный антрацит, стеклами. Захар всю жизнь не мог взять в толк, на кой черт горожане покупают себе эти полноприводные чудища. Бензина такая хреновина жрет немыслимое количество, а комфорт в ней по сравнению с обычным легковым автомобилем очень даже относительный. Ну, солидно, а дальше что? Понты понтами, но надо же и какие-то мозги иметь! Все они там, в больших городах, малость чокнутые, а уж в Москве и подавно. Вот говорят, что Москва, мол, большая деревня. Да ничего подобного! Дурдом это, а не деревня! Но что большой – это факт.
Из джипа, прямо как в кино, полезли рослые молодые ребята – спортивные, плечистые, здоровые, крепенькие, как боровики, все до единого в коротких кожаных куртках. Захар насчитал четверых; из выхлопной трубы джипа выбивался едва заметный беловатый дымок, и это означало, что в машине остался еще и водитель.
Четверо скрылись в магазине. Скрипя пружинами, Захар обернулся на сиденье и глянул на Горку. Тот только плечами пожал: а черт его знает, как это понимать!
Захар попытался припомнить полученные инструкции.
А инструкции были такие: с Сохатого глаз не спускать, выяснить, зачем он, стервец такой, поехал в Москву, а по возвращении обо всем подробно, толково доложить.
И еще: неважно, вернется Сохатый из столицы в родную Волчанку или сгинет без следа. Важно, чтобы тут, в Москве, он не вел ни с кем длинных задушевных бесед. Вот это вот самое главное и есть: чтобы он, сундук двухметровый, ненужным людям лишнего не наболтал.
И вот – пожалуйста. Мало того что Сохатый уже почти полчаса торчит в этом магазине, так теперь туда еще и братва пожаловала.
Нет, конечно, Сохатый – мужик крепкий, и при прочих равных условиях вот эти четверо мордоворотов были бы ему на один зуб – так, легкая разминка перед настоящим делом. Даже в Волчанке, где мало кто из мужиков жалуется на здоровье, о нем ходили легенды. Захар однажды своими глазами видел, как Сохатый одним ударом кулака свалил с копыт осатаневшего племенного быка, который удрал от зоотехника и битых полтора часа носился по всей Волчанке, распугивая народ. Так что если братки и впрямь приехали в магазин, чтобы потолковать с Сохатым, то их ожидал сюрприз.
Хотя Москва – это тебе не Волчанка. Вряд ли братва явилась с пустыми руками. Ведь чего только на свете не навыдумывано! Электрошокеры всякие, газовые баллончики, шприцы со всякой дрянью и даже пневматические пистолеты, чтобы этими шприцами стрелять. Свалят с ног, как того племенного быка, спеленают, упакуют, отвезут в тихое, укромное местечко и там, никуда не торопясь, вытянут из него все, что знает. А знает он, сука здоровенная, много. Своим землякам он этого не сказал, жлобина такая, а этим скажет как миленький. Потому что церемониться с ним здесь не станут – если понадобится, жилы будут тянуть, а то просто вкатят дозу какого-нибудь наркотика, и дело в шляпе.
Этого нельзя было допустить. Для этого Захара с Горкой сюда и послали. Дело было нелегкое и, похоже, опасное, но и наградить их обещали по-царски. Так что.
Раздумья Захара были прерваны неожиданным появлением на тротуаре одного из братков. Появился он не совсем обычным способом, а именно вылетел спиной вперед сквозь двойную зеркальную витрину, в водопаде стеклянных осколков, с грохотом, дребезгом и звоном – вылетел, как будто им из пушки пальнули, смачно шмякнулся спиной в слякотное месиво на тротуаре и замер, распластавшись, как пустой мешок, неподвижный и весь в зеркальных блестках, как эстрадный певец в сценическом костюме.
– Ни хрена себе! – отреагировал на это диво таксист, который, хоть и прожил всю жизнь в Москве и всякого насмотрелся, явно видел такие номера только по телевизору.
Зато Захар с Горкой видывали и не такое и ни капельки не удивились. Ведь там, внутри, находился не кто-нибудь, а Сохатый. Что ему какая-то витрина, пусть себе двойная и сделанная из закаленного стекла? Однажды Сохатого по пьяному делу занесло на строительство коровника, который возводили заезжие шабашники, и бригадир этих самых шабашников что-то не то ему сказал – обидное что-то и даже, наверное, оскорбительное, потому что Сохатый, хоть и был, как все по-настоящему сильные люди, миролюбив и добродушен, взял и закатал этому типу хорошую плюху – без затей, в грудину, чтоб, чего доброго, не убить. Так вот, получив от Сохатого эту «благодарность с занесением в грудную клетку», шабашник своей широкой спиной проломил не какую-то там витрину, а кирпичную перегородку. Грудную кость Сохатый ему сломал кулаком, а ребра, четыре штуки, не выдержали, когда бедолага стенку таранил. Сюда же и сотрясение мозга – шутка ли, такая куча кирпичей и все по башке!
Ничего этого Захар с Горкой таксисту, ясное дело, рассказывать не стали – не до того им было, время поджимало. Сохатый влип в историю, и теперь этого дурака надо было выручать. То есть не выручать, конечно, – на хрен он, бык безмозглый, кому сдался? – а. как бы это сказать.
Ну, словом, действовать им сейчас надлежало по обстоятельствам и так, чтобы Сохатый никому ничего не сказал. Повезет дураку уцелеть – пусть живет, а не повезет – ну кто ему, спрашивается, виноват?
Шлепая по лужам, они перебежали улицу (Горка при этом чуть не попал под машину) и оказались аккурат около бандитского джипа. За спиной взревел двигатель и дико взвизгнули покрышки сорвавшейся с места машины – таксист, которому велено было ждать, плюнул, сволочь такая, на деньги и унес ноги. В Волчанке ему бы за это башку открутили, чтоб другим неповадно было. Да и здесь, в Москве, у него еще оставались вполне реальные шансы получить урок хороших манер, потому что номер его машины Захар Макарьев запомнил очень даже хорошо. Дайте только из этой заварухи выбраться, а там поглядим.
Из магазина сквозь выбитую к чертям витрину доносились вопли, грохот и звон бьющегося стекла. Быком ревел Сохатый; что-то трещало, и было не разобрать, мебель это ломается или чьи-нибудь кости.
Водитель джипа не усидел за баранкой и открыл дверь, явно намереваясь принять участие в увеселении. Он успел осторожно спустить с хромированной подножки левую ногу в начищенном до блеска тупоносом ботинке, и тут Горка, пробегая мимо, задержался на какую-то долю секунды и коротко взмахнул рукой. Тускло блеснуло широкое, отточенное до бритвенной остроты самодельное лезвие, раздался противный чмокающий звук – и водитель, сжимая будто вмиг одевшимися в блестящие красные перчатки ладонями перерезанное горло, запрокинулся назад и мешком съехал с сиденья в снежное месиво, которое прямо на глазах начало превращаться из серо-коричневого в красно-бурое.
Захар на бегу заглянул в лицо братишечки, что валялся на тротуаре, припорошенный сверху осколками витрины. Этому парню повезло меньше, чем бригадиру шабашников, – Сохатый с ним не церемонился и бил, что называется, на поражение. От этого удара физиономия бедняги вдавилась внутрь и расплющилась, как донышко алюминиевой миски, по которому хватили кувалдой. Из кровавой каши двумя неподвижными стеклянными шариками смотрели широко открытые глаза. Они не мигали, да и без того было ясно, что лежащий на тротуаре человек мертв, как кочерга.
Захар перешагнул через труп, и в это время где-то внутри магазина звонко бахнул выстрел. На улице кто-то завизжал, и зеваки, которые уже начали кучковаться вокруг, брызнули в разные стороны, как воробьи.
– Ну, семь-восемь! – азартно воскликнул Горка, широким жестом отбрасывая в сторону свой пакет.
Пакет бесшумно опустился в лужу – пустой, ненужный, – и Горка, зачем-то отпихнув Захара, первым ворвался в магазин прямо через выбитую витрину, на ходу передергивая затвор обреза. Обрез у него был знатный, от мосинской трехлинейки; с этим самым обрезом еще Горкин прадед, Евграф Ульянов, земля ему пухом, охотился на комиссаров, присланных в Волчанку его однофамильцем, Владимиром Ульяновым-Лениным.
– Молись, суки столичные! – во всю глотку радостно завопил Горка и пальнул из обреза.
Такой он был, Горка. Хлебом его не корми, а дай кому-нибудь мозги вышибить. Очень он это дело любил и, когда подворачивался случай, про все на свете забывал, даже про собственную шкуру.
Захару, конечно, тоже случалось руки замарать, и не раз, однако головы он от запаха крови не терял. И сейчас, ныряя в оставленное Горкой облако порохового дыма с «тэтэшником» в руке и с холодной жабой под ложечкой, Захар Макарьев уже понимал, что дело дрянь и что обещанного царского вознаграждения им с Горкой скорее всего не видать как своих ушей.
Глава 2
– Господи, Федор Филиппович! – воскликнул Глеб Сиверов с немного театральным отчаянием. – И вы туда же!
– А кто еще? – заинтересованно спросил генерал Потапчук.
– Да все кому не лень, – безнадежно махнув рукой, ответил Сиверов. – Телевидение. Газеты. Радио. Тетки какие-то в метро.
– В метро?
– Ну да, представьте себе, в метро! Решил, понимаете ли, время сэкономить, воспользовался общественным транспортом. Чтоб я еще раз. Но это отдельная история. Так вот, в метро народ так и гудит: про перестрелку в «Эдеме» слыхали? не слыхали? Да как же! Жуть! Море крови, груды трупов. А теперь и вы о том же. Ну, разнесли вдребезги ювелирный магазин. Тоже мне, событие! По-моему, давно пора. Этот «Эдем» – то еще местечко. Помните, как возле него «шестисотый» спалили?
Ирина Андронова негромко кашлянула в кулак. Она это помнила. Как горела машина, она не видела, зато видела обугленный остов, довольно долго торчавший прямо напротив входа в дорогой ювелирный магазин как своеобразный памятник столичному модус вивенди. Особую выразительность данному монументу придавал мусор, набросанный в выгоревший дотла салон прохожими, – пакетики из-под чипсов, обертки от шоколадок, банановая кожура и прочие прелести.
Говорить об этом Ирина не стала. В данный момент она просто ждала своей очереди, давая генералу ввести своего подчиненного в курс дела, а подчиненному – выразить испытываемое им по этому поводу неудовольствие. Сегодня ей было что сказать; только одного она никак не могла понять: какое отношение имеет так называемый «волчанский крест» к перестрелке в «Эдеме»?
– Судя по всему, – вторя ее мыслям, продолжал Сиверов, – там произошла самая обыкновенная бандитская разборка. Не понимаю, какое отношение это радостное событие имеет к нам, особенно к Ирине Константиновне. Это ведь даже не антикварная лавка.
– Возможно, ты все поймешь, если дашь мне сказать хотя бы пару слов, – саркастически заметил Федор Филиппович. Он внимательно посмотрел на Глеба, словно ожидая возражений, но тот предпочел смолчать. – К тому же, – удовлетворенно кивнув, продолжал генерал, – информация, полученная от старушек в метро и даже от диктора столичного телевидения, вряд ли полнее той, которой располагаю я.
– Будем надеяться, – бодро, с оптимизмом произнес неугомонный Сиверов.
Федор Филиппович только вздохнул.
– Итак, – снова заговорил он, – на месте происшествия обнаружено восемь трупов и трое раненых, из которых один скончался в больнице.
– Ого, – с уважением произнес Сиверов. – Хорошо порезвились ребятки!
– И не говори, – согласился Потапчук. – Между прочим, тот, который умер на больничной койке, был ранен не пулей, не осколком и не ножом, а. чем бы ты думал? Кулаком! Один из покойников тоже был убит ударом кулака в лицо.
– Ничего себе, – сказал Глеб. – Так даже я не умею. Это ж какая силища должна быть у человека!
– Неимоверная, – кивнув, подтвердил Федор Филиппович. – Из обладателя этой силищи патологоанатомы извлекли восемнадцать пуль – как пистолетных, выпущенных из разных стволов, так и автоматных. Сам он, впрочем, тоже отбивался не одними кулаками. Стрелял из маузера – старого, десятизарядного, времен Первой мировой и Гражданской.
– С ума сойти, – искренне сказал Сиверов. – «С-девяносто шесть»?
– Ум-гу. Модель шестнадцатого года.
– Елки-палки! Кто ему позволил так обращаться с антиквариатом?
– Это только присказка, – обнадежил генерал. – Братва, с которой воевал этот чудо-богатырь, судя по всему, крышевала «Эдем» и прибыла туда по приглашению персонала. Зачем – спросить, увы, не у кого. Заведующий, он же главный эксперт, убит, охранник, который дежурил в тот день, тоже убит, а младший продавец хоть и невредим, но, похоже, слегка тронулся умом на почве пережитого. Во всяком случае, ментам, которые навещали его в Кащенко, ничего не удалось добиться. Похоже на то, что умники из «Эдема» пытались грубо кинуть клиента, который показался им стопроцентным лохом, и наскочили на неприятный сюрприз. Клиент приехал не один, на улице его дожидались двое приятелей, и, когда в магазин прибыла братва и там начали ломать мебель, эти самые приятели подоспели с тыла. У одного из них был «ТТ», а у другого – обрез трехлинейки образца 1891 года.
– Ой-ей-ей, – сказал Сиверов. – Они что, Музей Революции ограбили?
– В глубинке по чердакам да сараям еще и не такое можно найти, – возразил генерал. – Главное, что пользоваться этими раритетами они умели отменно.
– В глубинке? – мгновенно ухватился за ключевое слово Глеб.
– В самой что ни на есть. Северный Урал. Но об этом позже. Позволь, я для начала изложу все по порядку, тут есть кое-какие любопытные моменты, в которых не мешало бы разобраться. Словом, судя по всему, первым в магазин вошел этот богатырь, обладатель смертоносного кулака и старинного маузера. На его трупе обнаружили паспорт. Так вот, фамилия этого человека была Сохатый.
– Хм, – сказал Сиверов. – Нарочно он, что ли, ее поменял? Удивительное соответствие формы и содержания!
– Некоторое время ничего не происходило, – продолжал генерал. – Заметьте, времени было час дня, так что свидетелей оказалось предостаточно. Только особого толку от их показаний до сих пор не видать. Так вот, примерно в тринадцать тридцать к «Эдему» подкатил черный внедорожник «шевроле». Из него выгрузились четверо молодых людей и вошли в магазин, оставив водителя за рулем. Почти сразу в магазине началась драка. Немного не так, – перебил сам себя Федор Филиппович и как бы в раздумье пригубил кофе. – «Началась драка» – это не совсем то выражение. Четверо свидетелей, друг с другом незнакомых и никак между собой не связанных, утверждают, что один из пассажиров «шевроле» вдруг ни с того ни с сего просто вылетел на улицу прямо сквозь двойную витрину из закаленного стекла. Как в кино. Медики утверждают, что в этот момент он был уже мертв. Причина смерти – удар кулаком в лицо. То есть они говорят, что подобный эффект мог бы произвести удар торцом бревна или, скажем, кувалдой, но ничего похожего в «Эдеме» обнаружить не удалось.
Слушая генерала, Ирина Андронова испытывала странное, двойственное чувство. Дело было вовсе не в излишне, с ее точки зрения, подробном описании неаппетитных частностей происшествия в «Эдеме» – за время своего знакомства с Потапчуком и Сиверовым она уже успела привыкнуть к подобным разговорам. Некоторое, и притом вполне законное, недоверие вызывали сами подробности, которые казались не просто невероятными, а невозможными. Можно было подумать, что Федор Филиппович не то разыгрывает их с Глебом Петровичем, не дожидаясь наступления первого апреля, не то пересказывает бабьи сплетни – опять же с непонятной целью. Позабавиться, что ли, решил? Какие-то вооруженные антикварными стволами налетчики с Северного Урала, какие-то кинематографические полеты сквозь витрину, и все это – в центре Москвы, в двух шагах от пересечения Тверской и Садового кольца.
С другой стороны, это, как ни крути, был генерал ФСБ Потапчук, Ирине хорошо знакомый и до сих пор не выказывавший склонности ни к дешевым розыгрышам, ни к азартным пересказам глупого чужого вранья. Несомненно, любой офицер спецслужб, не говоря уж о генерале, просто обязан быть мастером по части лжи и дезинформации. Ирина не сомневалась, что за время знакомства и совместной работы Федор Филиппович лгал ей тысячу раз, но ей ни разу не удалось не то что поймать его на лжи, но даже и научиться различать, когда генерал искренен, а когда – не совсем. Он был настоящим профессионалом и вряд ли стал бы, давая задание своим агентам, пичкать их непроверенной информацией. Но пока что рассказ его казался басней.
И при чем здесь все-таки «волчанский крест»?
Ирина посмотрела на Сиверова, борясь с желанием задать вопрос, который, она знала, прозвучал бы глупо и неуместно. Тут она сообразила, что ждет этого вопроса от Глеба – ждет, что он в своей обычной манере примется теребить генерала ироническими замечаниями, вызовет огонь на себя и в ходе неизбежной перепалки ситуация как-нибудь прояснится. Но Глеб Петрович, вопреки обыкновению, не стал ничего говорить. Он сидел вытянув ноги, в позе полного расслабления, и сосредоточенно наблюдал за интимной жизнью пестрых тропических рыбок в просторном аквариуме, устроенном в тумбе стеклянного стола. В аквариуме негромко журчала вода, рыбы плавно помахивали развевающимися, как флаги сказочных королевств, хвостами, подсвеченные скрытыми лампами пузырьки воздуха сверкали, как капельки расплавленного серебра, длинные ленты и плети подводных растений медленно струились, ни на мгновение не прекращая движения и при этом всегда оставаясь на месте. Подвижные блики отражались в темных стеклах очков, которые, как всегда, мешали до конца разглядеть и правильно оценить выражение лица Сиверова, придавая ему сходство с бесстрастным манекеном из магазина готовой одежды. Как обычно в таких случаях, Ирина попыталась угадать, о чем он думает, и, как всегда, нисколько в этом не преуспела.
– Дальше события развивались стремительно, – продолжал Потапчук. – Из такси, стоявшего напротив магазина, выскочили двое. Свидетели утверждают, что так могли быть одеты только провинциалы, и открывшиеся впоследствии обстоятельства этому не противоречат. Таксист немедленно дал тягу, однако его удалось найти. Он заявил, что один из этих двоих сел к нему в машину недалеко от Казанского вокзала и велел отвезти к «Эдему», причем явно очень торопился. Возле магазина попросил подождать, пообещал двойную оплату и кому-то позвонил. Тогда из расположенного поблизости кафе вышел второй и тоже сел в машину. Из их разговора таксист понял, что они следят за кем-то, кто находится в данный момент в «Эдеме», и замышляют явно что-то не слишком хорошее.
– Следят? – встрепенулся Сиверов.
– Так сказал таксист. Ему показалось, что пассажиры говорили о своем земляке без особой нежности, наоборот, весьма недоброжелательно. Им почему-то очень не понравилось, что тот забрел именно в ювелирный магазин, а не в пельменную или, скажем, ГУМ. Таксист, конечно, мог ошибиться, – поспешно добавил Федор Филиппович, предвосхищая возражение Сиверова, – но вот какая штука, Глеб Петрович: из восемнадцати пуль, которые патологоанатомы извлекли из трупа Сохатого, одна была выпущена из винтовки Мосина старого образца. вернее, как ты сам понимаешь, из обреза такой винтовки. Да, это могло произойти случайно. В магазине творился ад кромешный, там, по-моему, до сих пор не навели порядок, да и вряд ли скоро наведут. В общем, поймать шальную пулю было немудрено. Вот только эта самая пуля от винтовочного патрона 7,62 старого русского образца была выпущена Сохатому в затылок с очень близкого расстояния, почти в упор.
– Контрольный?
– Судя по всему. И это при том, что, как только в магазине завязалась драка, земляки поспешили Сохатому на помощь. Именно на помощь! Потому что, пробегая мимо джипа, на котором приехали бандиты, один из них, почти не останавливаясь, прямо на бегу, перерезал глотку водителю. Просто махнул рукой – и человека не стало. А потом выхватил из полиэтиленового пакета обрез и с воплем кинулся в бой.
– Значит, – задумчиво сказал Глеб, – этот Сохатый действительно не был их другом. По-моему, он что-то такое знал, чего не следует знать посторонним, и те двое из такси старались не столько его выручить, сколько гарантировать его молчание. Видимо, дырок в нем под конец оказалось слишком много, чтобы оставалась хоть какая-то надежда вытащить его оттуда живым, и слишком мало, чтобы быть уверенными в его молчании. Вот они и приняли, так сказать, радикальное решение. Вы сказали, что они были его земляками?
– Так точно, – сказал Потапчук. – Это можно считать установленным фактом, потому что тело одного из них тоже осталось в магазине и при нем также обнаружился паспорт и железнодорожный билет, – вся эта компания, видишь ли, вовсе не собиралась надолго у нас задерживаться. Некто Макарьев Захар Иванович, уроженец и житель поселка Волчанка, что на Северном Урале. Как и Сохатый.
У Ирины Андроновой перехватило дыхание: она вдруг поняла, зачем ее сюда позвали, к чему весь этот разговор и что будет сказано далее. Поселок Волчанка на Урале. «Волчанский крест»! И тайна, ради сохранения которой кто-то, рискуя собственной жизнью, кинулся в неравный бой со свирепыми, как голодные зимние волки, московскими бандитами, а потом недрогнувшей рукой застрелил земляка. «Волчанский крест»! Ну конечно. Вот оно что.
Федор Филиппович между тем пел дифирамбы Сиверову, утверждая, что, не будь тот таким хорошим оперативником, его непременно следовало бы перевести в аналитики, поскольку он схватывает все буквально на лету и делает правильные выводы из фрагментарной и довольно противоречивой информации. На Ирину генерал при этом не смотрел вовсе, из чего следовало, что это лирическое отступление должно помочь ей немного прийти в себя.
– Не желаю в аналитики! – дурачился Глеб Петрович. – Хочу в начальники! В генералы желаю!
– Ишь чего захотел, – ворчливо вторил ему Потапчук. – Ты на себя полюбуйся, генерал! К твоим черным окулярам да еще и генеральские погоны – получится вылитый Пиночет!
– И давно пора! – с энтузиазмом подхватил Сиверов. – Я не социолог, но сдается мне, что добрая половина россиян давно уже скучает по хорошей, основательной хунте. Да меня же на руках носить станут, особенно если я для начала шлепну парочку министров – принародно, где-нибудь возле памятника Минину и Пожарскому.
Они беседовали в таком стиле еще минуты две или три, а потом Сиверов вдруг снова сделался серьезным. Произошло это именно в тот момент, не раньше и не позже, когда Ирина разобралась наконец в своих мыслях, более или менее разложила все по полочкам и немного успокоилась. Такое странное совпадение (совпадением скорее всего не являвшееся) ее немного рассердило: она всегда считала, что умеет владеть собой, и то обстоятельство, что Сиверов – не генерал, не полковник даже! – читает ее мысли, как детскую азбуку, естественно, обрадовать ее не могло.
– Сейчас я вам докажу, что вполне созрел для генеральского мундира, – обращаясь к Потапчуку, заявил Глеб. – Сейчас, Федор Филиппович, я блесну своей интуицией и аналитическим складом ума. Что мы имеем? Некто Сохатый приезжает сюда из какой-то богом забытой Волчанки и направляется, что характерно, не на Черкизовский рынок, не в ГУМ и даже не на Красную площадь, а в «Эдем», который хорошо известен в определенных кругах Москвы, но вряд ли популярен среди обитателей Волчанки. При этом за ним по пятам следует парочка его земляков, о чем он, похоже, не догадывается. Все трое вооружены – далеко не по последнему слову истребительной техники, но вполне солидно, как будто затеяли разборку или крупный налет. Следовательно, все они если не ждут неприятностей, то, как минимум, имеют их в виду. Сохатый заходит в «Эдем», и буквально через несколько минут туда прибывает полный джип братвы. Мирные переговоры длятся секунды две-три, после чего начинаются военные действия. Кстати, вы так и не сказали, чем все кончилось.
– Ну, чем. – Потапчук пожал плечами. – Эти сибиряки оказались на диво ловкими ребятами. Они почти отбились, но тут подкатил второй джип – видимо, кто-то успел позвонить и предупредить, что дело намного серьезнее, чем ожидалось. Как бы то ни было, вторая группа оказалась вооружена автоматами. Крыть сибирякам было нечем, на такой горячий прием они наверняка не рассчитывали, а то бы, наверное, притащили с собой какой-нибудь «гочкис», «льюис» или «максим». Сохатый и Макарьев погибли на месте, а вот третьему – тому, что был с обрезом, – как-то удалось уйти. Его ищут, но до сих пор не нашли.
– Значит, уже не найдут, – констатировал Сиверов. – Сколько прошло – двое суток? Ну, так он уже, наверное, к родным местам подбирается. Засядет на какой-нибудь заимке и будет сидеть, пока пыль не уляжется. А скажите, Федор Филиппович, там, в магазине, не нашли чего-нибудь такого-этакого. не совсем обычного? Заметьте, – пояснил он без видимой необходимости, – это была демонстрация аналитического склада ума. Ну как, удалось мне блеснуть?..
– Считай, что удалось, – помолчав, признал Потапчук. – Хотя, если бы этот третий оказался чуточку проворнее, и тебе, и мне оставалось бы только строить догадки. Впрочем, виноват. Если бы эта штуковина не осталась на месте преступления, мы с тобой узнали бы обо всем из газет, в крайнем случае – из милицейской сводки. А так. Понимаешь, на полу за конторкой, где убитый эксперт обычно изучал и оценивал принесенные клиентами на продажу украшения, нашли одну не совсем обычную вещицу. Кое у кого возникло предположение, проверить которое я попросил Ирину Константиновну. Вы можете нам что-нибудь сказать? – обратился он к Ирине.
– Думаю, что могу, – сказала Андронова и полезла в сумочку за фотографией.
* * *
Бандитский джип Горка Ульянов бросил в нескольких кварталах от магазина. Джипа было жаль, Горке он понравился – в самый раз для Волчанки машина! У Макара Степаныча, конечно, тоже джип, но поплоше, пожиже, да и годами постарше, самое меньшее, вдвое. Эх! Кабы не это дело.
Бензина в баке было чуть ли не под пробку, машина перла, как паровоз, и отлично слушалась руля, но Горка понимал, что далеко на этом роскошном американском драндулете уехать ему просто не дадут. Братва – она и в Африке братва. Сами станут искать, ментов подключат обязательно, и – амба. Хорошо, конечно, что вот этот «шевроле» с ключом в зажигании и с работающим двигателем так удачно, вовремя подвернулся под руку. Но удача удачей, а головой думать тоже надо. Потому что, как говаривал Горкин прадед, Евграф Евстигнеевич Ульянов, шибко хорошо – тоже нехорошо. Пытаться вырваться из города на этой машине было все равно что прилепить себе на лоб бумажную мишень из школьного тира, вернуться к развороченному магазину и, дергая прохожих за рукава, объяснять: дескать, вот он я, моя работа!
Настроение у Горки было поганое. Жаль было джипа, жаль обреза – проверенного, прадедовского, надежного. Это было не просто оружие, а что-то вроде семейной реликвии. Как принес его прадед с Первой мировой, так он в семье и прижился. Четыре поколения Ульяновых холили его и лелеяли. Вырезать охотничьим ножом незатейливые узоры на ложе еще прадед начал. Дед тоже резал, и отец, и Горка руку приложил, так что московским ментам не железка простая досталась, которой давно пора было ржавым прахом рассыпаться, а настоящее, чтоб ему пусто было, произведение искусства. Тут – листики, травка всякая, там – зверушки разные, зайчики да медведи, а на шейке приклада, которая после знакомства с прадедовой пилой превратилась в рукоятку, – зарубочки. Аккуратные такие зарубочки. Которые постарше, потемнее да помельче, те прадедовы: зарубка – комиссар, зарубка – комиссар. Потом дедовы пошли, до- и послевоенные, за ними отцовы, а с самого краешка, где еще место оставалось, Горкины пять штук. Если б не вся эта галиматья, он бы после сегодняшнего дела еще три вырезал, да, видно, не судьба. Эх!..
Захара тоже было жалко, ну, да куда ж попрешь против автоматов? Срезали, суки, прямо под корень, без малого пополам перерубили человека. Хорошо хоть неженатый он был, Захар-то. Не придется, по крайней мере, с вдовой объясняться, сиротам в глаза смотреть не придется.
Вот кого Горке не было жалко, так это Сохатого. И пулю ему, лежачему, в затылок Горка влепил, прямо скажем, с превеликим удовольствием. Давно Сохатый на это напрашивался, вот и дождался своего часа. Одна беда – побрякушку, которую он сюда из Волчанки, не подумавши, привез, пришлось там, в магазине, оставить. Цена ей, конечно, немалая, но Макар Степаныч, поди, тоже человек. Должен понять, что не было у Горки другого выхода. Ну, не было! Сунулся бы он обратно за этой цацкой – ни цацки не было бы, ни Горки, ни вестей, которых Макар Степаныч в Волчанке дожидается. Ничего бы не было, кроме еще одного покойника.
Сказать по правде, Горка до сих пор не мог взять в толк, как ему удалось выбраться из этой передряги не просто живым, а невредимым, без единой царапины. И ведь, казалось бы, за спины чужие не прятался, первым в пекло нырнул, прямо на стволы бандитские. Двоих наповал уложил, не считая Сохатого, а самого – ну хоть бы разочек задело! Видно, сказки насчет таежного духа, какими в Волчанке детишек стращают, не такие уж и сказки. Сберег Горку Большой Хозяин, от неминуемой смерти сберег! Значит, так надо было. Значит, имелись у него насчет Горки какие-то свои, хозяйские планы.
Перестрелку Егор запомнил плохо. Помнилось только, как запрыгнул в магазин через выбитую витрину и пальнул из обреза в чье-то оскаленное, широкое, с полной пастью золотых зубов, бледное рыло. Потом – провал, а дальше сразу же – лежащий на полу мордой вниз в луже собственной крови Сохатый, нацеленный ему в затылок обрез с последним патроном в стволе и четкая, как афиша на стене поселкового клуба, мысль: надо валить, пока не пришили. Вокруг грохотало, звенело и лязгало, на голову, за шиворот, в лицо сыпалось стекло пополам со штукатуркой; по магазину слоями плавал вонючий пороховой дым, на полу, среди осколков, мусора и кровавых пятен, блестели рассыпанные золотые побрякушки. Горка увидел, как от Захара во все стороны полетели какие-то кровавые клочья. В звенящей, черной пустоте проплывали обрывки каких-то смутных впечатлений: далекий вой милицейских сирен, выстрелы, матерные вопли, тусклый блик на испачканном кровью лезвии.
Горка загнал джип в какой-то двор, аккуратно поставил его на стоянку перед подъездом типового шестнадцатиэтажного дома, заглушил двигатель, вышел и на всякий случай, засунув руки в карманы, с независимым, хозяйским видом попинал носком грязного ботинка передний скат. Скат был черный, мокрый, оскаленный стертыми металлическими шипами и твердый, как дерево. Горка продул «беломорину», четко осознавая при этом, что папироса очень слабо вяжется с дорогим джипом, ловко прикурил от спички, сунул обтерханный коробок обратно в карман и, стараясь не спешить, зашагал прочь. Потом все-таки не выдержал, обернулся и еще раз поглядел – да нет, не на джип, черт с ним, с джипом, а на дом. Это ж надо, какую махину отгрохали! И ведь не одна она тут такая, а столько, что и не сосчитаешь. Елки-моталки! Ведь в один такой дом, ну от силы в два, вся Волчанка войдет, и еще, гляди, место останется! И чего людям спокойно не живется? Так и норовят в кучу сбиться, да потеснее, чтоб ни вздохнуть, ни охнуть.
Города Егор не знал, и это была еще одна причина, по которой ему лучше было даже не пытаться выехать отсюда на чужой машине. Да хоть бы и на своей! Все равно такая езда – до первого перекрестка, до первого, мать его, постового мента. Это все равно как если бы какой-нибудь москвич, всю свою жизнь, с пеленок, проживший в такой вот шестнадцатиэтажной дурище и не умеющий елку от березы отличить, приехал бы в Волчанку и один, без провожатого, подался в тайгу. Или, того хлеще, решил бы на лодке прокатиться – сначала вниз по ручью, через который поселок свое название получил, и дальше, по Вишере. Далеко бы он уплыл? А? То-то.
Вот и Горка сейчас очутился в похожем положении. Все кругом было чужое, незнакомое и опасное. Да только не такой человек был Горка Ульянов, чтобы бояться и. как это у городских называется?.. нервничать, вот. Город все-таки не лес дремучий – авось не заблудимся!
Вообще, снаряжая их с Захаром в дорогу, Макар Степаныч очень хорошо все объяснил. Дескать, если не знаешь, куда забрел, спроси дорогу до ближайшей станции метро. Нашел метро – считай, что ты дома. Там везде, на каждой станции, схемы висят. Читать умеешь? Ну вот! Это ж проще, чем в карте разобраться, тут даже компаса не надо. Ты на станции такой-то, а нужна тебе станция такая-то. Проложи по схеме маршрут, запомни, где пересадка, и езжай себе спокойненько до самого вокзала.
Только на вокзал Горка ехать не собирался. Еще чего! Захар с Сохатым в магазине остались, и у каждого – паспорт с пропиской, билет обратный. Менты – это ладно, это еще куда ни шло. А вот если местная братва через ментов узнает, откуда к ним такие веселые да озорные гости пожаловали, тогда Горку на вокзале подстерегут всенепременно – высмотрят в толпе, отволокут в сортир и кончат там по-тихому. Кому это надо?
Поэтому из Москвы Горка решил выбираться, как из чужого, незнакомого леса – по сторонам света. Ехать ему надо было более или менее на восток и по возможности так, чтобы пореже засвечивать свой паспорт с волчанской пропиской.
Начал он, как и велел Макар Степаныч, с метро. На лотке Горка приобрел плохонькую карту города и по ней определился с направлением. Из трех возможных вариантов он выбрал четвертый, а именно Каширское шоссе, которое вело на юго-восток, почти на юг, то есть совсем не туда, куда ему было надо. На Северный Урал по Каширскому шоссе не бегают, а значит, и искать Горку Ульянова на этом шоссе никто не станет. Не такая он важная птица, чтоб из-за него брать в оцепление двенадцатимиллионный город, да и кому это под силу? Шерстить будут самые вероятные направления – вокзалы, Ярославское шоссе, Щелковское, шоссе Энтузиастов. Да и будут ли еще? Но во избежание неприятных сюрпризов Горка решил считать, что – да, будут, и, спустившись в метро, проложил по схемке курс до станции «Домодедовская».
Снова выбравшись из душного подземелья на волю, в ненастные послеполуденные сумерки пополам с сырой метелью, Горка первым делом купил себе хот-дог и употребил его с пивом, потому что не знал, когда у него в следующий раз будет возможность пожрать – хоть как-нибудь, не говоря уж о том, чтобы поесть по-человечески.
Здесь же, возле станции метро, Горка взял такси. На вопрос, как далеко согласен везти, таксист, пожав плечами, ответил, что ехать готов хоть во Владивосток, лишь бы у клиента было чем расплатиться.
– Деньги – говно, – сообщил ему Горка и в подтверждение своих слов продемонстрировал перетянутый аптечной резинкой тугой бумажный цилиндрик – свою долю от их с Захаром общих капиталов. – Поехали в эту. как ее, суку. в Каширу!
– Дорого обойдется, – заметил таксист, запуская двигатель.
– Деньги – говно, – повторил невозмутимый Горка, и машина тронулась.
На окраине Каширы таксист разбудил задремавшего пассажира. Тот сладко потянулся, протирая кулаками заспанные глаза, и тупо заморгал на косо летящий в темноте, подсвеченный фарами снег.
– В Кашире куда? – спросил усталый таксист. Горка огляделся, крутя головой и поскрипывая старенькой турецкой кожанкой, зевнул, показав плохие зубы и, продувши «беломорину», равнодушно заявил:
– Да вот тут вполне сойдет.
После чего, как был, с папиросой в зубах, пырнул таксиста в бок своим самодельным охотничьим ножом, кованым, закаленным по особому рецепту, острым как бритва и не боящимся ничего – ни костей, ни гвоздей, ни других лезвий. Хороший был нож, и в таксиста он вошел, как в мягкое масло, по самую рукоятку, – у того только глаза выпучились да челюсть отвисла. Из открытого рта выплеснулась струйка темной крови, стекла по подбородку, и таксист молча повалился грудью на баранку.
– Четыре сбоку, ваших нет, – сам не вполне понимая, что, собственно, имеет в виду, сказал ему Горка и погасил в салоне свет, а потом, дотянувшись, выключил фары и габаритные огни.
Под монотонный шорох бьющего в окна снега он спокойно и методично, никуда не торопясь, обобрал мертвеца, присвоив выручку и, главное, документы – права, техпаспорт и прочую макулатуру. После этого Горка закурил и вышел из машины.
Кругом было темно, хоть глаз коли, и в темноте падал снег – уже не такой мокрый, как днем, но не менее противный. В отдалении сквозь косую сетку метели тускло светились окна каких-то пятиэтажек, горели фонари – еле-еле, вполнакала. Дымя папиросой и озираясь, Горка обошел машину спереди, открыл дверцу и, взяв за воротник, выбросил тело водителя на дорогу.
В Серебряных Прудах он заправил машину, а в Михайлове бросил ее и пересел на рейсовый автобус, которым без проблем добрался до Рязани. Оттуда продолжил свой путь на северо-восток – где на электричках, где на попутках, – и, только добравшись до Нижнего и вконец вымотавшись от такой езды, позволил себе сесть в поезд, который шел в его родные края.
Жить Горке Ульянову оставалось совсем недолго, но, окрыленный удачей, он об этом даже не подозревал.
Глава 3
Негромко постучав и, как всегда, не дожидаясь ответа (которого никто давать и не собирался), в кабинет вошла секретарша – пожилая, некрасивая, но зато толковая и внушающая доверие. Доверие она внушала всем без исключения, начиная с крикливых местных теток, явившихся на прием к мэру качать права и толком не представляющих, чего они, собственно, хотят, до проверяющих всех мастей и рангов, даже правительственных чиновников из самой Москвы. Упомянутые тетки (а заодно и дядьки) немедленно проникались к секретарше теплыми чувствами и видели в ней свою заступницу (каковой она действительно являлась, но только изредка, когда дело того стоило), а проверяющие, бросив на нее один лишь взгляд да перебросившись парой ничего не значащих слов, сразу понимали, что при такой секретарше и начальник, то бишь мэр, непременно должен быть человеком солидным, значительным, компетентным и уважаемым – именно таким, какой требуется поселку Волчанка для дальнейшего развития и процветания. Наличие в приемной вместо длинноногой вертихвостки этой пожилой, благообразной, неизменно внимательной и вежливой дамы сразу расставляло все точки над «i», убеждая посетителей в том, что официальное лицо, занимающее кресло главы поселковой администрации, – это именно официальное лицо, а не какой-нибудь сластолюбец, привыкший разводить шуры-муры на рабочем месте.
Помимо редкого умения внушать доверие не только к себе, но и к своему начальству, секретарша обладала целым букетом иных, не менее ценных достоинств. Она, к примеру, прекрасно заваривала чай и кофе, а также пекла отменные пироги со всякой всячиной, которыми регулярно и безвозмездно потчевала не только своего начальника, но и весь личный состав поселковой администрации. К этому все давно привыкли и воспринимали как должное. Да и чему тут было удивляться? Алевтина Матвеевна была бездетной вдовой, и заботиться, кроме своих сослуживцев, ей было не о ком.
В прошлом была она не просто баба, мужняя жена, а матушка. В смысле, попадья. Привез ее сюда, понятное дело, супруг, отец Андрей. как же, дай бог памяти, была его фамилия? Ну вот, уже и не вспомнить. Хотя, если подумать, фамилия Алевтины Матвеевны – Карташова. Паспорт после смерти мужа она вроде не меняла, так что и батюшка скорее всего был Карташов. А, да кому теперь до этого какое дело? Неважно, как его фамилия, важно, что был он, прости господи, дурак набитый. А уж упрямый!..
Принесла его сюда нелегкая лет десять, если не все пятнадцать тому назад откуда-то из центра, из цивилизованных мест – из Ярославля, что ли, а может, и из Пскова. Батюшка, человек немолодой, солидный и, по слухам, пользовавшийся в кругах священнослужителей очень неплохой репутацией, с благословения чуть ли не самого московского патриарха прикатил в здешние места по собственному почину, обуреваемый сумасбродной, фантастической идеей – возродить к жизни Волчанскую обитель. Это ж надо было такое придумать!
Сколько раз ему говорили!.. Просили. Уговаривали. Объясняли. Да чуть ли не в ногах валялись: брось ты эту затею! Ну гиблое же дело! На кой ляд тебе сдались эти развалины? В поселке, что ли, места не хватает? Ведь туда, к монастырю, ни проехать, ни пройти! Дикие места, туда местные уж лет сто, а то и все сто пятьдесят носа не кажут! Дурная у этого монастыря слава, и на молебны свои ты туда никого калачом не заманишь даже в большой церковный праздник. Да и не будет там никаких молебнов, не выйдет из этой затеи ничего хорошего. Одно слово – проклятое место!
Нет, не послушал. Обет у него, видите ли, был, или послушание, или как еще это там у них называется. Господь, говорит, не выдаст. Ну-ну.
Короче говоря, взял батюшка солдатский вещмешок, разузнал у кого-то дорогу (оторвать бы болтуну его поганый язык!) и утречком налегке отправился в тайгу. Один отправился: провожатого из местных, волчанских, для такой экскурсии было не найти. Ну и никто его больше не видел – ни живого, ни мертвого. Сгинул без следа вместе со своим вещмешком, как и не было его.
Искали, конечно, да что толку? Это ведь не парк Сокольники, это – Северный Урал! Лес дремучий, скалы отвесные, студеные быстрые ручьи, расселины бездонные. Звери – волки, медведи, росомахи, рыси всякие. Да что росомахи, что рыси! В окрестностях монастыря такие зверушки водятся, что росомаха твоя им – на один зуб. Сказки? Пускай сказки. А батюшка, отец Андрей, где? Да разве он один? Много народу в тех местах без следа сгинуло – и до него, и после.
Словом, священник сгинул, и монастырь, который местные жители с давних пор повадились именовать не иначе как Волчанской пустынью, до поры оставили в покое. Пустынь. Какая это, в сущности, пустынь? Пустынь – это ведь вроде староверский монастырь, а этот, здешний, к староверам отношения не имел. Обычный православный монастырь, но название прилипло, присохло так, что не отдерешь.
Но речь совсем не о монастыре, а о матушке, Алевтине Матвеевне. Поплакала она, конечно, но не так, как волчанские бабы, которых, когда выть начнут, по всему поселку слыхать, а тихонечко, в платочек. А потом, отплакав свое, почему-то не укатила обратно в свой Ярославль (или все-таки Псков?), а решила остаться. Так и заявила – прямо тут, в этом самом кабинете: куда, мол, я отсюда поеду? Отца Андрея косточки где-то в здешних лесах лежат, а кроме этих косточек, у меня, говорит, никого и ничего нету. Так что останусь. Если, конечно, вы не возражаете.
Ну, а чего тут возражать-то? Охота тебе, имея возможность на Большую землю удрать, сидеть в этой дыре, так кто тебе слово поперек скажет? Сиди!
Домишко, который батюшке по приезде выделили, ясно, за ней оставили и даже подправить помогли за счет поселкового бюджета. Выделили ей и материальную помощь – вроде на похороны, хоть хоронить-то как раз было и нечего. Было у местных жителей, в том числе и у мэра, подозрение, что осталась она в Волчанке не просто так, а в надежде на какое-то чудо – ну, вроде того, что муженек ее жив и однажды, выйдя из леса в драной рясе, постучит в окошко. Странный народ эти верующие! Все-то они молятся, все ждут каких-то чудес. Будто не знают, что если и случаются на этом свете чудеса, так исключительно поганые – такие, что и врагу не пожелаешь.
Бессменный волчанский мэр, Николай Гаврилович Субботин, как и все окружающие, проникся к вдове доверием и сочувствием и не просто разрешил ей остаться (запретить-то он не мог, не имел ни права, ни, главное, необходимости), но и помог с работой. Потому что на одних молитвах да «гробовых» батюшкиных грошах долго, сами понимаете, не протянешь.
С работой в Волчанке всегда была некоторая напряженка, но для вдовы Николай Гаврилович расстарался и устроил ее не куда-нибудь, а к себе в администрацию – правда, для начала уборщицей.
С ее появлением в администрации Николая Гавриловича вдруг начались какие-то перемены – не сказать, чтобы плохие, скорее наоборот, но какие-то странные. Прежде всего, в высших инстанциях – и в районе, и в области даже – вдруг ни с того ни с сего перестали пенять на качество составления получаемых из Волчанки официальных бумаг – всяких там отчетов, планов, графиков и прочей ерунды. А то ведь, бывало, невозможно было в районной администрации показаться. Чуть заметят – и сразу: что это у тебя, Николай Гаврилыч, за грамотеи там сидят? Ведь не бумаги шлют – готовый анекдот! Ты сам-то читаешь, когда подписываешь? Это ж читать невозможно! Ты бы для своих сотрудников ликбез какой-нибудь организовал, что ли. Да и сам того. повнимательнее, в общем.
И вдруг как отрезало. Николай Гаврилович перемену заметил не сразу (это, когда тебя сроду не ругали, а потом вдруг начали, сразу замечается, а если наоборот, так, бывает, и не заметишь; не ругают – и хорошо, промолчали – и ладно), а когда заметил все-таки, удивился. Что такое? Рукой махнули? А может, снять хотят и только удобного момента дожидаются?
Оказалось – нет. Взял он как-то в руки пару документов, подготовленных для отправки в область, вчитался и ахнул: ну ни сучка ни задоринки! Сам-то он в больших грамотеях тоже никогда не числился, но тут и ежику было понятно, что бумажки составлены на высочайшем уровне. Ну просто экстра-класс! Ни тебе ошибки, ни помарки, да и стиль изменился: все кратко, но доходчиво и, главное, исчерпывающе. Прочитал – и никаких вопросов, вся информация как на ладони. Составляла бумажки старая грымза Вера Анатольевна, у которой вечно на уме только куры, свиньи да сын-алкоголик, а печатала его тогдашняя секретарша Зинка, у которой и вовсе никакого ума сроду не было, а были только длинные ноги, крепкий зад да вымя, как у коровы-рекордистки. Она и печатала-то двумя пальцами, носом в клавиши, подолгу выискивая каждую букву.
Словом – чудеса. Вот и говори после этого, что их на свете не бывает.
И еще заметил он со временем, что все сотрудники поселковой администрации как-то уж очень ласковы с новой уборщицей. Сроду за ними такого не водилось, а тут – ну хоть ты их к ране прикладывай! Даже пресловутая Вера Анатольевна, которая прославилась в Волчанке тем, что всех без исключения посетителей неизменно встречала одной и той же фразой: «Ну, какого хрена приперся?»
Короче говоря, без негласного служебного расследования тут было явно не обойтись. Но едва Николай Гаврилович за такое расследование взялся, как сразу же выяснилось, что расследовать тут нечего. Оказалось, что во всей администрации, а может, и во всей Волчанке он один до сих пор понятия не имеет, что Алевтина Матвеевна до замужества успела окончить – что бы вы думали? – философский факультет самого МГУ!
Не филологический, где учат запятые правильно ставить и приставку от суффикса отличать, а вот именно философский!
Так-то вот. Получалось, вообще-то, что по образованию своему Алевтина Матвеевна должна была не шваброй в коридоре возить, а сидеть в его, Николая Гавриловича, кресле. Да и оно ей, честно говоря, было, что называется, «не в уровень», низковато.
Конечно, кресло свое мэр ей уступать не стал. Оно ему и самому еще не надоело. Однако же и держать такого полезного человека в уборщицах было просто-напросто смешно и где-то даже неприлично. Вообще, Николай Гаврилович Субботин, как неглупый человек и опытный руководитель, понимал, что такие ценные кадры надобно держать рядом с собой, под рукой, где они, во-первых, принесут ощутимую пользу, а во-вторых, будут находиться под постоянным присмотром. Умного человека, как ни крути, лучше иметь своим другом, чем врагом, да и вообще.
Словом, с той поры Николай Гаврилович был за Алевтиной Матвеевной как за каменной стеной. И, что характерно, народ волчанский питал по отношению к ней такие же чувства: не овчаркой хозяйской она для них была, а благодетельницей, матушкой-заступницей. Чем плохо? Как говорится, и волки сыты, и овцы целы, и авторитет власти сам собой поддерживается на должном уровне.
Вот такая была у него секретарша. Не каждый мэр, даже и в столице, может похвастаться, что его секретарша имеет диплом философского факультета МГУ.
Так вот, постучав и сделав небольшую паузу (во время которой начальство, как это частенько и бывало, имело возможность привести себя в порядок, снять ноги со стола или убрать с глаз долой бутылку и стакан), Алевтина Матвеевна вошла в кабинет.
– Что у тебя? – откидываясь в кресле, добродушно поинтересовался мэр.
Недавно приобретенное кресло было новомодное – просторное, мягкое, вертящееся, с черной кожаной обивкой, с удобными подлокотниками, высоченной спинкой, с регулировкой высоты и со специальным шарниром, позволявшим слегка отклонять его от вертикали и продолжать руководить течением волчанской жизни почти что полулежа. На фоне российского триколора, под портретом Президента, это новое кресло смотрелось в высшей степени солидно и основательно. Правда, к чертову шарниру у себя под седалищем надо было еще привыкнуть: едва ли не всякий раз, забыв о нем и так же, как сейчас, откинувшись на спинку, Николай Гаврилович испытывал крайне неприятное чувство потери равновесия. Вот и теперь ему почудилось, что он утратил точку опоры и сию минуту, прямо при секретарше, вместе с проклятым креслом грянется оземь, задравши ноги к потолку. Однако на этот раз ему удалось совладать с собой, не схватиться рукой за край стола и не засучить ногами по полу в поисках опоры. «Срамота, – подумал он, восстановив душевное и физическое равновесие. – Волчанский мэр собственного кресла испугался! Одно слово – тайга. Ау, цивилизация!»
– Басаргин в приемной, – сообщила секретарша.
Этого она могла бы и не говорить, поскольку широкая, бурая, как пережженный кирпич, украшенная лихими усами а-ля комдив Чапаев физиономия предводителя волчанских ментов капитана Басаргина уже маячила позади нее чуть ли не под самой притолокой. Басаргин вытягивал шею, заглядывая в кабинет, ему явно не терпелось. Алевтина Матвеевна, казалось, вовсе его не замечала, хотя не заметить начальника милиции, стоящего у тебя за спиной на расстоянии менее полуметра, было решительно невозможно: распространяемые им ароматы алкогольного перегара и чеснока Николай Гаврилович чуял через весь просторный кабинет.
– Пусть заходит, – распорядился Субботин. – Заходи, Семен!
Алевтина Матвеевна обернулась, будто бы для того, чтобы передать его слова Басаргину, и с отлично разыгранным удивлением уперлась взглядом в светлые пуговицы милицейского мундира. Взгляд ее ненадолго задержался на криво сидящей форменной заколке для галстука, а затем, уже подольше, на скверно выбритом подбородке начальника милиции. Только изучив этот подбородок во всех предосудительных деталях, Алевтина Матвеевна посмотрела Басаргину в глаза и ровным, неизменно вежливым тоном произнесла:
– Входите, пожалуйста. Николай Гаврилович вас примет.
Басаргин сделал странное движение, будто намереваясь войти во вместилище власти сквозь секретаршу или даже прямо по ней – рыпнулся, как говорили в подобных случаях в Волчанке. Однако Алевтина Матвеевна умела не только сама соблюсти правила хорошего тона, но и заставить следовать этим правилам людей, знавших об их существовании разве что понаслышке. Причем удавалось это ей, как правило, без единого слова, одним только взглядом – доброжелательным, но твердым. Она будто слегка удивлялась тупости собеседника: дескать, в чем дело, уважаемый?
Под этим взглядом Басаргин, несмотря на свою вошедшую в поговорки толстокожесть и не менее пресловутую твердолобость, неловко попятился, освобождая дорогу. Секретарша, однако, не стала торопиться: обернувшись к Субботину, она все тем же ровным, хорошо поставленным голосом спросила:
– Может быть, чайку, Николай Гаврилович?
– Спасибо, Матвеевна, пока не надо, – ответил мэр, вновь откидываясь на спинку кресла. – Если понадобится, я скажу.
Алевтина Матвеевна кивнула, то есть слегка наклонила голову с идеально прямым пробором – и, негромко стуча низкими каблуками, вышла из кабинета мимо посторонившегося посетителя. Басаргин вошел, плотно закрыл за собой дверь и, приблизившись, без приглашения плюхнулся на полумягкий стул для посетителей. Фуражку с орлом он положил на стол для совещаний, продул папиросу, придерживая мизинцем табак, чтоб не разлетелся по всему кабинету, чиркнул колесиком архаичной, еще советских времен, бензиновой зажигалки и выпустил на волю облако дыма, воняющего паленой шерстью. Вид у него при этом был угрюмый и какой-то злобно-торжествующий, как будто Басаргин с трудом сдерживал желание провозгласить что- ибудь вроде: «Ну вот, допрыгались. А я ведь предупреждал!»
Впрочем, такой или примерно такой вид у начальника милиции был всегда, даже когда он сидел с приятелями за бутылкой самогона и точно знал, что в любой момент может без труда раздобыть добавочную дозу. Разогнав ладонью дымовую завесу, Николай Гаврилович снисходительно глянул на посетителя поверх очков и осведомился:
– Ну, что у тебя опять стряслось?
Басаргин перекосил рот в подобии иронической улыбки и хмуро ответил:
– Не у меня. У нас. А точнее, у тебя.
– Ну? – предчувствуя недоброе, поторопил его Субботин.
– Хрен гну! – огрызнулся Басаргин. – Не нукай, поди, не запряг. Из Москвы запрос на Сохатого пришел, вот тебе и «ну»!
* * *
Положив на край стола фотографию, врученную ей накануне генералом Потапчуком, Ирина Андронова нервно закурила и немного помолчала, чтобы собраться с мыслями. Сиверов, взглядом спросив разрешения, взял фотографию, глянул на нее и положил на место. Похоже было на то, что изображенный на снимке предмет не вызвал у него не только эмоций, но даже и интереса. Впрочем, иначе и быть не могло: Глеб Петрович подвизался совсем в иной области и был далек от декоративно-прикладного искусства, да и склонности украшать себя побрякушками за ним вроде бы не наблюдалось. Теперь, убедившись, что найденный, как он и предполагал, на месте перестрелки предмет представляет собой ювелирное украшение и находится, таким образом, за пределами его компетенции, Слепой терпеливо ждал, когда специалист в лице Ирины Константиновны разъяснит ему значение данной находки.
Федор Филиппович ждал того же, и не менее терпеливо. Значение надо было разъяснять.
– Изображенный здесь предмет, – собравшись с мыслями, произнесла Ирина, – напоминает так называемый волчанский крест – украшение, вошедшее во многие каталоги и до сих пор считающееся безвозвратно утраченным. Этот крест еще называют демидовским, по фамилии промышленника, который одно время им владел. Разумеется, – спохватившись, добавила она, – это может быть удачная копия, сама по себе представляющая немалую ценность.
– А определить, копия это или оригинал, вы не можете? – спросил Потапчук.
– По фотографии – нет, не могу, – сказала Ирина. – И никто не может.
– Разумеется, разумеется, – поспешно произнес генерал. – Извините, я вовсе не сомневаюсь в вашей компетентности. Просто – ну, а вдруг?
– Так этот крест, выходит, с биографией? – заинтересовался Сиверов.
– Да, – подтвердила Ирина. – Причем, как у многих подобных вещей, биография эта не совсем ясна, а конец ее и вовсе, как говорится, теряется во мраке. Так что, если в «Эдеме» нашли не копию, а настоящий демидовский крест, это обещает стать настоящим событием.
– Демидовский, говорите, – пробормотал Сиверов и умолк, хотя сказал далеко не все, о чем думал.
Ирина уже и сама поймала себя на том, что назвала крест демидовским, а не волчанским. Сглазить, что ли, побоялась? Уж очень хорошо все совпадало: жители североуральской Волчанки, пытавшиеся продать в Москве нечто подозрительно напоминающее бесследно пропавший где-то в их родных местах драгоценный крест. В конце концов, даже если кто-то из тамошних умельцев оказался способен создать такую совершенную копию – а Ирина в этом сильно сомневалась, – то для работы ему было необходимо иметь перед глазами оригинал. По описанию или зарисовке, даже по фотографии такой точной копии не сделаешь. А между тем, согласно официальной версии, оригинал пропал больше полутора веков назад. Так что это – в самом деле сенсация?
– Что ж, вы нас заинтриговали, – сказал Федор Филиппович. – Теперь, быть может, посвятите нас в подробности?
– Да, собственно, каких-то особенных подробностей нет, – сказала Ирина, снова принимаясь разглядывать фотографию. – Данный нательный крест был изготовлен по заказу императорского двора в самом конце восемнадцатого века на фабрике Фаберже. Причем занимался его изготовлением сам Фаберже, лично, что, как вы понимаете, придает кресту дополнительную ценность. По неизвестным причинам заказ не был выкуплен, и ювелир выставил крест в свободную продажу. Он был приобретен в начале тысяча восьмисотого года богатым купцом Демидовым. Не тем, знаменитым, а его однофамильцем. Этот Демидов, судя по описаниям современников, да и по его поступкам тоже, был большой чудак и оригинал. Он поставлял ко двору малахит и уральские самоцветы, мыл золото и на этом разбогател. А потом построил вблизи своего прииска, или рудника, или как это у него называлось, монастырь. Представляете? Северный Урал, глухомань, горы, а он строит в этой глуши монастырь!
– Истинно русский человек, – пробормотал Сиверов. – Сначала всю жизнь вкалывает, как ломовая лошадь, стремясь заработать побольше денег, обманывает, ловчит, даже кровь проливает, а как разбогатеет, вдруг начинает своего богатства стесняться. Совестно ему, видите ли, быть богаче других. Тут и начинается строительство монастырей, раздача милостыни миллионами и прочие вещи, которых европейцу не понять. Причем для того, чтобы замолить грехи, избирается, как правило, самый дикий из всех возможных способов.
– Да, скифы мы, да, азиаты мы, – проворчал Потапчук. – Тебе не надоело? Веками мы, русские, болтаем про то, какие мы особенные, ни на кого не похожие, наболтали уже с три короба, а что толку? Что там дальше было с этим крестом, Ирина Константиновна?
– Крест Демидов подарил монастырю, точнее, его настоятелю. В начале семидесятых годов девятнадцатого века монастырь был закрыт по распоряжению московского патриарха и при прямой поддержке императорского двора. Фактически его взяли штурмом, пролив при этом немало крови с обеих сторон. Настоятеля, насколько мне известно, лишили сана и сослали в пожизненную каторгу.
– Ого, – с уважением сказал Сиверов. – Конец девятнадцатого века, просвещенная монархия, а действовали, как при Петре Алексеевиче. Даже, пожалуй, как при Иване Васильевиче. С чего бы это?
– Я не могу дать исчерпывающего ответа, – призналась Ирина. – Во-первых, это вопрос уже не искусствоведческий, а исторический, причем узкоспециальный. А во-вторых, источники описывают те события достаточно глухо и невнятно. Похоже, речь шла о какой-то ереси, зародившейся в стенах монастыря. Отец-настоятель, насколько я поняла, взялся читать окрестным обитателям откровенно разрушительные проповеди, одинаково неприятные как для официальной церкви, так и для царских чиновников.
– Причем неприятные настолько, что власть была вынуждена пойти, как это теперь называется, на непопулярные меры, – вставил неугомонный Глеб Петрович, который, как только речь зашла о смертоубийстве, сразу оживился. – Да, раз так, невнятность исторических источников вполне понятна. В конце концов, если упомянутую ересь четко, во всех подробностях, исчерпывающе изложить на бумаге, получится что-то вроде парадокса: то, что ты так стремился уничтожить, стереть из памяти людской, окажется тобою же увековеченным. Да я и не уверен, что дело было в одной только ереси. Была ли она вообще, эта ересь?
– Ты действительно чувствуешь себя достаточно компетентным, чтобы рассуждать об этом с таким умным видом? – поинтересовался Потапчук.
– Я просто предположил, – кротко сказал Сиверов. – Сами посудите, монастырь стоит в таких местах, где люди больше рубят малахит, добывают самоцветы и моют золотишко, чем молятся. Даже за недолгий срок там могли скопиться очень солидные богатства, а казна – она ведь вечно испытывает недостаток «живых» денег.
– Ты про какую казну толкуешь? – подозрительно осведомился Потапчук.
– Про царскую, – с самым невинным видом пояснил Глеб Петрович.
– А почему в настоящем времени?
– Исключительно от неучености. От серости, в общем. Есть у меня почему-то ощущение, что с тех пор немногое изменилось.
– Эк тебя повело, – проворчал Федор Филиппович. – Могу тебя утешить: предположение твое не так уж далеко от истины. Во всяком случае, генерал-майор Рыльцев, руководивший штурмом, послал губернатору в высшей степени разочарованный отчет: никаких материальных ценностей, за исключением скудной хозяйственной утвари, в монастыре обнаружить не удалось. За что, кстати, он и был буквально через месяц отправлен в отставку.
– Рыльцев в пушку, – скаламбурил Сиверов.
– Возможно, возможно, – задумчиво проговорил генерал. Он вертел в руках пустую чашку, с задумчивым видом изучая замысловатый узор кофейной гущи на ее донышке, как будто там, в этих коричневых разводах, скрывалась разгадка без малого полуторавековой тайны волчанского креста. – Всякое возможно, Глеб Петрович. Твоя гипотеза, по крайней мере, объясняет, каким образом вот эта штуковина, – он кивнул в сторону все еще лежавшей на стеклянной крышке стола фотографии, в которую снизу то и дело тыкались мордами глупые тропические рыбы, – выплыла на свет божий из глубины веков. Но я читал отчет Рыльцева, и я повторяю: бумага была составлена совершенно растерянным человеком, не обнаружившим в монастыре ничего из того, что он ожидал там обнаружить. Поверь моему опыту, я за свою жизнь прочел тонны рапортов и отчетов, как правдивых, так и выдуманных от первого до последнего слова, и как-нибудь способен отличить продуманную, преднамеренную дезинформацию от изумленного вопля болвана, который, сунувшись у себя дома в сортир, очутился вдруг в кабине грузового лифта. Простите, Ирина Константиновна.
– Нет, отчего же, – сказала Андронова, медленно приходя в себя. – Сравнение достаточно яркое и образное. Только я теперь не понимаю, зачем вам понадобилась моя консультация. Вы ведь знаете обо всем этом впятеро больше меня! Как оказалось, – добавила она зачем-то, борясь с детским чувством обиды.
– Так уж и впятеро, – благодушно возразил Федор Филиппович. – Просто у меня было время подготовиться, да и рылся я в тех архивах, куда вам, Ирина Константиновна, доступ закрыт. А консультация ваша, поверьте, просто необходима. Потому что без твердой уверенности, что на данной фотографии изображен именно тот крест, который промышленник Демидов подарил настоятелю Волчанской обители отцу Митрофану, все мои гипотезы суть обыкновенные домыслы и пустая трепотня, вроде той, которой так любит заниматься в вашем присутствии наш Глеб Петрович.
Сиверов неопределенно крякнул, сигнализируя о том, что выстрел попал в цель, а может быть, просто слегка подыгрывая генералу. Ирина пожала плечами и потянула из пачки новую сигарету.
– Все равно, – сказала она. – Что толку от моего участия, если я ничего не могу утверждать с уверенностью? Глядя на фотографию, я не могу сказать даже, золото это или, к примеру, латунь.
– Золото, золото, – заверил ее генерал. – Из-за латуни никто не стал бы устраивать в центре Москвы филиал Бородинского сражения. Да и милицейские эксперты как-нибудь способны отличить огурец от картошки. Впрочем, к чему пустые разговоры? Дело ведь, согласитесь, не в том, золото это или свинец. Речь идет о том, копия это или оригинал. Вы могли бы дать заключение по этому вопросу, подержав крест в руках?
– Я не большой знаток ювелирного дела, – призналась Ирина, – моя специальность, как вы знаете, живопись. Но думаю, что смогла бы.
– В таком случае вперед, – бодро произнес Федор Филиппович и, вынув из внутреннего кармана пиджака, положил перед ней полиэтиленовый пакет, сквозь который тускло поблескивало золото и искрились разноцветными огоньками драгоценные камни.
Глава 4
Днем солнце уже ощутимо пригревало, так что на шоссе асфальт был сухим и чистым, хотя лес по обочинам все еще стоял по колено в слежавшемся, смерзшемся чуть ли не до каменной твердости снегу. Темная, почти черная зелень деревьев, мокрая темно-серая, тоже почти черная кора ветвей, серый корявый асфальт, белый снег да по-весеннему голубое небо над узким коридором проложенного через лес шоссе – вот и все, что было видно из окон мчащейся на северо-восток машины.
Утреннее солнце, зависшее почти прямо по курсу, слепило глаза. Опущенные солнцезащитные козырьки помогали слабо, и все пятеро пассажиров огромного, жадно глотающего вонючую солярку «хаммера» сидели в темных очках, как герои импортного фильма про какую-нибудь мафию. Машина, сконструированная для езды по пересеченной местности, шла ровно и плавно, хотя из-под днища, не смолкая, доносились частые, неровные и гулкие удары колес о неровности запущенной, разбитой дороги.
Ни водитель, ни пассажиры не отпускали обычных в подобных случаях язвительных замечаний: они знали, что это пока еще только цветочки. Ягодки поджидали их впереди, и именно поэтому, отправляясь в путешествие, они оседлали не скромную «девятку», которая обеспечила бы им относительную незаметность, не роскошный «лэндкрузер» или «шевроле», а вот этот «хаммер» базовой армейской комплектации – не слишком уютный, далеко не комфортабельный, без кожаных сидений и электронных наворотов, с плебейским дизельным движком, но зато с высоченной посадкой, усиленной подвеской и с проходимостью, которая действительно позволяла довольно уверенно двигаться по бездорожью.
Сидя в самом углу заднего сиденья и уныло глядя в забрызганное грязью окно на несущуюся мимо пеструю черно-белую ленту заснеженного леса, Рыжов тихо, про себя, тосковал. Те, кто ехал сейчас вместе с ним в сторону Уральского хребта на этом могучем американском звере, плохо представляли себе, что их ждет. Фактическая сторона дела была им известна во всех подробностях, но факты – это еще не все. Они до мельчайших деталей знали, что произошло в «Эдеме», но они не видели, КАК это происходило. Рыжов, в отличие от них, это видел. Ему посчастливилось подъехать к магазину во втором джипе, когда у этих бешеных сибиряков уже почти кончились патроны, но даже за те считаные секунды, что прошли до полного завершения перестрелки, Рыжов успел увидеть, ощутить и понять вполне достаточно, чтобы теперь не испытывать по поводу возложенной на него миссии ни малейшего энтузиазма. У него было чувство, что там, в «Эдеме», он прошел по самому краешку. Ехать после этого на Урал означало испытывать судьбу, но это был как раз тот случай, когда его личным мнением никто не интересовался. Рыжов был единственным, кто видел сумевшего слинять из «Эдема» сибирского отморозка достаточно близко и остался при этом в живых. Это знакомство стоило ему новенькой, приобретенной всего неделю назад французской кожанки стоимостью почти в тысячу евро, которую этот уральский пельмень одним движением распорол наискосок от правого плеча до левого бедра; мастерский удар острым как бритва ножом наверняка выпустил бы Рыжову кишки, если бы он, собираясь на дело, не прихватил по привычке монтировку, которая в тот момент лежала у него за пазухой и приняла на себя удар. Ребята потом долго с уважением разглядывали безнадежно угробленную куртку и оставшуюся на металле монтировки глубокую зарубку, восхищаясь твердостью и остротой лезвия, которым эта зарубка была сделана. В результате осмотра было единодушно признано, что Рыжий родился в рубашке и что после данного происшествия жить ему вечно – ну, как минимум, до глубокой старости.
Сам Рыжов, хоть и рад бы с этим согласиться, вовсе не чувствовал себя человеком, над которым отныне покровительственно простерта широкая, надежно хранящая от любых неприятностей длань судьбы. Напротив, его одолевали дурные предчувствия. Стоило закрыть глаза, и он снова, будто наяву, видел стремительный, как молния, блеск отточенного металла, слышал свистящий шорох, с которым широкое лезвие вспарывало тонко выделанную телячью кожу, и противный, скрежещущий лязг, раздавшийся, когда нож натолкнулся на спасительное железо монтировки. Конечности у него при этом делались ватными, а где-то под ложечкой, распространяясь затем по всему организму, зарождалась противная мелкая дрожь.
Это казалось странным даже ему самому. Он бывал в крутых переделках, и ребята в бане с уважением разглядывали его шрамы – один, этакой спиральной воронкой, на груди, и другой, бугорком, под лопаткой, где автоматная пуля, пройдя навылет и задев по дороге верхушку легкого, улетела в неизвестном направлении. Помнится, Рыжов добрых полгода носился с идеей пометить эти дырки, вытатуировав под одной из них слово «вход», а под другой, соответственно, «выход». Потом, правда, он махнул на это дело рукой: во-первых, такая татуировка – украшение сомнительное, а во-вторых, и без нее отлично видно, где тут вход, а где выход. А кому не видно, тому, значит, этого видеть и не надо. Не хватало еще, чтоб лохи на пляже в него пальцами тыкали.
Короче говоря, Дима Рыжов по кличке Рыжий был человеком бывалым, стреляным и битым, ничего на свете не боялся и давно привык относиться к реальной угрозе собственной насильственной смерти с философским безразличием. Но тот удар ножом в «Эдеме» что-то надломил в нем. Рыжий по-прежнему был готов без колебаний принять участие в самой крутой разборке, в любом, даже смертельно опасном, деле, но мысль о том, что ему доведется еще хотя бы раз пережить встречу с человеком из «Эдема», повергала его в состояние близкое к панике. Тот парень с ножом словно загипнотизировал его, и никакие доводы разума не помогали Рыжему избавиться от внушения. Его будто отравили, или заколдовали, или сглазили; как это ни назови, дело тут явно было нечисто, и от этого Рыжему становилось еще страшнее.
Словом, отбояриться от этой поездки он пытался по-всякому. Даже нарисовал довольно похожий портрет человека с ножом, поскольку с детства отличался способностями к этому делу и всю жизнь баловался дружескими шаржами на всех, с кем ему доводилось встречаться. За портрет ему сказали спасибо, но ехать пришлось все равно, и теперь, сидя на заднем сиденье мчащегося на восток «хаммера», Рыжий изнывал от тоски и дурных предчувствий.
Попутчики не разделяли его чувств. Прямо перед ним, рядом с водителем, горой затянутого в дорогую черную кожу мускулистого мяса возвышался несокрушимый Бек, и весеннее солнышко золотило короткий ежик волос на его исполосованной приметными шрамами макушке. Шрамы были очень характерные – такие остаются от удара металлическим прутом; злые языки поговаривали, что в той давней драке Беку отбили последние мозги и что он ни черта не боится просто потому, что у него на это не хватает соображения. Говорить с Беком о каких-то там предчувствиях, сглазах, нечистой силе и постгипнотических внушениях было все равно что пытаться втолковать медведю законы термодинамики или статьи Уголовного кодекса.
За рулем сидел Шумахер, получивший свое прозвище не за красивые глаза. Когда в голову ему приходила мысль принять участие в нелегальных ночных гонках по городу, он бил своих соперников как хотел одной левой; кто-то другой мог на время завоевать титул чемпиона стрит-рейсинга только тогда, когда в гонках не участвовал Шумахер. К титулам он был равнодушен, но почти все заработанные деньги тратил, как правило, на доведение своего личного «тандерберда» до немыслимого, небывалого совершенства. Реакция у него была просто фантастическая, прямо как у накачанной адреналином кошки, и это не раз спасало ему жизнь не только на шоссе, но и в драке: пока противник размахивался, чтобы нанести Шумахеру удар, тот успевал в зависимости от обстоятельств либо раз пять навесить ему по чавке, либо сделать ноги.
Сидевший прямо за водителем Орлик тянул срочную в спецназе, успел от души повоевать в Чечне, и этим все было сказано. Втиснутый между ним и Рыжим, щупловатый с виду, неопределенного возраста человек по кличке Сухой был каратист – настоящий, при черном поясе, чемпионских титулах и всем прочем. Когда-то, на взлете своей спортивной карьеры, он попал в уличную драку и малость увлекся. Несдержанность эта стоила ему шести лет отсидки, после чего о спорте, ясный пень, пришлось забыть. Сухой был незаменим в рукопашной; когда доходило до дела, он буквально взрывался, превращаясь в сплошной клубок непредсказуемо выстреливающих в разные стороны рук и ног, которых, казалось, сразу становилось штук двадцать и которые с одинаковой легкостью ломали дерево, кирпич, кости, гортани и хребты. Клубок этот стремительно перемещался из стороны в сторону, выкашивая боевые порядки противника, что твой пулемет; чего Сухой не умел, так это ловить зубами пули, хотя, глядя на него в деле, можно было заподозрить, что насчет пуль он просто скромничает.
Словом, народ в «хаммере» сидел отборный, и никого из них, за исключением Рыжего, дурные предчувствия не мучили. Они просто не видели в предстоящем деле ничего особенного. Для ментов у них были припасены деньги в количестве достаточном, чтобы купить с потрохами половину областного управления; для лохов имелись кулаки и оружие. Подкрепленная подобным образом их напористая наглость могла сокрушить и не раз сокрушала любые преграды, и эта поездка воспринималась ими всего лишь как очередное, вполне рутинное дело, которое нужно было поскорее провернуть.
До самой крыши покрытый белесыми разводами соли, звероподобный, огромный, как грузовик, «хаммер» с бешеной скоростью мчался на северо-восток, глотая километры и выплевывая их из выхлопной трубы. Московская братва, не привыкшая прощать обиды и подставлять вторую щеку, ехала в богом забытый уральский поселок Волчанка, чтобы отыскать Горку Ульянова и доходчиво объяснить ему, как полагается вести себя в гостях.
* * *
Помолчав немного, чтобы переварить только что полученное неприятное известие, Николай Гаврилович Субботин, волчанский мэр, крякнул и, наклонившись, полез в тумбу письменного стола. Некоторое время оттуда доносилось приглушенное звяканье, после чего покрасневшая от прилива крови физиономия главы поселковой администрации вновь взошла над краем стола, как диковинная, очкастая и усатая луна.
– Дверь запри, – сказал он начальнику милиции.
Понимающе усмехнувшись, Басаргин встал и, тяжело бухая сапогами, подошел к двери. Замок дважды щелкнул, и начальник милиции, все так же тяжело ступая, вернулся к столу, на котором уже стояли литровая бутылка неплохой екатеринбургской водки, два граненых стакана и блюдечко с закуской – слегка обветренными солеными огурцами, копченым салом и хлебом. Закуски было совсем мало, но, в конце концов, они собирались не поесть, а именно выпить.
Субботин ткнул толстым пальцем в клавишу архаичного селектора.
– Меня ни для кого нет, – сказал он в микрофон и выключил селектор, а потом, подумав всего секунду, и вовсе вынул вилку из сетевой розетки.
– Эх, Семен, Семен, – вздохнул он, наливая себе и Басаргину по полстакана водки, – хоть бы раз от тебя хороших вестей дождаться! А знаешь, как в старину поступали с гонцами, которые приносили плохие вести?
– Знаю, – принимая из рук мэра стакан, невесело ухмыльнулся в чапаевские усы Басаргин. Держа окурок двумя пальцами, он в последний раз затянулся, рискуя подпалить предмет своей гордости, и раздавил обуглившийся на конце картонный мундштук в придвинутой Субботиным малахитовой пепельнице. – Только, дядя Коля, ты не торопись эти методы на практике применять. Чует мое сердце, дела у нас теперь пойдут так, что, если гонцов за плохие новости кончать, в Волчанке скоро вообще никого не останется – один ты, да и то.
Не договорив, он небрежно отсалютовал мэру стаканом и одним махом выплеснул его содержимое в широкую глотку. Глаза у него заслезились и мигом порозовели; чувствовалось, что этот стакан сегодня был для него далеко не первым.
– Ты не думай, – шумно понюхав хлебную корку, продолжал капитан, – я не паникую. Только, дядя Коля, лучше бы ты меня почаще слушал, особенно в таких делах. Ты, конечно, у нас в Волчанке всему голова, только в своей работе я как-нибудь не хуже тебя разбираюсь. Мог бы и посоветоваться.
– А я что, не советовался? – сердито и немного смущенно огрызнулся Субботин.
– Советовался, ага, – согласился Басаргин и сунул в рот ломтик сала. – Только поступил все равно по-своему, – продолжал он, жуя. – А результат – вот он. Запрос из московского уголовного розыска, с Петровки.
Субботин огорченно крякнул, тоже выпил водки и сунул в рот ломтик соленого огурца.
– Ладно, – проворчал он, хрустя и причмокивая, – не учи отца детей делать. Что там с Сохатым? Неужто повязали?
– Бог миловал, – вертя на столе пустой стакан, сказал Басаргин. – Кончили его. Паспорт и обратный билет на трупе нашли, отсюда и запрос.
– Да ну?! – помолчав, словно для того, чтоб переварить это известие и собраться с силами, изумился Субботин. – Сохатого кончили? Никогда бы не поверил, что такое возможно. Он же здоровый как бык!
– А пуле все равно, бык или не бык, – возразил Басаргин. – А из Сохатого их, между прочим, восемнадцать штук вынули. Ну, и он, конечно, в долгу не остался. Короче, магазин этот, где его прихватили, – в хлам, хоть ты его заново, с самого фундамента, отстраивай. Трупов – гора, как после террористического акта, кровищи – море, и посреди всего этого добра – Сохатый со своим маузером. Ей-богу, за такие дела я б его сам убил с превеликим удовольствием.
Субботин не стал упоминать о том, что для такого дела у Басаргина коротковаты руки; впрочем, промелькнувшая по широкому усатому лицу капитана тень свидетельствовала о том, что схожая мысль пришла в голову и ему.
– А. э?.. – помолчав, с вопросительной интонацией произнес Николай Гаврилович.
– А я откуда знаю? – мгновенно сообразив, о чем идет речь, пожал плечами Басаргин. – В запросе про крест ничего не сказано. Думаю, эти бандюки, которые на Сохатого наехали, успели его прибрать к рукам.
– Жалко, конечно, – задумчиво, явно просчитывая в уме какие-то варианты, произнес Субботин. – Хорошая была вещичка. Ну, да что ж теперь попишешь? Ладно! Это мы как-нибудь переживем. Главное, что у Сохатого рот на замке. Помер, и молодец. Теперь можешь писать в Москву все как есть – шпана, мол, рожа каторжная, протокольная, от такого всего можно ждать. Насчет креста не заикайся. Даже если он московским ментам в лапы угодил, все равно. Нам-то, тебе-то откуда знать, у кого Сохатый его уворовал? Может, он в самой Москве кого-нибудь ограбил. Мы за него не в ответе. Он – полноправный гражданин Российской Федерации, несудимый, неподнадзорный – имеет полное законное право ехать куда хочет, и мы с тобой ему не указ. Кто мы ему – мамки, няньки? Мы и знать не знали и ведать не ведали, что его сдуру аж в самую Москву занесло. Так ведь? Ладно, давай за упокой его грешной души, что ли.
Он мастерски, не примериваясь, налил себе и Басаргину еще ровно по полстакана и с торжественным видом официального лица, присутствующего на траурном митинге и только что произнесшего прощальную речь, поднес свою порцию ко рту.
– М-да, – неопределенно промямлил Басаргин, покачивая водку в стакане и задумчиво наблюдая за тем, как она плещется. – Так-то оно так. Только это, дядя Коля, еще не все.
– Чего? – Стакан с водкой замер у самых губ Субботина, очки тревожно блеснули. – Что еще стряслось?
– Да уж стряслось. Запрос-то, видишь ли, не на одного Сохатого пришел.
– А на кого ж еще-то? Он ведь один в Москву уехал.
– Это мы так думали, что один. А только, дядя Коля, в том самом магазине еще одного нашего волчанского нашли.
– Это кого же? – осторожно, чтобы не расплескать, ставя стакан обратно на стол, поинтересовался Николай Гаврилович. Рука у него заметно дрожала, и стакан он опустил очень вовремя.
– Макарьев Захар, – сказал Басаргин.
– Кто?!
Капитан не стал отвечать на этот риторический вопрос – он знал, что Субботин, дядя Коля, хорошо расслышал произнесенное имя с первого раза.
– Ну, Макар Степанович, – переварив полученное сообщение и немного переведя дух, зловещим тоном произнес Субботин. – Ну, сука мордастая!.. Подбираешься, значит. Вынюхиваешь.
– Похоже на то, – не стал спорить Басаргин, который и сам был не в восторге от новостей.
– Вот же мразь, – продолжал вполголоса бушевать Николай Гаврилович. – Родственничек, чтоб ему ни дна ни покрышки! Кто его приютил, кто пригрел? Кто денег на раскрутку дал? Бизнесмен хренов! Да если б не я, где бы он сейчас был?
– Думаю, на нарах, – предположил Басаргин. – Или в земельке.
– Да тут и думать нечего! Ах ты подонок! Вот это и называется – пригрел змею на груди! С-сук-кин сын, безотцовщина!
Набычившись, он немного подышал носом, чтобы успокоиться, и остро посмотрел на Басаргина исподлобья, поверх сдвинутых на кончик носа очков.
– Ну, чего притих? Давай, сыпь дальше! Что там еще в этом твоем запросе? Я же вижу, что у тебя для меня еще что-то припасено!
Басаргин длинно, тоскливо вздохнул.
– Говорил я тебе, дядя Коля, – не удержавшись, снова напомнил он. – Нельзя было на такое дело Сохатого отправлять. У него ж башка, как у дятла, – сплошная кость и ни грамма серого вещества.
– Ну конечно! – с огромным сарказмом воскликнул Субботин. – Вижу я, куда ты клонишь! Тебя надо было отправить, да? По Москве прошвырнуться, людей посмотреть, себя показать, с б. ми тамошними потереться. Так? Оно, конечно, завлекательно! А только подумай, Сема, племяш ты мой драгоценный, что бы я этим упырям из МУРа ответил, если б они запрос не на Сохатого, а на тебя прислали? Одно дело – этот бык безмозглый, браконьер, и совсем другое – начальник волчанской милиции, племянник главы поселковой администрации. Вот это и было бы, как в твоем стишке.
– Каком еще стишке? – трусливо отводя глаза, делано удивился Басаргин. До сего дня он и понятия не имел, что Николай Гаврилович, оказывается, осведомлен о его юношеской выходке.
– Не скромничай, – проворчал Субботин вполне, впрочем, добродушно. – Знаем, в курсе. Как там у тебя было? «Мой дядя самых честных правил.»
– Так это не у меня, – продолжая упрямиться, смущенно возразил Басаргин. – Это ж у Пушкина!
– У Пушкина одно, а у тебя другое. Не помнишь? Погоди-ка. Сейчас-сейчас. – Николай Гаврилович наморщил лоб, припоминая, а потом торжественно, с преувеличенной артикуляцией, продекламировал: – Мой дядя самых честных правил, когда от спирта занемог, он клизму сам себе поставил, да жалко, вытащить не смог. Поэт! А?
Басаргин про себя поразился тому, сколько лет, оказывается, дядя Коля бережно хранил в памяти переделанный школьником Семой Басаргиным стишок, чтобы, когда настанет нужный день и час, ткнуть его носом в эту безответственную детскую пачкотню. Да, дяде Коле палец в рот не клади. Впрочем, в Волчанке это и так знали все, и притом без всяких стихов.
– Да ладно, не пыхти, – добродушно произнес Субботин. – Кто старое помянет, тому глаз вон. Это я, Сема, к тому, что, если б запрос из Москвы прислали на тебя, получилось бы точь-в-точь как в этом твоем стишке: сам себе клизму поставил, а вытащить – хрена лысого! Это, Сема, был бы полный и окончательный абзац, понимаешь?
– Да понимаю, не дурак, – глядя в стол, проворчал Басаргин.
Сейчас, когда он был смущен и сидел потупившись, как пойманный за нехорошим занятием школьник в кабинете директора, вдруг стало отчетливо видно, что, несмотря на кирпично-красную широкую физиономию, чапаевские усы, медвежье телосложение, кобуру на поясе и капитанские погоны на широких, покатых плечах, начальник волчанской милиции еще совсем молод, никак не старше тридцати. «Послал Бог помощничка», – подумал Субботин, глядя в его покрытую густыми спутанными волосами макушку. Впрочем, Бог тут был ни при чем, и Николай Гаврилович знал это лучше, чем кто бы то ни было: помощников он себе выбирал сам, обдуманно и придирчиво. И то, с чем не сумел справиться Басаргин, кого-то другого на его месте просто раздавило бы в лепешку, расплющило бы в тонкий блин. Виноват был не Басаргин, виноваты были обстоятельства. А если хорошенько разобраться, так и не обстоятельства даже, а. Ну, неважно. «Он клизму сам себе поставил, да жалко, вытащить не смог», – еще раз вспомнил Николай Гаврилович, дивясь тому, как иногда сочиненная из пустого детского озорства шутливая строчка спустя десятилетия вдруг становится пророческой.
– А раз понимаешь, перестань ныть, – строго сказал он. – В Москву ему захотелось. Будет тебе еще и Москва, и Париж, и Канарские острова! Не спеши, а то, как говорится, успеешь. Ну, так что там еще, в этом запросе?
Басаргин поднял голову. Морда у него до сих пор сохраняла детское обиженное выражение; видимо, он и сам это чувствовал, потому что, прежде чем заговорить, забрал физиономию в пятерню, помял немного, словно пытаясь вручную придать ей приличествующий случаю вид, и только после этого сказал:
– Там, в магазине, кроме Сохатого и Захара, был еще кто-то из наших. Невысокий, щуплый, хорошо владеет ножом. И обрез после него остался – от старой мосинской трехлинейки, с резным ложем.
– Мать-перемать, – сказал Николай Гаврилович. – Ну, правильно! Два сапога пара, где один, там и другой. Это они, значит, так на охоту ушли! На Денежкин, понимаешь, ручей!
– Ну да, – кивнув, сказал Басаргин. – Хорошо поохотились, шестерых завалили. Так вот, москвичи и спрашивают, не знаю ли я, часом, кто он был, этот третий.
– Не знаешь, – твердо отрезал Субботин. – Даже предположить не можешь.
– Ну, это само собой, – с кривой ухмылкой ответил капитан. – Сами разберемся, по-соседски. Я вот тут подумал: может, взять этого говнюка к себе и немного с ним поработать?
– Бесполезно, – подумав, возразил мэр. – Только лишние разговоры по поселку пойдут. И потом, что толку? Что он нам такого расскажет, чего мы сами не знаем? И без него, засранца кривоносого, ясно, что Макар Степаныч что-то разнюхал. А что именно разнюхал, этот твой охотник, пальцем деланный, поди, и сам не знает. Невелика птица, чтоб Макар с ним откровенничал.
– Тоже верно, – рассудительно согласился капитан. – Просто руки чешутся за эту сволочь малость подержаться.
– Потерпи, придет и его черед, – пообещал мэр. – А что, он уже в поселке?
– Утречком объявился. Говорит, из леса, а по времени выходит, что с нижегородского поезда.
– Э, что время! – отмахнулся Субботин. – Этот его знаменитый обрез не хуже визитной карточки, так что время можно не подсчитывать, и так все ясно. Как же это он так прокололся?
– Видать, горячо было, – предположил Басаргин.
– То-то, что горячо, – проворчал Субботин. – Вот и поехал бы ты вместо Сохатого в Москву. Лежал бы сейчас в морге с восемнадцатью дырками в шкуре. Эх! А жалко все-таки Сохатого. Раз уж Макар на это дело вырулил, сам он теперь не остановится. Сохатый бы нам сейчас очень пригодился!
– Сами справимся, – проворчал Басаргин.
– Ясно, справимся. Выхода у нас другого нет, так что, хочешь не хочешь, а придется справиться. С Горки Ульянова глаз не спускай, да и за Макаром приглядывай.
– Легко сказать – приглядывай за Макаром!
– А без труда, Сема, не выловишь рыбку из пруда. Ну, если по делу у тебя все, – Субботин покосился на часы, которые показывали, что до конца рабочего дня осталось минут двадцать, – тогда давай выпьем по-человечески. Хватит уже пищеварение себе портить этими разговорами! А то придется, как в твоей поэме, клизму друг дружке ставить.
– Да ладно вам, дядя Коля.
– Так и я говорю: ладно. Ну, за Сохатого! Пусть ему чужая земля пухом будет.
Глава 5
Возвращаясь из управы в отделение милиции, капитан Басаргин попытался еще раз спокойно, без спешки обдумать ситуацию. Присланный из столицы запрос его, как и Субботина, беспокоил не очень: он и без дяди Коли знал, как поступить с этой бумажкой. Черновик ответа уже был им продуман во всех деталях, и Николай Гаврилович не добавил к придуманному ранее ничего нового. Ну да, Сохатый – тип с ярко выраженными антиобщественными наклонностями. Ну да, не углядели, дали уехать в Москву. Хотя это, между прочим, законом не воспрещается. Захар Макарьев – дружок его закадычный, куда один, туда и другой. Насмотрелись телевизора, дурачье, и решили срубить деньжат по-легкому – не иначе как с пьяных глаз, на трезвую голову такое не придумаешь. В общем, грохнули их там, у вас, и слава богу, а кто в кого стрелял и почему – сами разбирайтесь, благо покойнички в вашем огороде, а не в моем, да и зарплаты у вас как-нибудь посолиднее тех, что мы в своей Волчанке получаем. Вот и отрабатывайте.
Вот только приказ дяди Коли не трогать этого слизняка Горку Ульянова капитану не нравился. Семен Басаргин был человеком действия, и ходить кругами около заведомой мрази, приглядываться да принюхиваться ему совсем не улыбалось. Была бы его воля, он решил бы эту проблему в два счета. Начал бы с Горки, а кончил, сами понимаете, его хозяином, Макаром Степановичем Ежовым, которому дядя Коля несколько лет назад столь неосторожно помог деньгами и своим авторитетом.
Макар Степанович приходился Субботину, а значит, и Семену Басаргину каким-то дальним родственником – так, ничего особенного, седьмая вода на киселе. До девяносто восьмого года, до печально знаменитого «киндерсюрпризового» дефолта, он имел где-то в Подмосковье какое-то свое дело – что-то такое покупал, что-то продавал, одним словом – спекулировал помаленьку, получал навар. Дефолт оставил его, как и многих других, в буквальном смысле слова без штанов, с голой ж. на морозе и с многотысячными долгами в придачу. А хуже всего было то, что Макар Ежов задолжал людям, которые долгов не прощали, то есть, попросту говоря, братве, самым обыкновенным бандитам. И когда те пристали с ножом к горлу, требуя назад свои деньги, не придумал ничего умнее, как рвануть в глушь, на Урал, к родственнику под крыло.
Николай Гаврилович, добрая душа, родственника пригрел, и не просто пригрел, а заплатил из своих немалых, нетронутых дефолтом капиталов его долги и даже дал денег на раскрутку нового бизнеса. Только одно условие поставил: бизнес организовать здесь, в Волчанке, чтоб способствовать не только наполнению собственных карманов, но и развитию поселка, который приютил его в трудную минуту.
Деваться Ежову было некуда, условие он принял и честно выполнил – полностью, до последней запятой. Бизнес его процветал и ширился, налоги рекой потекли в поселковый бюджет, появились рабочие места – штука в Волчанке в последние десятилетия, можно сказать, невиданная. На окраине поселка в два счета выросло аккуратное, крепенькое, как боровичок, здание фабрики, непроезжая в распутицу дорога на добрый метр поднялась над землей и оделась в бетон, и поползли по ней, рыча и дымя выхлопными трубами, невиданные ранее в здешних краях большегрузные трейлеры – «МАЗы», «МАНы», «мерседесы» да «вольво». В Волчанку они везли, смешно сказать, самый обыкновенный мусор, собранный и отсортированный в больших городах, а из Волчанки – сладкую газировку, разлитую в бутылки, произведенные из этого мусора.
Волчанский завод безалкогольных напитков. Смешно, правда? А дело между тем пошло, да как!..
Не пренебрег Ежов и местным, так сказать, колоритом. Немного окрепнув и перестав балансировать на грани банкротства, он открыл при своем заводе небольшую мастерскую, где наспех обученные каменотесы потихоньку резали всякие безделушки из малахита, которого в здешних, воспетых еще Бажовым местах было пруд пруди. Не то чтобы речь шла о действительно богатом месторождении, – боже сохрани! – но материала для изготовления, скажем, пепельниц вроде той, что стояла на столе у дяди Коли, небольших статуэток да перстеньков, хватало с избытком – стоило только отойти на полкилометра от поселка, наклониться и, содрав мох, приглядеться к тому, что лежит прямо у тебя под ногами. И эта безделица, поначалу казавшаяся пустой затеей, тоже давала доход – не шибко большой, но стабильный.
Словом, никто и оглянуться не успел, как Макар Ежов сделался вторым после Николая Гаврилыча человеком в Волчанке. Строго говоря, ему бы давно уже полагалось стать первым, поскольку настоящая власть всегда оказывается в руках у того, кто богаче. Кто платит, тот и заказывает музыку – так было, есть и будет до тех пор, пока материальные и духовные блага продаются и покупаются за деньги. Если предприятие является основным и едва ли не единственным источником налоговых поступлений в местный бюджет, владелец данного предприятия автоматически становится первым лицом, под дудку которого пляшут все, начиная с мэра и кончая последним подзаборным алкашом. Это логично, это закономерно, и именно на это, надо полагать, с самого начала рассчитывал Макар Степанович Ежов. И Басаргин не мог сдержать злорадной ухмылки всякий раз, когда думал о том, как, черт возьми, крупно обломался этот деятель, затеяв свои игры именно в Волчанке.
Потому что здесь такая логика не работала, и власть, которая уже давно должна была незаметно, потихонечку перетечь из рук Субботина к Ежову, даже и не думала куда-то течь.
Макар Степаныч, надо отдать ему должное, был далеко не дурак и, очевидно, уже не первый год ломал голову, пытаясь понять, почему так получилось.
Басаргин знал почему. Сохатый, земля ему пухом, тоже знал; вообще, об этом знали многие. А догадывались, пожалуй, все. И Ежов, похоже, тоже начал догадываться. Да и как было не догадаться?
Ведь что такое мэр такого поселка, как Волчанка? Это – мятый пиджак, засаленные брюки с пузырями на коленях, галстук под правым ухом, нечищеные ботинки, невнятная, сумбурная речь, самомнение не по чину, непроходимая глупость и склонность к мелким взяткам. Именно к мелким, поскольку крупных ему никто не предлагает.
Николай Гаврилович Субботин, в принципе, соответствовал этому описанию, но только внешне. И вот такой человек, с виду представляющий собой стопроцентное пустое место, буквально по первой просьбе, не говоря худого слова, отваливает какому-то сверхдальнему родственнику, которого, может, сроду в глаза не видал, сумасшедшие по любым меркам бабки – отваливает, заметьте, без каких бы то ни было гарантий, просто так, словно они для него ничего не значат.
Сразу возникает вопрос: откуда?
Ответ: от верблюда. Дали тебе денег – молчи и радуйся. Куда ты вообще лезешь со своими вопросами?
Ежов, не будь дурак, так и делал – молчал и вкалывал, отбивая и приумножая денежки дяди Коли. А когда, заработав вполне солидный капитал, не получил вместе с ним ожидаемой власти, наверняка задался вторым вопросом: почему? По какой такой причине людишки, всем, казалось бы, обязанные ему, Макару Степановичу Ежову, по-прежнему души не чают в этом своем обтерханном Гаврилыче?
И тут же, как полагается, ответ: а по кочану!
Такие, с позволения сказать, ответы Макара Степановича Ежова, понятно, удовлетворить не могли, и неудивительно, что он наконец начал проявлять неприятную активность. Сохатого вот выследил. Интересно, много ли Захар с Горкой успели увидеть? И много ли поняли?
По-настоящему худо было то, что и Захар, и Горка родились и выросли в Волчанке, а значит, с малолетства принадлежали к числу тех, кто догадывался, из какого такого места у дяди-Колиной власти ноги растут. Так что, если эти двое хоть что-нибудь увидели, сложить два и два для них не составило особого труда. Ну, Захар-то, положим, помер, не успев ничего толком понять, а вот Горка.
Осторожно ступая по скользкой ухабистой улице между двумя рядами высоких, почерневших от времени и непогоды деревянных срубов, обнесенных такими же высокими, черными, монументальными заборами с воротами в два человеческих роста, Басаргин озабоченно жевал левый ус. Горка. Горка болтался по поселку с самого утра, если вообще не со вчерашнего вечера, и при желании мог уже десять раз рассказать о результатах своей поездки Ежову. Его бы сразу шлепнуть, еще на дальних подступах к Волчанке, да где ж ты за ним уследишь! Слез ведь небось с попутки километрах в пяти, если не в десяти от поселка и подошел лесом, со стороны огородов. Он, Горка, тот еще волчара, из капканов уходить умеет.
А теперь, когда он все рассказал Ежову, кончать его – только себя тешить. Ежов – дело иное. Вот бы кого придавить! Да только уж очень заметная фигура. И в районе его знают, и в области, и в Москве у него знакомых да партнеров хватает. Такого человека по-тихому не кончишь, такое дело на тормозах не спустишь. Сам с расследованием не справишься – пришлют из области так называемую помощь, и тогда уж, считай, полный карачун. Нет, прав, прав дядя Коля, нельзя этих сволочей до времени трогать. Присматривать за ними надо, факт. Покуда тихо сидят – пусть живут. А как только сунутся в лес. Ну, словом, не они первые, не они последние. В здешних лесах за последние полтораста лет столько народу без вести пропало, что, как сосчитаешь, жуть берет.
Басаргин представил, каково сейчас в лесу, среди заснеженных, обледенелых скал и таких же холодных и твердых, как скалы, уснувших до весны деревьев. Картинка получилась не самая заманчивая, но что поделаешь, служба!
Он поскользнулся на обледеневшем ухабе, с трудом удержал равновесие и, выйдя из задумчивости, заметил, что на улице полно народу. На ежовском заводишке кончилась смена, работяги валом валили домой, по дороге сворачивая то в один, то в другой шалман, чтобы перехватить на скорую руку свои законные сто пятьдесят граммов, покуда их не схватили за эту самую руку драгоценные супруги. Шалманы, кстати, все как один принадлежали все тому же Ежову. Это было очень удобно, поскольку позволяло снова, и притом без особых усилий, класть себе в карман львиную долю выданной работягам зарплаты.
С Басаргиным здоровались. Он, не задумываясь, отвечал на приветствия – работала укоренившаяся с раннего детства привычка здороваться с каждым встречным и поперечным, да и положительный имидж власти (то есть дяди Коли) надлежало поддерживать денно и нощно.
Драгоценные супруги – те из них, по крайней мере, кто имел счастье быть замужем за запойными мужиками, – уже были тут как тут, хватали своих благоверных за рукав, а то и за шиворот и с визгливой руганью оттаскивали прочь от ярко освещенных дверей питейных заведений. Некоторые пришли с детишками – молчаливыми, закутанными до бровей, с малолетства готовыми тютелька в тютельку повторить бесславный жизненный путь своих родителей.
Остановившись, Басаргин продул «беломорину», выудил из кармана пятнистого бушлата отцовскую бензиновую зажигалку, чиркнул колесиком и вдруг застыл, пораженный непривычным, диковинным зрелищем.
У обочины дороги, забравшись двумя колесами на тротуар, стояла невиданная в здешних краях машина – здоровенный, до самой крыши покрытый белесыми разводами соли и дорожной грязи тускло-черный «хаммер» с московскими номерными знаками. Вид у машины был усталый, угрюмый и грозный, как у только что вышедшего из боя танка; включенные габаритные огни тускло светились сквозь сплошной слой грязи, с грубого железного бампера неопрятной бородой свисали коричневые сосульки.
Возле радиатора «хаммера», где, наверное, было чуточку теплее, топтался какой-то нездешний мужик – молодой, спортивный, в дорогой кожаной куртке, с непокрытой, коротко остриженной головой. Воротник куртки стоял торчком – видать, у приезжего мерзли уши, – в зубах дымилась сигарета. С виду – стопроцентный братишка, и, между прочим, «хаммер» с московскими номерами этому предположению никоим образом не противоречил.
Братишка топтался возле своей железной американской зверюги не просто так: останавливая прохожих, он совал им под нос какую-то бумажку и о чем-то спрашивал. Волчанцы отрицательно качали головами, недоуменно разводили руками и всеми прочими доступными им средствами демонстрировали полную неспособность помочь – при всем своем горячем желании, естественно.
Басаргина это всеобщее неведение нисколько не удивило. Напротив, он бы очень удивился, если бы волчанские мужики и бабы пустились в разговоры со столь явно выраженным московским бандитом – с его кожаной курткой, стрижкой ежиком, стволом за пазухой и баснословно дорогим «хаммером». Да и спрашивал он, надо полагать, о чем-то, чего чужаку знать вовсе не полагалось.
Вообще, народ в Волчанке был вполне душевный, приветливый и хлебосольный – нормальный русский народ, те самые «дорогие россияне», о которых, помнится, любил со слезой в голосе поговорить незабвенный Борис Николаевич. Однако, в отличие от всех прочих россиян, волчанцы имели свой собственный, один на всех секрет. Одни о нем знали, другие только догадывались, но даже догадками своими никто из них с посторонними делиться, ясное дело, не собирался. Хорошо им здесь, в Волчанке, жилось, и каждый, что характерно, знал: хорошо ему до тех пор, покуда сор из избы не вынесен.
Басаргин снова чиркнул колесиком, закурил, и, в четыре длинные затяжки выкурив «беломорину» почти до самого мундштука, не глядя, бросил окурок в сугроб. Поправив на голове фуражку (с фуражкой он явно поторопился, к вечеру опять начало подмораживать, и уши у него мерзли, но, конечно, не так, как у московского братишки), капитан зашагал прямиком к «хаммеру».
Братишечка завидел его издали и, казалось, обрадовался, как родному. Басаргин вяло козырнул и, невнятно представившись, сказал:
– Вы, я вижу, нездешние.
– Неужели так заметно? – весело, как будто с ним тут шутки шутили, изумился братишечка.
Вместо ответа Басаргин красноречиво покосился на московские номерные знаки и со свойственной всем без исключения ментам натужной, ненатуральной вежливостью потребовал предъявить документы.
Документы были предъявлены без малейшего промедления и оказались, как и следовало ожидать, в полном порядке. Правда, «хаммером» братишка управлял по доверенности, и это послужило небольшим плюсом для капитана Басаргина: все-таки приятно было сознавать, что даже в Москве не каждый сопляк может позволить себе купить такое вот корыто. Представить себе было жутко, сколько оно может стоить.
– Какими судьбами? – осведомился капитан, четким, заученным движением возвращая водителю документы.
Краем глаза он фиксировал заинтересованные взгляды земляков. Впрочем, капитан не обольщался: круговая порука хороша, когда ты являешься одним из ее звеньев. А вот если, к примеру, этот бритый подонок сейчас достанет какой-нибудь навороченный заграничный ствол и пальнет капитану Басаргину чуток пониже кокарды, пресловутая круговая порука мигом обернется против него: сразу же выяснится, что никто из прохожих ничего не видел и не слышал, а если, не дай бог, удастся неопровержимо доказать, что он присутствовал на месте преступления, скажет, скотина такая, что ничего не помнит – ну, типа испугался или пьяный был.
– Слушай, командир, – вместо ответа горячо и искренне произнес братишка, – нам тебя сам бог послал. Чес-слово! Думали уже, что зря сюда из самой столицы пилили. Корефана надо найти, а ваши автохтоны то ли не знают ни хрена, то ли боятся чего-то. Дикие они у вас тут какие-то, ей-богу!
– Это да, – солидно согласился Басаргин. – Есть маленько. А ищете-то кого? Фамилия, имя?
Братишка замялся ровно на секунду.
– Не знаю, – честно признался он. – Ну вот, поверишь ты: забыл спросить! Встретились в одной забегаловке – там, у нас, в Москве, – выпили пивка, потом, как водится, водочки. потом опять пивка. Ну, короче, он мне и бакланит: давай, говорит, братан, приезжай ко мне в Волчанку! Места у нас, говорит, классные. Рыбалка там, охота.
– Какая сейчас рыбалка? – хмуро спросил Басаргин.
Он был слегка обижен. Что же они, за последнего лоха его держат? Кто он им – валенок сибирский, уральский пельмень? Приехали к человеку в гости и даже имени его не знают. Ну ясно: там, где они на самом деле повстречались, было не до взаимных представлений и прочей дипломатии.
«Горка, сучий потрох, – подумал Басаргин. – Тебя, подонка, за это убить мало!»
– Ну, охота, – сказал между тем братишка.
– Охота – это да, – согласился капитан. – Охота в наших краях знатная – что зимой, что летом. Только сейчас оно. ну, не то чтобы опасно, но горы все-таки. Снег, лед, камни.
– Э, командир! – весело перебил его братишка. – Ты меня, конечно, извини, но что это за горы – Урал? Я в Альпах бывал, а ты мне – горы. И вообще, пойми, жизнь у нас с пацанами такая, что лета ждать – ну никак не получается. Можно ведь и не дождаться. Врубаешься?
– Секу помаленьку, – снисходительно усмехнувшись в усы, ответил Басаргин. – Только вы давайте, знаешь, без глупостей. У нас тут места тихие, не хотелось бы. гм. ин-цин-дентов.
– Ин-цин-дентов не будет, – в точности скопировав его произношение, заверил братишка и энергично потер ладонью мерзнущее ухо. – Стволы зарегистрированы, лицензию оформим как полагается. Главное, кореша бы нашего найти. Неужели же он, козел, отправил нас за семь верст киселя хлебать, а сам, падло, живет себе в каком-нибудь Бутово?
– Очень может быть, – авторитетно поддакнул Басаргин. Он никуда не торопился; братишка явно мерз, и это было неизъяснимо приятно. – Как он хоть выглядел-то?
– Ну, маленький, щупленький, носатенький. Такой, знаешь, мозгляк. Но пьет, как лошадь.
– У нас тут все пьют, как лошади, – сказал Басаргин. – Что ты хочешь – Урал, Сибирь почти что. Маленький, говоришь? И нос вот такой, – он показал, – набок маленько?
– Ну! – обрадовался вконец закоченевший братишка. – Ну, командир?..
– Ты не нукай, – осадил его капитан.
– Извини, – мигом отработал назад сообразительный Шумахер. – Да вот, глянь-ка. Это один из наших пацанов изобразил. Вроде похоже.
С этими словами он протянул Басаргину ту самую бумажку, с которой давеча приставал к прохожим.
Капитан взглянул.
Бумажка представляла собой обыкновенный листок в клеточку, вырванный из обыкновенного блокнота. На листке шариковой ручкой был набросан портрет – не столько, впрочем, портрет, сколько шарж, – здоровенная башка с костлявой физиономией, оттопыренными ушами, жидкими волосенками и огромным кривоватым носом, а под ней – карикатурно мелкое туловище с анемичными ручонками, одна из которых сжимала тоже карикатурно огромный нож подозрительно знакомых очертаний.
Сомнений не оставалось: на бумажке был нарисован Горка Ульянов.
Цель прибытия братишек на черном «хаммере» в забытую богом Волчанку теперь тоже не вызывала сомнений. Цепочка была простая: крест – трупы в магазине – паспорта с пропиской и железнодорожные билеты – Волчанка – человек с обрезом. А про паспорта и билеты небось узнали через знакомых в своей московской ментовке, которые одной рукой шлют запросы капитану Басаргину, а другой – сливают информацию бандитам.
Надо было что-то решать, причем быстро. Времени на то, чтобы спросить совета у дяди Коли, уже не осталось. Случилось то, чего все они боялись: в Волчанку явились чужаки, и не просто так, а чтобы выяснить то, что некоторые из волчанцев знали наверняка и о чем все остальные догадывались.
Лес, подумал Басаргин. Зима. Тайга, горы. А что? Пошли на охоту и пропали. Первые они, что ли? Предупреждали ведь их. Не послушались, ушли. В нетрезвом, конечно же, состоянии. Ну, и каюк. А?..
– Так это ж Горка Ульянов, – сказал он, возвращая братишке портрет. – В смысле, Егорка, Егор. Да, охотник он знатный, это без дураков. Только закладывает в последнее время здорово. Если вам охота нужна, вы его перед выходом не поите. А то будет вам приключение – врагу не пожелаешь. Вон, по этой улице предпоследний дом.
– Женат? – деловито спросил братишка, пряча портрет во внутренний карман куртки.
– Откуда? – пожал плечами Басаргин. – Кто за такого пойдет?
– Факт, – согласился братишка, – я бы ни за что не пошел.
Они немного посмеялись, и в ладони у капитана каким-то непостижимым образом очутилась купюра достоинством в сто долларов США. Потом Басаргин продул «беломорину» (стодолларовая бумажка все тем же непостижимым способом переместилась из его ладони в карман форменных брюк), закурил сам, дал прикурить братишке, который похвалил его почти что антикварную зажигалку, и черный «хаммер» укатил, мрачно сияя сквозь слой дорожной грязи кроваво-красными габаритными огнями.
Басаргин проводил его долгим многообещающим взглядом и, пересмотрев свои планы, поспешил уже не в отделение милиции, а к себе домой.
* * *
– Не нужно сердиться, Ирина Константиновна, – миролюбиво произнес генерал Потапчук, рассеянно поглаживая кончиками пальцев лежащий на столе крест. – Это вовсе не мистификация и не спектакль. Согласитесь, я уже староват для таких вещей.
Краем глаза Андронова заметила мимолетную, но весьма красноречивую улыбку, появившуюся при этих словах на губах Сиверова, который сидел в своем кресле с безучастным, скучающим видом, по обыкновению не снимая темных солнцезащитных очков. Глеб Петрович, по всей видимости, имел свое собственное мнение на этот счет, в корне отличавшееся от мнения, только что высказанного генералом. И Ирина при всем своем уважении к Федору Филипповичу в данном случае была согласна не с ним, а скорее с Сиверовым. Несомненно, драматический эффект, произведенный внезапным появлением на сцене легендарного волчанского креста, был тщательно и не без удовольствия рассчитан и подготовлен. Разумеется, Федором Филипповичем, и никем, кроме него.
– Я просто хотел построить нашу беседу определенным образом, – продолжал оправдываться генерал, – чтобы по мере возможности избежать переливания из пустого в порожнее и сэкономить тем самым ваше драгоценное время. Так вы подтверждаете, что это именно демидовский крест, а не его копия?
Не торопясь с ответом, Ирина снова взяла в руки крест и еще раз придирчиво осмотрела его со всех сторон, хотя никакой нужды в этом не было. Крест был увесистый, довольно крупный – сантиметров двадцать в длину и десять-двенадцать в поперечнике, – затейливо-вычурный, богато и со вкусом украшенный. Прикрепленная к нему массивная золотая цепочка, тоже затейливая, непонятно как переплетенная, мягко змеясь, струилась по пальцам, плавными кольцами ложась на стеклянную крышку стола. Для своего возраста и с учетом сложной биографии крест на диво хорошо сохранился – он выглядел так, словно только что вышел из рук мастера, и это было единственное обстоятельство, способное вызвать хоть какие-то сомнения в его подлинности.
– Я – да, подтверждаю, – сказала Ирина, с неосознанным сожалением выпуская крест из рук. – Но, повторяю, я не эксперт в ювелирном деле. Я могу назвать вам пару-тройку имен.
– Простите, Ирина Константиновна, – мягко перебил ее генерал. – Я могу назвать больше, но дело иметь предпочитаю все-таки с вами. Огласка пока представляется мне преждевременной. Кроме того, посудите сами: ну откуда в какой-то богом забытой Волчанке возьмется столь точная копия исчезнувшего почти полтора века назад предмета? Кто ее мог изготовить? И главное, по какому образцу?
Ирина молча кивнула: генерал повторял вслух ее собственные мысли.
– Кроме того, – продолжал Федор Филиппович, – я не вижу в таком копировании ни малейшего смысла. Добро бы, кто-то пытался обмануть богатого коллекционера и продать ему копию по цене оригинала. Но ведь этот. э. Сохатый пришел не к коллекционеру, а в магазин. То есть он заранее намеревался продать эту вещь за бесценок. Следовательно, настоящей цены данного предмета он себе просто не представлял. Верно?
– М-да, – неопределенно промолвила Ирина.
В рассуждениях Федора Филипповича было слишком много слабых мест, и вряд ли он об этом не знал. А Сиверов и не скрывал, что исполнен скепсиса. «Кстати, – подумала Ирина, – а что тут делает Глеб Петрович? Зачем вообще понадобилась эта встреча на конспиративной квартире? Раз уж господин генерал взял на себя смелость разъезжать по Москве с волчанским крестом за пазухой, почему он не подъехал ко мне на работу или домой? Моя так называемая экспертиза заняла от силы две минуты, так к чему такая громоздкая прелюдия?»
Она посмотрела на Глеба. Тот все еще сидел с непроницаемым выражением лица, которое сделало бы честь каменному истукану с острова Рапа-Нуи, и было невозможно угадать, что он обо всем этом думает и знает ли, какова цель его присутствия на данном совещании.
– Разумеется, перед тем, как дело будет сдано в архив, а крест перейдет в распоряжение какого-нибудь музея, мы проведем детальную экспертизу с привлечением лучших специалистов, – поспешно сказал генерал, чутко уловив прозвучавшие в неопределенной реплике Ирины нотки сомнения.
– Прошу прощения, – подал голос Сиверов. – Я не понимаю, что этому мешает сейчас.
Он не спросил, зачем его сюда позвали, но теперь, после сказанного, стало ясно, что он, как и Ирина, пребывает в полном неведении по этому поводу.
– Видишь ли, Глеб Петрович, – задумчиво, словно еще не успел окончательно решить, стоит ли делиться с коллегами этой информацией, проговорил Федор Филиппович, – пока я копался в архивах, пытаясь разузнать побольше об этом кресте, на глаза мне попались кое-какие данные, весьма любопытные. Ирина Константиновна, – спохватился он, – прошу меня простить. Вы ведь, наверное, торопитесь? Если да, я вас больше не задерживаю.
«Нет уж, дудки!» – хотела сказать Ирина, но сдержалась и спокойно произнесла:
– С вашего позволения я бы осталась. Если, конечно, то, что вы собираетесь рассказать, не представляет собой государственную тайну.
– Ну, в какой-то степени. – протянул Потапчук. – В какой-то степени, Ирина Константиновна, даже сам факт нашего с вами разговора представляет собой тайну – если не государственную, то, как минимум, служебную. Оставайтесь, бога ради, я совсем не то имел в виду. Просто думал, что вы спешите, и не хотел. как это. докучать вам своим обществом.
– Благодарю вас, – холодновато сказала Андронова и вынула из пачки очередную сигарету. – Вы мне нисколько не докучаете. Скорее напротив.
Сиверов с легкой, немного насмешливой улыбкой дал ей прикурить и, отойдя в дальний, плохо освещенный угол, принялся возиться с кофеваркой, постукивая и позвякивая. Федор Филиппович со стариковской неторопливостью снова упаковал волчанский крест в полиэтилен и спрятал во внутренний карман пиджака. Под пиджаком на нем была черная водолазка, и Ирина вдруг подумала, что на фоне этой водолазки драгоценный крест работы Фаберже смотрелся бы очень неплохо. Федор Филиппович с этим крестом на шее выглядел бы, наверное, странновато и даже нелепо, зато сам крест смотрелся бы просто отменно. Ирина предусмотрительно воздержалась от вертевшегося на кончике языка легкомысленного предложения и приготовилась слушать.
– Так вот, – оправив лацканы пиджака, снова заговорил генерал, – как уже было сказано, Волчанская обитель прекратила свое существование в самом начале семидесятых годов девятнадцатого века, а именно в мае тысяча восемьсот семьдесят второго. Почему именно в мае, думаю, объяснять не надо. Раньше туда было просто не добраться, вот и все. Для взятия монастыря штурмом понадобился батальон пехоты и артиллерийская батарея, которую, сами понимаете, пришлось тащить туда на руках. Что послужило причиной таких крутых даже по тогдашним понятиям мер, неизвестно. Есть несколько версий, более или менее правдоподобных, но я не стану утомлять вас деталями, тем более что прямого отношения к делу они, на мой взгляд, не имеют. Наиболее интересной мне представляется, увы, самая фантастическая версия, согласно которой настоятель монастыря, отец Митрофан, на старости лет впал не просто в ересь, а в самое настоящее чернокнижие, чуть ли не дьяволу начал поклоняться. Да-да, – перехватив удивленный взгляд Ирины, добавил генерал, – тот самый отец Митрофан, которому промышленник Демидов еще на заре века презентовал пресловутый крест. В ту пору старику было уже больше ста лет – сто двенадцать, что ли, точно не помню.
– И этого старца сослали в каторгу? – удивился из своего угла Сиверов.
– Представьте себе. Правда, до острога он так и не дотянул, скончался на этапе. Ну-с, так вот, обитель была уничтожена. А когда потрепанный батальон со своими пушками и пленными монахами, выполнив боевую задачу, двинулся восвояси, в горах произошел обвал, похоронивший под собой почти всю артиллерию и часть пехоты. Что послужило причиной обвала, опять же, неизвестно.
– Чары, – со зловещей уверенностью объявил Сиверов, разливая кофе. – Черная магия отца Митрофана.
Глеб Петрович, разумеется, шутил, но в полумраке освещенной только подводными лампами стола-аквариума квартиры эта шутка прозвучала так, что Ирина поежилась.
– Как бы то ни было, – оставив эту реплику без ответа, продолжал Федор Филиппович, – дорога к монастырю была фактически уничтожена.
– Руины поросли лесом, – мечтательно произнес Сиверов, выставляя на стол курящиеся горячим паром чашки, – и с тех пор в них обитают лишь лисицы, совы да нетопыри.
– Что там стало с руинами, я не знаю, – проворчал Потапчук. – Наверное, ты прав – именно лисицы да совы и именно обитают. Но, как ты выразился, с тех самых пор в окрестностях монастыря и расположенного близ него поселка Волчанка начали происходить какие-то странные события. Я имею в виду бесследные исчезновения людей.
– Бесследное исчезновение человека в лесистых горах – событие неприятное, но не такое уж и странное, – заметил Глеб. – Места-то дикие! Заблудился, повредил ногу, и пиши пропало. Я уж не говорю о диких зверях.
– Да-да, конечно, – с подозрительной кротостью согласился генерал. – Звери, пропасти, горные ручьи. Да. Но, видишь ли, таким образом может потеряться один человек. Ну, двое. А что ты скажешь насчет целой геологической партии? Вот, изволь. – Он снова полез за пазуху, достал оттуда сложенный вчетверо лист бумаги, неторопливо развернул и нацепил на нос очки. – Я тут подготовил себе шпаргалку, чтобы ничего не забыть и не перепутать. Итак, читаю. Тысяча восемьсот девяносто девятый год, геологическая партия императорского географического общества. Восемнадцать человек, снаряженные по последнему слову тогдашней науки и техники, с богатым опытом подобных экспедиций. Прибыли в Волчанку третьего июня, через два дня отправились к верховьям ручья, и больше их никто никогда не видел. Далее. Тысяча девятисотый год, спасательная партия, отправленная на поиски уцелевших членов экспедиции географического общества. В конце мая двинулись по следам исчезнувших геологов. Как в воду канули. В тысяча девятьсот восьмом, после окончания русско-японской войны, о Волчанке вспомнили. Туда был отправлен следователь из Петербурга, некий Аристарх Иванович Стародубцев, который хотел разобраться в причинах исчезновения двух экспедиций, каковые даже тогда показались кое-кому достаточно загадочными и странными.
Стоит ли говорить, что Стародубцев в Петербург не вернулся?
– Действительно занятно, – потягивая кофе, задумчиво проговорил Сиверов. – Но ведь это же наверняка не все, верно?
– Верно, – согласился генерал. – О том, сколько комиссаров, уполномоченных и продотрядов бесследно исчезло в тех краях в период с девятьсот восемнадцатого по тридцать третий год, я говорить не буду, поскольку в этих исчезновениях, на мой взгляд, как раз нет ничего загадочного и необъяснимого. Помните обрез, найденный в «Эдеме»?
– Да, – сказал Глеб, – традиции живучи.
– Вот-вот. С тридцать третьего по тридцать девятый в тех местах было относительно тихо – я думаю, просто потому, что туда никто не совался. В тридцать девятом через те края проходила очередная геологическая партия. Искали медь для нужд оборонной промышленности. Исчезли без следа вместе с палатками и оборудованием.
– А по сараям у местных жителей пошарить не догадались? – спросил Сиверов.
– Не ты один такой умный. Догадались, конечно, как-никак это был тридцать девятый год. Кого-то посадили, кого-то даже расстреляли, но, сами понимаете, сделано это было просто для того, чтоб душу отвести и поскорее закрыть дело. Никаких прямых улик обнаружить так и не удалось, имущество экспедиции исчезло без следа, как и сама экспедиция. В середине пятидесятых там пытались искать уран, и с тем же результатом. О следственных бригадах, чересчур активных участковых и случайно оказавшихся в тех местах охотниках я молчу. Не говорю также о местных жителях, которых за все эти годы в окрестностях Волчанки и тамошней обители пропало что-то около полутора десятков. В семидесятых об этой местности уже начали поговаривать как об аномальной зоне. Упоминались геомагнитные аномалии, сводящие с ума компасы, нарушающие работу аппаратуры и в конечном итоге способствующие потере ориентации в пространстве, что и приводит к плачевным последствиям; выходы ядовитых газов, вмешательство инопланетян и прочая чепуха в этом же роде. По слухам, в той местности потерялись несколько уфологов, но, поскольку они действовали на свой страх и риск, без ведома официальных органов, эти слухи остались непроверенными: с таким же успехом эти люди могли потеряться где-то еще, а то и вовсе сменить место жительства, не уведомив об этом своих знакомых. Затем, в самом начале восьмидесятых, какой-то энтузиаст из министерства культуры раскопал в архивах упоминание о фресках, некогда украшавших монастырский храм. Их будто бы написал кто-то из известных художников-иконописцев. дай бог памяти.
– Иннокентий Волошин, – подсказала Ирина. – Был такой монах в Троице-Сергиевой лавре. Я помню, отец об этом рассказывал. Только я тогда не поняла, чем кончилась эта история с фресками. А может, не запомнила по малолетству.
– Вероятнее всего, ваш отец просто не стал говорить, чем все это кончилось, чтобы не травмировать детскую психику. А кончилось, Ирина Константиновна, тем же, чем и всегда: группа столичных реставраторов, отправленная для обследования монастырских фресок, бесследно исчезла.
– Господи, какой кошмар! – пробормотала Ирина.
– Не понимаю, – сказал Сиверов. – Воля ваша, Федор Филиппович, но все это звучит, простите, как неумная шутка. Я тут попытался представить себе карту. Места, конечно, глухие, но ведь не настолько же!
Ирина посмотрела на него с благодарностью. В словах Глеба Петровича звучал голос разума, слегка разрядивший сгущающуюся атмосферу иррационального ночного кошмара. При том, что Федор Филиппович рассказывал весьма интересные вещи, Ирина уже начала жалеть, что не воспользовалась предложением покинуть это сборище.
– Ты прав, – согласился с Сиверовым генерал. – Не такая уж там и глухомань, особенно теперь. Я навел справки. Поселок, можно сказать, процветает. Там построили завод безалкогольных напитков, а где завод, там, естественно, и дорога, и соответствующая инфраструктура. Так что место достаточно цивилизованное по тамошним меркам.
– И что?
– А ничего. В смысле, проникновение цивилизации в те места никоим образом не сказалось на. гм. доступности Волчанской обители. Последнее зарегистрированное исчезновение отмечено в середине девяностых, когда в Волчанку из Пскова прибыл отец Андрей Карташов. Прибыл он туда, имея благословение московского патриарха на возрождение обители. С областными властями этот вопрос был согласован, никто не возражал. Так вот, этот самый отец Андрей пропал, как только попытался просто дойти до монастыря – осмотреть, так сказать, материальную базу.
– Дьявольщина какая-то, – сердито сказал Сиверов. – Ну хорошо, а что говорят местные? Ведь не может же быть, чтобы за все эти годы никто не поинтересовался их мнением!
– Местные.
Федор Филиппович кривовато усмехнулся и, снова сложив вчетверо свою шпаргалку, убрал ее во внутренний карман пиджака. Ирина встретила этот жест вздохом облегчения: честно говоря, ей уже начало казаться, что страшный список пропавших без вести никогда не кончится.
– Местные, Глеб Петрович, конечно, не молчат, – все с той же кривой, скептической улыбкой продолжал генерал. – Причем, что характерно, сегодня, на заре третьего тысячелетия, они слово в слово пересказывают басни, которыми их предки потчевали полицейских чиновников в самом начале позапрошлого века. Это, кстати, выглядит довольно странно. Местные поверья и легенды, конечно, живучи, но за столько лет, передаваясь из уст в уста, они неизбежно должны были претерпеть заметные изменения. Этого, однако, не произошло, и это, господа мои, очень, очень странно. Можно подумать, что все волчанцы говорят чистую правду – и тогда, и сейчас.
– Что же в этом странного? – пожал плечами Глеб. – Люди иногда говорят правду – нечасто, но все-таки говорят.
– Хороша правда! – фыркнул Потапчук. – Они, друг мой, утверждают, что после насильственного закрытия монастыря в его развалинах поселилась нечистая сила – чуть ли не семейство оборотней, да-с. Дескать, отец Митрофан, чернокнижник, этому каким-то образом способствовал. И теперь всякому, кто попытается приблизиться к монастырю, уготован, сам понимаешь, страшный конец. Единственный местный житель, который пытался выдвинуть другую версию, – учитель физики из местной школы. Так вот, он всерьез утверждал, что в окрестностях монастыря обитает семейство, гм. снежных людей. И даже, заметь, показывал фотографии, которые якобы сделал сам. Снимков этих я не видел, они где-то затерялись, но читал их описания. Так вот, изображенные на фотографиях объекты могут с одинаковым успехом являться как пресловутыми снежными людьми, так и не менее пресловутыми оборотнями.
– А также плодом фантазии и мастерства фотографа-ретушера, – иронически добавил Глеб. – Ей-богу, Федор Филиппович, ну смешно же! Где он сейчас, этот первооткрыватель? В психушке?
– Пропал без вести, – сдержанно ответил генерал. – Отправился на фотоохоту за своим снежным человеком и не вернулся.
– Черт возьми, – сказал Сиверов. – Что же там происходит?!
– Вот ты мне все и объяснишь, – сказал Федор Филиппович.
– Простите?
– Выяснишь, что там происходит, и доложишь мне.
Ирина невольно прижала к губам ладонь, чтобы сдержать удивленный и, чего греха таить, испуганный возглас. «А ведь он женат, – подумала она некстати. – Господи, каково же приходится его жене?! Или она такая дурочка, что за столько лет ни о чем не догадалась? Ведь однажды он просто уедет в очередную командировку и не вернется, и больше она его не увидит – ни живого, ни мертвого. И где его похоронили, никто не скажет.»
– Да, – веско произнес Сиверов после довольно продолжительной паузы. – Понимаю, я далеко не самый лучший из ваших подчиненных. Я давно догадывался, что вы мечтаете от меня избавиться. Но мне даже в голову не приходило, что вы, Федор Филиппович, выберете для этого такой изуверский способ! Скормить меня снежному человеку, да еще и оборотню! Бегите отсюда, Ирина Константиновна, – задушевным тоном продолжал он, обращаясь к Андроновой. – Бегите без оглядки! Вы же видите, это страшный человек! Он же не остановится! Сначала отправит меня в тайгу на корм каким-то волосатым людоедам, а потом, когда соскучится, пошлет вас в какие-нибудь мрачные подземелья – якобы обследовать обнаруженные там произведения искусства, а на самом деле – на растерзание вампирам.
– Все сказал? – холодно осведомился Федор Филиппович.
– Может, и не все, но кого это интересует? – с хорошо разыгранной горечью человека, понимающего, что оспорить несправедливо вынесенный смертный приговор уже не удастся, сказал Сиверов. – Когда отправляться?
– Не сейчас, – ответил генерал.
– И на том спасибо. Значит, я могу проститься с семьей?
– Перестань паясничать. Поедешь в конце апреля. И поедешь не один, а в составе комплексной экспедиции. Кроме тебя, там будут геологи и двое реставраторов, которые намерены все-таки осмотреть пресловутые фрески. И мне бы очень хотелось, чтобы все они вернулись домой целыми и невредимыми. Если, конечно, тебя это не очень затруднит.
Сиверов вздохнул – на этот раз, кажется, вполне искренне.
– Вернутся, – пообещал он. – Хотя, если честно, я почти уверен, что меня это, как вы выразились, затруднит. Очень затруднит.
Глава 6
Горка Ульянов добирался до Волчанки кружным путем полных четверо суток, а добравшись, сразу же, не заходя домой, невыспавшийся, усталый как собака и голодный как волк, небритый и воняющий застарелым потом и перегаром, кинулся к Макару Степанычу – докладывать.
Откровенно говоря, идти к Ежову после всего, что с ним приключилось в Москве и по дороге домой, Горка малость побаивался. Как-никак отправляли их с Захаром в столицу не воевать и не разносить вдребезги дорогие магазины, а смотреть да слушать. Виноватым в чем бы то ни было Горка себя не чувствовал, но начальство – это ведь такой народ, что сначала даст по шапке, а потом, как поостынет, может, и разберется, за дело человек пострадал или просто так – потому, что не успел вовремя доказать, что не верблюд. Хуже нету – доказывать, когда тебя и слушать не хотят. Шлепнут не разобравшись, а потом извиняться поздно будет. На хрен она сдалась Горке Ульянову, эта посмертная реабилитация? И он не враг народа, и на дворе, прямо скажем, не тридцать седьмой год.
Деваться, однако, было некуда – разве что податься в бега и жить в таежной берлоге, как какой-нибудь медведь. А жрать что, особенно зимой? Лапу сосать по-медвежьи? Чего-чего? Охотиться? Голыми руками? Ножиком? Лук со стрелами смастерить? Сам попробуй, если такой умный, а потом советуй. Да и с какого такого переполоха ни в чем не повинный Горка должен в дикари лесные записываться?
Да ладно бы, кабы это еще помогло. Так ведь не поможет! Макар Степаныч, ежели захочет, под землей сыщет, а не то что в лесу. И тогда уж точно прикончит без разговоров, потому как, если побежал, значит, виноват. Неважно в чем, главное, что виноват.
Короче, сразу же по прибытии в Волчанку Горка, как был, не опохмелившись даже, робея, предстал пред светлые очи Макара Степаныча. Ежов, вопреки ожиданиям, встретил его ласково, мягко попенял за то, что не звонил (а Горка уже и не помнил, где и при каких обстоятельствах посеял выданный Ежовым перед отъездом мобильный телефон), и погоревал по убитому в Москве Захару. Помянули его, как водится, по русскому обычаю; после третьей поминальной рюмки в голове у Горки малость прояснилось, и он, кашлянув в кулак, принялся излагать, как было дело.
И опять же, против ожиданий, Макар Степаныч остался Горкиным рассказом доволен. То есть сказал, конечно, что, дескать, напортачили вы, ребятки, наследили, мол, как корова в валенках, но тем дело и кончилось. Главное, сказал он, удалось выяснить, зачем Сохатый в Москву ездил. Осталось, мол, только выяснить, откуда дядя Коля, Николай наш Гаврилович, при нужде эти цацки таскает.
Короче, обошлось. И вознаграждение обещанное Макар Степаныч – вот ведь душа-человек! – выдал Горке в двойном размере: на самого Горку, значит, и на покойного Захара. «Выпей, – сказал, – за упокой его души. – А у меня, – говорит, – еще дела, так что извини, компанию я тебе не составлю».
Выйдя из здания, где Макар Степаныч оборудовал свою контору – или, как в Москве говорят, офис, – Горка сделал над собой усилие и отправился не в ближайшую тошниловку, до которой было рукой подать, а домой. Там он первым делом затопил печку, чтобы хоть немного прогреть вымороженные за время его отсутствия комнаты, а потом, прикинув, что к чему, собрал кой-какое бельишко и направился прямиком в общественную баню. Конечно, баня у Горки имелась своя, но уж больно ему не хотелось сейчас с ней возиться. Это ж воды натаскай – раз, протопи – два, да и париться в собственной бане надо как полагается – с чувством, с толком, с расстановкой. Гляди, чтоб к полуночи управиться. А выпить когда? А к бабе?
К бабе, конечно, можно было сходить и немытым. Мыться специально для того, чтоб заглянуть на огонек к веселой и безотказной вдовушке Настюхе, Горка не привык, потому что считал это барством. Но сейчас, имея полные карманы денег, он именно так себя и ощущал – барином, который от щедрот своих, от широты душевной и по врожденной своей доброте может потешить несчастную одинокую бабу, разочек, просто для разнообразия, вскарабкавшись на нее в свежевымытом виде. И чтоб, понимаешь, носки под кроватью не стояли, а лежали, как им полагается.