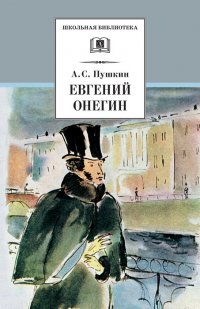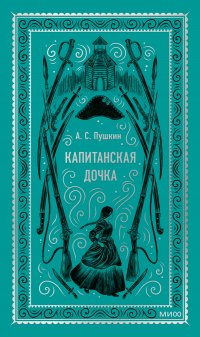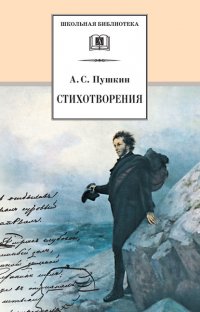
Читать онлайн Стихотворения бесплатно
- Все книги автора: Александр Пушкин
1799–1837
© Куняев С. С., составление, 1999
© Куняев С. Ю., предисловие, примечания, 1999
© Дурасов Л. П., гравюры, 1999
© Оформление серии. Издательство «Детская литература», 2000
«Духовной жаждою томим…»
В пятидесятые годы, когда я заканчивал среднюю школу, мы изучали Пушкина вроде бы неплохо: учили наизусть стихотворенья и отрывки из поэм, за что я до сих пор благодарен своим учителям; писали сочинения на самые разные темы, сочинения, может быть, не особенно оригинальные, но в то же время и необходимые; не говорю уже о том, что читали мы Пушкина в несравненно большем объеме, нежели это делают нынешние школьники… И однако, однако был один очень большой минус в добротном изучении Пушкина тех лет: все учебники и все учителя, вся методика внушала нам, что Пушкин необычайно светел, понятен, общедоступен настолько, что и раздумывать о его творчестве нечего: он сам все нам разжевал, сам все объяснил и наша задача лишь усвоить это общедоступное знание.
И помнится, что я был крайне поражен, когда впервые прочитал у Достоевского: «По-моему, Пушкина мы еще и не начинали узнавать: это гений, опередивший русское сознание еще слишком надолго». А несколько позднее мою школярскую самоуверенность смутило глубокое пророчество Гоголя о том, что «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа; это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет». Все вроде бы солнечно, ясно, просто – и вдруг аж через двести лет только все определится: вырастет русский человек до идеала, очерченного Пушкиным, или нет…
* * *
Сколько бы раз я ни перечитывал Пушкина – всегда заново в моей душе из каких-то неведомых глубин поднимается волна восторга, рождаемого вещими строками:
- Припомните, о други, с той поры,
- Когда наш круг судьбы соединили,
- Чему, чему свидетели мы были!
- Игралища таинственной игры,
- Металися смущенные народы;
- И высились и падали цари;
- И кровь людей то славы, то свободы,
- То гордости багрила алтари.
Это сказано не только о Великой французской революции, не только об Отечественной войне 1812 года, не только о пушкинском времени – но о судьбах всех времен, всех революций, всех поколений. Пушкин – угадчик, толкователь неясного и таинственного гула, сопровождающего исторические сдвиги, выразитель сверхчеловеческих идей, которыми движется история. Он чувствовал ее ход и движение, как гениальный геолог чувствует подземное перемещение земных материков, на которых живут обычные люди, не подозревающие того, что ни одна точка земной тверди не находится в полном покое.
В мировой истории, по Пушкину, герои и великие люди величественны не сами по себе, не потому что они сильные натуры, деятели и авантюристы – нет, каждый из них есть воплощение некой мировой идеи, сосредоточившей волю народа или волю государства, волю искусства или волю фанатизма, волю зла или волю добра. Таковы у него владыка Запада Наполеон и Магомет, Емельян Пугачев и Моцарт, Борис Годунов и Петр Великий, превращающийся на протяжении пушкинского творчества в Медного Всадника, христианин Тазит и супермен Герман.
И вот это не механическое, а живое проникновение в недра человеческой истории, в глубины народного духа, в «святая святых» есть урок нашему искусству, упрощающему ради сиюминутных интересов (злоба дня, массовая культура, классовые догмы, узкопартийные страсти, демагогия «народных витий») сложнейшие отношения духа и материи, вождя и народа, человека и общества до романтических мотивов в духе Дюма или даже Юлиана Семенова.
- Смотри, вокруг тебя
- Все новое кипит, былое истребя.
- Свидетелями быв вчерашнего паденья,
- Едва опомнились младые поколенья.
- Жестоких опытов сбирая поздний плод,
- Они торопятся с расходом свесть приход.
Нет, торопливо свести с расходом приход невозможно, как невозможно, глядя в прошлое и рассуждая, кто прав, кто виноват, на уровне узкого юридического мышления постигнуть сущность «игралища таинственной игры», когда свобода, защищаясь и проливая кровь, перерождается в тиранию, гений – в злодейство, справедливость – во зло и репрессии. А Пушкин понимал это уже в свои двадцать пять лет, когда в год Декабрьского восстания в стихотворенье «Андрей Шенье» писал:
- Оковы падали. Закон,
- На вольность опершись, провозгласил равенство.
- И мы воскликнули: Блаженство!
- О горе! о безумный сон!
- Где вольность и закон?
- Над нами Единый властвует топор.
- Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
- Избрали мы в цари…
И это не просто мозаика из взаимоисключающих воззрений и картин, не пресловутый плюрализм, а художественно цельное исследование громадного Тела Человечества, где все органически взаимосвязано перетекающими и перерождающимися друг в друга потоками энергии, воли, крови и духа.
Объять все многообразие стихийной жизни человечества, остаться цельным, не впадая в соблазнительную односторонность, можно лишь беспристрастным научным анализом либо художественным взором. Кем был Пушкин? Певцом государственности? Избранником чистого искусства? Сторонником народной жизни? Апологетом декабристов? Кто его любимые сердцу герои? Воины 1812 года? Аполлон? Чиновник Евгений? Пимен-летописец? Капитанская дочка?
Помню, как известный пушкинист Сергей Михайлович Бонди, желая озадачить нас, желторотых первокурсников филологического факультета МГУ, на первой же лекции по Пушкину поднялся на трибуну и с вызовом обратился к аудитории: «Ну как вы считаете: Пугачев – патриот?» – «Патриот!» – раздалось несколько нестройных голосов. «А капитан Миронов патриот?» – «Патриот!» – «Ну теперь объясните мне, почему один патриот повесил другого патриота?..» Вопрос этот не случаен.
Толкование истории как процесса, развивающегося по какому-либо «ведомственному» руслу – классовому, групповому, партийному, сектантскому – опасно тем, что упрощает смысл человеческого бытия. Его носители высокомерно полагают, что для избавления от бед есть простые и эффективные пути, чаще всего насильственного свойства, вступают на них без сомнений и тем cамым быстро увеличивают количество бед и несчастий, от которых мечтали вроде бы избавить мир. Именно о носителях таких взглядов с горьким чувством сказал в свое время Пушкин: «Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка».
Цельность взгляда на мир была для Пушкина неразрывно связана с красотой сего мира. Пушкин, конечно, понимал, что, допустим, Петр I – не меньший тиран, нежели все другие, что его указы написаны кнутом крепостника, что Петербург построен на народных костях, что под копытами Медного Кентавра погиб не один Евгений, а много ему подобных. И тем не менее, подводя окончательный исторический итог деятельности Петра, преодолевая соблазны осуждения или оправдания, с той или иной частной точки зрения, поэт создает облик героя как бы с точки зрения вечной, утверждающей то, что «красота спасет мир».
- Тогда-то свыше вдохновенный
- Раздался звучный глас Петра:
- – За дело, с Богом! – Из шатра,
- Толпой любимцев окруженный,
- Выходит Петр. Его глаза
- Сияют. Лик его ужасен.
- Движенья быстры. Он прекрасен,
- Он весь, как Божия гроза.
Проходит время, и, любуясь сокровищами Грановитой палаты либо египетскими пирамидами, мы не мучим свою совесть вопросом: а чего это стоило? Мы просто любуемся ими.
Потому-то у Пушкина прекрасно все, что касается Петра: «и царский пир его прекрасен», и прекрасен город, возведенный им с «однообразной красивостью пехотных ратей и коней», прекрасен и памятник герою Полтавы:
- Ужасен он в окрестной мгле!
- Какая дума на челе!
- Какая сила в нем сокрыта!
- А в сем коне какой огонь!
- Куда ты скачешь, гордый конь,
- И где опустишь ты копыта?
Но в обоих отрывках – из «Полтавы» и «Медного Всадника» – рядом со словом «прекрасен», как близнец, стоит слово «ужасен». Даже в этом, словно в капле воды, отразилась пушкинская воля к изображению цельности мира, роковой взаимосвязи свободы и тирании, личности и государства, гуманизма и экстремизма. Пуританское осуждение истории с позиции пользы или злобы дня не для Пушкина. Он скорее как бы наслаждается, восхищается, поражается тайной взаимосвязью внешне враждующих исторических сил, и на наших глазах происходит нечто подобное чуду, когда человеческий гений изящным художественным усилием постигает импульсы мировой истории. «Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат». Под пером Пушкина история ведет себя словно булат под ударами тяжкого молота: не разлетается вдребезги, а становится текучей, ковкой и принимает единственно необходимые формы, выражающие ее сущность. Разве это не урок для нашего сознания, упрямо желающего сегодня постичь исторические события лишь в одной выгодной для нас ипостаси, когда злоба прошедшего дня лишь на время опровергается злобой дня настоящего…
«Красота спасет мир». Инстинкт Красоты всегда спасал Пушкина от соблазна выбрать какой-либо простой и удобный, понятный для общественного мнения вариант объяснения истории. Он никогда ради красоты и истины не хотел и не умел потрафлять вкусам моды, желаниям толпы, диктату сильных мира сего. Недаром, когда его философия истории окончательно сформировалась, и сознавая, что ее глубина – глубина «Медного Всадника» и «Бориса Годунова»– не по плечу общественному мнению, окружавшему его, сознавая, что его не поймут – и что это неизбежно, Пушкин в 1829 году писал в набросках предисловия к «Борису Годунову»: «Я выступаю перед публикой, изменив свою раннюю манеру. Не имея более надобности заботиться о прославлении неизвестного имени и первой своей молодости, я уже не смею надеяться на снисхождение, с которым был принят доселе. Я уже не ищу благосклонной улыбки моды. Добровольно выхожу я из ряда ее любимцев…»Для такого шага необходимо мужество. Мужество это может быть рождено лишь любовью к истине. И вот этот завет Пушкина – служить Истине и Красоте, а не моде, стоическая способность к устранению ее из своей жизни – остается вечным уроком для русских поэтов.
* * *
На заре своей молодости юный Пушкин, написав стихотворение по одному внешне незначительному поводу, обмолвился формулой, которая неожиданно стала путеводной звездой для всей русской поэзии:
- Любовь и тайная свобода
- Внушали сердцу гимн простой:
- И неподкупный голос мой
- Был эхо русского народа…
«Тайная свобода»… О ней на закате своей жизни вспомнил Александр Блок, обращаясь в своем поэтическом завещании к тени Пушкина:
- Пушкин, тайную свободу
- Мы воспели вслед тебе:
- Дай нам руку в непогоду,
- Помоги в немой борьбе…
«Немая» борьба Александра Блока в конце его жизни была борьбой за свободу творчества, за независимость художника от воспаленных клановых, классовых, кастовых агрессивных страстей, которые, по убеждению поэта, будучи естественными в своем начале, очень скоро становятся новыми догмами, мешающими творцу осуществить главное дело жизни.
Это была борьба за цельного человека, за цельное художественное понимание мира. И знаменательно, что это понимание Александр Блок выразил в своей пророческой речи о Пушкине:
«Дело поэта вовсе не в том, чтобы достучаться непременно до всех слухов; скорее добытая им гармония производит отбор между ними, с целью добыть нечто более интересное, чем среднечеловеческое, из груды человеческого шлака. Этой цели, конечно, рано или поздно достигнет истинная гармония; никакая цензура в мире не может помешать этому основному делу поэта».
Богатство, цельность, гармоничность, таинственность пушкинского мира, собственно, и были главной причиной того, что в разные периоды нашей истории всяческие разрушительные силы объявляли ему войну, ибо этот мир никак не вписывался в их узкое и всегда ущербное понимание жизни.
Очередной (после нападок нарождающейся буржуазной журналистики в лице Булгарина, Греча, Сенковского) натиск пушкинскому наследию пришлось выдержать со стороны нигилистов-шестидесятников, наиболее ярким и талантливым идеологом которых был публицист Д. Писарев. «Польза», «прагматизм», «ближайшие социальные задачи»– вот что было написано на знаменах этого яркого, но культурно неполноценного поколения. Однако его «архиреволюционность» не выдержала творческого спора с гигантами русской художественной мысли – Достоевским, Тургеневым, Тютчевым, Львом Толстым, которые и в практике, и в теории продолжили и укрепили пушкинскую традицию. Венцом этой борьбы стала речь Федора Михайловича Достоевского, произнесенная им в год открытия памятника Пушкину в Москве. Достоевский высмеял прагматиков, утверждавших, что Пушкин – апологет чистого искусства, и, заглянув в будущее, объединил явление Пушкина со всемирно-историческим предназначением всей грядущей русской истории: «Не было поэта с такой всемирной отзывчивостью, как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут дело, а в изумляющей глубине ее, а в перевоплощении своего духа в дух чужих народов… Это только у Пушкина, и в этом смысле, повторяю, он явление невиданное и неслыханное, а по-нашему, и пророческое, ибо… тут-то и выразилась наиболее его национальная русская сила».
Речь эта как бы подытожила поражение волны «антипушкинских сил» середины прошлого века. Но прошло всего несколько десятилетий – и следующая волна цивилизованного варварства обрушилась на, казалось бы, надежно защищенное всей русской классикой наследие Пушкина.
«Сбросим Пушкина с парохода современности»– таков был расхожий лозунг многих «революционеров от культуры» в начале нашего века. Поэзия все более и более теряла свою цельность, дробилась на узкие кастовые агрессивные течения – футуристов, акмеистов, символистов, скоропалительно теряя при этом общенародные черты и неуютно чувствуя себя рядом с материком пушкинской культуры. Да и писателям, близким социал-демократии, также не хватало понимания пушкинской широты. Но ниспровергатели гения добились лишь того, что сейчас, листая газеты и журналы тех времен с лихими выпадами против Пушкина и мировой культуры, мы вспоминаем лишь его слова, как будто специально оставленные им потомству для подобных случаев: «Легче превзойти гениев в забвении всех приличий, нежели в поэтическом достоинстве».
В конце концов нигилистическую перчатку, брошенную эпохой Пушкину, поднял духовный потомок Пушкина Александр Блок и, подобно Достоевскому, через сорок лет после того произнес в защиту пушкинского мира столь же бессмертную речь «О назначении поэта». И в те же годы новый гений России Сергей Есенин тоже, как бы становясь поперек волны антикультурного агрессивного варварства, демонстративно обращается к Пушкину:
- Мечтая о могучем даре
- Того, кто русской стал судьбой,
- Стою я на Тверском бульваре
- И говорю с самим собой…
Слова «того, кто русской стал судьбой…» были сказаны как нельзя вовремя, потому что самые тяжелые для пушкинского мира испытания еще едва брезжили в мутной дымке грядущих лет…
Почти в одно время с Блоком поэт Владислав Ходасевич, предвидя эти времена, написал статью о творчестве Пушкина, которую назвал «Колеблемый треножник». Название статьи Ходасевич взял из пушкинского сонета. Напомню, что в нем Пушкин отстаивает великое право художника на «тайную свободу» творчества, не требующего никаких наград и почестей от внешнего мира, ибо эти награды –
- Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
- Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
- Ты им доволен ли, взыскательный художник?
- Доволен? Так пускай толпа его бранит
- И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
- И в детской резвости колеблет твой треножник.
Ходасевич, с угрюмой тревогой вглядываясь в будущее, полное разрухи, кровопролитий, социальных страстей, разрушения культуры, серьезно опасался, что пушкинскому миру, из какого бы прочного, казалось, материала он ни сделан, тем не менее грозят неотвратимые беды, и выстоит ли этот мир под напором социальных стихий, для Ходасевича, в отличие от Блока, было неясно. Он был уверен в том, что ближайшее историческое будущее затянуто темными тучами, неблагоприятными ни для Пушкина, ни для всей культуры.
И дело было не в том, что узкоклассовый, вульгарный подход безмерно умалял величие и значение пушкинского творчества. А это упрощение Пушкина было узаконенным в двадцатые – тридцатые годы: даже такой образованный человек, как нарком просвещения А.Луначарский, в своих статьях всячески втискивал Пушкина в вульгарно-классовое прокрустово ложе: «Пушкин не покинул до конца аристократических позиций», «переход с барских позиций на буржуазные», «Пушкин… поднимается, в сущности, до гегелевской постановки вопроса…». Но это еще, как говорится, полбеды. Не такие бури пролетели над пушкинским миром! Вся беда в том, что ни Ходасевич, ни Блок, ни Есенин, предвидя одичание культуры, цензурные козни нарождающейся чиновничьей бюрократии, несовпадение высокого духовного импульса пушкинской поэзии с узкосоциальной идеологией времени, не предвидели одного: что в ближайшие годы будет осуществлена попытка буквального разрушения пушкинского мира, его материальных форм, попытка полного пересмотра русской истории, служившей фундаментом всему пушкинскому творчеству…
Дело в том, что к концу двадцатых годов в нашей идеологической системе сформировались антинациональные силы, создавшие концепцию, по которой за все многовековые грехи феодально-самодержавного, крепостнического периода нашей истории предъявлялся политический и идеологический счет русскому народу и русской культуре.
Они как бы объявлялись ответственными за все несовершенство минувшего тысячелетия. Эта антирусская, антинациональная в своих крайних формах идеология оправдывала жестокие репрессии по отношению к русскому крестьянству как к реакционному классу, оправдывала разрушение великих памятников русской культуры и истории, якобы обслуживавших идеологию самодержавия, объявляла русский национальный характер консервативным, бездеятельным, неспособным к строительству нового общества. Вот, к примеру, какую программу культурного строительства развертывала перед читателем наша массовая пресса того времени:
«Пора убрать исторический мусор с площадей. В этой области у нас накопилось немало курьезов. Еще в прошлом году в Киеве стоял (а может быть, скорее всего и по сей день стоит) чугунный «святой» князь Владимир.
В Москве напротив Мавзолея Ленина и не думают убираться восвояси «гражданин Минин и князь Пожарский» – представители боярско-торгового союза, заключенного 318 лет тому назад на предмет удушенья крестьянской войны. Скажут: мелочь, пустяки, ничему не мешают эти куклы, однако почему-то всякая революция при всем том, что у нее были дела поважнее, всегда начинается с разрушения памятников. Это вопрос революционной символики, и ее надо строить планово, рационально. Уцелел ряд монументов, при идеологической одиозности не имеющих никакой художественной ценности или вовсе безобразных – ложно классический мартосовский «Минин – Пожарский», микешинская тумба Екатерина II, немало других истуканов, уцелевших по лицу СССР (если не ошибаюсь, в Новгороде как ни в чем не бывало стоит художественный и политически оскорбительный микешинский же памятник 1000-летие России) – все эти тонны цветного и черного металла давно просятся в утильсырье. Если сама площадь «требует» монумента, то почему бы с фальконетовского Петра I не сцарапать надпись «Петру Первому – Екатерина Вторая», и останется безобидно украшающий плац никому не известный стереотипный «Римский Всадник» и т. д. Улицы, площади – не музеи, они должны быть всецело нашими».
Это отрывок из статьи известного литературного критика тех времен В. Блюма, опубликованной в газете «Вечерняя Москва» в 1930 году.
Обратим внимание, что в своем призыве к тотальному разрушению памятников русской истории и культуры нигилист тридцатых годов, в сущности, покушается на наследие Пушкина. Ведь все монументы и реалии, недостойные, по его мнению, существования в новую эру, – это герои пушкинского мира. Владимир Святой, отождествляющийся в русском былинном эпосе с Владимиром Красное Солнышко, – персонаж из «Руслана и Людмилы»; на фоне имен Минина и Пожарского развивается действие «Бориса Годунова», вспомним мысль Пушкина о том, что «имена Минина и Ломоносова вдвоем перевесят, может быть, все наши старинные родословные»; «микешинская тумба» Екатерина II – действующее лицо «Капитанской дочки»; ну а о «Медном Всаднике» и говорить нечего… Словом, покушаясь на русскую историю, экстремист тридцатых годов покушался на Пушкина так, как еще никто не покушался на него. Скепсис современников в конце жизни поэта, критика Писарева, невежественные призывы футуристов или догматические рассуждения Луначарского рядом с этой тотальной программой выглядят безобидным детским лепетом.
Но ирония судьбы заключалась в том, что все усилия нигилизма двадцатых – тридцатых годов с первых же шагов его были тщетными, потому что русская культура и пушкинский мир уже давно преобразовались из форм материальной жизни в духовные формы, уничтожить которые практически невозможно ввиду их неуязвимости. Ну какой смысл в том, чтобы «стереть надпись с «Медного Всадника»? Ведь все равно, написав свою великую поэму, вошедшую в сердца и души нескольких поколений, Пушкин как бы выдал вечную «охранную грамоту» и Петербургу, и монументу Петра – и, всем своим творчеством, многим другим узловым моментам русской истории! Чиновные моралисты, «неистовые ревнители», вульгарные социологи той эпохи забывали о том, что уже несколько поколений русских людей выросли в мире Пушкина, что уже с первых уроков в какой-нибудь самой захудалой церковноприходской или земской школе в душу ребенка на всю жизнь западали и «Лукоморье», и «Сказка о рыбаке и рыбке», и «Буря мглою небо кроет…». Пока в течение столетия над бронзовой головой поэта проносились социальные страсти, споры, дискуссии, народ медленно и неустанно, как бескрайнее поле влагу, впитывал пушкинские мысли и чувства, пушкинскую музыку, пушкинский дух. Вот почему антипушкинские силы всегда были обречены на поражение и забвение. Пушкин спасал русскую историю, а самого Пушкина – не задумываясь об этом, безотчетно и естественно спасал народ, уже не мысливший без Пушкина своего существования. Поэтому кто бы ни говорил о Пушкине – Гоголь, Белинский, Достоевский, Блок, Есенин – никто из них не обходится без эпитета «русский». Именно с этим эпитетом рифмуется по мысли и другой не менее важный: «всемирный», «всечеловеческий». На примере Пушкина, как под увеличительным стеклом, просматривается суть мирового закона, подразумевающего, что лишь только тот гений, кто до предела разовьет свое национальное начало, свое национальное понимание жизни, достоин того, чтобы встать в ряды всемирно известных имен. Ибо в мировую семью принимают только тех, кто входит в нее не с пустыми руками, а со своим национальным вкладом. А потому волна разрушений, хулы, надругательств разбилась о пушкинские твердыни и откатилась вспять. Мир русской истории, сохраненный его десницей и его волей, словно «град Гвидона», вновь восстал из пучин и хлябей, ибо он уже окончательно вошел в сферу духа.
И это, может быть, для нашего времени важнейший итог полуторастолетия, прошедшего со дня смерти Пушкина. Но как бы ни был велик пушкинский мир, он не может существовать сам по себе, без читательской души, без души общенародной, отзывающейся на его призывы. Пушкин не может быть элитарен. Слово его по-прежнему непрестанно отстаивает человеческую душу, «тайную свободу», которую обязан ощущать в себе не только творец, но и каждый человек, если он хочет оставаться не механической песчинкой общества потребления, но личностью с «Божьей искрой», как говорили в старину.
Что такое духовность? Современная молодежь, часто сбитая с толку поверхностными рассуждениями журналистов и социологов, то и дело приравнивает ее к культурному досугу. Если, мол, мы ходим в кино (а что мы там смотрим – не имеет значения!), если мы имеем доступ к видеомагнитофону, слушаем рок-музыку, знаем имена кумиров маскульта, то тем самым мы живем духовной жизнью. А как же иначе? Но духовная жизнь – не культурное времяпрепровождение, а неустанная, напряженная работа над самим собой, над своей душой, созидание самого себя, расширение своего мира…
А бегство от мучительных процессов душеобразования к внешнему миру, к заполнению своей внутренней пустоты внешними раздражителями и внешними интересами – есть бегство от духовной жизни к стадности, к омертвению, к внешнекультурному безликому стандарту. Это – антипушкинский путь…
Не счесть уроков Пушкина, которые нам еще предстоит усвоить…
Незадолго до смерти Пушкин оставил нам несколько мыслей, без понимания которых невозможно понять многое из политики, культуры, истории сегодняшнего времени. Так, к примеру, читая многие мемуарные книги современников, как не вспомнить пушкинскую характеристику французской литературы двадцатых годов прошлого века:
«Мы не остановились на бесстыдных записках Генриетты Вильсон, Казановы… Журналы наполнились выписками из Видока. Поэт Гюго не постыдился в нем искать вдохновенья для романа, исполненного огня и грязи» («О записках палача Самсона»).
А тот, кто размышляет о роли Соединенных Штатов Америки в нынешнем мире, конечно же оценит проницательность Пушкина, писавшего почти 170 лет назад:
«…С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве» («Джон Теннер»).
* * *
- Мчатся бесы рой за роем
- В беспредельной глубине,
- Визгом жалобным и воем
- Надрывая душу мне…
Обратите внимание на это слово – «мне». Пушкин, как всякий гений, ощущал присутствие в мире злой воли, бесовщины, великого «инквизиторства», но, сталкиваясь с темной стихией, он никогда не впадал в душевную панику, в соблазн тут же освободиться от этого мучительного знания, в «художественную» истерию.
Нет, он мужественно брал «на себя» тьму мира, как бы фильтруя ее собственной душой, проделывал огромную работу в поисках иных сил, побеждающих или нейтрализующих тьму.
И лишь услышав в хаосе мировой метели светлые голоса, увидев, что в результате его усилий вспыхивает колеблющийся зыбкий отблеск идеала, на который может, не сбиваясь с пути, двигаться человек, Пушкин решался выпустить в читательское море тех, кого он называл «питомцы давние, плоды мечты моей». Пушкин обладал духовной силой, позволяющей ему брать «на себя» напор всей бездуховной, темной мировой нечисти. Он не перекладывал эту работу на плечи читателей, простых людей, «слабых мира сего» и этим отличается от современных кумиров массовой культуры, которые, наоборот, концентрируют в себе всю бесовщину мира, чтобы выплеснуть ее на мятущуюся, потерявшую ориентиры добра и красоты душу сегодняшнего «маленького человека», бедного Евгения… И как тут не вспомнить евангельскую истину: горе тому, кто соблазнит малых сих… А ведь в своей коллективной ипостаси души простых людей образуют ту мировую или народную душу, «аукаться» с которой необходимо творцу. Когда-то Александр Блок в речи о Пушкине говорил о том, что «любезные чиновники» уже находят способ замутить гармоническую стихию в душе поэта. Сегодня дело зашло еще дальше: выискиваются и находятся способы замутить «мировую душу», чтобы в грядущем душе поэта не с кем было перекликнуться в бездуховной пустыне, чтобы она была отрезана от мировой стихии, чтобы ее «божественный глагол» не мог бы достучаться до человека. А потому поможем Пушкину, Блоку, искусству вообще. Оправдаем надежды великих на нас, малых. Надо томиться духовной жаждой, ощущать ее как нечто неповторимое, личное, чтобы выстрадать рождение души… Вот еще какая громадная цель возникает перед нами сегодня, цель эта связана и со всемирными заботами человечества, потому что «темная власть барыша» в нашу эру – дело всемирное. Но эта цель связана и с нашими национальными заботами, ибо пророчество Гоголя о том, что Пушкин – «это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет», имеет сроки: оно явлено миру в 1832 году, а значит, в нашем распоряжении еще есть 33 года. Так постараемся же оправдать пушкинские и гоголевские надежды, а осуществим их только тогда, когда вспомним, чьи мы наследники, когда поймем, что томление духовной жаждой – может быть, единственный путь для спасения человечества от «темной власти барыша» и от «всемирной пошлости безбожной».
С. Куняев
Стихотворения
1814
К другу стихотворцу
- Арист! и ты в толпе служителей Парнаса!
- Ты хочешь оседлать упрямого Пегаса;
- За лаврами спешишь опасною стезей
- И с строгой критикой вступаешь смело в бой!
- Арист, поверь ты мне, оставь перо, чернилы,
- Забудь ручьи, леса, унылые могилы,
- В холодных песенках любовью не пылай;
- Чтоб не слететь с горы, скорее вниз ступай!
- Довольно без тебя поэтов есть и будет;
- Их напечатают – и целый свет забудет.
- Быть может, и теперь, от шума удалясь
- И с глупой музою навек соединясь,
- Под сенью мирною Минервиной эгиды[1]
- Сокрыт другой отец второй «Тилемахиды».
- Страшися участи бессмысленных певцов,
- Нас убивающих громадою стихов!
- Потомков поздних дань поэтам справедлива;
- На Пинде лавры есть, но есть там и крапива.
- Страшись бесславия! – Что, если Аполлон,
- Услышав, что и ты полез на Геликон,
- С презреньем покачав кудрявой головою,
- Твой гений наградит – спасительной лозою?
- Но что? ты хмуришься и отвечать готов;
- «Пожалуй, – скажешь мне, – не трать излишних слов;
- Когда на что решусь, уж я не отступаю,
- И знай, мой жребий пал, я лиру избираю,
- Пусть судит обо мне как хочет целый свет,
- Сердись, кричи, бранись, – а я таки поэт».
- Арист, не тот поэт, кто рифмы плесть умеет
- И, перьями скрыпя, бумаги не жалеет.
- Хорошие стихи не так легко писать,
- Как Витгенштеину французов побеждать,
- Меж тем как Дмитриев, Державин, Ломоносов,
- Певцы бессмертные, и честь и слава россов,
- Питают здравый ум и вместе учат нас,
- Сколь много гибнет книг, на свет едва родясь!
- Творенья громкие Рифматова, Графова
- С тяжелым Бибрусом гниют у Глазунова;
- Никто не вспомнит их, не станет вздор читать,
- И Фебова на них проклятия печать.
- Положим, что, на Пинд взобравшися счастливо,
- Поэтом можешь ты назваться справедливо:
- Все с удовольствием тогда тебя прочтут.
- Но мнишь ли, что к тебе рекой уже текут
- За то, что ты поэт, несметные богатства,
- Что ты уже берешь на откуп государства,
- В железных сундуках червонцы хоронишь
- И, лежа на боку, покойно ешь и спишь?
- Не так, любезный друг, писатели богаты;
- Судьбой им не даны ни мраморны палаты,
- Ни чистым золотом набиты сундуки:
- Лачужка под землей, высоки чердаки —
- Вот пышны их дворцы, великолепны залы.
- Поэтов – хвалят все, питают – лишь журналы;
- Катится мимо их Фортуны колесо;
- Родился наг и наг ступает в гроб Руссо;
- Камоэнс с нищими постелю разделяет;
- Костров на чердаке безвестно умирает,
- Руками чуждыми могиле предан он:
- Их жизнь – ряд горестей, гремяща слава – сон.
- Ты, кажется, теперь задумался немного.
- «Да что же, – говоришь, – судя о всех так строго,
- Перебирая все, как новый Ювенал,
- Ты о поэзии со мною толковал;
- А сам, поссорившись с парнасскими сестрами,
- Мне проповедовать пришел сюда стихами?
- Что сделалось с тобой? В уме ли ты иль нет?»
- Арист, без дальних слов, вот мой тебе ответ:
- В деревне, помнится, с мирянами простыми,
- Священник пожилой и с кудрями седыми,
- В миру с соседями, в чести, в довольстве жил
- И первым мудрецом у всех издавна слыл.
- Однажды, осушив бутылки и стаканы,
- Со свадьбы, под вечер, он шел немного пьяный;
- Попалися ему навстречу мужики.
- «Послушай, батюшка, – сказали простяки, —
- Настави грешных нас – ты пить ведь запрещаешь,
- Быть трезвым всякому всегда повелеваешь,
- И верим мы тебе; да что ж сегодня сам…» —
- «Послушайте, – сказал священник мужикам, —
- Как в церкви вас учу, так вы и поступайте,
- Живите хорошо, а мне – не подражайте».
- И мне то самое пришлося отвечать;
- Я не хочу себя нимало оправдать:
- Счастлив, кто, ко стихам не чувствуя охоты,
- Проводит тихий век без горя, без заботы,
- Своими одами журналы не тягчит
- И над экспромтами недели не сидит!
- Не любит он гулять по высотам Парнаса,
- Не ищет чистых муз, ни пылкого Пегаса;
- Его с пером в руке Рамаков не страшит;
- Спокоен, весел он. Арист, он – не пиит.
- Но полно рассуждать – боюсь тебе наскучить
- И сатирическим пером тебя замучить.
- Теперь, любезный друг, я дал тебе совет,
- Оставишь ли свирель, умолкнешь или нет?..
- Подумай обо всем и выбери любое:
- Быть славным – хорошо, спокойным – лучше вдвое.
Казак
- Раз, полунощной порою,
- Сквозь туман и мрак,
- Ехал тихо над рекою
- Удалой казак.
- Черна шапка набекрени,
- Весь жупан в пыли.
- Пистолеты при колене,
- Сабля до земли.
- Верный конь, узды не чуя,
- Шагом выступал;
- Гриву долгую волнуя,
- Углублялся вдаль.
- Вот пред ним две-три избушки,
- Выломан забор;
- Здесь – дорога к деревушке,
- Там – в дремучий бор.
- «Не найду в лесу девицы, —
- Думал хват Денис: —
- Уж красавицы в светлицы
- На ночь убрались».
- Шевельнул донец уздою,
- Шпорой прикольнул,
- И помчался конь стрелою,
- К избам завернул.
- В облаках луна сребрила
- Дальни небеса;
- Под окном сидит уныла
- Девица-краса.
- Храбрый видит красну деву;
- Сердце бьется в нем,
- Конь тихонько к леву, к леву —
- Вот уж под окном.
- «Ночь становится темнее,
- Скрылася луна.
- Выдь, коханочка, скорее,
- Напои коня».
- «Нет! к мужчине молодому
- Страшно подойти,
- Страшно выйти мне из дому
- Коню дать воды».
- «Ах! небось, девица красна,
- С милым подружись!» —
- «Ночь красавицам опасна». —
- «Радость! не страшись!
- Верь, коханочка, пустое;
- Ложный страх отбрось!
- Тратишь время золотое;
- Милая, небось!
- Сядь на борзого, с тобою
- В дальний еду край;
- Будешь счастлива со мною:
- С другом всюду рай».
- Что же девица? Склонилась,
- Победила страх,
- Робко ехать согласилась.
- Счастлив стал казак.
- Поскакали, полетели.
- Дружку друг любил;
- Был ей верен две недели,
- В третью изменил.
Пирующие студенты
- Друзья! досужный час настал;
- Всё тихо, всё в покое;
- Скорее скатерть и бокал!
- Сюда вино златое!
- Шипи, шампанское, в стекле.
- Друзья, почто же с Кантом
- Сенека, Тацит на столе,
- Фольянт над фолиантом?
- Под стол холодных мудрецов,
- Мы полем овладеем;
- Под стол ученых дураков!
- Без них мы пить умеем.
- Ужели трезвого найдем
- За скатертью студента?
- На всякий случай изберем
- Скорее президента.
- В награду пьяным – он нальет
- И пунш и грог душистый,
- А вам, спартанцы, поднесет
- Воды в стакане чистой!
- Апостол неги и прохлад,
- Мой добрый Галич, vale[2]!
- Ты Эпикуров младший брат,
- Душа твоя в бокале.
- Главу венками убери,
- Будь нашим президентом,
- И станут самые цари
- Завидовать студентам.
- Дай руку, Дельвиг! что ты спишь?
- Проснись, ленивец сонный!
- Ты не под кафедрой сидишь,
- Латынью усыпленный.
- Взгляни: здесь круг твоих друзей;
- Бутыль вином налита,
- За здравье нашей музы пей,
- Парнасский волокита.
- Остряк любезный, по рукам!
- Полней бокал досуга!
- И вылей сотню эпиграмм
- На недруга и друга.
- А ты, красавец молодой,
- Сиятельный повеса!
- Ты будешь Вакха жрец лихой,
- На прочее – завеса!
- Хотя студент, хотя я пьян,
- Но скромность почитаю;
- Придвинь же пенистый стакан,
- На брань благословляю.
- Товарищ милый, друг прямой,
- Тряхнем рукою руку,
- Оставим в чаше круговой
- Педантам сродну скуку:
- Не в первый раз мы вместе пьем,
- Нередко и бранимся,
- Но чашу дружества нальем —
- И тотчас помиримся.
- А ты, который с детских лет
- Одним весельем дышишь,
- Забавный, право, ты поэт,
- Хоть плохо басни пишешь;
- С тобой тасуюсь без чинов,
- Люблю тебя душою,
- Наполни кружку до краев, —
- Рассудок! Бог с тобою!
- А ты, повеса из повес,
- На шалости рожденный,
- Удалый хват, головорез,
- Приятель задушевный,
- Бутылки, рюмки разобьем
- За здравие Платова,
- В казачью шапку пунш нальем —
- И пить давайте снова!..
- Приближься, милый наш певец,
- Любимый Аполлоном!
- Воспой властителя сердец
- Гитары тихим звоном.
- Как сладостно в стесненну грудь
- Томленье звуков льется!..
- Но мне ли страстью воздохнуть?
- Нет! пьяный лишь смеется!
- Не лучше ль, Роде записной,
- В честь Вакховой станицы
- Теперь скрыпеть тебе струной
- Расстроенной скрыпицы?
- Запойте хором, господа,
- Нет нужды, что нескладно;
- Охрипли? – это не беда:
- Для пьяных все ведь ладно!
- Но что?.. я вижу всё вдвоем;
- Двоится штоф с араком;
- Вся комната пошла кругом;
- Покрылись очи мраком…
- Где вы, товарищи? где я?
- Скажите, Вакха ради…
- Вы дремлете, мои друзья,
- Склонившись на тетради…
- Писатель, за свои грехи!
- Ты с виду всех трезвее;
- Вильгельм, прочти свои стихи,
- Чтоб мне заснуть скорее.
К Батюшкову
- Философ резвый и пиит,
- Парнасский счастливый ленивец,
- Харит изнеженный любимец,
- Наперсник милых аонид!
- Почто на арфе златострунной
- Умолкнул, радости певец?
- Ужель и ты, мечтатель юный,
- Расстался с Фебом наконец?
- Уже с венком из роз душистых,
- Меж кудрей вьющихся, златых,
- Под тенью тополов ветвистых,
- В кругу красавиц молодых,
- Заздравным не стучишь фиалом,
- Любовь и Вакха не поешь;
- Довольный счастливым началом,
- Цветов парнасских вновь не рвешь;
- Не слышен наш Парни российский!..
- Пой, юноша! – певец тиисский
- В тебя влиял свой нежный дух.
- С тобою твой прелестный друг,
- Лилета, красных дней отрада:
- Певцу любви любовь награда.
- Настрой же лиру. По струнам
- Летай игривыми перстами,
- Как вешний зефир по цветам,
- И сладострастными стихами,
- И тихим шепотом любви
- Лилету в свой шалаш зови.
- И звезд ночных при бледном свете,
- Плывущих в дальной вышине,
- В уединенном кабинете
- Волшебной внемля тишине,
- Слезами счастья грудь прекрасной,
- Счастливец милый, орошай;
- Но, упоен любовью страстной,
- И нежных муз не забывай;
- Любви нет боле счастья в мире:
- Люби – и пой ее на лире.
- Когда ж к тебе в досужный час
- Друзья, знакомые сберутся,
- И вина пенные польются,
- От плена с треском свободясь,
- Описывай в стихах игривых
- Веселье, шум гостей болтливых
- Вокруг накрытого стола,
- Стакан, кипящий пеной белой,
- И стук блестящего стекла.
- И гости дружно стих веселый,
- Бокал в бокал ударя в лад,
- Нестройным хором повторят.
- Поэт! в твоей предметы воле!
- Во звучны струны смело грянь,
- С Жуковским пой кроваву брань
- И грозну смерть на ратном поле.
- И ты в строях ее встречал,
- И ты, постигнутый судьбою,
- Как росс, питомцем славы пал!
- Ты пал и хладною косою
- Едва скошенный не увял!..[3]
- Иль, вдохновенный Ювеналом,
- Вооружись сатиры жалом,
- Подчас прими ее свисток,
- Рази, осмеивай порок,
- Шутя, показывай смешное
- И, если можно, нас исправь,
- Но Тредьяковского оставь
- В столь часто рушимом покое;
- Увы! довольно без него
- Найдем бессмысленных поэтов,
- Довольно в мире есть предметов,
- Пера достойных твоего!
- Но что!.. цевницею моею,
- Безвестный в мире сем поэт,
- Я песни продолжать не смею.
- Прости – но помни мой совет:
- Доколе, музами любимый,
- Ты пиэрид горишь огнем,
- Доколь, сражен стрелой незримой,
- В подземный ты не снидешь дом,
- Мирские забывай печали,
- Играй: тебя младой Назон,
- Эрот и грации венчали,
- А лиру строил Аполлон.
Воспоминания в Царском Селе
- Навис покров угрюмой нощи
- На своде дремлющих небес:
- В безмолвной тишине почили дол и рощи,
- В седом тумане дальний лес;
- Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы,
- Чуть дышит ветерок, уснувший на листах,
- И тихая луна, как лебедь величавый,
- Плывет в сребристых облаках.
- С холмов кремнистых водопады
- Стекают бисерной рекой,
- Там в тихом озере плескаются наяды
- Его ленивою волной;
- А там в безмолвии огромные чертоги,
- На своды опершись, несутся к облакам.
- Не здесь ли мирны дни вели земные боги?
- Не се ль Миневры росской храм?
- Не се ль Элизиум полнощный,
- Прекрасный Царскосельский сад,
- Где, льва сразив, почил орел России мощный
- На лоне мира и отрад?
- Промчались навсегда те времена златые,
- Когда под скипетром великия жены
- Венчалась славою счастливая Россия,
- Цветя под кровом тишины!
- Здесь каждый шаг в душе рождает
- Воспоминанья прежних лет;
- Воззрев вокруг себя, со вздохом росс вещает:
- «Исчезло все, великой нет!»
- И, в думу углублен, над злачными брегами
- Сидит в безмолвии, склоняя ветрам слух.
- Протекшие лета мелькают пред очами,
- И в тихом восхищенье дух.
- Он видит: окружен волнами,
- Над твердой, мшистою скалой
- Вознесся памятник. Ширяяся крылами,
- Над ним сидит орел младой.
- И цепи тяжкие и стрелы громовые
- Вкруг грозного столпа трикратно обвились;
- Кругом подножия, шумя, валы седые
- В блестящей пене улеглись.
- В тени густой угрюмых сосен
- Воздвигся памятник простой.
- О, сколь он для тебя, кагульский брег, поносен!
- И славен родине драгой!
- Бессмертны вы вовек, о росски исполины,
- В боях воспитанны средь бранных непогод!
- О вас, сподвижники, друзья Екатерины,
- Пройдет молва из рода в род.
- О, громкий век военных споров,
- Свидетель славы россиян!
- Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,
- Потомки грозные славян,
- Перуном Зевсовым победу похищали;
- Их смелым подвигам страшась, дивился мир;
- Державин и Петров героям песнь бряцали
- Струнами громозвучных лир.
- И ты промчался, незабвенный!
- И вскоре новый век узрел
- И брани новые, и ужасы военны;
- Страдать – есть смертного удел.
- Блеснул кровавый меч неукротимой длани
- Коварством, дерзостью венчанного царя;
- Восстал вселенной бич – и вскоре новой брани
- Зарделась грозная заря.
- И быстрым понеслись потоком
- Враги на русские поля.
- Пред ними мрачна степь лежит во сне глубоком,
- Дымится кровию земля;
- И села мирные, и грады в мгле пылают,
- И небо заревом оделося вокруг,
- Леса дремучие бегущих укрывают,
- И праздный в поле ржавит плуг.
- Идут – их силе нет препоны,
- Всё рушат, всё свергают в прах,
- И тени бледные погибших чад Беллоны,
- В воздушных съединясь полках,
- В могилу мрачную нисходят непрестанно
- Иль бродят по лесам в безмолвии ночи…
- Но клики раздались!.. идут в дали туманной! —
- Звучат кольчуги и мечи!..
- Страшись, о рать иноплеменных!
- России двинулись сыны;
- Восстал и стар и млад; летят на дерзновенных.
- Сердца их мщеньем зажжены.
- Вострепещи, тиран! уж близок час паденья!
- Ты в каждом ратнике узришь богатыря,
- Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья
- За Русь, за святость алтаря.
- Ретивы кони бранью пышут,
- Усеян ратниками дол,
- За строем строй течет, все местью, славой дышат.
- Восторг во грудь их перешел.
- Летят на грозный пир; мечам добычи ищут,
- И се – пылает брань; на холмах гром гремит,
- В сгущенном воздухе с мечами стрелы свищут,
- И брызжет кровь на щит.
- Сразились. – Русский победитель!
- И вспять бежит надменный галл;
- Но сильного в боях Небесный Вседержитель
- Лучом последним увенчал,
- Не здесь его сразил воитель поседелый;
- О бородинские кровавые поля!
- Не вы неистовству и гордости пределы!
- Увы! на башнях галл Кремля!..
- Края Москвы, края родные,
- Где на заре цветущих лет
- Часы беспечности я тратил золотые,
- Не зная горестей и бед,
- И вы их видели, врагов моей отчизны!
- И вас багрила кровь и пламень пожирал!
- И в жертву не принес я мщенья вам и жизни;
- Вотще лишь гневом дух пылал!..
- Где ты, краса Москвы стоглавой,
- Родимой прелесть стороны?
- Где прежде взору град являлся величавый,
- Развалины теперь одни;
- Москва, сколь русскому твой зрак унылый страшен!
- Исчезли здания вельможей и царей,
- Все пламень истребил. Венцы затмились башен,
- Чертоги пали богачей.
- И там, где роскошь обитала
- В сенистых рощах и садах,
- Где мирт благоухал и липа трепетала,
- Там ныне угли, пепел, прах.
- В часы безмолвные прекрасной, летней нощи
- Веселье шумное туда не полетит,
- Не блещут уж в огнях брега и светлы рощи:
- Все мертво, все молчит.
- Утешься, мать градов России,
- Воззри на гибель пришельца.
- Отяготела днесь на их надменны выи
- Десница мстящая Творца.
- Взгляни: они бегут, озреться не дерзают,
- Их кровь не престает в снегах реками течь;
- Бегут – и в тьме ночной их глад и смерть сретают,
- А с тыла гонит русский меч.
- О вы, которых трепетали
- Европы сильны племена,
- О галлы хищные! и вы в могилы пали,
- О страх! о грозны времена!
- Где ты, любимый сын и счастья и Беллоны,
- Презревший правды глас, и веру, и закон,
- В гордыне возмечтав мечом низвергнуть троны?
- Исчез, как утром страшный сон!
- В Париже росс! – где факел мщенья?
- Поникни, Галлия, главой.
- Но что я вижу? Росс с улыбкой примиренья
- Грядет с оливою златой.
- Еще военный гром грохочет в отдаленье,
- Москва в унынии, как степь в полнощной мгле,
- А он – несет врагу не гибель, но спасенье
- И благотворный мир земле.
- О скальд России вдохновенный,
- Воспевший ратных грозный строй,
- В кругу товарищей, с душой воспламененной,
- Греми на арфе золотой!
- Да снова стройный глас героям в честь прольется,
- И струны гордые посыплют огнь в сердца,
- И ратник молодой вскипит и содрогнется
- При звуках бранного певца.
1815
Лицинию
- Лициний, зришь ли ты: на быстрой колеснице,
- Венчанный лаврами, в блестящей багрянице,
- Спесиво развалясь, Ветулий молодой
- В толпу народную летит по мостовой?
- Смотри, как все пред ним смиренно спину клонят;
- Смотри, как ликторы народ несчастный гонят!
- Льстецов, сенаторов, прелестниц длинный ряд
- Умильно вслед за ним стремит усердный взгляд;
- Ждут, ловят с трепетом улыбки, глаз движенья,
- Как будто дивного богов благословенья;
- И дети малые и старцы в сединах,
- Все ниц пред идолом безмолвно пали в прах:
- Для них и след колес, в грязи напечатленный,
- Есть некий памятник почетный и священный.
- О Ромулов народ, скажи, давно ль ты пал?
- Кто вас поработил и властью оковал?
- Квириты гордые под иго преклонились.
- Кому ж, о небеса, кому поработились?
- (Скажу ль?) Ветулию! Отчизне стыд моей,
- Развратный юноша воссел в совет мужей;
- Любимец деспота сенатом слабым правит,
- На Рим простер ярем, отечество бесславит;
- Ветулий римлян царь!.. О стыд, о времена!
- Или вселенная на гибель предана?
- Но кто под портиком, с поникшею главою,
- В изорванном плаще, с дорожною клюкою,
- Сквозь шумную толпу нахмуренный идет?
- «Куда ты, наш мудрец, друг истины, Дамет!» —
- «Куда – не знаю сам; давно молчу и вижу;
- Навек оставлю Рим: я рабство ненавижу».
- Лициний, добрый друг! Не лучше ли и нам,
- Смиренно поклонясь Фортуне и мечтам,
- Седого циника примером научиться?
- С развратным городом не лучше ль нам проститься,
- Где все продажное: законы, правота,
- И консул, и трибун, и честь, и красота?
- Пускай Глицерия, красавица младая,
- Равно всем общая, как чаша круговая,
- Неопытность других в наемну ловит сеть!
- Нам стыдно слабости с морщинами иметь;
- Тщеславной юности оставим блеск веселий:
- Пускай бесстыдный Клит, слуга вельмож Корнелий
- Торгуют подлостью и с дерзостным челом
- От знатных к богачам ползут из дома в дом!
- Я сердцем римлянин; кипит в груди свобода;
- Во мне не дремлет дух великого народа.
- Лициний, поспешим далёко от забот,
- Безумных мудрецов, обманчивых красот!
- Завистливой судьбы в душе презрев удары,
- В деревню принесем отеческие лары!
- В прохладе древних рощ, на берегу морском,
- Найти нетрудно нам укромный, светлый дом,
- Где, больше не страшась народного волненья,
- Под старость отдохнем в глуши уединенья.
- И там, расположась в уютном уголке,
- При дубе пламенном, возжженном в камельке,
- Воспомнив старину за дедовским фиалом,
- Свой дух воспламеню жестоким Ювеналом,
- В сатире праведной порок изображу
- И нравы сих веков потомству обнажу.
- О Рим, о гордый край разврата, злодеянья!
- Придет ужасный день, день мщенья, наказанья.
- Предвижу грозного величия конец:
- Падет, падет во прах вселенныя венец.
- Народы юные, сыны свирепой брани,
- С мечами на тебя подымут мощны длани,
- И горы и моря оставят за собой
- И хлынут на тебя кипящею рекой.
- Исчезнет Рим; его покроет мрак глубокий;
- И путник, устремив на груды камней око,
- Воскликнет, в мрачное раздумье углублен:
- «Свободой Рим возрос, а рабством погублен».
Наполеон на Эльбе <1815>
- Вечерняя заря в пучине догорала,
- Над мрачной Эльбою носилась тишина,
- Сквозь тучи бледные тихонько пробегала
- Туманная луна;
- Уже на западе седой, одетый мглою,
- С равниной синих вод сливался небосклон.
- Один во тьме ночной над дикою скалою
- Сидел Наполеон.
- В уме губителя теснились мрачны думы,
- Он новую в мечтах Европе цепь ковал
- И, к дальним берегам возведши взор угрюмый,
- Свирепо прошептал:
- «Вокруг меня все мертвым сном почило,
- Легла в туман пучина бурных волн,
- Не выплывет ни утлый в море челн,
- Ни гладный зверь не взвоет над могилой —
- Я здесь один, мятежной думы полн…
- О, скоро ли, напенясь под рулями,
- Меня помчит покорная волна
- И спящих вод прервется тишина?
- Волнуйся, ночь, над эльбскими скалами!
- Мрачнее тмись за тучами луна!
- Там ждут меня бесстрашные дружины.
- Уже сошлись, уже сомкнуты в строй!
- Уж мир лежит в оковах предо мной!
- Прейду я к вам сквозь черные пучины
- И гряну вновь погибельной грозой!
- И вспыхнет брань! за галльскими орлами
- С мечом в руках победа полетит,
- Кровавый ток в долинах закипит,
- И троны в прах низвергну я громами
- И сокрушу Европы дивный щит!..
- Но вкруг меня все мертвым сном почило,
- Легла в туман пучина бурных волн,
- Не выплывет ни утлый в море челн,
- Ни гладный зверь не взвоет над могилой —
- Я здесь один, мятежной думы полн…
- О счастье! злобный обольститель,
- И ты, как сладкий сон, сокрылось от очей,
- Средь бурей тайный мой хранитель
- И верный пестун с юных дней!
- Давно ль невидимой стезею
- Меня ко трону ты вело
- И скрыло дерзостной рукою
- В венцах лавровое чело!
- Давно ли с трепетом народы
- Несли мне робко дань свободы,
- Знамена чести преклоня;
- Дымились громы вкруг меня,
- И слава в блеске над главою
- Неслась, прикрыв меня крылом?..
- Но туча грозная нависла над Москвою,
- И грянул мести гром!
- Полнощи царь младой! – ты двинул ополченья,
- И гибель вслед пошла кровавым знаменам,
- Отозвалось могущего паденье,
- И мир земле, и радость небесам,
- А мне – позор и заточенье!
- И раздроблен мой звонкий щит,
- Не блещет шлем на поле браней;
- В прибрежном злаке меч забыт
- И тускнет на тумане.
- И тихо все кругом. В безмолвии ночей
- Напрасно чудится мне смерти завыванье
- И стук блистающих мечей,
- И падших ярое стенанье —
- Лишь плещущим волнам внимает жадный слух;
- Умолк сражений клик знакомый,
- Вражды кровавой гаснут громы,
- И факел мщения потух.
- Но близок час! грядет минута роковая!
- Уже летит ладья, где грозный трон сокрыт;
- Кругом простерта мгла густая,
- И, взором гибели сверкая,
- Бледнеющий мятеж на палубе сидит.
- Страшись, о Галлия! Европа! мщенье, мщенье!
- Рыдай – твой бич восстал – и все падет во прах,
- Все сгибнет, и тогда, в всеобщем разрушенье,
- Царем воссяду на гробах!»
- Умолк. На небесах лежали мрачны тени,
- И месяц, дальних туч покинув темны сени,
- Дрожащий, слабый свет на запад изливал —
- Восточная звезда играла в океане,
- И зрелася ладья, бегущая в тумане
- Под сводом эльбских грозных скал.
- И Галлия тебя, о хищник, осенила;
- Побегли с трепетом законные цари.
- Но зришь ли? Гаснет день, мгновенно тьма сокрыла
- Лицо пылающей зари,
- Простерлась тишина над бездною седою,
- Мрачится неба свод, гроза во мгле висит,
- Все смолкло… трепещи! погибель над тобою,
- И жребий твой еще сокрыт!
Сраженный рыцарь
- Последним сияньем за лесом горя,
- Вечерняя тихо потухла заря.
- Безмолвна долина глухая;
- В тумане пустынном клубится река,
- Ленивой грядою идут облака,
- Меж ими луна золотая.
- Чугунные латы на холме лежат,
- Копье раздробленно, в перчатке булат,
- И щит под шеломом заржавым,
- Вонзилися шпоры в увлаженный мох:
- Лежат неподвижно, и месяца рог
- Над ними в блистанье кровавом.
- Вкруг холма обходит друг сильного – конь;
- В очах горделивых померкнул огонь,
- Он бранную голову клонит.
- Беспечным копытом бьет камень долин —
- И смотрит на латы – конь верный один
- И дико трепещет и стонет.
- Во тьме заблудившись, пришелец идет,
- С надеждою робость он в сердце несет —
- Склонясь над дорожной клюкою,
- На холм он взобрался, и в тусклую даль
- Он смотрит и сходит – и звонкую сталь
- Толкает усталой ногою.
- Хладеет пришелец, кольчуги звучат.
- Погибшего грозно в них кости стучат,
- По камням шелом покатился,
- Скрывался в нем череп… при звуке глухом
- Заржал конь ретивый, скок лётом на холм —
- Взглянул… и главою склонился.
- Уж путник далече в тьме бродит ночной,
- Все мнится, что кости хрустят под ногой…
- Но утро денница выводит —
- Сраженный во брани на холме лежит,
- И латы недвижны, и шлем не стучит,
- И конь вкруг погибшего ходит.
Александру
- Утихла брань племен; в пределах отдаленных
- Не слышен битвы шум и голос труб военных;
- С небесной высоты, при звуке стройных лир,
- На землю мрачную нисходит светлый мир.
- Свершилось!.. Русский царь, достиг ты славной цели!
- Вотще надменные на родину летели;
- Вотще впреди знамен бесчисленных дружин
- В могущей дерзости венчанный исполин
- На гибель грозно шел, влек цепи за собою:
- Меч огненный блеснул за дымною Москвою!
- Звезда губителя потухла в вечной мгле,
- И пламенный венец померкнул на челе!
- Содрогся счастья сын, и, брошенный судьбою,
- Он землю русскую невзвидел под собою.
- Бежит… и мести гром слетел ему вослед;
- И с трона гордый пал… и вновь восстал… и нет!
- Тебе, наш храбрый рыцарь, хвала, благодаренье!
- Когда полки врагов покрыли отдаленье,
- Во броню ополчась, взложив пернатый шлем,
- Колена преклонив пред вышним алтарем,
- Ты браней меч извлек и клятву дал святую
- От ига оградить страну свою родную.
- Мы вняли клятве сей; и гордые сердца
- В восторге пламенном летели вслед отца
- И местью роковой горели и дрожали;
- И россы пред врагом твердыней грозной стали!..
- «К мечам!» – раздался клик, и вихрем понеслись;
- Знамена, восшумев, по ветру развились;
- Обнялся с братом брат; и милым дали руку
- Младые ратники на грустную разлуку;
- Сразились. Воспылал свободы ярый бой,
- И смерть хватала их холодною рукой!..
- А я… вдали громов, в сени твоей надежной…
- Я тихо расцветал беспечный, безмятежный!
- Увы! мне не судил таинственный предел
- Сражаться за тебя под градом вражьих стрел!
- Сыны Бородина, о кульмские герои!
- Я видел, как на брань летели ваши строи;
- Душой восторженной за братьями спешил.
- Почто ж на бранный дол я крови не пролил?
- Почто, сжимая меч младенческой рукою,
- Покрытый ранами, не пал я пред тобою
- И славы под крылом наутро не почил?
- Почто великих дел свидетелем не был?
- О, сколь величествен, бессмертный, ты явился,
- Когда на сильного с сынами устремился,
- И, чела приподняв из мрачности гробов,
- Народы, падшие под бременем оков,
- Тяжелой цепию с восторгом потрясали
- И с робкой радостью друг друга вопрошали:
- «Ужель свободны мы?.. Ужели грозный пал?..
- Кто смелый? Кто в громах на севере восстал?..»
- И ветхую главу Европа преклонила,
- Царя-спасителя колена окружила
- Освобожденною от рабских уз рукой,
- И власть мятежная исчезла пред тобой!
- И ныне ты к сынам, о царь наш, возвратился,
- И край полуночи восторгом озарился!
- Склони на свой народ смиренья полный взгляд —
- Все лица радостью, любовию блестят,
- Внемли – повсюду весть отрадная несется,
- Повсюду гордый клик веселья раздается;
- По стогнам шум, везде сияет торжество,
- И ты среди толпы, России божество!
- Встречать вождя побед летят твои дружины.
- Старик, счастливый век забыв Екатерины,
- Взирает на тебя с безмолвною слезой.
- Ты наш, о русский царь! оставь же шлем стальной
- И грозный меч войны, и щит – ограду нашу;
- Излей пред Янусом священну мира чашу
- И, брани сокрушив могущею рукой,
- Вселенну осени желанной тишиной!..
- И придут времена спокойствия златые,
- Покроет шлемы ржа, и стрелы каленые,
- В колчанах скрытые, забудут свой полет;
- Счастливый селянин, не зная бурных бед,
- По нивам повлечет плуг, миром изощренный;
- Суда летучие, торговлей окриленны,
- Кормами рассекут свободный океан,
- И юные сыны воинственных славян
- Спокойной праздности с досадой предадутся,
- И молча некогда вкруг старца соберутся,
- Преклонят жадный слух, и ветхим костылем
- И стан, и ратный строй, и дальний бор с холмом
- На прахе начертит он медленно пред ними,
- Словами истины, свободными, простыми,
- Им славу прошлых лет в рассказах оживит
- И доброго царя в слезах благословит.
Тень Фонвизина
- В раю, за грустным Ахероном,
- Зевая в рощице густой,
- Творец, любимый Аполлоном,
- Увидеть вздумал мир земной.
- То был писатель знаменитый,
- Известный русский весельчак,
- Насмешник, лаврами повитый,
- Денис, невежде бич и страх.
- «Позволь на время удалиться, —
- Владыке ада молвил он, —
- Постыл мне мрачный Флегетон,
- И к людям хочется явиться». —
- «Ступай!» – в ответ ему Плутон;
- И видит он перед собою:
- В ладье с мелькающей толпою
- Гребет наморщенный Харон
- Челнок ко брегу; с подорожной
- Герой поплыл в ладье порожной
- И вот – выходит к нам на свет.
- Добро пожаловать, поэт!
- Мертвец в России очутился,
- Он ищет новости какой,
- Но свет ни в чем не пременился.
- Все идет той же чередой;
- Всё так же люди лицемерят,
- Всё те же песенки поют,
- Клеветникам как прежде верят,
- Как прежде все дела текут;
- В окошки миллионы скачут,
- Казну все крадут у царя,
- Иным житье, другие плачут,
- И мучат смертных лекаря,
- Спокойно спят архиереи,
- Вельможи, знатные злодеи,
- Смеясь, в бокалы льют вино,
- Невинных жалобе не внемлют,
- Играют ночь, в сенате дремлют,
- Склонясь на красное сукно;
- Все столько ж трусов и нахалов,
- Рублевых столько же Киприд,
- И столько ж глупых генералов,
- И столько ж старых волокит.
- Вздохнул Денис: «О Боже, Боже!
- Опять я вижу то ж да то же.
- Передних гроздный Демосфен,
- Ты прав, оратор мой Петрушка:
- Весь свет бездельная игрушка,
- И нет в игрушке перемен.
- Но где же братии-поэты,
- Мои парнасские клевреты,
- Питомцы граций молодых?
- Желал бы очень видеть их».
- Небес оставя светлы сени,
- С крылатой шапкой набекрени,
- Богов посланник молодой
- Слетает вдруг к нему стрелой.
- «Пойдем, – сказал Эрмий поэту, —
- Я здесь твоим проводником,
- Сам Феб меня просил о том;
- С тобой успеем до рассвету
- Певцов российских посетить,
- Иных – лозами наградить,
- Других – венком увить свирели».
- Сказал, взвились и полетели.
- Уже сокрылся ясный день,
- Уже густела мрачна тень,
- Уж вечер к ночи уклонялся,
- Мелькал в окошки лунный свет.
- И всяк, кто только не поэт,
- Морфею сладко предавался.
- Эрмий с веселым мертвецом
- Влетели на чердак высокий;
- Там Кропов в тишине глубокой
- С бумагой, склянкой и пером
- Сидел в раздумье за столом
- На стуле ветхом и треногом
- И площадным, раздутым слогом
- На наши смертные грехи
- Ковал и прозу и стихи.
- «Кто он?» – «Издатель «Демокрита»!
- Издатель, право, пресмешной,
- Не жаждет лавров он пиита,
- Лишь был бы только пьян порой.
- Стихи читать его хоть тяжко,
- А проза, ох! горька для всех,
- Но что ж? Смеяться над бедняжкой,
- Ей-богу, братец, страшный грех;
- Не лучше ли чердак оставить
- И далее полет направить
- К певцам российским записным?» —
- «Быть так, Меркурий, полетим».
- И оба путника пустились
- И в две минуты опустились
- Хвостову прямо в кабинет.
- Он неy спал; добрый наш поэт
- Унизывал на случай оду,
- Как Божий мученик кряхтел,
- Чертил, вычеркивал, потел,
- Чтоб стать посмешищем народу.
- Сидит; перо в его зубах,
- На ленте анненской табак,
- Повсюду разлиты чернилы,
- Сопит себе Хвостов унылый.
- «Ба! в полночь кто катит ко мне?
- Не брежу, полно ль, я во сне!
- Что сталось с бедной головою!
- Фонвизин! ты ль передо мною?
- Помилуй! ты… конечно, он!» —
- «Я, точно я, меня Плутон
- Из мрачного теней жилища
- С почетным членом адских сил
- Сюда на время отпустил.
- Хвостов! старинный мой дружище!
- Скажи, как время ты ведешь?
- Здорово ль, весело ль живешь?» —
- «Увы! несчастному поэту, —
- Нахмурясь, отвечал Хвостов, —
- Давно ни в чем удачи нету.
- Скажу тебе без дальних слов:
- По мне, с парнасского задору
- Хоть удавись – так в ту же пору.
- Что я хорош, в том клясться рад.
- Пишу, пою на всякий лад,
- Хвалили гений мой в газетах,
- В «Аспазии» боготворят.
- А все последний я в поэтах,
- Меня бранит и стар и млад,
- Читать стихов моих не хочут,
- Куда ни сунусь, всюду свист —
- Мне враг последний журналист,
- Мальчишки надо мной хохочут.
- Анастасевич лишь один,
- Мой верный крестник, чтец и сын,
- Своею прозой уверяет,
- Что истукан мой увенчает
- Потомство лавровым венцом.
- Никто не думает о том,
- Но я – поставлю на своем.
- Пускай мой перукмахер снова
- Завьет у бедного Хвостова
- Его поэмой заказной
- Волос остаток уж седой,
- Геройской воружась отвагой,
- И жизнь я кончу над бумагой
- И буду в аде век писать
- И притчи дьяволам читать».
- Денис на то пожал плечами;
- Курьер богов захохотал
- И, над свечой взмахнув крылами,
- Во тьме с Фонвизиным пропал.
- Хвостов не слишком изумился,
- Спокойно свечку засветил —
- Вздохнул, зевнул, перекрестился,
- Свой труд доканчивать пустился,
- Поутру оду смастерил
- И ею город усыпил.
- Меж тем, поклон отдав Хвостову,
- Творец, списавший Простакову,
- Три ночи в мрачных чердаках
- В больших и малых городах
- Пугал российских стиходеев.
- В своем боскете князь Шальной,
- Краса писателей – Морфеев,
- Сидел за книжкой записной,
- Рисуя в ней цветки, кусточки,
- И, движа вздохами листочки,
- Мочил их нежною слезой;
- Когда же призрак столь чудесный
- Очам влюбленного предстал,
- За платье ухватясь любезной,
- О страх! он в обморок упал.
- И ты, славяно-росс надутый,
- О Безглагольник пресловутый,
- И ты едва не побледнел,
- Как будто от Шишкова взгляда;
- Из рук упала Петриада,
- И дикий взор оцепенел.
- И ты, попами воскормленный,
- Дьячком Псалтири обученный,
- Ужасный критикам старик!
- Ты видел тени грозный лик,
- Твоя невинная другиня,
- Уже поблекший цвет певиц,
- Вралих Петрополя богиня,
- Пред ним со страха пала ниц,
- И ежемесячный вздыхатель,
- Что в свет бесстыдно издает
- Кокетки старой кабинет,
- Безграмотный школяр-писатель,
- Был строгой тенью посещен;
- Не спас ребенка Купидон;
- Блюститель чести муз усердный
- Его журил немилосердно
- И уши выдрал бедняка;
- Страшна Фонвизина рука!
- «Довольно! нет во мне охоты, —
- Сказал он, – у худых писцов
- Лишь время тратить; от зевоты
- Я снова умереть готов;
- Но где певец Екатерины?» —
- «На берегах поет Невы». —
- «Итак, стигийския долины
- Еще не видел он?» – «Увы!» —
- «Увы? скажи, что значит это?» —
- «Денис! полнощный лавр отцвел,
- Прошла весна, прошло и лето,
- Огонь поэта охладел;
- Ты все увидишь сам собою;
- Слетим к певцу под сединою
- На час послушать старика».
- Они летят, и в три мига
- Среди разубранной светлицы
- Увидели певца Фелицы.
- Почтенный старец их узнал.
- Фонвизин тотчас рассказал
- Свои в том мире похожденья.
- «Так ты здесь в виде привиденья?.. —
- Сказал Державин, – очень рад;
- Прими мои благословенья…
- Брысь, кошка!.. сядь, усопший брат;
- Какая тихая погода!
- Но, кстати, вот на славу ода, —
- Послушай, братец». И старик,
- Покашляв, почесав парик,
- Пустился петь свое творенье,
- Статей библейских преложенье;
- То был из гимнов гимн прямой.
- Чета бесплотных в удивленье
- Внимала молча песнопенье,
- Поникнув долу головой.
- «Открылась тайн священных дверь!..
- Из бездн исходит Люцифер,
- Смиренный, но челоперунный.
- Наполеон! Наполеон!
- Париж, и новый Вавилон,
- И кроткий агнец белорунный,
- Превосходясь, как дивий Гог,
- Упал как дух Сатанаила,
- Исчезла демонская сила!..
- Благословен Господь наш Бог!»…