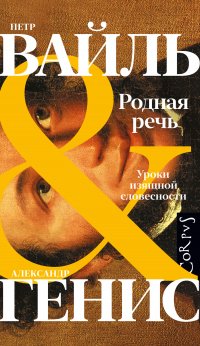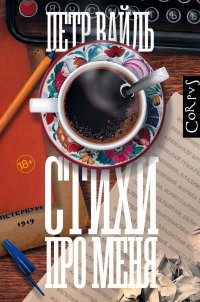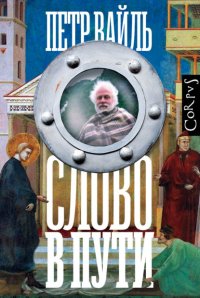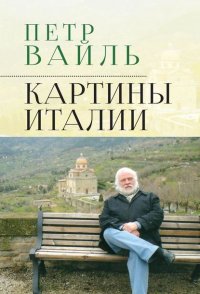
Читать онлайн Картины Италии бесплатно
- Все книги автора: Петр Вайль
Итальянцы сделали многое для нас понятным не в схеме жизни, за этим мы шли к другим народам, а в самой жизни, в искусстве извлекать из нее главное: смысл каждого дня. И если получается итальянский миф, то, значит, так оно и есть – только он особый: приземленный и внятный.
Петр Вайль
Предисловие
Название сборника «Картины Италии» было придумано Петром Вайлем, когда он собирался написать книгу об итальянских художниках кватроченто:
Возникла охота написать нечто вроде муратовских «Образов Италии» с взглядом из XXI века – приблизительно через 100 лет после его замечательного сочинения. И взгляд этот изменился, и рама – совсем другая. Другой мир («Образы Италии» вышли в 1911–1912 гг.), другая Италия, другая Россия, другой русский человек, по Италии путешествующий. Беру итальянских живописцев Раннего Возрождения – только тех из них, которые были повествователями, рассказчиками (то, что в искусствоведении именуется narrative paintings), внятными и доступными излагателями историй. И проезжаю-прохожу по их путям: где они жили, где выполняли заказы, где сосредоточены их работы. Попутно описываю, что делается вокруг – с природой, городами, едой, вином, лицами и пр. По сравнению с Муратовым, упор значительно больше на жизнь, чем на искусство: по-другому мне и неинтересно. Но поскольку всегда нужен организующий композиционный стержень, главы сориентированы на художников в их среде обитания: т.е. как из всего этого получается Италия. Живописцев по первому наброску выбрал двенадцать – на десять глав (может быть, будет меньше).
Преждевременная смерть не дала осуществиться этой мечте. Из задуманного написаны только три главы: «В начале. Джотто»; «Последний трубадур. Симоне Мартини»; «Наглядное пособие. Пьетро и Амброджо Лоренцетти».
Но почему бы не поставить этот заголовок ко всему, написанному Петром Вайлем об Италии? Эссе, статьи, разбросанные почти в 120 изданиях в течение 30 лет, главы из собственных книг – все окрашено интересом и любовью к стране, ее культуре, людям, климату.
Началась эта любовь в 1977 году, когда Петр с первой женой Раей четыре месяца ожидал в Остии разрешения на въезд в США. Вайль писал большие общие письма своим друзьям в Ригу и посылал их на адрес родителей. Все свои письма Петр забрал из дома, когда в 1996 г. умерла его мать. Какую-то часть собственных посланий Вайль печатал под копирку, когда еще не было компьютера.
Через 40 с лишним лет читать их чрезвычайно интересно – первые впечатления 28-летнего будущего писателя, объездившего с друзьями автостопом половину страны. Эти первые впечатления не всегда совпадают с тем, что было понято и прочувствовано зрелым Вайлем. (Например, ему очень понравилась Венеция, но в письме к своему лучшему другу Володе Раковскому, он восклицает: «Несуразный оперный город, но уезжать из него не хочется, хотя и непонятно – как там жить!» Позже, приезжая в Венецию, Петр говорил: «Вот здесь я хотел бы провести старость!». Не прошло и 30 лет, как мы купили квартиру в городе его мечты). Также с годами изменилось отношение к опере, особенно итальянской. Мы собрали на дисках все 27 опер Верди, оперы Россини, Беллини, Доницетти, Пучини и др., слушали их в Метрополитен-опере в Нью-Йорке, в Опера Бастиль в Париже, в Венской государственной опере, в Ла Скала и, конечно, в Лa Фениче в Венеции. С годами изменилось также отношение к итальянской кухне, к кофе.
Описания в письмах касаются музеев, рынков, еды, вина, живописи, людей, то есть всего, что будет привлекать Вайля в его дальнейших итальянских путешествиях. Он с воодушевлением пересказывал мне позднее ситуации, истории, приключения, которые нашли место в его письмах. Несмотря на новые и интересные впечатления, заметно, как Петр скучал по оставленным родителям и друзьям юности (через все послания проходят шутливые просьбы, почти заклинания – пишите, отвечайте!). Эти письма публикуются впервые.
Начиная с 1982 года мы стали путешествовать по Италии вдвоем. Сначала – из Нью-Йорка, затем из Праги, позже из Венеции.
Невозможно представить, как Вайль готовился к этим поездкам. Скрупулезно изучалось расписание поездов, автобусов, дни работы музеев, выставок, часы открытия и закрытия выбранных ресторанов, где и когда начинают функционировать рынки и т.д. Обязательно в каждой главе или статье уделяется большое внимание местной еде:
На флорентийском рынке возле базилики Сан Лоренцо мы с Сергеем Гандлевским обследовали первый этаж с мясом, сыром, рыбой, поднялись на второй, фруктово-овощной – и обмерли. Среди разноцветных лотков высились шесть пирамид высотой метра четыре каждая из отборных белых грибов. «Что же нам-то остается?» – задумчиво спросил Сергей. И то: водка – скандинавская, икра – иранская и азербайджанская, лосось – норвежский, грибы – тосканские. Ну, духовность, конечно. Хотя итальянцы тоже кое-что понимают. Ножки нарубить и потушить с луком, в конце добавив полстакана густых сливок, потом вывалить всё на широкую пасту – лучше всего папарделле. Шляпки целыми обжарить по минуте-две с обеих сторон с петрушкой и чесноком. Так делал Петрарка, а он знал, что делал.
30–35 лет назад сервис в Италии был намного хуже, чем сейчас. Вайль добродушно подсмеивался над этим «бардаком», любил страну не меньше, хотя и нервничал, будучи сам человеком обязательным и дисциплинированным, когда планы нарушались из-за разгильдяйства или неторопливости местного населения. В таких случаях я называла его «остзейской немчурой».
Сергей Пархоменко рассказывал на Радио Свободы, что поразило его в авторе задуманной книги о художниках кватроченто:
Тогда я был издателем в «Колибри», издававшим методично все книжки Вайля, начиная с «Гения места». Шли нормальные деловые переговоры, это довольно дорогой проект, он требовал денег (не Вайль, а проект), причем вперед. У него должен был быть бюджет, потому что он был связан с разъездами. Потребовалось описание книжки, некий бизнес-план. «Автор, пришлите, пожалуйста, в чем заключается проект и какие деньги вам нужны». Я получил совершенно поразительный документ, который был деловым, но он демонстрировал подход автора к делу и знание предмета. И конечно, демонстрировал какие-то основы этого мастерства. Потому что книжка была расписана с точностью до одной картины и времени, которое надо возле нее провести. И было понятно, что за этим есть не просто желание покататься по Италии или желание описать какой-то интересный сюжет, который у автора есть в голове, а имеется очень глубокое, очень ответственное и очень профессиональное отношение к делу – этим и объясняется многое. Вайль действительно хорошо знал вещи, о которых он пишет. И это был тот счастливый случай, который знает каждый редактор, когда у автора и за пределами написанного текста остается еще много-много таких текстов и много-много таких мыслей. И он действительно выбирает из огромного объема, из колоссального капитала, которым он владеет, то лучшее, что достойно появления на бумаге, а потом в печати.
В поездах, на длинных дистанциях между городами, мы лакомились разными региональными вкусностями, читали книги или брошюры «по теме», приезжали на место, шли в заранее заказанный отель, бросали вещи и бежали в город. Новый город – новая радость!
Таким образом мы объездили Пьемонт, Венето, Лигурию, Лацио, Тоскану, Эмилию-Романью, Умбрию, Марке, Калабрию, Сицилию и др. Около 85 итальянских городов насчитал Вайль в наших путешествиях. В некоторых главах я позволила себе дополнить рассказ, например, в главе об ограблении в Неаполе. Мой текст выделен курсивом.
В какой-то мере я была помощницей Вайлю, потому что путешествовала вместе с ним по всем местам, которые описаны в книгах, эссе и т.д. Когда в тексте был какой-нибудь темный смысл, я говорила: «Если я не понимаю, что ты хочешь сказать, я, которая видела это вместе с тобой, то почему тебя должны понять читатели?» Писатель ворчал, исправлял (не всегда!), дальше шли другие обсуждения. Особенно я любила взять книгу-альбом с описываемым художником, лупу (без преувеличения – для увеличения) и сравнивать изображение с написанным.
Он вставал в 6 часов утра, писал (утром голова работала лучше), готовил завтрак и к 10 утра шел на работу. И так пять дней в неделю. Так как в доме не было принтера, к 12 дня я подходила к зданию Радио Свобода в Праге, и Петр выносил мне листочки с распечатанным текстом.
Я бежала домой, читала и редактировала, вспоминала и находила подходящую цитату, вычеркивала, что не нравилось. Это «сотворчество» было самым любимым моим занятием, так как ничего другого я не умела и не хотела – ни готовить, ни шить, ни убираться и т.д. Он приходил вечером, включал какую-нибудь «Лючию ди Ламмермур», становился к плите и называл это самыми счастливыми часами в жизни. Так что, получается, я классическая жена писателя. Недаром мне посвящена книга «Гений места».
Ну и, конечно, мы очень много смеялись. Девиз семьи был – «Накорми и рассмеши!» Если совсем кратко – он меня кормил (буквально – зарабатывал и готовил), я его одевала (в смысле советовала, вместе покупали ему одежду, кроме обуви: предпочитал только итальянскую).
Помимо живописцев, мне показалось интересным включить в этот сборник эссе о литераторах разных эпох – Катулле, Петронии, Данте, Макиавелли и др. Ну и, конечно, воспоминания об Иосифе Бродском, нашем современнике, также беззаветно любившим Италию.
Особое место занимают в книге фотографии. Смартфонов тогда не было, а был маленький фотоаппарат, в народе называемый «мыльницей». Получилось 27 альбомов, только посвященных Италии. По этим фото Вайль потом воссоздавал описания знакомых мест, забытые детали. Иногда на одном и том же фоне он фотографировал меня, потом я – его. Иногда удавалось попросить прохожих снять нас вместе. Тогда я даже не могла предположить, что эти фотографии пригодятся.
Vita brevis, ars longa – «Жизнь коротка, искусство вечно». Оказывается, полностью этот афоризм Гиппократа звучит так: «Жизнь коротка, наука длинна, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно». Какая красота!
Надеюсь, книга Петра Вайля об Италии будет интересна тем читателям, которые мало или ничего не знают об авторе, никогда не были в Италии, а если были – то сравнят свои собственные впечатления. Ну, а читатели, уже знакомые с этими текстами, получат удовольствие, перечитывая лишний раз страницы, написанные с любовью и нежностью к самой прекрасной стране в мире.
Эля Вайль,март-апрель 2019 г.,Венеция
Письма Петра Вайля родным и друзьям из Италии и США в Ригу
<Письмо родным от 18 сентября 1977 г.>
Здравствуйте, дорогие родители и брат!
Как говорится, buongiorno (у нас говорится)!
Неделя в Риме была изрядно суетливая. И только сейчас, когда совершены первые (но далеко не все) формальности и найдена квартира – можно малость очухаться.
Покинули Вену вечером 8-го сентября. В 5 утра проснулись в вагоне – кругом были Альпы. Вспомнил Кавказ – несколько похоже, только горы мохнатые, с лесом. Красота несусветная.
Последовательно проехали провинции Фриули-Венеция – Джулия-Венеция, Эмилия-Романья, Тоскана, Лацио. Города Венеция-Местре, Падуя, Болонья, Флоренция. Когда пошли Апеннины, совсем свихнулись от туннелей – поезд шел, как метро. Один туннель продолжался около 7 минут – при хорошей скорости поезда.
Выгрузились под Римом, в городишке Орте, откуда нас на автобусах отвезли в Рим – в пансион «Оланда». Завтрак – смехотворный и всегда одинаковый: кофе с молоком, хлеб, масло, джем. Обед и ужин мы пользовали редко, хотя они куда интереснее. В пансионе можно жить не более 10 дней – за это время надо найти квартиру. Мы, приехав 9-го вечером, съехали уже к вечеру 13-го.
О приезде. Первое, что мы увидели из остановившегося автобуса, было семейство Генисов в полном составе. Оказывается, они регулярно справлялись в ХИАСе о нас, узнали о дате приезда, выяснили, в какой пансион нас определили (их несколько даже для одной группы), время прибытия – и ждали у дверей «Оланды».
Расположившись в номере и несколько спрыснув приезд (для Маки – «Наполеон» стоит от 1325 лир за 0,75 л, до 3500 за 2 л), отправились гулять по ночному Риму. Генисы – молодцы, памятуя о моем постоянном тосте насчет бутылочки кьянти на площади Испании, они именно это и заготовили. Мы действительно выдули всемером здоровенный пузырь на Piazza di Spagna. Потом отправились к знаменитому фонтану Trevi, месту сбора римской молодежи. Даже в половине третьего ночи там было десятка два человек. Выпивают немножко, болтают, курят.
Следующий день провели у Генисов в Остии. У молодых – отличная квартира, точнее 2 комнаты в трехкомнатной квартире. Есть терраса – 10 м × 5 м, на ней – беседка со столом. Все трапезы – там.
Мы квартиру нашли быстро и нестандартным способом. Способ стандартный – приходишь на почту, где квартирная биржа, и итальянского не слышно вообще. Там читаешь объявления, спрашиваешь, разговариваешь. Здесь же идет мелкая торговля. В целом зрелище довольно противное, хоть и не такое мерзкое, как на рынке Americano (вы о нем слышали, и писать особо нечего. Что писать о людях, которые привозят из Союза чемодан ниток в катушках, чемодан ниток мулине, чемодан матрешек? Я там был раз и больше не хочу).
Мы отправились по улицам крайне правого района. В Остии их (районов) три – крайне правый, крайне левый и нейтральный. Старшие Генисы живут во втором и стонут, молодые – в нейтральном и довольны, мы – в крайне правом и радуемся. Здесь это имеет весьма серьезное значение.
По словарю подобрали фразы и спрашивали, дескать, не сдает ли кто appartamento? Нашли быстро. Сняли квартиру – до вокзала (метро в Рим идет ~ 40 минут) – 4 минуты спокойной ходьбы, до моря – 5 минут, до Генисов – 12. 1-ый этаж.
Хата двухкомнатная, с большой кухней (~12 м2), большим коридором, ванной (правда, никак пока не справимся с бойлером) и, главное, – своим двором-садом. Именно своим, а не хозяйкиным – хозяйка, сеньора Анна живет в этом же доме выше и попросила у нас позволения держать на въезде во двор свою машину. Мы разрешили. Двор – с освещением, столом, стульями, деревьями, зеленью. Площадь – 25 м × 6 м (без въезда). Завтракаем, обедаем и ужинаем там.
Уже снимая, мы знали, что одну комнату, маленькую (~8 м2), надо будет кому-то сдать. Иначе – дорого. Вся квартира стоит 120 000 лир или, как здесь все говорят, 120 миль. Мы нашли тихого мальчика лет 22-х, Гришу, который живет тише воды, не готовит, не пьет, друзей не имеет и платит 40 миль.
Наши финансы. Получаем 240 миль в месяц (120 – я, как глава семьи, и по 60 – Райка и Котька). 80 – квартира, на еду должно уходить ~ 90 миль. Уже кое-что купил: кожаные сандалеты (впервые в жизни ношу на босу ногу). Хотим поездить. Север – Флоренция, Венеция, Пиза, Сиена – стоит по 40 миль с носа. Юг – Неаполь, Сорренто, Помпеи, Капри – по 22 мили.
Сейчас частенько (через день, а то и каждый) ездим в Рим – всякие формальности и документы. Потом начнем ходить в школу. Для дошкольников тоже есть какие-то курсы, еще точно не узнали.
Адаптируемся. К разным разностям привыкнуть трудновато – к сиесте, например. Перерыв в магазинах – с 13 до 17.30. На это время все вымирает. Все закрыто и в воскресенье. Вчера (в субботу) пошли на базар, который обычно с 10 до 13, а по субботам – до 17 без перерыва. В два часа дня он был открыт, но кроме нас – ни одного покупателя, а все продавцы спали.
Целуем всех. Будем писать.Ждем от вас писем.Римляне18.09.77 г.
P.S. Сегодня идем к Игорю на день рождения. Ничего не меняется.
(Через 42 года я побывала в этом районе Остии и нашла дом, в котором Петр провел свои первые месяцы в Италии. Район действительно вполне приличный, но дом с террасой обветшал. Дворик – маленький, довольно-таки зеленый. После того, как Вайль объездил полмира, странно глядеть на это неприглядное жилище. – Э. В.)
<Письмо друзьям от 22 cентября 1977 г.>
Buongiorno, signore e signori!
Под синьорами (ж) подразумеваются Лорочка и Наташечка, а под синьорами (м) – Залман, Раковский и Цветков. Так уж получается, что только сейчас я усаживаюсь за нечто более серьезное, чем открытки с Иоганном Штраусом. Извиняться не стану – все равно прощения мне нет. Но – ей-бо – исправлюсь. Италия благотворно влияет на политес, оставляя амикошонство для парвеню (каково?!). Из всего этого, что я тут написал, следует и то, что письмо имеет столь многослойный адрес – чистый штрудель. Очухаюсь – стану писать не только всем, но и каждому. Кстати, с письмами обращаются игриво – уж не могу и догадаться где. Для справки: отправленное мною из Риги письмо Игорю от 30 июля пришло сюда пять дней назад, т. е. 17 сентября. Остальные два не пришли вовсе. Они же (Генисы) отправили нам в Ригу пять писем; как вы знаете, не дошло ничего. Поэтому извещаю (хотя, может, и зря – это же тоже письмо), что из Вены нами посланы открытки: Кацам, Раковскому, Илге, одним родителям, другим родителям, Ваське, Илье – с днем рождения, Цветкову – с днем рождения на Наташкин адрес, Маке, Аркадию – итого 10 штук. Все открытки очень красивые, с виньеточками и желудями. Жаль, если попался почтмейстер-коллекционер.
* * *
Все говорят: «Италия, Италия!», а таких дождей не бывает и в Риге. Позавчера с 6.00 до 22.00, и сегодня весь день. На Тирренское море я плевать хотел. Но не плюнул, правда, не вышло, потому как видел его, море то есть, только издали. Оно синее, небо над ним обычно тоже, песок почти черный – но не от грязи, а от какого-то, надо полагать, необходимого пигмента. Так что итальяшки прекрасно на нем лежат и не пачкаются.
Рим – город обширный, с большим количеством жителей, и по своему международному значению не уступает крупнейшим городам мира. Однако в географическом положении сильно проигрывает Вене, тоже большому, но немножко поменьше, городу. Потому что Рим стоит как бы в тупике, у самого моря, а к Вене можно подъехать со всех сторон. Мы, например, подъехали с юга, хотя приехали с северо-востока. Как это получается – не знаю. Может быть, нужно было обмануть врагов. А то, что они существуют, сомневаться не приходится: когда мы уезжали из Вены в Рим (снова с вокзала Зюйд, но это уже было по-честному), около каждого еврейского вагона стоял автоматчик. Я позвал посмотреть на них Райку, а старик Файвуш из соседнего купе сказал мне на ухо: «Не надо никого звать никуда. Их тут не один с автоматом, их тут не два. Их тут две хорошие сотни». Остальные 198 охранников, видимо, были на совесть спрятаны. На итальянской границе вышколенных и строгих австрийских жандармов сменили карабинеры, которые тут же сели в тамбуре на пол и стали с криками играть во что-то вроде подкидного дурака. Евреи их совсем не боялись и даже ругали за нечистоплотность и развязность. Одесситы, правда, не боялись и австрийцев. Когда в Вене поезд свистнул первый раз и автоматчики полезли в тамбуры, перрон совсем опустел, и все вдруг увидели у колонны одинокий, перетянутый веревкой, саквояж. Раздался леденящий душу крик: «Цей цемодан?!?!», и по коридору пронесся голый по пояс старик. Седые волосы на его груди развевались, изо рта торчало что-то вкусное. Он с маху сшиб довольно крупного капрала и уже на ходу поезда, под радостные клики единоплеменников, втащил чемодан.
* * *
Дорога Брест-Вена была довольно беспокойной: то и дело проверяли билеты, визы, декларации на доллары. Раза три за ночь заходили чехи, раз пять – поляки.
Что касается пути Рига-Брест, я думаю, вы все знаете от Маки и Васьки. В Минске нас очень хорошо встретили ребята, Гриша просто очень хорош – приятный и умный парень. Олег Павлович Молокоедов, правда, пострадал в Минске, неудачно ушиб об рельс харю. Издержки. С лица не воду пить. И даже не водку.
Таможня прошла нормально, хотя почему-то вернули все фотопленки. У второго рижанина задержали колбасу, которую у нас пропустили, но зато разрешили везти пленки. Ладно, друг Горацио, много есть всякого на небе и на земле, как говаривал покойный Гамлет.
Вырубились почти сразу, и так бы и спали, да тревожили пограничники и таможенники братских стран. Неизгладимое впечатление произвела чехословацко-австрийская граница. К Вене подъезжали поутру.
Когда поезд въехал в улицы, Илья Шнейдер, второй рижанин, стал возле меня у окна и, толкая локтем в бок и лихорадочно и мелко облизываясь, спросил: «Река какая?».
Я сказал: «Дунай». Он двинул меня локтем посильнее и сказал мне весело: «Дунай». После этого разговора он долго разглядывал деревья вдали и, понизив голос, благоговейно спросил: «Кипарисы?» Я сказал: «Пирамидальные тополя», и тут же пожалел об этом. По-моему, он разлюбил меня в этот момент.
* * *
В Вене жили, как водится, в «Zum Türken» на вполне респектабельной улице Peter-Jordan-straße. Район немного напоминает Межапарк – зелень, да особняки. Посольский район. На нашей улице были посольства Австралии, Таиланда, Филиппин, а через дом от отеля – Объединенных Арабских Эмиратов. Славное соседство. А автоматчика ни одного. Может, конечно, сотни две прятались в кустах. Хорошие.
Бросили шмотки и пошли гулять. Доехали до центра и шли кварталов восемь, прежде чем встретили живого человека. Было воскресенье, а порядочный австриец в воскресенье не шастает по улицам, а ест свой штрудель zu Hause. Зрелище жутковатое – огромный мертвый город. Красивый очень, старыми районами напоминает старую Ригу. (Так и сравниваем все время, не знаю, до каких пор будет так, ведь нет еще и месяца. Вчера ехали на автобусе в Риме мимо какой-то туристической конторы, и среди плакатов, зазывающих в Париж, Буэнос-Айрес, на Азоры, вдруг – Домский собор и Rīga. Ёкает. А еще – даже гордость: вот, мол, рядом с таким-то! Не Москва или Питер, а Рига. Хотя это, конечно, случайность – просто плакат красивый.)
Пробыли в Вене с утра 4-го до вечера 8-го сентября. Один день полностью почти провели в ХИАСе, поимев предварительную беседу с парнем из СОХНУТа. Никакого давления, только вежливое предложение, а после нашего вежливого отказа – его вежливое сожаление.
Потихоньку здесь – в Вене, Риме, Остии – каждый еврей считает, что по пересечении границы его уже, незаметно и коварно, начали объегоривать. Потому Запад, акулы. Это святое чувство великолепно уживается с плевками назад. Апогей достигается в ХИАСе, когда дают подписать бумагу о том, что ты обязуешься отдавать долг (в первый год по 15 долларов в месяц, дальше по 30). Один так и сказал: «Ну вот, началось», припомнив, видимо, кое-что о сионизме, международном империализме и ихних путах. (Подписание это – приятный акт. Помните, обсуждали не раз сомнительность существования задарма и вытекающие из этого моральные неудобства. А так – что-то вроде джентльменского соглашения.) Кроме того, каждый считает долгом сказать о том, что все дорого, что дают мало денег, что отель мог бы быть и получше, что у них могло бы быть побольше порядка. И все это – при полной готовности увидеть кипарисы на широте Вены, непуганых жирафов на улицах, золотые груши на вербе и голых девочек в табачных киосках.
Что до голых девочек, то, понятное дело, мы тут же бросились на них смотреть. Было, как я уже говорил, воскресенье. Все пустовало, музеи закрылись в 13.00 (а жаль, т.к. по субботам и воскресеньям они бесплатные), и мы, послонявшись, пошли в кино. Фильма «Verbotene früchte der Erotik», что я с легкостью перевел как «Запретные плоды эротики». Фильма шведская, с сюжетом и претензией. Дескать, школьница (зад – с двустворчатый шкаф) гуляет с парнем, никаких утех с него не имеет и через это грезит об утонченных любовных радостях. Все грезы – в натуральную величину и в профессиональном исполнении.
Билеты стоят от 25 шиллингов (1–2 ряды) до 50. Заняты были первые 4 ряда – такими как мы неимущими и пацаньем, и ряда три в конце – респектабельными старичками. Фильм оживленно комментируется вслух – жаль, непонятно.
* * *
Главная радость в Вене – ейный музей. Прорва Рубенса, Тинторетто, Тициана, Веласкеса. Целый зал Рембрандта. Довольно много Дюрера, Гольбейна, Ван-Дейка, Хальса. Впервые прочувствовал, что такое Кранах – этакой пронзительной наивности художник. Две картины Босха – правда, не лучшие. Есть отличные, доселе вовсе мне не известные – Арчимбольдо, Франческо де Монкадо, Бургкмайер. И – наконец, вершина – зал Брейгеля. Отборнейшие вещи, числом 15: «Избиение младенцев», «Крестьянская свадьба», «Вавилонская башня», «Несение креста», «Война масленицы с постом». И совершенно потрясающая – «Охотники на снегу». Если на нее долго смотреть, можно понять, как надо жить.
Съездили в Шёнбрунн. Замок – так себе для того, кто видел Зимний и Екатерининский. Парк роскошный. В парке – кафе. В кафе – пиво. Это для меня – пиво. Для Райки – кофе. (Очень вкусный. Но что вытворяют с кофием в Италии, – не передать: выдают чуть больше столовой ложки в высоком стакане, так что добрая четверть густого варева оседает на стенки – принцип папиросного мундштука. На вкус ближе всего к хинину, но, говорят, сильно тонизирует. Я думаю, затонизирует, если выпить граммов триста. А от той лилипутской дозы остается только горечь – на губах и в душе. И самое поразительное – все пьют и писаются от радости. Страх берет, когда видишь, как солидный владелец магазина, небось, отец семейства, в обеденный перерыв скачет зайчиком через лужи в бар напротив, а потом скачет тем же зайчиком, но помягче, обратно с тремя каплями этого лекарства.)
Пиво я в Вене испробовал сортов семь – здесь оно сказочное (Зяме и Цветкову – хи-хи-с) и везде холодное. Котька же пил оранжад, которого тут бесчисленное количество видов. И конечно – мороженое: в махоньком ларечке они как-то умещают сортов двадцать фасованного и еще столько же развесного: дынного, персикового, ананасового, орехового, фисташкового, черносмородинного и даже томатного (вещь удивительная, но вкусная). И вообще в Вене все было необыкновенно вкусно – гораздо вкуснее, чем в Италии.
Интересное отношение уже сейчас к этому городу. Вена была первой на пути и потому, наверное, ее никогда не забыть и не снять ее очарования. Еще и потому, что для рижан она близка и понятна – и схожестью языка, и внешностью прохожих, и общим «немецким» духом, и готикой, и узенькими улочками. И еще потому, что здесь впервые все-все стало по-другому, хотя по-прежнему остается: «как в Риге», «для рижан», «похоже». И когда мы попали в городской парк, к поразительного изящества памятнику Штрауса (он там похож на давыдовского гусара, для баловства ухватившего скрипку), а в двухстах метрах, на открытой террасе камерный оркестр без передыху играл его вальсы перед огромным открытым кафе, и все это было в цветах и зелени – было ясно, что Вена всегда, несмотря на жалкие четыре с половиной дня в ней, всегда будет особо, в одном ряду с Ригой, Грузией и хутором Арвида. И это ведь не обалдение от Запада, безумия витрин и кабаков (то тоже есть, не может не быть, слишком уж разительна перемена, но об этом говорить ни к чему, да и неохота).
В поезде Вена–Рим проснулись часов в пять утра – кругом были Альпы. Карнийские Альпы. Гигантские доломитовые скалы с лесом, узкие ущелья, с узкими речками (русло – широкое, весеннее) – все как на Кавказе. Красота тоже дикая.
Сразу начался бардак – какие-то свалки вдоль дороги, бумага, грязь. Бардак в Италии совершенно великолепный – я, действительно, просто в восторге. Пачки из-под сигарет бросаются мимо мусорников. Улицу можно перейти в любом месте в любое время – здесь пешеходов не давят. Трудно поверить, но знаменитые экспансивностью итальянцы бровью не ведут, когда ты прешься на красный свет через четырехрядное движение – тормозят и все. Если, гуляючи, устал – можно лечь на любую траву, которую увидишь, даже на газон у резиденции Андреотти. Единственная государственная монополия торговли здесь – табак, так контрабандные сигареты продаются на хорошо сколоченных прилавках в самом центре города («Мальборо» – за 450 лир вместо 650 в магазинах). Все торговые точки закрыты с 13.00 до 17.30 – сиеста. Святое дело, и не спят в это время только эмигранты, сумасшедшие и дети, еще не усвоившие смысла жизни. В субботу пошли на базар, который в этот день работает до пяти (обычно до часу). Шли около двух, с опаской, не веря. И действительно – из покупателей были мы одни, а все продавцы спали. Когда мы разбудили одного ради килограмма винограда, он вывалил на нас несколько непристойных идиом и обсчитал на 50 лир. Деньги здесь, как известно, смешные: скажем, монет по одной лире вообще нет, а вся страна забавляется идиотской игрой – сбывает друг другу мелкие бумажки (от 50, 100). В некоторых местах даже висят объявления: дескать, мини-ассигнации не берем. Они всерьез оскорбляются, если дать зараз больше одной такой бумажки, и радуются откровенно и по-детски, если всучат парочку тебе. В самих деньгах (крупных) тоже есть какая-то очаровательная несерьезность: на 1 миле (1000 лир) – Верди, на 10 – Микеланджело, на 2 – Галилей, на 5 – Колумб, на 20 – Тициан, на 50 – Леонардо. Очень трогательно почему-то.
Что до товарно-денежных отношений, то мне все равно не понять, почему килограмм мяса стоит дороже складного автоматического зонтика (или это зонтик дешевле килограмма мяса?). Единственное, о чем я с трепетом должен сообщить вам – это цены на выпивку. Литр отличного сухача – 270 лир (для сравнения: спички, или жвачка, или проезд в автобусе – 100 лир. Кстати, цены многих товаров совпадают с советскими, и можно смело, как это мы видели в письмах старших Генисов, так и считать – 27 коп.). Бутылка коньяка 0,75 – от 1.325 лир до 2.500 лир. Но все не так просто: литровая бутыль стоит, скажем, 2 мили, а двухлитровая – 3,5. Или сегодня обнаружили один сорт «Наполеона» – бутылка 0,75 стоит 1,995 лир, а три бутылки – 3,990. Как это выходит, что одна из трех получается бесплатно? Такие же финты и с некоторыми другими продуктами – тоником (одного из 20 видов), каким-то сортом кукурузного масла и пр. Водка гораздо дороже (раза в два-три) коньяка, но на дне рождения Игоря (18 сентября) под привезенную нами селедку приговорили бутылочку «Романовской».
Наблюдаются еще интересные экономические эффекты. Здесь, как и везде на Западе, очень дорог труд. И если ты берешь литр, к примеру, кьянти с собой (мы брали в кабачке, где хозяин говорит по-русски. Он долго учил язык, намереваясь работать по экспорту-импорту с Союзом, а выучив, – стал торговать вином.), то он стоит 480 лир. А если спросишь пять стаканов на месте – то есть тот же литр – это будет стоит 1 милю, вдвое дороже. Я уж не говорю о том, что одни и те же товары стоят совершенно разные деньги, только перейди дорогу. Какой-то принцип все же соблюдается – в больших супермаркетах все дешевле, чем в маленьких лавчонках. Но почему в том же супермаркете печенка стоит 1,5 мили, а рядом точно такая же печенка – 5,5?
* * *
О письмах. Я уже перелез на 14 рукописную страницу, а конца не видать. Может, надо было писать сразу – короче и чаще, но как-то не выходит. И еще – что писать? Экскурсоводом быть не хочется, хотя совсем без этого не обойтись, конечно. Вот и пишется, как пишется. Так есть как есть.
Здесь прерываюсь. Завтра (23 сентября) в 530 утра отправляемся вместе с Генисами на север – Флоренция, Венеция, Пиза, Сиена. Вернемся 25 поздно вечером. Стало быть, продолжение буду писать 26–27-го. Как все из себя выплесну – перейду к камерным писаниям tete-a-tete.
Целуем вас всех. Если б сюда перенести полный состав обеда 1 сентября – вообще, пожалуй, не о чем было бы беспокоиться.
Обязательно привет Олегу, Аркадию, Илге, Арвиду (какой у него адрес? Сообщите).
А наш: Vail Peter, Corso Regina Maria Pia, 24 int.1, Lido di Ostia, centro Roma, Italia
22.09.77. 2300
<Письмо друзьям от 16 октября 1977 г.>
Здравствуйте, Леонора Ивановна, Наталья Ивановна, Залман Маркович, Владимир Петрович!
Почтенье и привет!
Сразу – свежие новости. У Генисов не выгорело с Бостоном и 19-го они всем составом отбывают в Нью-Йорк. Единственное, о чем просил отец в ХИАСе – любой город, кроме Нью-Йорка. Их подвела генисовщина и всякий очаговый идеализм. Дело в том, что родителям дали гарант в Бостоне, а детям – нет (то есть община не берется подыскать им достойное занятие). Разделиться они не захотели (причиной – то, что я уже сказал плюс некоторый инфантилизм, да еще кое-какие, возникшие уже здесь, обстоятельства, зовущие к сплочению семьи), и их определили в Содом с Гоморой, где и без того евреев больше, чем в Израиле и куда едут процентов 85 эмигрантов.
Куда, кажется, хорошо было бы папе с мамой пристроиться в добротном городе Бостоне, а папе-профессору возить жалованье на тачечке, а дети всего в 260 км, а через год-два езжай к папе – помогай возить тачечку. Объективности ради надо сказать, что к моменту выбора семейственное положение и вправду было невесело.
Так или иначе – вчера была отвальная, и опять нам никак не разойтись. Когда-нибудь стану анахоретом, уеду на Огненную Землю, построю шалаш, а из-за мыса Горн выйдет старенький Игорь с портвишком.
Это – потому как наш 90-процентный шанс – тоже Нью-Йорк. Профессии не те, да и родственников нету. А Нью-Йорк – как круглогодичный бордель – всех принимает.
* * *
Дожди перестали уже давно и теперь полное благолепие. Тепло (не жарко, тепло), сухо, покойно. По улицам Остии скрыжут и прядают эмигранты, девочка из тира в луна-парке подманивает рукой и кричит «стрелять!», на почте играют в домино и «шестьдесят шесть». Почта – центр жизни. Здесь меняют лиры на доллары и доллары на лиры, покупают простыни (2 мили штука), продают сигареты (1 миля 3 пачки), сдают и снимают квартиры, договариваются о поездках на Север и Юг, мальчики ищут девочек и девочки мальчиков – в обход языкового барьера. Народ-языкотворец уже назвал полукруглую колоннаду почты «Еврейский Колизей», и здесь даже бывают гладиаторские драки по торговой части.
По воскресеньям для девяти десятых остийского еврейства случается красный день, и они едут на Americano. Это, как вам известно, самодеятельный рынок, где есть всё. Как это можно привезти и провезти в таком количестве – не стоит и представлять. Но я сам видел чемоданы ниток разных цветов и, надо полагать, толщины. Столько оптики не сходит за неделю с конвейеров Zeiss’a. Столько янтаря не намывают в Янтарном за год. Кораллов хватит на атолл Бикини. Бикини – на все рижское население, включая стариков и детей обоего пола. (Это уж – со стороны итальянцев, которых здесь тоже хватает.)
Толчея и жуткий хай, могущий возникнуть только из смеси итальянского темперамента и еврейского гвалта. Я там был раз и настолько опупел, что отдал перекупщику оба «Зенита» уже через 15 минут (Е ~ 45, EM ~ 70, ТТЛ ~ 100).
Генисы рассказывали про одного своего знакомого (здешнего уже), который теперь в Австралии. Тот хвастался, что не пропустил ни одного воскресенья, а разрешения в Австралию ждут от 9 до 15 месяцев. В 5.20 он уже был в электричке, и к раннему ужину поспевал домой. За год он ни разу не был в Ватикане, куда вход тоже только по воскресеньям. Понятно, Vaticano с Americano не сравнить.
Не хочу сказать, что здесь все так живут, но этот, видимо, из идеальных.
* * *
Мы в Ватикане тоже еще не были, и вообще, Рим знаем меньше, чем прочую Италию.
Тут вот и вступает открыточный эффект. Впечатления разбазариваются по кусочкам с красивой картинкой. Повторяться после не хочется, а с другой стороны – как не послать вид Canal Grande прямо с берега Canal Grande?
В письме Маке я уже описывал вояж по Северу – прочитайте. Ну и плюс открытки.
А в целом: Сиена – это средневековье, Пиза – башня, Венеция – затопленные дома, Флоренция – картины.
По Риму, ясное дело, тоже помаленьку гуляем. Славно прошлись впятером (мы с Котькой и Генисы) по Аппиевой дороге. Очень дорого здесь это ощущение прикосновенности к векам – и не теряет остроты от повторов. Белое вино на клеенке в полупогребке на самой старой дороге в Европе. Я как-то в какой-то своей байке распространялся о том, что такое слово «самый» для газетчика. А тут оно – как слово «царь» в газетах XVI века.
В Сиене – самая высокая (102 м) колокольня в мире, в Риме – самый большой в мире собор (Cв. Петра), в Вене – самое большое собрание Брейгеля. Или еще иерархические тонкости, щекочущие воображение и тщеславие: во Флоренции – третья в мире церковь по величине (Санта-Мария дель Фьоре), а рядом – единственная башня, построенная Джотто.
До сих пор не могу понять, что для меня важнее – эстетическая самоценность таких вот строений, скульптур, картин, явлений или исходящая от них эманация исключительности. То есть с живописью мне все – более или менее – ясно. Я, конечно, готов поглядеть на Леонардо да Винчи, помня, что его картин в целом свете всего-то семь, кажется. Но ничего при этом не испытываю, хоть и пытаюсь (все же общепризнанная первая тройка – это Рафаэль, Леонардо, Микеланджело; а на двух первых наплевать). А вот вчера в галерее Боргезе был в восторге от «Тайной вечери» вообще-то второразрядного Бассано – он там всю дюжину, кроме Христа, изобразил чем-то вроде шайки выпивших грузчиков. Это в его-то время (XVI век).
А вот что до скульптуры, к которой равнодушен, и архитектуры, из которой люблю только готику – здесь дело сложнее. Понимаю, что «Пьета» микеланджеловская – это здорово, но, может, еще интереснее мне то, что когда молодой Буонаротти ее выставил, никто не знал его и назывались всякие славные в ту пору имена; тогда он ночью пробрался с фонарем в церковь и вырубил на ленте Мадонны: «Микеланджело Буонаротти флорентиец исполнил». Вот это – то, что прежде называлось анекдотом, мне очень важно.
Как и то, что башню Джотто – может, она и сама по себе очень хороша – строил Джотто, а я всегда думал, что он только рисовал. И это поднимает и башню, и самого Джотто. Вот фрески его я могу смотреть, не испытывая нужды в информационном допинге. Может, он их писал левой рукой по-французски, правой отбиваясь от наседающего врага – все равно.
Так же самостоятельны в восприятии какие-нибудь «Охотники на снегу», – само по себе целая философия, или «Рождение Венеры» Боттичелли, которое я увидел во Флоренции. Я и раньше, по репродукциям, считал это лицо самым красивым в мире, но увидев оригинал, в принципе мнения не изменил, в степени же возвысил еще на пару порядков.
Может, дело не в личной моей любви или нелюбви к живописи или скульптуре. Может быть – в большей степени абстрагированности живописи от образца: двухмерное изображение настолько условно, что вынуждено дополнять себя само, изнутри. Трехмерная же, «приочеловеченная», скульптура требует привнесения духовности. Наверное, поэтому для картины важно только освещение, а для скульптуры – интерьер целиком и соучастие в ансамбле (в конце концов, «Давид» стоял на площади как памятник, а «Моисей» – лишь часть гробницы папы Юлия II).
Об архитектуре и говорить нечего – это вещь прикладная.
* * *
Так я об Аппиевой дороге. Дорога узкая, без тротуаров, много машин. Но – она самая старая в Европе, но – по ней шли легионы Цезаря, но – вдоль нее стояли кресты с распятыми повстанцами Спартака. И начинается она у терм Каракалла – самой большой бани в мире (в прошлом, естественно), на две тысячи человек. Кстати, при всей нелюбви к опере, я послушал бы «Аиду» в этих термах – здесь ее ставят с живыми слонами, не говоря о прочем. Хотя тут я зарвался: это не то, это чистая экзотика.
А дорога от всех этих добавлений уже и не дорога, а – Via Appia! И в придорожном кабачке вино пьешь уже со значением, не как дома. Все-таки в этом тщеславия не так уж много. Может быть, компенсация за родословную – во всех ее масштабах, за недостаток истории в жизни, которая в нее – мою жизнь, то есть – пришла всего-то лет пять назад. Естественно, не история сама, а осознание себя в протяжении – до и после.
Однажды этот комплекс я уже испытал в Грузии. Тогда толчком были слова шофера о том, что в Цители-Цкаро много русских, дескать, «Николоз пригнал». Николоз – это Николай I. Я тогда совершенно был ошеломлен этой восхитительной бесцеремонностью, а потом стал замечать в себе недостаток видения себя во времени. В пространстве-то что – сел и поехал, взял и пошел, захотел и прыгнул.
Думаю, ущербность эта не случайная и даже не естественная. Это бывает и, видно, должно быть, когда со «связью времен» не в порядке. Не дóлжно быть, а должнó. Считаться с этим нужно, мириться – нельзя. Теперь я думаю – а ведь это серьезная причина для моего, например, варианта выхода. Дома не осознавал, а теперь думаю. Всего-то у нас всех две ипостаси существования – пространство и время, и лишать себя полноценной жизни в одной из них слишком роскошно.
Очевидно, ощущение сиюминутности связано не только и не столько с возрастом (традиционные мудро-неторопливые старики), а с образом жизни, в основном. Нельзя воспринимать себя (а раз в самом деле не на Огненной Земле живешь, то и свою среду) вне прошлого и предстоящего. А ведь так и есть. То есть так надо. Кому надо, кому уже нет.
Обычная история, все это в теории никакого откровения не представляет – ни для меня, ни, тем более, для других – но вот этот качественный переход от передвижения в пространстве (а его, пространства, ой-ой сколько, одна шестая) к четырем измерениям я сейчас чувствую в себе. Это все – несмотря на видение в прошлом Владимира, Суздаля, Новгорода и иже с ними, и любовь к этому всему. Надо думать, не одни камни заставляют так думать и чувствовать, и не в Пантеоне и Колизее дело. Хотя и в них.
* * *
А на Аппиевой дороге славно выпили. С этими Генисами я еще «здрасьте» по-итальянски не знал, а уж «белого вина, пожалуйста, два литра недорогого» – хоть спросонья. Сейчас уже что-то могу ляпнуть, недавно с одним контрабандистом два часа беседовали на политико-экономические темы. Не очень-то хотелось, но он меня вез на своем «Мерседесе» от Кальи до Рима – куда ж деться.
Так вот – идем мы по Аппиевой дороге. А там церковь, почти за городом. А в ней – отпечатки ног Христа. Будто бы шел он в Рим, а навстречу ему Петр – из Рима. Иисус остановился и спрашивает, мол, Quo vadis? На этом месте церковь и построена и называется Quo vadis? Умел же вопросы ставить! Вот и я тоже спрашиваю. Вас, например. Себя, понятно, тоже.
Очень славно было на Аппиевой дороге.
* * *
На других дорогах тоже было ничего. В прошлый четверг втроем с Игорем и Сашкой попробовали Италию на автостоп. Довольно туго. Но дело в том, что мы боялись делиться: без языка, да потом очень трудно договариваться о встречах. В Союзе было просто: дорога большая (асфальтированная) – одна, от нее – повороты. А тут – дорог куча, все с развязками, эстакадами ходят в три этапа, все в обход городов. Зазевался – и уже в руках мафии. Да, это я о другом.
Так что грех было жаловаться на водителей: три мордоворота в одну маленькую итальянскую машинку.
Однако же доехали до Перуджи (или до Перуджио, или до Перуджии – карты все не на русском, не продумали). Столица Умбрии, уютный и красивый город. 130 тысяч населения, а университета всего два, так что вечером на улицах разгул и веселье. Мы тоже было присоединились, да попался осьминог. Чуть не заплакали: лежит на тарелке, жареный, дюймов десять в диаметре, восемь ножек сложил, как девушка в кресле, когда воображает. Стоит полторы мили. Взяли еще вина – для дезинтоксикации, хлеба. Я переднюю левую ножку ел, а Генисы на меня смотрели, ждали, как грифы, когда я в корчах повалюсь. А я им назло и заднюю отрезал. Тут мы такую драку с осьминогом учинили, вкусный гад был: одновременно на курицу, миногу и крабов похожий.
На шум сбежалась Кира Максимовна, петербурженка из Лондона. Очаровательная женщина, 60-ти еще нет (или уже давно было, не помню), оперная певица в прошлом – «Град Китеж», дескать, Ярославна в «Игоре», Барселона, Мадрид, Нью-Йорк. «Мне показалось, что я слышу русский. Я думаю: черт подери, этого не может быть! Но это есть! Это великолепно!» Немного похоже на Лорину подружку из драмтеатра, но хоть искренне (кажется) и трогательно.
Мы, джентльмены, конечно, к ней с остатками осьминога – угощайтесь. Сблевать она не сблевала, но стошнить вполне могло. На разных людях эмиграция по-разному сказывается. Винчика, однако, выпила, а нас угостила ликерами «Стрега» и «Самбука» («О, я знаю, мужчины любят крепкое!»). Даже Венечка Ерофеев, отличавший «Белую сирень» от «Ландыша серебристого», не отличил бы «Стрегу» от «Самбука», равно как и от «Ландыша» или «Сирени».
* * *
Наутро отправились в Ассизи. Чистейшее, законсервированное средневековье на верхушке горы. У жителей на руках должны быть присоски или крючья. Город многие считают самым красивым в Италии, но жить в нем нелегко: соседи там не справа и слева, а сверху и снизу.
Кира Максимовна поехала тоже и доставила нам колоссальное удовольствие, свозив на такси на самый-самый верх – километров пять по крутейшему серпантину – в обитель Св. Франциска. Он – покровитель Италии и самый почитаемый святой, так что место это – одна из главнейших святынь католицизма.
Надо сказать, место для отшельничества Франциск Ассизский выбрал необыкновенное по дикой красоте. Спасибо Кире Максимовне: автобусы туда не ходят, а такси не для нас. Кстати, наша патронесса, подведя меня к какой-то запертой двери обители (теперь там маленький монастырь), сказала с обычной значительностью и аффектацией: «Вы знаете, мне кажется, здесь живут пижоны!» Я обомлел, кто же это? Решил, что какие-то особые религиозные хиппи. «Вы слышите – они разговаривают!» Я подошел – воркуют голуби. И тут осенило! Она забыла русское слово и, чтобы не употреблять антипод – английский, сказала на нейтральном французском: пижоны.
Фраза хрестоматийная, вроде той, про настоящий экскаватор. Мы уже ввели ее в обиход.
* * *
Из Ассизи мы почему-то выбрали дорогу, обозначенную не на всех картах. И поплатились: за три с половиной часа (вначале мы отъехали км на 10) мимо прошло не больше десятка машин. А мы за это время прошли не больше десятка километров – потому как все время вверх. Апеннины – это очень красиво, и Умбрия кругом – не то Пиросмани, не то Хокусай, но уже темнело. А ведь чуть зазеваешься – тут как тут мафия. Ах да, это я опять увлекся, не то.
И когда вконец отчаялись, какая-то учителка домчала нас до никчемного городка Гуальдо-Тадино, а оттуда паровоз – до Римини.
Римини – ихний главный курорт, вроде Сочи в Союзе. Очень было странно ходить по городу: огромные, в 8–10 этажей шикарные отели, прорва ресторанов, кафе, баров, магазинов. 9/10 закрыты. Не сезон. Какое-то противоестественное зрелище.
Мы, ясное дело, бросив шмотки в гостинице «Вилла Лалла» (для моего произношения названьице!), пошли купаться в Адриатике. Купались, между прочим, по перконскому методу – потому было темно, а итальяшки в октябре даже в полдень на море не ходят. Хотя вода ~17 °С.
Наутро Римини – не курортная часть, а старая, оказался вполне симпатичным городком. С фонтаном, сложенным из античных обломков Леонардо (опять то самое); с мостом Тиберия, которому 1956 лет, и по нему сейчас ездят машины; с интереснейшим полуязыческим храмом Малатесты.
* * *
На автобусе укатили в Сан-Марино. В открытке Мильштейну мы писали, что главная цель автостопа – доехать досюда и послать ему, Мильштейну, красивую открытку с красивой маркой. Сделали. Не обидели и других: 11 открыток с 51 маркой. Подъезжали – думали, и в самом деле, чуть ли не за этим едем сюда. Но так и застряли на полтора дня. Страна – сказка.
Население – 20 тысяч, в столице – три, а туристов – 3,5 миллиона в год. Но из них три – с мая по сентябрь, и нам повезло: было тихо и великолепно. Встали в гостинице «Bellavista» («Прекрасный вид»), и вид был, действительно, прекрасен. Здесь он такой повсюду – столица вся на горе Monte Titano, и мы шлялись по улочкам вверх и вниз, залезали на башни, заходили в кабачки, смотрели в баре футбол ФРГ-Италия, покупали марки. Наутро с нами стали здороваться. Думаю, еще неделя – и были бы знакомы в столице все, а через месяц я б попытался баллотироваться в парламент. Хотя бы из-за того, чтобы заседать в сказочно красивой комнате (мы в ней были), где 20 дворян, 20 горожан и 20 крестьян сидят вдоль стен, а во главе зала – два стульчика для глав правительства, двух капитанов-регентов.
Многократно читал, что Сан-Марино живет туризмом и потому здесь дерут за все и со всех. Все вранье. Даже послать открытку здесь стоит дешевле, чем в Италии: 2-х литровый коньяк «Наполеон» – 2 мили. Гостиница 10 миль на троих (в Римини – 12, в Перуджи – тоже 10). А мы ведь опасались ночевки здесь из-за обещанной бешеной дороговизны. Думали, только рот разинешь, а тут – мафия. А, это снова не кстати.
* * *
Из этого благословенного оперного государства уехали с намерением вернуться к вечеру домой. Вначале все пошло хорошо. Ехали удивительными дорогами: то по самой кромке Адриатического моря, то по дну зверского, неземного какого-то ущелья. Поминали Сан-Марино. Эта страна еще прибавила своего к тому синдрому времени. Этакий заносчивый и наивный малыш. С одной стороны крутой подъем, с другой – вертикальный обрыв. Свои деньги (хотя итальянские тоже годятся), а на 50 лирах почему-то рыбы. Много рыб, а выхода к морю нет. И сокращения везде – не SM, а обязательно RSM – Repubblica di San Marino. Все же старейшая республика в мире – с 301 года. (Не с 1301-го, а с 301-го!) Ее даже Наполеон велел не трогать, сказав, что оставляет как образец свободы и демократии, а на что уж непреклонного злодейства был человек.
Ехали что-то уж очень медленно, и к пяти часам попали в городишко Кальи, где и проторчали возле бензозаправки до половины девятого. В шесть стало темно, в семь нас уже не видели водители, в восемь – мы их, а в полдевятого друг друга. Забились в гостиницу (называется «Del Teatro», а театра – как и рыб в Сан-Марино – сроду не было), надулись местного кисленького винца, а утром вышли на дорогу, имея 233 км до Рима, отчаяние в душе и четыре с половиной мили на троих. Тут-то мне и попался контрабандист (все же на обратном пути решили разделиться) на Мерседесе, и к обеду я был дома. Генисы – часа на три позже.
А то застряли бы в Кальи, осели, обзавелись, лавчонка там, пицца на вынос, фургончик на мотороллере. Хорошо. А с другой стороны – только войдешь в силу, тут как тут мафия – и хап! Да, это я что-то не туда опять.
* * *
Отгуляли отвальную Генисов. В полночь вышли к Тирренскому морю (перелезли забор платного пляжа), поставили в прибой стулья – пили вермут. Благолепие.
* * *
Привет Цветкову, Олегу, Илге, Аркадию.
Пишите, а то что-то скучновато. Вчера получили письмо с 8 фотокарточками от Маки. Он, конечно, молодец – понимает, что это такое, письмо.
Пишите, задавайте вопросы – спрашивайте, мальчики! Давайте дружить по переписке, дружочки! Ах, неужели по настоящей переписке?!
16.10.77 г.
<Письмо родителям от 21 октября 1977 г.>
Здравствуйте, дорогие!
Живем себе, поживаем под Вечным городом – км в 30 от него. Ездим в Рим каждый день, потому что записались в школу. С утра я делаю закупки, читаю, письмо вот пишу, а 11-часовой электричкой отправляюсь. В 15.35 – дома, так что времени на все хватает. По Риму пошлялись уже порядком, а теперь для этого остались практически только суббота и воскресенье.
Завтра едем с утра – в Музей современного искусства, слышали о нем много удивительного, потом – может быть, на площадь Св. Петра, там даже еще не были. Надо, говорят, еще съездить в Тиволи – это что-то вроде Петергофа: роскошный парк, дворцы, фонтаны. Км 30–35 от Рима в горы.
Ждем 30-го, чтобы попасть в Ватикан – дело в том, что в последнее воскресенье каждого месяца там вход бесплатный, а так – миля, довольно дорого.
Мы уже месяц назад получили в министерстве культуры пропуск во все государственные музеи Италии. Большая экономия, но хохма в том, что довольно много частных музеев. Это – вещь мне вовсе непонятная: хорошенькое частное владение – Дворец дожей в Венеции, или Капитолий в Риме. Видимо, это принадлежит, скажем, самому городу, а не государству, но называется – частный.
Вообще с частным предпринимательством туго – для нас. Покупать что-либо оказалось куда труднее, чем раньше. Слишком хорошо – тоже плохо. С трудом привыкаем к тому, что можно торговаться. За мои джинсы просили 13 миль, отдали за 10. Виртуоз в этих делах оказался папа Генис: 90-мильную кожаную куртку – за 65! Занятно, что то же – и в самых что ни на есть государственных учреждениях. Описываю.
Мы ведь отправляли себе сигареты. С этим несколько не повезло: за месяц до нашего приезда ввели пошлину на посылки из Союза. Все правильно – здешняя шушера спекулирует вовсю. Раньше бандероль тихо-мирно приходила в Остию и ты платил за нее 100 лир (проезд в автобусе). Все наши почему-то попали в Рим, и рассказы были ужасны: почтари зверствуют. Я отправился, и сначала все шло, и в самом деле, ужасно: передо мной человек выскочил в поту с криками. За семь пачек сигарет и одну матрешку с него спросили четыре мили. Это почти себестоимость. Меня ждали 60 пачек «Риги» и 3 кг круп, и я изготовился уже все подарить Андреотти. Бедный матрешечник от ярости медленно и раздельно, по слогам, говорил почтмейстеру: «Ну, объясни мне, почему ты назначил четыре мили? Ну, можешь ты мне объяснить?» (Меня вообще восхищает папуасская уверенность советских эмигрантов, что если говорить внятно и глядеть при этом в глаза, итальянцы враз обретут знание русского.)
Я принял меры по словарю и вошел уже с готовыми фразами в инфинитиве и единственном числе. Стал рассказывать путаные истории из жизни еврейского народа и жаловаться на жизнь в Италии. Среди общего веселья мне предложили заплатить 10 миль за все (!). Я вынул пять, доскреб еще 400 лир и сказал слово, известное мне еще в детстве: «Basta!» Они тут же сказали: «Bene», и мы расстались друзьями. Удивительное – рядом.
Погоды стоят сказочные – как раз в моем вкусе. Градусов 18–20, тепло, не жарко, сухо. Итальяшки ходят в пальто и высоких сапогах. Которые с достатком – в ватных штанах и шнурованных ботинках. Околевают, и пляжи в паутине. Мы иногда ходим купаться, но вечером, чтоб не засмеяли (вода ~17–18 °С). Я уже умудрился искупаться по обе стороны Италии – в Тирренском и в Адриатическом.
В последнем – когда мы с Игорем и Сашкой проехались автостопом. Сначала – по маленьким городкам Умбрии – Перуджа и Ассизи, потом выбрались на Адриатику – в Римини, а оттуда – в Сан-Марино. Подробно не пишу, известит Мака. В Перудже же отведали осьминога – вкуснейшая вещь. Ну, музеи и другие интересные вещи тоже попадались.
Питаемся по-разному. Супчики пользуем, в основном, свои – «Kakošja juha» с разными заправками: грибы, баклажаны, помидоры, кабачки. Мяса не ели ни разу, т.е. настоящего мяса (оно здесь 3,5–6 миль). Но печенка – все время (1,5–2 мили), жаркое из бычьих хвостов (800 лир), индюшка (1,6), курица (1,4–1,6). Рыба в Остии дорогая, за ней пару раз специально ездили в Рим, на т.н. Круглый рынок – брали форель (1,5). Фрукты, естественно, не переводятся: едим, что познакомее – яблоки (250–500), виноград (300–600), груши (250–400). Прицениваемся к экзотике: авокадо там, плоды кактуса. С овощами – то же: много и дешево. Смешной здесь творог, вкуса сливок. Сметаны нет, ее эмигранты насобачились делать из сливок и кислого йогурта. Ну, а йогуртов!!! – прорва. Да, постоянно покупаем баснословно дешевые куриные потроха – печень, сердце, пуп (500). Тушим и сооружаем шкварки – евреи, все же. Однажды покупали язык (2 мили). Почему-то здесь жутко дорогие мозги – 7,5 миль, дороже любого мяса (а в Союзе 90 коп. и 1,40 р.).
Привыкаем вообще, обтираемся, готовимся. В конце концов, не так уж много осталось. Вчера уже были у консула США. Еще месяц-полтора – и в дорогу. «Боинг» бьет копытом.
Проводим Генисов, которые, после многих пертурбаций, попали все же в Нью-Йорк. Сдается мне – будем опять рядом. Я написал Ирминой подруге, но пока ответа не видать.
Очень пригодилось почти все, что взяли из Риги. Конечно, мыло и паста здесь сказочные, но ведь денег стоят. Про стиральные порошки и не говорю – их надо много. Тушенка незаменима в поездках, супы при деле, только вот крупы – лишняя тяжесть. Кроме гречневой! Здесь ее нет вообще. Нет черного хлеба – из Союза некоторым шлют ржаные сухари. Горчица и уксус – винные, и это тоже печально. Это, пожалуй, единственное – горчица, уксус, гречка, черный хлеб.
Короче – римские каникулы вещь совсем неплохая. Сам Рим – восхитительная эклектика, красоты необыкновенной: античность, готика, Возрождение, модерн. Словом, Рим. И жизнь размеренная, не американская. Ладно, будем перестраиваться еще раз – думаю, теперь будет попроще.
Целуем всех вас. Пишите.21.10.77 г.
<Письмо друзьям от 29 октября 1977 г.>
Привет, касатики!
Это я к вам зря так уважительно обращаюсь. Писем – ни фига, хотя люди старательные, внимательные и душевные уже по три прислали, да с 12 фотографиями.
Все бы тут хорошо – и погода компанирует, и аборигены дружественные, и читать есть чего – берем у соседей «Записки охотника» за большие деньги на короткое время, и одежа не рваная, и лиры в карманах – тысячами. Но вот получить бы чего с Комсомольской, да от Раковского. Печально, а вам?
И тем не менее:
Здравствуйте.
Главный Доктор Лорочка, Певец Пахарей Моря Наташенька, Технический Библиотекарь Зяма, Друг Радио и Футбола Володя!
Похоже, здесь ничего, кроме лета, не бывает. То есть имеются некие намеки на осень – красные листья, ветерок, пустые пляжи. Но пляжи пустуют от глупости – не своей, естественно, а коренного населения, которое при +18 °С ходит в пальто и сапогах и сморкается в кашне. Мы – блаженствуем: сухо, тепло, как раз гулять и глазеть по сторонам. Что и делаем. Да, еще одна примета осени: дорожает виноград. Кончается виноградный сезон – начинается мандариново-апельсиновый.
В письме Маке я подробно описал Нац. Галерею современного искусства, собор Св. Петра. А завтра собираемся в Ватикан – там в полдень выйдет к народу папа. Да и музеишко тамошний недурен.
Запасшись бусами и красной материей, заводим дружбу с туземцами. Недавно посидели в таверне «Alpini» у Ватиканской стены часа три в неудержимых беседах с хозяевами, в питии вина (за свой счет), кофе (за счет заведения), в поедании самоделанных тортов (тоже угощали). Обменялись адресами, и хозяин – Винченцо – уже навещал нас в Остии. Публика они – малоинтересная, и общаться занятно только поначалу.
Интересно, что в Центральной и Южной Италии масса, даже в больших городах, никаких языков, кроме своего, не знает. На Севере более или менее в ходу французский. В этом смысле колоссальный контраст с Веной. Там почти каждый, к кому я обращался на своем потрясающем немецком, тут же переходил: «Do you speak English?» – and so on.
Итальянский прост и приятен; уверен, что через полгода (не просто проживания, а общения) я бы читал газеты и общался с народом. С английским сложнее, а для нас – еще сложнее с американским. Главное – перескочить, наконец, на ту ступень, когда не переводишь про себя с русского, а дуешь сразу.
Читаем все же больше по-русски – не удержаться. Хотя тут надо бы брать пример с папы Гениса (можно же в чем-то и с него брать пример): он здесь даже кое-какие русские книги читал в английских переводах.
А читаем разное. Только что закончил блестящую «Защиту Лужина». Летящий стиль. Это, вроде бы, лучшее из написанного покойным по-русски. Такая поверхностная легкость в сочетании с жесткой логической последовательностью повествования.
Много разного.
Честно говоря, сейчас никак не могу расписаться. Отправил вам два гигантских письма – сроду таких не писал. Там все было легко как-то. Видно, нужен все-таки свежий приток – не только и не столько информации (хотя и ее тоже, и обязательно), но прежде всего ощущения контакта, чувства собеседника. Иначе никак – что-то вроде замурованных писем потомкам.
Да, может быть. попробую разговеться в смысле профессиональном – вчера познакомился с прекрасной русской художницей. Стиль Naif – немного a la русский лубок, но с точной мерой вкуса. Попытаюсь что-нибудь соорудить о ней – предварительно договорились (она довольно знаменитая, так что не бросается).
Ладно, еще раз: услышьте нас – звонки, письма, нарочные.
Приветы: Илье, Цветкову, Илге, Мильштейну, Аркадию, Олегу Иосину, Вальке.
Позвони, что ли, Зяма, передай привет двум Наташам из конторы. Хотя, одной, может, и не надо – тихая.
Целуем вас.29.10.77 г.
<Письмо родителям от 3 ноября 1977 г.>
Salute!
Сегодня пришло письмо от Маки – четвертое уже. Остальные – ни гу-гу. Почему бы это? И адрес вроде известен, и письма – как видно из Макиных – доходят. Странно и малоприятно.
Живем довольно тихо. Наездились по стране, теперь больше гуляем по Риму. В Остии не разгуляешься – интересного ничего нет, разве что рядом Остия Антика: развалины всякие допотопные и пр. нехитрые радости. Вообще, конечно, в период октябрь–апрель Остия теряет свое главное преимущество – море. Мы зацепили кусочек еще, а теперь, хоть и тепло (~17–18 С), но купаться уже не тянет.
В Риме селиться, понятно, хорошо – преимущества очевидные. Но снять хату трудно и немного выходит дороже. Главная трудность – нет информации о спросе и предложении appartamento. В Остии это дело налажено до автоматизма – только приди на почту. Народ сейчас, осенью, снимает квартиры в Витинии – это на полпути к Риму (дорога дешевле, соответственно). Летом некоторые выбирают Ладисполи – это от Рима далековато, и там живут в основном те, кто отлично знает язык и потому не ходит в школу.
В Остии – не только море, есть и другие плюсы, все же это довольно большой город, популярный курорт. Тут три кинотеатра (летом – даже еще один открытый), в центре (где живем мы) – три супермаркета, есть свой рынок. Потом – международный телефонный пункт. Это все несколько облегчает жизнь.
Хотя у эмигрантов в фаворе знаменитый Круглый рынок в Риме. Таскаться с сумками, конечно, хлопотно, но дешевизна привлекает. Вообще все тут есть и еще немножко, но я думаю, есть смысл покряхтеть два-три раза с чемоданами – и высвободить себе лишнюю десятку на штаны. Мы вроде изрядно запаслись, но все же могли быть и менее легкомысленны в сборах – все красивые иллюзии: дескать, с одним чемоданчиком. Пособие рассчитано хорошо – хватит и тому, кто с одним чемоданчиком, но ведь не рассчитаешь собственные аппетиты к диковинным продуктам, красивым вещам и сказочным путешествиям.
Может, вам будет занятно: наш средний рацион. Кстати, блюдем себя – один день в неделю голодаем, на следующий – только овощи и фрукты, да еще после семи вечера – ничего. Во как! Лавры Барышникова! А в среднем: Завтрак. Омлет (все, как в Риге), кофе (очень здесь вкусный). Обед. Супчик «Kokošja juha», заправленный жареными помидорами, баклажанами, или еще чем; птица (кура или индюшка), рыба (форель обычно). Мяса не едим почти совсем – оно раза в три дороже куры; салатик какой-нибудь; молоко или оранжад. Ужин. Котлета (фарш цены приемлемой), печенка свиная или куриная с картошкой, йогурт (сортов пробовал – уже 11); чай. В течение дня – фрукты (яблоки и груши, был виноград, теперь – мандарины).
Вы не удивляйтесь, что я так много о внутренних делах. Маке в двух-трех последних письмах я ничего не писал о быте. Надеюсь, вы те письма читали, а теперь все вместе прочтете, это – глядишь, какая-то картина. Я на то и рассчитываю: не повторять же одно из письма в письмо.
Из побрякушек, что с собой брали – почти все при нас. Нужен особый талант, чтоб извлечь из них что-то с толком, а без таланта – обидно отдавать зазря. Так что все практически, что имеем – с пособия, приварку было только 120 миль (для здешних ухарей это не цифра, только поездка на Север обошлась нам в сотню). Жаль, не взяли приемника, а могли – но выше я уже писал об этом: громоздкая, мол, «Спидола». Все же мы тут без информации. Пока были Генисы – рассказывали, что в мире делается, и опять-таки Игорь добросовестно следил за футболом и хоккеем по передачам Москвы. Они же, Генисы, подарили мне ко дню рождения маленький приемничек, но только со средними – одна музыка, а если говорят, то – вы никогда не поверите – по-итальянски… Генисы уже в Нью-Йорке и уже написали нам оттуда. Пока конкретного ничего, большой, говорят, Бродвей, мол, есть там 5-я авеню, стриты, извиняюсь за выражение.
В кино почти не ходим – посмотрели разок секс, разок боевик, и хватит. На серьезные же не пойдешь – язык. Правда, сейчас есть кое-где «Казанова» Феллини – соблазнительно.
Марки в конверте – с Генисовского письма, это Маке. На конверте – тоже ему, это серия – хочу, чтоб подобрал всю.
Пишите, что ль. Всем помнящим – поклоны.
Целуем3.11.77. 23.20
<Письмо В. Раковскому от 30 ноября 1977 г.>
Здравствуйте, батюшка Владимир Петрович!
- Генерал! Я не думаю, что ряды
- ваши покинув, я их ослаблю.
- В этом не будет большой беды:
- я не солист, но я чужд ансамблю
- Вынув мундштук из своей дуды,
- жгу свой мундир и ломаю саблю.
Ты хоть знаешь, что мы в Италии? Это страна такая – сапожком, так мы в серединке голенища, в городе Риме.
Город странный и великолепный. Первое впечатление было – хаос и эклектика. После четкой, гармоничной, готически-парковой Вены, которая нравится сразу и безусловно, Рим появился разляпанным, бардачным, сложенным из кусочков. И только уже через месяца полтора начинаешь понимать, что именно эклектика, бардак и мозаика и делают его Римом. Тем самым. По Стендалю, Гоголю и прочим, не менее достойным людям, которые считали его безоговорочно первейшим из городов мира. Сейчас мы ходим по нему часами и не можем надивиться: уж так все круто намешано – и антика, и Средневековье, и Возрождение, и модерн. И ничто ничему не мешает. Сосуществование очень мирное. Короче, нам тут нравится.
Мы даже не против побыть подольше. Кажется, так и получится – хотим или не хотим. По непроверенным, но уточненным данным, Рождество и Новый Год встретим тут. Сегодня – два месяца и 21 день в Риме. Генисы пробыли на день меньше и теперь обретаются в Нью-Йорке. И это все, что мы знаем. Игорь настрочил на второй американский день письмо из отеля на Бродвее (хвастун!) про мусор, цены на баранину, засилье негров и неопределенность дальнейшего бытия. Может, неопределенность затянулась, а, может, они уже рубят, заедаемые москитами, просеки на каучуковых плантациях Пуэрто-Рико. Так или иначе, за полтора почти месяца то письмо – единственное. Очень вы все похожи – и на востоке, и на западе. Скорбный счет писем 30:10 в нашу пользу, а из 10 – шесть Макиных. Так-то. А открыток – видимо-невидимо. Почтовые расходы входят в наш бюджет вполне самостоятельно и равноправно. Скажи мне, сколько ты послал писем, и я скажу, кто ты.
Нужен приток информации и духа общения. Вот, к примеру, о чем писать мне сейчас? В плане событийном все изложено: в письмах тебе и Кацам, в письмах Маке. А по-другому без контакта не получается – тут не в обиде дело (неизвестно еще, надо ли обижаться, а если надо, то на кого – может, вы все и ты, в частности, тоже не такие уж плохие люди, может, вы и пишите, да везут медленно), а в том, что чувство собеседника сильно трачено временем и молчанием. Что быть не должно. Как вы считаете, генерал?
И тем не менее, все у нас тихо. Едим смешные вещи – освоили моллюсков и тешимся. Когда все четверо (мы и соседи) садимся за спагетти с ракушками, грохот стоит, как в каменоломнях: сваливаем останки. Винчик, несмотря на его фантастическую дешевизну, пьем мало – подустали, что ли, да и с отъездом Генисов лишились тлетворного влияния. Вчера Райка вообразила, что умеет печь пироги, и сейчас какая-то штука, на глаз, на ощупь и вкус похожая на сиденье табуретки, лежит на столе. Все ходят на цыпочках и на стол стараются не глядеть.
В кино здесь, в Италии, ходили всего два раза. Первый – увлекательная история из жизни лесопромышленников Ганы, бред собачий. Второй – пикантная секс-лента о пикантной секс-девочке. Да, я еще сходил в Кастелламаре (когда ездил на Юг) на очень социально-гражданственный фильм «Проституция». Мало – потому что без языка. Просто секс и боевики смотреть не очень хочется, а остальные не по зубам. Хотя есть, видать, отличные: «Один необычный день» с Софи Лорен и Мастроянни, «Другая женщина, другой мужчина» Клода Лелюша (тот, что снял «Мужчину и женщину») и прочие. Но для них всех, по странности, нужно знание итальянского. Не дублируют, мерзавцы. Билеты стоят 1200–1500 – дороговато, но это соображение второе.
Прервался обедом. Сегодня Бог послал куриный суп с кореньями да печенку с рисом. А я, человек безумной отваги, решился на кусок пирога – остро ощущаю недостаток лигнина в организме. Ничего. В конце концов, осьминога жареного я ж не испугался – не всякий восточноевропейский человек на такое пойдет.
Завтра едем на славный среди эмигрантов Круглый рынок – за дешевыми продуктами в дорогу. А вечером – в поезд, а утром просыпаемся – кругом вода. В Венецию, стало быть, едем. Денька на 3–4.
Кланяйся Вальке, матери и дитю.
30.11.77
<Письмо В. Раковскому от 9 декабря 1977 г.>
- Генерал! Только душам нужны тела.
- Души ж, известно, чужды злорадства,
- и сюда нас, думаю, завела
- не стратегия даже, а жажда братства;
- лучше в чужие встревать дела,
- коли в своих нам не разобраться.
Salute!
Даже Зяма – и тот написал. Я человек не злопамятный, хоть и веду учет входящих и исходящих писем – но только для контролю: не утерялось чтоб. Так вот Зяма написал – 28 ноября с.г. Вроде, писал и раньше – мы не читали, а уехали – как сейчас помню – 2 сентября. Арифметика.
Восточная мудрость гласит: если гора не идет к Магомету, то пусть она идет на хер. Не послушаемся, и пойдем к горе. Тем более, что не ясны мотивы и обстоятельства. Свои я изложил в первом письма: отсутствие информации о твоем местопребывании; удивление молчанием, когда узнал, что ты в Риге.
Твои резоны не знаю, кроме того, что ты – есть ты. Так или иначе, пишу это второе письмо и весьма рассчитываю. Или шифруешь?
Мака прислал 16 фотографий, из них дюжину – с вокзала. На четырех-пяти и вы, сударь. Смотрю, хоть и тошно. И не то чтоб ты так плохо вышел – хоть куда орлик, но вот ведь.
Вообще, хоть и общались мы довольно плотно перед отъездом, но, видать, не достаточно. Чувствую это – и жалко, и обидно, но как быть теперь. Только и есть всего – пиши. И я буду. Но пиши обязательно, потому что особой там информации со сногсшибающей новизной я не жду, но письма сами по себе нужны очень. То есть информацию тоже давай – про Москву: как там и что было. Какие перспективы? Что дома? Как мать? Что слышно от сестры и шурина?
Мы о себе знаем мало – когда, куда. Когда – говорят, после Нового Года, куда – говорят, в Нью-Йорк. А кто говорит?
Получили на днях письмо от Генисов, они в Нью-Йорке, в Бруклине. Занимаются на курсах всяких (подробно я написал Маке – спроси), осваиваются потихоньку. Пишут, что все же лучший – при всех его недостатках – город для эмигрантов. То же мы слышали от тамошних русских, с которыми виделись здесь – в Риме и в Венеции. Бог знает – может, и так.
В Венецию съездили весело и здорово (тебе оттуда открытки послали, кое-что в деталях отписал сегодня Маке).
Проезжали туда и обратно Италию в снегу – Флоренция, Болонья. Зрелище жуткое и неестественное, а снег приличный – сантиметров на 30. Но до (т.е. южнее) и после (т.е. севернее) была благодать – солнце, сушь, – довольно прохладно, но хорошо.
Снова не попали в Равенну. Однажды это уже было, когда двигались автостопом с Генисами. Тогда помешало то, что кончилось время, а с ним еда и деньги. Теперь – загуляли с новыми знакомцами. С другой стороны – в Равенну может поехать каждый дурак. А ты вот попробуй не поедь туда, когда можно, и легко можно. Равенна – это чтоб было не слишком просто. Непопадание в нее есть признак силы воли и мощного интеллекта. (Хотя всю жизнь, лет с 12, когда впервые что-то о ней прочел, и после стихов Блока – мечта идиота. Но ведь сохранить личность в неприкосновенности важнее, не так ли?)
Еще о стихах. Помню, учил Подниекса в радиоузле русскому языку. И один из методов был – наговаривание на пленку стихов. Помню, Подниекс самозабвенно читал Пушкина:
- В голубом небесном поле
- Ходит Веспер золотой,
- Старый дождь плывет в гондоле
- С догарессой молодой.
Напомни ему сейчас – ведь обидится. А тогда лепил дожа в дожди и хоть бы хны. Догарессу он, надо полагать, считал самкой дога.
Кстати, позвони, что ли, ему. Передай от меня приветы и всякое, что знаешь обо мне. Мы виделись недели за две до, и он был как-то рассупонен. Черт знает, может, просто немецкая сентиментальность?
Так ни дожей, ни дождей в Венеции не было. А был город для человека, не ищущего легких путей. В первых этажах живут одни пиявки, транспорта нет – только водный. Нет даже велосипедов: улицы – какие имеются – шириной от 1 до 4 метров, не раскатаешься. После полуночи не достать и стакана вина (единственный город в Италии!). А если запасся заранее, то плевое дело – утонуть. Улицы плавно сходят в канал удобными ступеньками, не обременяя себя набережной, парапетом и вообще каким-либо ограждением. В ресторанах и магазинах есть люди – это непривычно и противно. На площади Святого Марка голуби какают на восхищенных туристов. Гондольеры слоняются по городу с дурацкими криками, которые летом служат вместо клаксона, а теперь – от лени и застоя. Из окон вторых этажей удят рыбу, и, видно, не без успеха – здесь лучший в стране рыбный рынок: от креветок до меч-рыбы. Несуразный оперный город, но уезжать из него не хочется, хотя и непонятно – как там жить.
У нас тут, в Риме, все проще, понятнее и лучше. Zaipni ludzam.
Вспоминаем шурпу и манты, я уже не скажу за морковку корейского производства. Хотя и тут изощряемся время от времени в кулинарии. Отваживаемся и на экзотические блюда: кислые щи, пельмени, блины. Аборигенов впечатляет.
Они, аборигены, захаживают иногда. В целом дружественные, как все аборигены, любят красную материю и бусы. Простодушны, однако золото и слоновую кость прячут.
Повидали их везде – на карте крестиками отмечены 17 городов: Рим, Остия, Венеция, Флоренция, Сиена, Пиза, Пистойя, Сан-Марино, Римини, Кальи, Ассизи, Перуджа, Неаполь, Кастелламаре, Помпеи, Сорренто, Капри. Проверь по карте. Это всё. Больше уже не на что. А уж как хотелось бы. Да и то – раз уж так вышло, что здесь – когда еще сможем.
Ладно. Помни все, что надо. И про 75% – тоже.
Целуем вас всех. Привет Валере и Алику.
9.12.77
Приписка после телефонного разговора
Молодцы, голуби – так и дальше пробуйте, кооперируйтесь и звоните. Звоните и пишите. А то, как выясняется, не в одних Сан-Маринах покой. Надо, чтоб связи не прерывались, я уж не говорю о чаяниях (естественно, сокровенных) на смычку. Без этого – нехорошо, даже гондолы и спагетти не помогут.
Привет. Ждем.
<Письмо В. Раковскому от 1 января 1978 г.>
Привет!
Видимо, последний раз (отсюда!). Как стало известно вам, мы улетаем 5-го. Правда, это всего на 90% вероятности, но девяносто – это не десять, ich weis? Хотя визы мы уже сдали и выдадут их опять только при регистрации в аэропорту.
Сегодня всю ночь стреляли. Итальянцы выдыхаются на Рождество – но только в части еды, выпивки, приема и сдачи гостей etc. Запал нравственный и пороховой остается на Новый год.
Пальба началась часов с девяти вечера и с переменным успехом шла до полуночи. К 12-ти город вымер, и стреляли только из окон – больше ракетами и петардами, но может – по боевой итальянской традиции (Bandiera rossa! bandiera rossa!..) – и серьезнее. Сюда доносилась канонада их левого района, известного своей невзыскательностью во всем – от способа и условий жилья до методов фейерверка. Похоже, там пользовались всамделишней артиллерией.
Шампанским мы хлопали дважды – оба раза одним сортом, пьемонтским мускатным. Первый раз, кажется, ошиблись минуты на две, но все же выпили с вами – в 22.00 по-здешнему и в аккурат по-вашему.
Свой, местный 78-й, мы проверили от обратного – включив Москву с Людмилой Сенчиной и еще какими-то гениями эстрады. Пипиканье «Маяка» подтвердил взрыв улично-хлопушечной войны в Остии – все верно, полночь.
Жаль, вещей из окон уже не бросают – жесток закон, предупреждающий увечья (у нашей знакомой итальянки три года назад искалечили родственника холодильником, сброшенным с 3-го этажа). Говорят, можно еще изыскать окрестности Рима с выполнением всей традиции, но далеко.
Странно как-то погуляли мы – даже (Райка и Марта) легли уже в половине первого; сейчас 03.00, а я уже пишу письмецо. Как-то перегорели, хоть и готовились, соорудили сказочные закуски (печеночный паштет, мясной салат, корнишоны всякие, овощи – всех видов), сделали пельмени. И какие пельмени! Клянусь – дома таких не ел («дома» – широко, вообще – до).
Выпивон – водки «Korsakof» и «Suvarof» (последняя с клеймом: «Опробовано русским императорским двором»).
Все – куда как. Но – грустно. Понятно, надеюсь?
Помню, тебя не пустили в дом около четырех утра 01.01.77., нет и около четырех 01.01.78. Сколько же можно?
С Кацами говорили сегодня (pardon – вчера). С тобой, может, 3–4-го. Одна радость (ну, может, и не одна вообще, но настоящая – одна. Так и скажи им).
- И восходит в свой номер на борт по трапу
- Постоялец, несущий в кармане граппу,
- Совершенный никто, человек в плаще.
- Потерявший память, отчизну, сына;
- По горбу его плачет в лесах осина,
- Если кто-то плачет о нем вообще.
Продолжаю. Черт знает что – Новый год, или накололи? Солнце светит вовсю, небо голубое, тишь безумная, спать не хочется. А всего-то полдевятого, а лег я в четыре.
Заглянул в холодильник – еще раз убедился: не приснилось ли? Нет – от «Korsakof» отпито граммов 150. От «Suvarof» – еще меньше. Видишь, русский императорский двор мог ее хлебать, а мы рожу воротим. Достукались. Пельменей половина осталась! Только тебе и рассказываю – засмеют ведь.
Что ж с такого года будет? И вообще – где я? Оно, конечно, в 78-м ждет много всякого примечательного и очень великолепного. Ну, там – первенство мира по футболу; Бруклин, битком набитый Генисами; ваши письма; пауперизм; бесконечные очереди у биржи труда; знакомые негры; мясо из кошерных магазинов; день рождения.
С другой стороны, ничего, наверное, похожего на фантастический 77-й, не будет никогда. Только в хронологии: диплом с госэкзаменами; потеха с увольнением; суд; аркадьевский семинар с журналом и пурим spiel’ем; веселое окномойство; процедура с документами и отъездом; хутор Арвида; сам отъезд; Вена, похожая на Ригу; Италия с Венецией, Голубым гротом и Авентином.
Не будет, и жаль.
Специально острых ощущений не надо – в странный легион не пойду. Да и не возьмут, наверное. Но покой, оказывается, противопоказан. Покой или безделье – все равно. Или – и покой, и безделье, но не один.
Вчера было ощущение, что мы сняли гигантский зал, сплошь – столами, шампанским, фруктами и мясом – уставленный. А сидим в самом-самом уголке вдвоем. И не хватает – по крайней мере – человек шестисот. Хотя всего – каких-нибудь шести.
А ты говоришь – «опробовано русским императорским двором». Сами они пьяницы!
Жизнь, тем не менее, проистекает и дальше. Сегодня будут устрицы с белым вином, и это совсем неплохо хотя бы потому, что еще не опробовано (хотя двором – наверняка).
Купили материалу на штаны – Штаты все же. Сосед вчера извернулся и к девяти вечера уже сварганил. Ухарь. Мои штаны посвящаются трансатлантическому перелету. И вообще.
Целую всех вас – весь новогодний состав (что – 77, что – 78). Пишите нам, подружки, но новым адресам.
01.01.78.
<Письмо Максиму Вайлю от 24 марта 1978 г.>
Привет! Мы пишем, надеемся, что пишете и вы все, но есть некоторые основания предполагать, что это грязные происки, возможно, связанные с моей работой. Потому избираем такой способ передачи информации – к сожалению, разовый. Сразу: письмо не для родителей, им обо всем знать не обязательно. Полезные сведения сообщи им устно, дескать, окольно дошло. Дай для ознакомления Кацам, Вовке. Мы из Союза ничего не получаем уже два месяца – только твоя открытка и одно твое же письмо.
I. Работа. Как вы знаете, я работаю в «Новом русском слове». Это единственная в Зарубежье ежедневная газета, самая старая русская газета в мире (старше «Правды» – выходит с 1910 г.), единственное самоокупаемое русское издание. 4 полосы, в воскресенье – 8. Я там литсекретарь, работа в основном редакторская – с рукописями. Кроме того, веду ежедневно хронику и еженедельно – спортивное обозрение. Пишу сам в охотку: за два месяца штатно и две недели нештатных опубликовался раз десять – это при том, что чисто журналистских ставок в газете нет вообще, писание – по желанию. Слава Богу, хватает авторов со стороны – со всего мира. Писал про Венецианское биеннале диссидентской культуры, делал интервью с Турчиным и Алексеевой, про Любу Симанскую, про 5-летний юбилей издательства Чалидзе «Хроника», про русский музей в изгнании в Париже, про демонстрацию в защиту Григоренко, Ростроповича и Вишневской и т.п. Кайф непередаваемый. Темы одни чего стоят! А писать, себя не одергивая, – душа поет. Работаю с 9 до 5, суббота и воскресенье – выходные. Кладут мне 200 в неделю и еще по 10 за спорт. За статьи – отдельно, мало – по 15, но, к сожалению, здесь (то есть, везде в Зарубежье) прилично платят только на радио. На гонорарах не разживешься, большинство изданий не платит вообще – одно реноме, и только. Кстати, сейчас готовим с Сашкой большую журнальную статью «Советская литература между Самиздатом и Союзом писателей» – о всяких там Аксеновых, Трифоновых, Искандерах, Поповых, Битовых. Тема интереснейшая и здесь совсем неизвестная: либо ругают Маркова, либо хвалят Войновича – середина темна и неведома, думаем послать в «Континент» или, что лучше, в отличный израильский журнал «Время и мы». Туда, правда, страшно – у них блестящий отдел критики.
Сашка, кстати, работает помощником метранпажа у нас уже две недели. Пашет, как бобик.
2. Общение. Оно есть, и довольно активное. Начали серию интереснейших знакомств еще в Риме – на Сахаровских слушаниях и в Венеции – на биеннале. Бродский, Синявский, Эткинд, увы, покойный Галич, Максимов, Томас Венцлова, Мальцев (автор единственного исследования «Вольная русская литература 1956–1976»). Давид Маркиш (сын Переца) и Эмма Сотникова из Израиля. В Венеции посещали все четыре дня литсеминары, были на худ. выставках, выставке Самиздата, куролесили с одним из лучших современных художников – Олегом Целковым, прямо по-рижски: с пением неаполитанских песен по ночам, падениями в канал и пр.
Здесь довольно тесно сошлись с Турчиным, ходим друг к другу в гости. На нашем новосельи были Генисы, Катька с Филиппом, Турчины – сам, жена и два сына, Шрагины – Борис Шрагин, искусствовед и здесь профессор Хантер-колледжа, жена Наташа – антрополог. Они все – люди, с которыми разговаривать колоссальное удовольствие. Я провел как-то день у Павла Литвинова за беседами. Очень хорошее и приятное знакомство с Людмилой Алексеевой – той, что представитель Хельсинкских групп за рубежом. Был уже тут на разных диссидентских симпозиумах и пресс-конференциях, позавчера (22.03) – на демонстрации протеста против лишения гражданства этих троих. Не скучно, в общем.
24.03.78.
<Письмо родителям из Нью-Йорка от 11 октября 1982 г.>
Здравствуйте, дорогие!
Почему долго не писал, объяснить не могу, сам не знаю. Во всяком случае, ни о какой враждебности не может идти и речи. Отчасти, наверное, дело в том, что мои личные обстоятельства изрядно запутались в последнее время, в самое последнее время прояснились, а писание писем домой требует (как мне кажется) некоторой определенности. Кроме того, общение с друзьями и знакомыми убедило меня в том, что адекватно передать свои ощущения и реалии здешней жизни не удается – в результате образуется недоумение, непонимание, недоговоренность. Беда, что мне известны обе стороны моей жизни – до и после, – а вам только одна. И это проблема отнюдь не только информации, как хотелось бы думать, а целого комплекса представлений о жизни, которые, естественно, и есть жизнь.
Сначала о личных обстоятельствах. С Райкой мы живем врозь два с половиной года. Видимся довольно часто. Я остался в нашей прежней квартире, Райка обреталась в разных местах – у матери, у подруг, но несколько месяцев назад сняла квартиру в Джерси-Сити. Это город рядышком с Нью-Йорком, как бы город-спутник. Она работает на Радио и учится на курсах медсестер.
Я работаю все там же, в газете [«Новый американец». – Э. В.]. Ситуация стабилизировалась. Наше предприятие взяли в свои руки американские бизнесмены, и теперь беспокоиться о будущем вроде бы не приходится. (Я и раньше-то никогда не беспокоился о будущем, но здесь как-то принято делать на этом акцент, стиль жизни, что ли, такой – даже миллионеры волнуются.)
Мы с Сашкой по-прежнему довольно много пишем, печатаемся – все больше о литературе. Через месяца три-четыре выйдет наша книга «Современная русская проза» – то, над чем мы, в разных формах и способах, работали последние три года. Книга страниц на 200, со справочным аппаратом – то есть, достаточно солидная.
В сугубо личном плане у меня тоже изменения. Уже месяц я живу почти забытой семейной жизнью. Понимаю, что для вас наши выходки – удары, но что же делать? Мою жену зовут Эля, она из Москвы, в Штатах с 1979 года. Работает у нас на фотоэлектронной машине (наборной). В Москве закончила журфак, работала во Внешторге.
В связи со сменой матримониальных условий, изменились условия и бытовые. Никогда у меня не было такой великолепной квартиры. Появилась – впервые в жизни – спальня, какие-то занавески, абажуры, портреты прекрасных дам. Короче, даже закаленные Генисы завидуют. Может быть, я старею (без иронии), но покой и уют вдруг оказались достаточно существенными для меня. Я уж не говорю о том, что у меня теперь есть кабинет: роскошный двухтумбовый стол, картотека, книжные полки под боком, машинка (подарок Эли), шрифт которой вы можете оценить. Поскольку я не рассчитываю на создание бессмертных произведений, то канцелярские атрибуты значат очень много. Ведь на службу я хожу два раза в неделю (так уж мы с Сашкой устроились), так что деловая обстановка дома – вещь первостепенная.
То же – с обстановкой эмоциональной. Интересы у нас с Элей – общие, образовательный уровень – одинаковый, запросы – совпадающие. Плюс к этому, она мне очень нравится во всех прочих аспектах. А что, собственно, может быть еще?
Целую вас,Петя
Русский Талант
Племянница патриарха Алексия Люба Симанская в Риме
Впечатление было ошеломляющее. Перед глазами – собор Св. Петра в Ватикане, колоннада Бернини, охватывающая площадь, и классические швейцарские гвардейцы в желто-сине-красном, удивленно пялящиеся на разухабистый русский хоровод. Румяные парни и длиннокосые девицы плясали на площади Св. Петра!
Были еще и другие картины. Здесь, в центре Рима, дрались на снегу ярые петухи; под синим итальянским небом танцевали медведи, неслись тройки, всадники брали штурмом снежные города.
…На Виа Маргутта не протолкнуться. На этой знаменитой (каждая вторая дверь – вход в картинную галерею) улице два раза в году выставляются лучшие художники Рима. Здесь я и увидел прекрасные сказки Любы Симанской. Она – высокая, крупная, уверенная – была тут же. Никак не входило на место полотно, на котором молодецкий конь под робким пареньком кланялся красавице. Я предложил помочь, и мы познакомились.
На Виа Маргутта – отборные силы в эти 8 дней в году (четыре в ноябре и четыре в апреле). Томные, «северянинские» дамы Роберты Паолетти, замысловатые композиции сюрреалиста Родольфо Фраттайоли, очень домашние портреты Новеллы Париджини, элегантные римские виды Аурелио Сальватти, и несть им числа – точнее есть: ровно сотня отличных художников.
И все же – картины Любы Симанской выделяются и здесь. И меня подкупила не тема. «Русскость» ее полотен поражает сразу – своей необычностью среди других. Но после понимаешь и чувствуешь главное: сочный колорит; композиционную стройность; точную меру вкуса, так необходимую для стиля naif; и, наконец, – снова «русскость». Но уже не ту, первоначальную, на контрасте – хоровод у собора Св. Петра. А подлинную, корнями уходящую в любовь к России, ее природе, людям и искусству. «У всего должны быть свои корни», – говорит Люба Симанская. И размышляет о них, ищет, вспоминает.
Она родилась в Польше. Отец ее – Лев Федорович Плесцов командовал еще в той, российской Польше, стоявшим в Плоцке 15-м Его Императорского Величества Александра III полком переяславских драгун. В Польше, в Варшаве, семья осталась после 17-го. «Очень была патриархальная семья», – говорит Люба. Дети, она и старший брат Георгий получили добротное русское воспитание. Да еще была няня – Маша Румянцева. Люба смеется: «Моя Арина Родионовна». Маша знала тысячи сказок и песен и была человеком образованным: под ее руководством дети разыгрывали спектакли. Ставили даже «Евгения Онегина», и, конечно, Люба была Татьяной. А пушкинские сказки знала все наизусть. У всего должны быть свои корни.
В 1939 году, когда началась война, Люба, бывшая замужем за английским дипломатом, должна была покинуть Польшу вместе с дипкорпусом. Отца и брата она больше не видела. В конце войны наступавшие советские войска арестовали обоих, и следы Льва и Георгия Плесцовых потерялись в лагерях.
Поездить Любе пришлось: Румыния, Турция, Египет. И, наконец, Иордания – уже со вторым мужем, Николаем Павловичем Симанским. Он был начальником строительства канала в Аммане. Здесь Любе жилось вольготно и праздно: рауты, приемы, прогулки, бридж. Но все это рухнуло, когда в 1965 году умерла мать. Год Люба не могла прийти в себя. «Я сейчас даже не могу вспомнить, что делала в тот год – кажется, действительно только плакала».
В 1966 они с мужем поехали в Лондон. И тут это произошло. До тех пор у Любы Симанской отношение к живописи было нормальным отношением культурного человека. Она очень любила Шагала, да и теперь считает его своим любимым художником. Интересовалась современной живописью. По совершенно русской своей натуре любила Васнецова, Билибина, Маврину. Даже из русских поэтов выделяла самого, по ее мнению, «картинного» – Есенина. Она с детства писала стихи. Но мать, сама немного рисовавшая, – пейзажи, натюрморты – тщетно пыталась заставить Любу взять кисть. Той это было неинтересно. Да вроде и не умела.
В Лондоне Люба вспомнила об увлечении матери и пошла к хорошему знакомому их семьи, известному художнику Борису Пастухову: «Как научиться писать маслом?» Тот развеселился: «Купи кило сливочного и приходи – поговорим». Любе Симанской было тогда за сорок и скепсис Пастухова не удивляет. И все же она пошла и купила масло, не сливочное, кистей, холста, и в тот же вечер, усевшись на ковре, начала свою великолепную карьеру. Утром и муж, и знакомая художница-англичанка долго не верили, глядя на измазанную Любу, на холст, где девчушки-матрешки несли пасху-куличи, а лихие утята волокли корзинки с крашенками. Потом не верил никто и в Аммане – подруги, коллеги мужа, партнеры по бриджу. Она до сих пор считает это чудом. «Бог осушил мне слезы кисточкой».
Первая выставка состоялась 15 апреля 1967 года. Открыла ее принцесса Муна. Она еще прежде обещала дебютантке покровительство, и Симанская советовалась с ней об организации выставки. Люба вспоминает: когда она принесла пачку уже готовых программок во дворец, то от волнения перед дебютом выронила ее, и тогда они трое – Люба и два коронованные особы, король и принцесса, на четвереньках стали подбирать бумаги.
Успех выставки был неожиданным – из 36 картин в первый же вечер купили 18. И уже через месяц по приглашению последнего арабского губернатора Иерусалима Анвара Катиба Люба выставлялась в священном городе.
Квартира Любы Симанской – музей. И не только картинная галерея. Вот великолепный кубок – первый приз на «Фестивале двух миров» в Сполето в 1976 году за «Русскую зиму». Она очень часто пишет зиму. Она, последние тридцать лет живущая в странах, где не знают или почти не знают снега. И потому она не тоскует по зиме, что сама творит ее. И в Риме, возле Стадио Фламинио, по лиловым снегам скачет тройка, и кони храпят на черных зеленоглазых волков.
Вот послание от папы римского с благодарностью за присланную к его 80-летию работу. Вот целая пачка книг премьера Андреотти – с дарственными надписями. Вот красивый приз «Рим-76» за ту самую, с хороводом у собора Св. Петра. И целая коллекция писем, фотографий, вырезок из газет о выдающемся деятеле русской православной церкви патриархе Алексии.
Когда Люба вышла замуж за Николая Павловича Симанского, патриарх поздравил своего родного племянника и его молодую жену. Вышло так, что ответила ему Люба. И с тех пор именно она, а не муж, вела переписку – более 20 лет. Именно ей, Любе Симанской, продиктовал за день до смерти свое последнее письмо патриарх. Теперь оно, как реликвия, хранится в Троице-Сергиевской лавре. Отношения их были удивительно теплыми. Патриарх полюбил всю семью Симанских, и не зря младший сын Любы – тоже Алексей. (На стене – большая фотография: два Алексея в лондонской православной церкви. Все английские газеты во время визита патриарха в Лондон в 1964 году обошел другой снимок: Алеша рядом со своим прославленным тезкой.)
Первосвятитель был внимателен к ним даже в мелочах. Когда он получил фото матери с сыном с выставки в Иерусалиме, незамедлительно ответил и, среди прочего, выговорил: хороша мать, у сына на пиджаке пуговицы не хватает. Ему было тогда 88 лет, но, впрочем, патриарх Алексий скончался в 92 года, и до последнего дня рассудок его, память и наблюдательность были поразительно ясными.
После лондонской встречи они увиделись через пять лет в России. Москва, Загорск, Киев, Ленинград, Одесса. Люба смотрела, смотрела, смотрела. А вернувшись – с ворохом альбомов, репродукций, набросков – бросилась работать. (У Алеши – воспоминания свои. О заступничестве. В Одессе, в Успенском монастыре – летней резиденции патриарха – мать пожаловалась, что сын носит слишком длинные волосы, мол, повлияйте. Алексей усмехнулся: «Тебе нравится? Ну, и носи. Я в молодости тоже был этим грешен».)
И в 1972 году, когда уже новый патриарх Пимен пригласил Симанскую в гости, встречали их с почетом. В Печорах, где фамильные гробницы Симанских, под звон колоколов к ним выходил псковский владыка Иоанн. Трезвонили при встрече и в Суздале и во Владимире.
И – новый всплеск. Василий Блаженный; базар – мед, яйца, яблоки, живность; сказочные жар-птицы; «Зимняя свадьба», получившая премию в Париже. Выставки в Испании, Бельгии, Англии, Португалии (там Любу помнят хорошо, там осталась ее Богоматерь Фатимская, написанная для экуменического конгресса).
Эта женщина избывает талантами. Я уже говорил о том, что много лет она писала стихи, и только живопись вытеснила их – причем совершенно.
Фамильные таланты переходят и к сыну. «Лентяй» (это говорит мама) Алеша, 20-летним начав серьезные занятия живописью в 1974 году, сразу, в том же году «отхватил» премию Марка Аврелия. Ее же через два года, а в 1977 – премию Данте. Одно слово – «лентяй». В его живописи русских мотивов куда меньше. Что и понятно. Но жаль.
А Люба Симанская продолжает работать, возрождая и сохраняя в Италии Россию. И хоровод кружится в Ватикане, и на площади Испании ходят очень русские (хоть и в джинсах) парни, и гармоника пришлась бы им очень кстати.
В нынешнем году группа художников объединения «Галерея-КБ Комо» собирается с вернисажем в Нью-Йорк. В их составе будет и Люба Симанская.
«Новое Русское Слово», 29 января 1978 г.
Прим. ред. Любовь Львовна Симанская, урожд. Плесцова, скончалась в Риме 13 января 2002 г. и похоронена на некатолическом кладбище Тестаччо. В 2007 г. по почину ее сына Алексея при русском храме св. Екатерины прошла ее выставка.
Заметки с Венецианского Биеннале – «культура диссидентов»
- Но я отвечу, не робея:
- – Даме нельзя без чичисбея.
- Ходят по Венеции фашисты,
- К дамам они пристают.
На редкость дурацкая песня. Но вот пока ехал из Рима в Венецию, да и в самой Венеции все она крутилась – со своими бессмысленными словами и незатейливой мелодией. И ведь об этом городе написано столько, что хватит на небольшую библиотеку. А что до стихов – то одного Блока, наверное, вполне достаточно. А тут – фашисты почему-то пристают к дамам, и слово такое безобразное: чичисбей.
Дело было в Александре Галиче. Организаторы Венецианского биеннале, посвященного культуре диссидентов (15 ноября – 15 декабря 1977 года), выпустили книжку – песни бардов: Галича, немца Вольфа Бирмана и чеха Карела Крыла. И галичевский раздел почему-то открывала эта песня про Венецию. Галич к песне никакого отношения не имел и должен был всем объяснять это – вышла путаница. Но тем не менее – пел ее. Пел и объяснял, что слышал такую в ранней юности и запомнил даже. Запомнил, в основном, потому, что впервые получил представление, кто же такие фашисты – это те, кто пристают к женщинам. А поскольку он знал, что коммунисты против фашистов, то вполне логично заключил, что коммунисты – это как раз те, кто к женщинам не пристают.
Все это он говорил в последний день Сахаровских слушаний в Риме, после их закрытия – на своем концерте в русской библиотеке им. Гоголя. Он был страшно доволен: в библиотеке нас было человек тридцать, весьма камерно. И главное – не надо переводить песни, делать длинные, изматывающие интервалы, нужные для перевода. Все, кто был, русский язык, слава богу, знали.
В Венеции же народу было полно, зал Атенео Венето – битком. Сидели на полу, в проходах. Популярность Галича поразительна, и концерт этот – последний в его жизни концерт – проходил триумфально. Сейчас мне уже кажется, что и пел он как-то по-особенному, не как всегда. Хотя, конечно, это не так. Он чувствовал себя очень плохо. В тот день мы случайно встретились у моста Академии, гуляли по улицам и он говорил, что совсем расклеился, замучила простуда, что надо ехать домой, в Париж, отлеживаться. Это было 3 декабря. 15-го его не стало.
Сейчас я просматриваю свои записи, сделанные во время биеннале, и нахожу странную вещь. В Ca’ Giustinian проходила пресс-конференция Галича. Народу набралось изрядно, вопросов была масса. И первый: как ему пишется за границей, не отрезана ли для него Россия? Галич сказал, что прежде высылка писателя из России могла быть равна его смерти. Теперь – не так. Он, да и другие (Галич так и сказал: мы), не считают себя умершими для своего народа. Сегодня мир довольно мал: в нем сейчас удивительная степень взаимопроникновения, информация проходит, как бы ее не задерживали. Прежде всего, есть радио. И тут он заговорил о радио, о том, что обожает всякую электронную технику, что это увлечение просто переходит в психоз, что нет большего удовольствия для него, чем возня с магнитофоном, проигрывателем, приемником.
Черт знает что: знал он, что ли? Будто тогда, за 12 дней, с поразительной точностью предсказал, как и какая настигнет его смерть. Но вот что совершенно точно – умершим для своего народа Галич не будет никогда.
Галич рассказал, как летом 1977 года выступал в Пистойе. В день его приезда организатору концерта разворотили разрывными пулями оба бедра. Это были коммунисты из так называемой Лиги активного действия. А организатор был – рабочий.
Вообще политическая активность Галича удивительна. 5 декабря он пришел на посвященное защите прав человека небольшое заседание, оно даже не было объявлено в программе биеннале. Пришел уже совершенно больной, обиделся, что не пригласили (а там из Советского Союза были только двое), сказал, что хочет выступить. Говорил, как всегда, горячо.
Он был из тех, кто «высовывается». Это его слово. В первый раз Галич был в Италии в мае 77-го. Его пригласили во Флоренцию на конгресс «О свободе творчества». А когда приехал, то организаторы попросили во время конгресса не петь – чтобы не было неприятностей и конфликтов. Галич выступил на этом конгрессе и сказал, что он впервые в Италии, что итальянского не знает, но уже выучил несколько слов, пока ехал в поезде. Эти слова: «Опасно высовываться!» Он сказал, что он не министр и не политический деятель, что ему нельзя не высовываться. Даже, если это опасно.
У Галича есть песня, после которой ему запретили выступать в СССР. Песня – про вторжение войск в Чехословакию, про самосожжение Палаха, а точнее – про тех, кто отворачивается, затыкает уши, кому не ест глаза дым палаховского костра и спокойно спится под грохот советских танков. Песня называется «Я умываю руки». Это упражнение по грамматике: я умываю руки, ты умываешь руки, мы умываем руки… Галич эту пилатовскую формулу не признавал.
Пел он, конечно, в частных квартирах, в которые набивалось иногда по сотне человек, и большинство – с магнитофонами. И все, кто жил в конце 60-х – начале 70-х в России знают, что такое были песни Галича для нас.
Сам он говорит, что именно с тех пор, как запретили выступать, началась его счастливая жизнь. Ничего не боялся и говорил то, что думал.
- И пою, что хочу, и кричу,
- что хочу,
- И хожу в благодати, как
- нищий в обновке.
- Пусть движенья мои в этом
- платье неловки –
- Я себе его сам выбирал
- по плечу!
Здесь, на Западе, трудно представить, что такое состояние можно назвать счастьем. Всего-то – говорить, что думаешь. Да, только и всего.
В Восточной Европе для многих лучший подарок из-за границы – дощечка, на которой все написанное тут же, при желании, исчезает. Это похоже на идиотскую пантомиму: нормальные, не глухонемые люди переписываются, сидя в сантиметрах друг от друга. А говорить нельзя – квартира прослушивается. Не все квартиры, разумеется, но тех, кто высовывается и не умывает руки, – все.
Галич рассказывал, что ему ко дню рождения такую дощечку подарил Андрей Дмитриевич Сахаров, что это был королевский подарок. Дощечки эти буквально символ такой вот двойной жизни. И даже те, кто не боится за себя, боятся подвести другого и пишут, и стирают, пишут и стирают. Запад не знает о дощечках. Запад знает достаточно из книг – прежде всего, книг Солженицына – об ужасах лагерей, тюрем, арестов. Но вот как представить – что такое обыкновенная советская жизнь?
Об этом непонимании говорили и на биеннале. Оказывается, что диалог диссидентов с Западом нужно прояснять с самых азов. Ну, скажем, с самого слова «диссидент». Мы используем слова, понимая их по-разному. Об этом говорил Ефим Григорьевич Эткинд. И в самом деле: в СССР диссидентством, инакомыслием считается уже чисто эстетическое расхождение с установленной нормой. Длинные волосы, широкие брюки (а раньше – узкие брюки, а позже – женские брюки), верлибр вместо рифмованного стиха и т.д.
Бывшие кумиры блекнут: Евтушенко пропадает с утра до ночи на КамАЗе, Рождественский ведет на телевидении почему-то передачу «Документальный экран». Но лучшие-то – ушли к полной правде. Галич, популярный советский драматург и сценарист; Некрасов, чья книга «В окопах Сталинграда» есть у каждого фронтовика; опубликовавшийся – хоть и не слишком – Войнович. Другие. Их меньше, чем тех, кто свернул к светлому будущему и спецраспределителям. Но они – лучшие.
Да и плюс ко всему надо же решиться – так, как Солженицын, Войнович, Владимов. Это не для всех. (Бродский, когда на биеннале шел об этом всем – полуправде и полной правде – разговор, меланхолически заметил: «На всех стихиях человек – тиран, предатель или узник…» Ну да, на всех стихиях).
Виктор Некрасов назвал новый вид литературы – тех, кто решился – литературой пощечин. Лидия Чуковская – открытыми письмами – пощечина. Владимир Войнович – «Иванькиадой» – пощечина. Георгий Владимов – выходом из Союза писателей – пощечина. Гелий Снегирев – отказом от советского гражданства – пощечина.
Вообще, выступление Некрасова в Венеции было самым коротким и живым на литературном семинаре. Итальянские студенты-слависты, собравшиеся в зале, смотрели во все глаза. А Некрасов – обаятельный, неотразимый – читал вслух газету «Правда». Он просил присутствующих читать ее ежедневно и помнить, что огромная страна на Востоке получает этот набор каждый день и в гигантском количестве. Он зачитывал фантастические фразы, вроде: «Свобода творчества наших художников состоит не в том, что они могут творить свободнее, чем их коллеги на Западе…», и умолял объяснить ему, что это может означать.
Ему, Некрасову, было нелегко уезжать. Как нелегко было многим из тех, кто сидел теперь в Ala Napoleonica в великолепной Венеции: бывшему ссыльному Иосифу Бродскому, бывшему лагернику Андрею Синявскому, бывшему пациенту психушки Юрию Мальцеву.
Но они привезли с собой литературу. Русская литература живет и там, и тут. И современная литература Зарубежья, и придавленная самиздатская, и литература пощечин, и подцензурные эзоповы писания.
Все это невероятное сплетение героизма, взлетов, падений, компромиссов, трагедий, успехов именуется вполне академично – современная русская литература…
«Новое Русское Слово», 8 февраля 1978 г.
Какая дорога ведет к Риму?
В последние лет десять-двенадцать чтение античных источников для меня – одно из наибольших удовольствий. Правда, с наступлением гласности мой читательский кругозор сильно изменился: с одной стороны, страшно сузился, с другой – расширился необычайно. Устоявшиеся, освященные столетиями имена потеснили невиданные феномены. Вместо «Анналов» – «Независимая газета», вместо Валерия Катулла – Валерия Новодворская, вместо писем Плиния Младшего – письма читателей «Огонька».
Древняя история осталась фоном, время от времени выходя на сегодняшнюю поверхность в виде аналогий – то менее явных, то почти прямых. Но августовская российская смута заставила остро вспомнить о древнеримской «буре гражданского безумия», как назвал историк Анней Флор события I века до нашей эры.
Я достал с полки изрядно запылившиеся книги и поразился параллелям – не столько фактическим, сколько социально-психологическим. Временная дистанция в две тысячи лет позволяет взглянуть на нынешние дела, быть может, более трезво, чем из гущи происходящего. Да и с чем сравнивать события в Третьем Риме, как не с Первым? Конечно, исторические сопоставления ущербны: слишком многое меняется в жизни со временем. Но, вероятно, менее всего – человеческая природа, будь то личность или толпа.
Иосиф Бродский сказал о чтении античных авторов: «У читателя более или менее внимательного в конце концов возникает чувство, что мы – это они, с той лишь разницей, что они интереснее нас, и чем старше человек становится, тем неизбежней это отождествление себя с древними. Двадцатый век настал с точки зрения календаря: с точки зрения сознания, чем человек современнее, тем он древнее».
Не исключено, что взгляд на две тысячи лет назад окажется полезным и даже поучительным.
Я перечел великих историков, писавших о двух эпизодах самых запутанных брожений, о двух политических концепциях, двух моделях поведения, двух героях. Это Луций Корнелий Сулла и Гай Юлий Цезарь – в дни победы над политическими противниками внутри страны.
Итак, цитаты сокращенные, но точные. Первый – Плутарх:
Тут уж и самому недогадливому из римлян стало ясно, что произошла смена тиранов, а не падение тирании. Сулла по справедливости навлек на великую власть обвинение в том, что она не дает человеку сохранить свой прежний нрав, но делает его непостоянным, высокомерным и бесчеловечным.
Многие, у кого и дел-то с Суллой никаких не было, были уничтожены личными врагами, потому что, угождая своим приверженцам, он охотно разрешал и эти бесчинства.
Сулла тотчас составил список из восьмидесяти имен. Спустя день он включил в список еще двести двадцать человек, а на третий – опять по меньшей мере столько же. Списки составлялись не в одном Риме, но в каждом городе Италии.
Эти списки – знаменитые проскрипции, реестр врагов, новаторство, которое считает пагубным Веллей Патеркул:
Сулла был первым (о, если бы и последним!), кто подал пример проскрипций. Свирепствовали не только по отношению к тем, кто взялся за оружие, но и по отношению ко многим неповинным.
Надо сказать, к Сулле все историки относятся одинаково. Их свидетельства отличаются лишь мелкими деталями да стилем. Вот что пишет Аппиан:
Сулла заявил, что улучшит положение народа, если его будут слушаться, зато по отношению к своим врагам он не будет знать никакой пощады вплоть до причинения им самых крайних бедствий.
По всей Италии учреждены были жестокие суды, причем выдвигались разнообразные обвинения. Обвиняли или в том, что служили в войске, или в том, что вносили деньги или оказывали другие услуги, или вообще в том, что подавали советы, направленные против Суллы. Поводами к обвинению служили гостеприимство, дружба, дача и получение денег в ссуду. К суду привлекали даже за простую оказанную услугу или за компанию во время путешествия.
Пожинать плоды победы над внутренними врагами можно по-разному. Есть и другая модель, герой этого сюжета – Юлий Цезарь. О нем – Светоний:
Вражды у него ни к кому не было настолько прочной, чтобы он от нее не отказался с радостью при первом удобном случае. Валерий Катулл, по собственному признанию Цезаря, заклеймил его вечным клеймом в своих стишках, но когда поэт принес извинения, Цезарь в тот же день пригласил его к обеду.
Его умеренность и милосердие, как в ходе гражданской войны, так и после победы, были удивительны. Между тем как Помпей объявил своими врагами всех, кто не встанет на защиту республики, Цезарь провозгласил, что тех, кто воздержится и ни к кому не примкнет, он будет считать друзьями. Даже статуи Суллы и Помпея, разбитые народом, он приказал восстановить. Тем, кто о нем злобно говорил, он только посоветовал в собрании больше так не делать.
Примерно о том же пишет и Плутарх:
Всех друзей и близких Помпея, которые были взяты в плен, он привлек к себе и облагодетельствовал. Своим друзьям в Риме Цезарь писал, что в победе для него самое приятное и сладостное – возможность даровать спасение все новым из воевавших с ним граждан.
Цезарь не допустил, чтобы статуи Помпея лежали сброшенными с цоколя, но велел поставить их на прежнее место. По этому поводу Цицерон сказал, что Цезарь, восстановив статуи Помпея, утвердил свои собственные.
Эмоциональнее других историков – Веллей Патеркул:
Цезарь, вернувшись в Рим победителем, простил – во что трудно поверить – всех, кто поднял против него оружие.
Никогда еще не было победы более удивительной, величественной и славной, чем эта, когда родине не пришлось оплакивать ни одного гражданина, кроме павших на поле брани!
Тут речь идет о победе Цезаря над Помпеем в решающем сражении гражданской войны при Фарсале. Там после захвата вражеского лагеря первым приказом Цезаря было сжечь всю переписку и архив противника, чтобы не удлинять череду потенциальных жертв.
Знаменитая clementia – милосердие – была не проявлением мягкости характера, а политическим принципом. Сразу же после того, как Цезарь перешел Рубикон и тем решился на гражданскую войну, он помиловал городские власти Корфиния, оказавшего ему сопротивление. Правда, прощенные тут же отправились к Помпею, чтобы воевать с Цезарем, и его поступок кажется неразумным. Но Цезарь полагал, что стратегия важнее тактики, и весть о его милосердии шла по всей Италии, привлекая на его сторону колеблющихся и принося больше пользы, чем ликвидация нескольких десятков врагов.
Будучи не только полководцем и политиком, но и писателем и оратором, Юлий Цезарь оставил не одни поступки, но и слова, объясняющие концепцию милосердия, покоившуюся не на эмоции, а на логике, не на личных склонностях, а на общественном служении. Вот что – в изложении историка Саллюстия – он сказал, выступая за помилование участников заговора Катилины, известной в истории попытки государственного переворота:
Всем людям, отцы-сенаторы, обсуждающим дело сомнительное, следует быть свободными от чувства ненависти, дружбы, гнева, а также жалости. Ум человека не легко видит правду, когда ему препятствуют эти чувства, и никто не руководствовался одновременно и сильным желанием, и пользой. Большинство сенаторов сокрушались о бедствиях нашего государства. Но к чему клонились их речи? К тому ли, чтобы настроить вас против заговора? Разумеется, кого не взволновало столь тяжкое и жестокое преступление, того воспламенит речь! Но одним дозволено одно, другим другое, отцы-сенаторы! С наиболее высокой судьбой сопряжена наименьшая свобода: таким людям нельзя ни выказывать свое расположение, ни ненавидеть, а более всего – предаваться гневу. Что у других людей называют вспыльчивостью, то у облеченных властью именуют высокомерием и жестокостью. Сам я думаю так, отцы-сенаторы: никакая казнь не искупит преступления. Но большинство людей помнит только развязку и по отношению к нечестивцам, забыв об их злодеянии, подробно рассуждает только о постигшей их каре, если она была суровее обычной.
Прямого урока из этого краткого цитатника, пожалуй, не извлечешь, особенно если вспомнить и то, что Сулла закончил свои дни на пенсии, а Цезарь известно как, но обязательно и то, на какие места расставила этих деятелей история.
Оттого и не стоит соблазняться наглядностью аналогий и легкостью их комментария, а ограничиваться самими первоисточниками, что все исторические параллели ущербны. Однако вспоминать о них небесполезно: хотя бы затем, чтобы немного успокоиться, лишний раз убедившись, что все уже было, что человеческая природа изменилась ничтожно, что все дороги по-прежнему ведут в Рим, и XX век настал только с точки зрения календаря.
Сегодняшний Данте
Недавно городской совет Флоренции проголосовал за отмену приговора, вынесенного Данте Алигьери в 1302 году. Его тогда приговорили к штрафу в пять тысяч флоринов, конфискации имущества и двухлетнему изгнанию из Тосканы. Совершенно в нынешнем духе формально он был признан виновным в экономических преступлениях, но в действительности за этим стояли политические мотивы. Данте в это время находился в отъезде и для уплаты штрафа обязан был явиться во Флоренцию в течение трех дней, а поскольку не сделал этого, ему вынесли смертный приговор – «сожжение огнем до смерти». Двухлетнее изгнание тридцатишестилетнего поэта превратилось в пожизненное. В 1315 году объявили амнистию, но для этого надо было публично покаяться в церкви Сан-Джованни. Сохранилось гордое письмо Данте, в котором он не просто отказывается от этой процедуры, но и обосновывает позицию поэта-изгнанника: «Неужели я не найду на свете уголка, где можно любоваться солнцем и звездами? Или не смогу под каким угодно небом доискиваться до сладчайших истин?..» В течение двух десятилетий Данте жил в разных городах Италии и умер в 1321 году в Равенне, где и похоронен.
Можно отнестись к нынешнему решению флорентийского совета как к курьезу (что и сделали большинство средств информации). Но есть три обстоятельства, которые побуждают подойти к делу серьезно: социально-нравственное, социально-практическое, социально-культурное.
Социально-нравственный аспект заключается в том, что у преступлений против человечности нет срока давности. А смертный приговор выдающемуся поэту – такое преступление. Обречь на изгнание высшего носителя языка – значит нанести удар по нервному центру нации. Так было со всеми изгнанниками – от Овидия до Бродского, и забывать об этом нельзя.
Социально-практический мотив: Флоренция – это туризм, а своим главным представителем в мире город назначил именно Данте. Неохватен перечень гениев, которых породила или приютила Флоренция. Но первенство Данте – ее собственный выбор. Дома увешаны каменными табличками с цитатами из «Божественной комедии» и «Новой жизни». Сохраняется Дом Данте на виа Санта-Маргерита. В трех десятках метров – церквушка Санта-Маргерита-дей-Черки, где Данте впервые увидел Беатриче.
Переполненная туристами Флоренция нуждается в туристе хоть сколько-нибудь образованном, который будет отходить от протоптанных маршрутов, расширять диапазон. Для этого следует время от времени выносить на публику исторические события, актуализируя их.
Социально-культурное обстоятельство – животрепещущая современность Данте.
Вольтер язвительно заметил: «Слава Данте будет вечной, потому что его никто никогда не читает». Действительно, Данте – в числе тех гениев, которых уважают, не приближаясь: от Гомера до Джойса. Правда, «Илиаду» и «Одиссею» успешно экранизировали. «Божественную комедию» – пока нет. Можно вообразить себе фильмы «Ад» Алексея Германа, «Чистилище» Лукино Висконти, «Рай» Федерико Феллини, однако не случилось. Остается – читать, но даже и без чтения подвергаться этой проникающей силе. В истории культуры ничуть не менее важно, чем непосредственное воздействие, – опосредованное влияние.
Данте был в небрежении в XVII, XVIII и отчасти XIX веках: эпоха Просвещения отвращала взор от бездн «Ада» – они казались чрезмерными. Должен был наступить ХХ век, чтобы бездны выравнялись с газетными репортажами. Говоря о русской литературе, без Данте немыслимы ни Мандельштам, ни Заболоцкий, ни Ахматова, ни Бродский, а без них – все столетие. Поразительны и показательны даты издания превосходного русского перевода «Божественной комедии» Михаила Лозинского: «Ад» – 1939-й, «Чистилище» – 1944-й, «Рай» – 1945 год.
Помимо «Божественной комедии», у Данте есть еще одно величайшее создание – Беатриче.
В «Новой жизни» Данте не пишет ничего об обстоятельствах их встречи, но временных признаков – много. Поэт был одержим числами, и на их основании определили, что Беатриче было восемь лет четыре месяца, Данте – на год больше. Следующий раз они встретились через девять лет. Были слегка светски знакомы. Все их отношения – чистая, причем односторонняя, платоника. Из комментария Джованни Боккаччо мы знаем, что Беатриче, дочь зажиточного флорентийца Фолько Портинари, в двадцать лет вышла замуж за некоего Симоне дей Барди, а в двадцать три года умерла. С тех пор семь столетий живет символом любви.
ПЕРВЫЙ УРОК: диалектический переход количества в качество. Если говорить увлеченно, много и красиво, то – даже если не сказано ничего конкретного – образ сам собою материализуется. Срабатывает психологическая убедительность.
УРОК ВТОРОЙ: описание героини без произнесения слова о ней. Все, что сообщает Данте о Беатриче: в восемь лет она была в красном платье, в семнадцать – в белом. И все. А образ есть. Почему? Да потому, что Данте описывает, какое впечатление она производит на окружающих – прежде всего на него самого. Прием оказывается плодотворным. О блоковской «Незнакомке» говорится: «девичий стан, шелками схваченный», «в кольцах узкая рука», «очи синие бездонные». Все. Вполне достаточно. Когда она идет на фоне пьяных клиентов и сонных лакеев ресторана в Озерках, мы видим ее. О Брет Эшли из романа Хемингуэя «Фиеста» только и сказано, что ее фигура напоминала обводы гоночной яхты. И еще – что она коротко стрижена. Но все мужские персонажи романа в нее влюблены, и то, как она воздействует на мужчин, рисует ее с высочайшей выразительностью.
УРОК ТРЕТИЙ: идеал должен быть недостижим. Боккаччо жаловался приятелю в письме, что какая-то красавица не отвечает на его любовный порыв, потому что хочет, чтобы он продолжал писать ей стихи. Женщина понимала, что как только уступит, стихов больше не дождется.
УРОК ЧЕТВЕРТЫЙ, самый важный: в художественном изображении любви все зависит от субъекта, а не от объекта. Об адресате пушкинского «Я помню чудное мгновенье…» все известно. Анна Петровна Керн, урожденная Полторацкая, в неполные семнадцать лет отдана замуж за генерала Керна, на тридцать пять лет ее старше. «Мимолетное виденье» мелькнуло перед Пушкиным за шесть лет до стихотворения, написанного летом 1825 года, когда Анна Керн жила несколько недель в Тригорском, регулярно общаясь с поэтом. Пушкин знал, что у нее был любовник, его знакомый помещик Родзянко, и еще в декабре 1824-го вполне цинично расспрашивал того, какова Анна Петровна: «Говорят, она премиленькая вещь». Это к вопросу о «гении чистой красоты». Потом, когда Анна Петровна окончательно ушла от мужа, у нее в Петербурге были романы – среди прочих и с Пушкиным. Об этой связи, действительно мимолетной, поэт откровенно и нецензурно доложил в письме своему другу Соболевскому. Все это интересно и даже важно как факты биографии выдающегося человека А. С. Пушкина. Но в томике с надписью на обложке «А. С. Пушкин» существует великое стихотворение о «гении чистой красоты», от которого трепещут сердца поколений.
Это все – безотказно действующие матрицы «Новой жизни». А весь ХХ век – «Божественная комедия». Очень современный поэт Данте.
Василий Розанов на римской Пасхе
Пасху 1901 года Василий Розанов встретил в Риме (речь о западнохристианской Пасхе). Случай этот – не частный, даже не сугубо литературный, а важный общественный.
В «Итальянских впечатлениях» В.В. Розанова ярко проявилась абсолютная внутренняя свобода автора и поразительная писательская честность, когда правда жизни важнее любой самой драгоценной идеи.
Василий Розанов, написавший, что «кроме русских, единственно и исключительно русских, мне вообще никто не нужен, не мил и не интересен», нужды в загранице, похоже, не испытывал вообще. Даже путешествие по входившей в состав Российской империи Прибалтике для сорокатрехлетнего писателя стало экзотикой: «Нужно заметить, Бог так устраивал мою жизнь, что я не только не выезжал из любимого отечества, но никогда и не подъезжал близко к его границам». Тут нет ксенофобии, но нет и досады. Есть смирение перед высшей волей, но все же с оттенком удовлетворения.
Истоки подобного чувства – в распространенном (по сей день) убеждении: за рубежом настоящих, глубинных проблем нет. Эта уверенность и сформировала особый жанр русского путешествия, развивавшийся как роман испытания, как аллегория. Судьба заграницы – быть метафорой России, и путевые заметки эмоцию явно предпочитают информации. Русский путешественник видит то, что хочет видеть, а перед его умственным взором одна страна – родина. Как правило, ему чужд космополитический рационализм Монтеня: «Я не нахожу мой родной воздух самым живительным на всем свете». Когда Петр Великий «в Европу прорубил окно», наибольший интерес как раз окно и вызвало. Были бы стекла не биты, а что за ними – во-первых, не важно, а во-вторых, заранее известно… И из всех вопросов внешних сношений по-настоящему волнует тот, что пародийно задан Венедиктом Ерофеевым: «Где больше ценят русского человека, по ту или по эту сторону Пиренеев?»
Обычно путешественник возвращался с тем, с чем и уезжал: с противопоставлением западного материализма и русской духовности… Примечательно, что, разделяя отвращение Константина Леонтьева к «среднему европейцу», Розанов невольно помещает этот тип в декорации романского мира: «Ездят повеселиться в Монако, отдохнуть на Ривьере, покупают картинки “под Рафаэля”». А средоточием европейской культуры для него, как и для многих деятелей российского Серебряного века, была завершившая греко-римский путь Италия. Италии и предстояло рассчитываться за весь западный мир.
И прежде всего – за свою религию, ибо: «Чем была бы Европа без католицизма?» Самому потрогать Ватикан, так же, как он плотоядно трогал историю пальцами страстного нумизмата, – вот зачем Василий Розанов впервые в 45 лет все-таки отправился по-настоящему за границу.
Как и положено русскому путешественнику, он повез с собой Россию, рассыпая по пути ее крохи с назойливой щедростью: Салерно – «как наш Брянск» (а речь только о размерах), собор – «современник нашему Ярославу Мудрому» (а речь только о сроках), к месту и не к месту вспоминая Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского. Однако даже сейчас книгой можно пользоваться как путеводителем – столько в ней метких и остроумных замечаний о народе и об искусстве.
Гимназический учитель, Розанов преподавал читателю Италию, попутно учась сам. Выразительно сказано о Рафаэле: «Робинзон, свободно распоряжающийся на неизвестном острове!» О древнеримском миросозерцании: «Какое прекрасное начало религии у римлян: самая ранняя богиня – домашнего очага. Мы, христиане, решительно не знаем, к чему приткнуть свой домашний очаг». По поводу статуи Марка Аврелия: «Конь, движущийся в мраморе или бронзе, всегда живее человека, на нем сидящего, и похож на туза, который бьет семерку». Отчего в современной культуре нет красивых лиц: «Да потому, что душа залила тело».
Другое дело, что никакой общей искусствоведческой либо культурфилософской концепции у Розанова нет. Противоречивейший из русских писателей, опровергающий себя в пределах одной страницы, он таков и в «Итальянских впечатлениях». По любой затронутой проблеме легко набрать столько же «за», сколько «против». Правда, здесь (что для него редкость) Розанов попытался исходить из сверхзадачи – противопоставить католицизму православие с запланированным результатом – и оказался побежден своей собственной живой мыслью и чужой живой жизнью. Можно сказать и по-другому: Италия победила идеологию.
Слишком интеллектуально и эмоционально честен был Розанов, чтобы не прийти в искренний, истовый восторг от увиденного. Он – квинтэссенция русского человека, оттого помянутое русское «духовное превосходство» проявляется даже на пике восхищения Италией. Увлекательно следить за этими оговорками, словно случайными, но на деле (по Фрейду) именно корневыми.
Так, он поражен подвижностью итальянцев – транспорта, походки, мимики: «Я не видал апатичного, застывшего, тупого во взгляде лица, каких так много у нас на севере». И обобщающий образ: «У нас, в России, вся жизнь точно часовая стрелка; здесь, в Италии, – все точно секундная стрелка. Она, конечно, без важности…» В этом вводном слове «конечно» – вся суть розановского взгляда на иной мир: в осознанных и продуманных выводах звучит почтительное признание чужого, но из глубин души рвется свое.
Розанов борется. Сам с собой, разумеется. С собственной презумпцией. Ничего не выходит с идеей Италии как мертвой музейной пустыни. Впечатления – не по кускам, а в целом – единый торжествующий вопль: «Необыкновенный гений, необыкновенная изобретательность, необыкновенная подвижность». Видно, что более всего поразило Розанова: на все лады повторяемое – живость и, главное, жизнеспособность католичества. Нужно было мужество, чтоб написать о Ватикане – с осуждением даже, но с уважением и признанием мощи: «Там есть бесконечная дисциплина. Но это дисциплина не мертвая, а живая».
Не сами по себе подвижность и активность религии волнуют Розанова, а то, что по этой причине так велик приток художественных талантов и оттого так естественны в храме и музыка, и живопись, и образы животных. И хотя он твердит, словно заклиная, о несовместимости западного и восточного христианства, перед великим искусством расхождения стушевываются. А еще более – перед осязаемой жизнью, пережитым «чувством земного шара, особым космическим чувством».
Может быть, именно в католической Италии православный Розанов остро ощутил себя христианином вообще. Он коснулся христианства «пальцами» на сцене его непосредственного действия – в соборе и на улице – и испытал чувство теплой близости вместе с ощущением исторической взаимосвязанности, не конкретной – а всего со всем. Ревнивый испытующий взгляд оказался плодотворным.
(итал. текст: I Russi e L’Italia [«Русские и Италия»] / a cura di Vittorio Strada. Milano: Banco Ambrosiano Veneto – Libri Scheiwiller, 1995).
Катулл
Чтение античных авторов – занятие и увлекательное, и весьма поучительное. Нельзя не задуматься, как так вышло, что мы – то есть человечество – вот уже две – две с половиной тысячи лет только догоняем и догоняем. В самом деле, за что ни возьмись – архитектура, театр, литература, философия – всюду шедевры греков и римлян не превзойти. Ни о каком прогрессе речи нет. Еще повезло Новому времени, что не сохранились античная живопись и музыка, можно приосаниться.
Нагляднее всего картина в словесности. Ничего глубже Софокла, тоньше Платона, трагичнее Еврипида, смешнее Аристофана, изящнее Овидия, значительнее Марка Аврелия – нет в мировой литературе. И вершина любовной лирики – тоже там, в древности. Это Гай Валерий Катулл Веронский. Или просто – Катулл.
Он родился где-то возле Вероны, там провел молодость. На берегу озера Гарда, в прелестном местечке Сирмионе сохранились руины древнеримской виллы. Ее принято считать остатками загородного дома Катулла. Красота вокруг такая, что кажется понятным, почему выросший тут человек писал такие прекрасные стихи. Хотя это, конечно, ерунда – слишком простой ход мысли. Но в двух шагах оттуда – Верона, и, может, не случайно Шекспир в город Катулла поместил самое трогательное повествование о любви – трагедию о Ромео и Джульетте.
Из Вероны Катулл уехал в Рим, где и прожил до конца своей короткой жизни – он скончался чуть старше 30 лет. В Риме примкнул к литературному кружку Лициния Кальва. Они не были профессиональными литераторами – богатые молодые люди с поэтическими наклонностями. К словесности относились несерьезно, никак не ощущая себя властителями дум. Стихи называли «версикули» – «стишки». Эта легкость видна в сочинениях Катулла. Эта легкость завораживает до сих пор. Полная свобода самовыражения и позволила Катуллу так непринужденно говорить о самом важном в жизни.
Его лучшие любовные стихи обращены к Лесбии – под этим именем выведена Клодия, жена сенатора и наместника Предальпийской Галлии Метелла и сестра трибуна Клодия. Можно проследить, как Катулл влюбляется, ухаживает, овладевает, ревнует, злится, ненавидит, презирает, разрывает связь. Всего две дюжины стихотворений посвящены Лесбии – но это энциклопедия любви.
Современное нам понимание любви – неразделенно возвышенной и телесной – во многом от него. Пушкин, с его полнокровным жизнелюбием, гораздо больше обязан Катуллу, чем Данте или Петрарке.
В наше время есть выразительнейший пример катулловской линии любовной лирики. Это Иосиф Бродский. 60 стихотворений посвятил он М.Б. – Марине Басмановой. В последнем, 89-го года, есть строки: «Четверть века назад ты питала пристрастье к люля и к финикам, / рисовала тушью в блокноте, немножко пела, / развлекалась со мной; но потом сошлась с инженером-химиком / и судя по письмам, чудовищно поглупела». Это, конечно же, Катулл прощается с Лесбией, и эти свирепые строчки вовсе не перечеркивают, а диковинным образом обогащают те пылкие и нежные признания, которые были прежде. Это ведь он, Катулл, написал: «Ненависть – и любовь. Как можно их чувствовать вместе? / Как – не знаю, а сам крестную муку терплю».
Наряд карнавала
Желание раздеться и желание одеться – два главных искушения человека и человечества.
Первый соблазн ярче всего явлен в Рио-де-Жанейро, второй – в Венеции. Если Рио – самый раздетый город планеты, то Венеция – самый одетый. Нет, она не опережает по богатству и многообразию нарядов другие города Северной Италии. Боже упаси обидеть, например, Милан – с его душераздирающей (имеется в виду та часть души, которая ближе к карману) улицей Монтенаполеоне. Витрины музейной красоты и почти музейной недоступности, где в последние два-три года появились надписи на нашем родном языке, и не только объяснимые деловые, вроде: «Принимаем наличные», но и трогательные: «Заходите, можно просто посмотреть». Можно и даже нужно – чтобы, как выражаются модные женщины, наметать глаз, то есть понять, что и как нынче носят. Это необходимо – потому что без таких минимальных знаний и зрительных навыков не насладиться в полной мере уличной жизнью североитальянских городов.
Дивное зрелище являет собой эта толпа, в особенности зимняя. Летняя – парадоксальным образом ярче, но монотоннее: на тех клочках, которые составляют одежду, не развернуться фантазии. Зимой же многовариантность покроев шуб, пальто, плащей, фасонов туфель, ботинок, сапог – ошеломляет. Общее здесь лишь одно – гармония и адекватность. У меня не хватит смелости утверждать, что женщины Северной Италии красивее других, но то, что они элегантнее и привлекательнее – готов отстаивать с тупой отвагой или более современно: в суде любой инстанции. Пусть ребята в мантиях просто выйдут на миланскую виа Данте или на флорентийскую виа Торнабуони – вопрос будет решен.
Венеция не превосходит нарядами богатые соседние города. Не шикарнее и не изысканнее упомянутых улиц набережная Ривадельи-Скьявони (по иронии истории, в переводе – Славянская набережная). Но нет города в мире, где бы одежда стала живой мифологией – благодаря карнавалу. Карнавал – удвоение наряда. Точнее – одежда в квадрате.
В XVIII веке карнавальная жизнь продолжалась месяцами, и около двухсот дней в году венецианцам позволено было носить маскарадный костюм. Сейчас этот праздник длится – правда, с бешеной интенсивностью – всего десять дней. Но именно традиция карнавала, выпадающего – в зависимости от Пасхи – на февраль или начало марта, заложила отношение к зимнему наряду. А поскольку истинный венецианец к самому карнавалу относится пренебрежительно, как к туристскому шоу (тем не менее великолепному!), то старательнее всего Венеция одевается к Рождеству и Новому году. Лучшие витрины на Мерчерии – в декабре. На рынке Риальто в предрождественские дни глазеешь вовсе не на бесконечное разнообразие даров земли и моря, а на тех, кто складывает эти дары в сумки. На периферии памяти маячат покупки в купальниках, но покупки в шубах их затмевают – и это правильное качание маятника.
Два главных соблазна – желание раздеться и желание одеться.
Первая страсть определяет демографическую картину мира, а демография – в конечном счете, важнейшая из наук, имеющая отношение к повседневному бытию: чем гуще селится человек – тем хуже живет.
Второй соблазн всегда был движущей силой цивилизации: не ради хлеба насущного воевал и плавал мужчина, а чтобы украсить себя и своих женщин. Что искали навигаторы и землепроходцы, совершая великие открытия? Пряности, золото, драгоценные камни, меха. Не кукурузу же. Неистребимое влечение к излишествам правит миром.
Цивилизацию следует отсчитывать с того момента, когда наш непричесанный и неумытый предок, руководствуясь бесполезными эстетическими соображениями, подрезал наброшенную на себя длинную теплую шкуру каменным ножом (так подлинное искусство кино началось не со съемки, а с монтажа). Крой шкуры – знак самоощущения личности. Цивилизация и есть одежда: голый человек покрывал себя слой за слоем религией, моралью, правом, культурой, этикетом, нарядами. Одевался.
Никто никогда в истории не одевался так тщательно и с таким осознанием важности наряда, как венецианцы. И наивенецианнейший из всех – Джакомо Казанова.
Казанова оказался так задрапирован предрассудками, что только в последнее время усилиями историков, культурологов, литературоведов превратился из Луки Мудищева в философа и писателя, автора увлекательной и мудрой книги мемуаров – «История моей жизни». Он и был философом жизни, утверждавшим, что потерял лишь один день, когда после маскарада в Санкт-Петербурге в декабре 1764 года проспал 27 часов подряд. Казанова довел до высочайшего мастерства природный дар итальянцев – умение извлекать смысл не из жизни вообще, а из каждого конкретного дня.
В таком высоком ремесле значимо все. Одевался Казанова продуманно, рассчитывая, какое впечатление следует произвести. Он так увлечен идеей наряда, что для него и презерватив – одежда: «Маленький костюм из очень тонкой и прозрачной кожи, длиной в восемь дюймов и без выходного отверстия, который завязывался на входе узкой розовой ленточкой».
В «Истории моей жизни» все мало-мальски существенные персонажи – одеты. То есть Казанова отмечает их наряд, тем самым помещая в точный социально-психологический контекст. Как писал на сто лет позже Оскар Уайльд, только очень поверхностные люди не судят по внешности. Естественно, тщательнее всего одет герой, он же автор мемуаров. Сохранилась расписка 1760 года: Казанова заложил кое-что из своей одежды – бархат, горностай, атлас, гипюр, кружева.
Так обстоятельно и подлинно одевается нынешняя Венеция. Кожа, мех, шелк, парча – зимний город даже в самые синтетические годы не числил химию среди почитаемых дисциплин. Другое дело – география: несколько столетий Венеция была центром мира и сюда стекалось все, что украшало кабинеты Евгениев Онегиных всех времен.
Сейчас сюда стекаются смотреть на то, что осталось. Не надо преуменьшать: осталось очень много. Удваивающая все вода лагуны и каналов. Удвоенные водой дворцы, храмы, мосты. Мини-музеи мирового класса в каждой церкви. Немыслимая для большого туристского города тишина. Прекрасные овалы женских лиц. Изысканность осанок и облачений. Благородство толпы – что вообще-то есть парадокс, оксюморон, вроде черного снега.
Снега в новогодней Венеции ждать не стоит, а вот нарядная новогодняя толпа здесь празднична и сдержанна – тоже парадокс. К одиннадцати заполняется Пьяцетта – площадь, соединяющая Сан-Марко с набережной. Здесь рассаживаются на ступенях Библиотеки Марчиана, под колоннадой Дворца дожей, на сложенных в штабеля деревянных мостках, припасенных на случай подъема воды. Шампанское ударяет с первым залпом фейерверка, равного которому по веселой изобретательности не сыскать.
В последние годы толпа на Сан-Марко с демографической неизбежностью становится все гуще, и я уже присмотрел другое местечко, откуда все выглядит не хуже, а народу меньше – по понятным мотивам не скажу где. Там мы с друзьями встречали 1999-й и 2000-й, там я подвергся объятиям местного населения с криками «Санта Клаус, спасибо за подарки!» Такая судьба: к востоку от Карпат обзывают Карлом Марксом, к западу – Санта Клаусом. Хорош выбор.
«Свои» местечки найдутся у каждого, кто бывал в Венеции больше одного раза: таков этот прихотливый и никогда никому не раскрывающийся до конца город – потому и для всякого свой. Опытный путник не станет толкаться по избитому маршруту Сан-Марко – Риальто и оттого увидит настоящих венецианцев. В городе без наземного транспорта (нет даже велосипедов), где нельзя плюхнуться на сиденье такси и показать адрес на бумажке, конечно, боязно отходить от проторенных троп. Привычно только на острове Лидо, прославленном пляжами, казино, «Смертью в Венеции», кинофестивалем. Но это Венеция ненастоящая: здесь ездят машины, ходят автобусы. Необходимо уйти в глубины районов Кастелло, Канареджио, особенно Дорсодуро, чтобы взглянуть на город и горожан, хоть бегло понять – каков их облик. Облик неслучаен и выношен. За каждым нарядом – века ритуала, то, что мы неуклюже называем соответствием формы содержанию.
В основе карнавала – наряды XVI и XVIII веков. Их присутствие нарастает драматически. Если вначале глаз выхватывает там и здесь отдельные фигуры в костюмах и масках, то к концу первой недели, зайдя в ресторанную уборную, обнаруживаешь у соседнего писсуара роскошного маркиза. На остановке пароходика-вапоретто щебечет группа виконтесс, фотографируя друг друга в ожидании общественного транспорта. Постепенно, особенно если возьмешь напрокат широкий плащ и хотя бы простую черно-белую маску-бауту и впишешься в праздничную суету, начинает казаться, что так и должно быть, так правильно жить. Только для себя. Для всех – анонимно. Как это называется – отчуждение, одиночество в толпе? Как бы ни называлось, венецианцы такую правду осознали раньше других.
Когда венецианская инквизиция пришла в 1755 году арестовать Казанову за вольнодумство, он долго и тщательно совершал туалет, будучи уверен, что красиво и дорого одетый человек не может выглядеть виновным. Однако инквизиторы оказались лишенными эстетического чувства, и 15 месяцев Казанова просидел в Пьомби – страшной тюрьме под свинцовой крышей Дворца дожей. И вот тут – лучший в «Истории моей жизни» пассаж. Казанова совершает невозможное – побег из Пьомби: героический поступок, который для любого другого стал бы содержанием и рассказом всей жизни. Совершив акробатические трюки и атлетические подвиги, изодранный, окровавленный Казанова вырывается на волю, наскоро переодевается и выходит к лагуне: свобода! «Повязки, выделявшиеся на коленях, портили все изящество моей фигуры» Кто еще в мире способен на такую фразу?!
Казанова не хвастлив – слишком красноречива сама его жизнь. Оттого так заметно выделяется трогательное самодовольство, с которым он рассказывает, как дарил своим любовницам наряды, сам выбирая их: «В размерах я не ошибся ни разу».
Так вот и хотелось бы прожить – чтобы не было мучительно больно за ошибки в размерах. Прежде всего – в своих собственных. Я говорю, разумеется, о масштабе личности.
Идеальный город
Сейчас это словосочетание идейно разболталось. Время от времени появляются списки лучших городов мира, и первая десятка объявляется идеальной. И каждый раз – претензии: «да в этом Цюрихе от скуки помрешь», «ну, Торонто – Нью-Йорк для бедных». И тому подобное.
А спорить не надо. Идеальный город есть. Всего один на свете. Зафиксированный, зарегистрированный – терминологическая истина.
Это Пиенца. Находится в Тоскане, в 50 километрах к югу от Сиены, в 12 километрах к западу от Монтепульчано.
Сиену представлять не надо: по крайней мере, площадь – по моей, не подтвержденной Книгой рекордов Гиннесса, оценке – прекраснейшая в мире, не говоря об остальных достоинствах города.
Кто не был в Монтепульчано, съездить надо, хотя небезопасно. Все 13 тысяч населения заняты продажей окрестных вин – Rosso di Montepulciano и Vino Nobile di Montepulciano. Нормальное времяпрепровождение в этом городке, насаженном на вершину горы, – с утра до обеда бродить по дегустациям, после обеда выспаться и снова бродить по дегустациям, не охваченным до обеда. Питейно-торговых точек тренированному туристу хватит дня на три.
В Пиенце тоже торгуют тем же дивным вином и поят им повсюду. Плюс здесь еще своя духовная радость – овечий сыр. Pecorino из Пиенцы – может быть, самый знаменитый в Италии. Лучший – в пепле, похожий на грязный булыжник в углу двора. В местных кабачках пекорино подают изобретательно: с медом, каштанами, мармеладом; запекают, жарят на манер сулугуни. Берусь рекомендовать на закуску под чуть (совсем чуть) охлажденное красное – пекорино с медом и pignoli, орешками пиний, теми же кедровыми. В общем, заметно, как мы приближаемся к идеалу.
В 1405 году в этой деревеньке (здесь и сейчас 2300 жителей), которая тогда называлась Корсиньяно, родился Энео Сильвио Пикколомини, один из образованнейших людей раннего Возрождения. В 1458 году он стал папой Пием II, а уже в следующем году поручил архитектору Бернардо Росселино превратить родную деревню в идеальный город.
Надо повторить: это было четкое понятие. Термин. Идеальный город призван был воспитывать нравы и чувства, исправлять души и умы. В трактатах той эпохи рекомендовалось, например, устраивать площади и перекрестки так, чтобы молодые были под постоянным наблюдением старших. Одни резвятся в открытом пространстве, другие чинно беседуют в колоннаде. Переписи показывают, что половина мужского населения итальянских городов XV века – люди до сорока лет, подавляющее большинство из них холостые. Альберти трогательно пишет: «Играющую и состязающуюся молодежь присутствие отцов отвратит от всякого беспутства и шалостей». Ага, щаз. Футбола, допустим, еще не было, но перечтем Шекспира: с чего сцепились Монтекки и Капулетти?
Идеальный город изображали и проектировали многие: Леон Баттиста Альберти, Филарете, Лючано Лаурана, великий Пьеро делла Франческа. Но все это осталось на бумаге. В камне попытка сделана была лишь одна – Пиенца.
Когда приезжаешь сюда, как бы ни готовился заранее, цепенеешь от миниатюрности идеала. Выходящие на главную площадь кафедральный собор и три палаццо – обычного ренессансного размера. Но сама площадь – двор. Едва не дворик. И вдруг понимаешь – да так оно и есть: это же итальянский сад камней эпохи Возрождения. Для себя, для эстетическо-интеллектуальной утехи. Там, вне, – черт знает что с безобразиями и жестокостями, а у нас тут, внутри, идеал. Вышло? Нет, конечно, и не могло. Но был замах – и остался на века в камне, золотистом песчанике Пиенцы.
Песни левантийской Ривьеры
В Риомаджоре уже к концу второго дня пребывания начинаешь ощущать себя старожилом. В газетном киоске, не спрашивая, протягивают миланскую «Коррьере делла сера», хозяин зеленной лавки говорит: «Сегодня белые грибы еще лучше, чем вчера», бармен тянется за бутылкой артишоковой настойки «Чинар», едва ты появляешься в дверях кафе.
Почувствовать себя не туристом, а жителем хоть на время – это возможно только в маленьких итальянских городках и деревушках, которые конечно же давно существуют не столько рыбной ловлей, сколько туризмом, но сохраняют при этом свой патриархальный уклад. В отличие от больших курортных мест, здесь живут для себя, и пришелец с этим должен считаться – с этим стоит считаться, потому что за таким переживанием сюда и едешь. Хрестоматийная курортная жизнь по соседству, но в стороне.
Итальянская Ривьера, равная французскому Лазурному Берегу по природной красоте и превосходящая его в скромном очаровании, уступает в респектабельности и отшлифованности – даже самое фешенебельное из здешних курортных мест, Сан-Ремо с его пышным цветочным рынком, со знаменитым песенным фестивалем. И по убывающей дальше на восток – Алассио, Ноли, Савона, вплоть до Генуи.
Генуя – вопрос отдельный, это не курорт, хотя пляжи имеются. Столица Лигурии – один из главных в европейской истории городов с грандиозным прошлым и невыдающимся настоящим. Непомерная, на грани безумия, роскошь генуэзских церковных интерьеров – почти истерическое напоминание о расцвете, вроде не по возрасту яркого наряда старухи. Великий порт, родивший Колумба и диктовавший цены всему западному миру, сейчас гордится разве что самым большим в Европе аквариумом. Интереснее всего в городе каруджи – узкие кривые улочки, причудливо переплетенные на широком склоне от центра вниз – к рынку, к набережной, к морю. Такое встречается еще только в Лиссабоне и Неаполе.
Но мы движемся дальше за Геную, на восток, по берегу Лигурийского моря. Там тесно друг к другу разместились: в горах над водой Рапалло, у воды – Санта-Маргерита-Лигуре, откуда одна из самых живописных дорог Италии ведет к Портофино. Здесь пик пришелся на 30-е годы, когда было модно приезжать сюда из Европы и Америки с мольбертами, и виды Портофино тиражировались по миру. В конце 50-х отмечена вспышка активности, вдохновленная Элизабет Тейлор. Сейчас Портофино с пастельного цвета домами, изысканно облезлой штукатуркой, пологими зелеными холмами, виллами в кипарисах полон обаяния и той чисто итальянской прелести, которая порождается подлинностью и неприглаженностью. Свежих масляных красок сюда не завозят.
Мы уже в той части Итальянской Ривьеры, которая именуется левантийской – от Генуи до Специи. Она дичее и первозданнее. Тут нет многоэтажных отелей, собьешься с ног в поисках казино и не развернешься на маленьких каменистых пляжах. Берег здесь крут и сложен из дивной красоты слоистого камня – железнодорожный туннель в нем пробили, но и все. Километрах в шестидесяти за Портофино начинаются места, куда пробраться можно только поездом или – как пробирались веками – морем. Это – Чинкве-Терре.
Автомобильная дорога проходит высоко в горах, и, разумеется, можно приехать в эти края и так, спуститься сколько возможно, оставить машину на паркинге и забыть о ней на время, но в этом есть некое нарушение стиля. Городки Чинкве-Терре в самом центре современной цивилизации возвращают нас на несколько десятков лет назад, в доавтомобильную, дотуристскую эпоху – стоит сыграть в такую игру, пожить по ее правилам.
Чинкве-Терре – Пять Земель, Пятиземье. Или Пятиградье. Они следуют друг за другом цепочкой вдоль Лигурийского моря: Монтероссо-аль-Маре, Вернацца, Корнилья, Манарола, Риомаджоре. Даже нельзя сказать, что эти пять городков стоят на море: они врезаются в берег, укрываются в скалах, облепляя домами склоны и вершины, простирая улицу – одну главную улицу в окаймлении переулков – по руслу некогда протекавшей здесь реки.
Наша главная улица в Риомаджоре названа в честь Колумба. В доме № 43 по виа Коломбо мы с женой и поселились, сняв у сеньоры Микелини трехкомнатную квартиру с большой кухней за 70 долларов в сутки. Цены в Риомаджоре скромны, хозяева приветливы, дома чисты и удобны. Поскольку в самом начале виа Коломбо расположены несколько контор по сдаче жилья – есть выбор. Можно снять квартиру наверху, над городским ущельем, чтобы нелегкий подъем вознаграждался изумительным видом с балкона. Мы обосновались в торговой части, в центре местного коловращения жизни.
Пошли размеренные дни. Завтракать можно было дома, что мы и делали, покупая свежую буйволиную моцареллу, помидоры, зелень, сооружая омлет с травами, но пить кофе спускались вниз. Я покупал в киоске миланскую газету и изо всех сил разбирал свежие новости, футбольные отчеты, прогноз погоды, заказывая и заказывая кофе.
Нелепо в Италии самому варить кофе, что мы делали в Нью-Йорке, делаем в Праге. Одна из загадок этой страны, которую я не могу разгадать уже двадцать с лишним лет: почему кофе в Италии гораздо вкуснее, чем где-либо в мире? Во Франции совсем неплохо, еще лучше в Испании, свое достоинство у австрийского, в Португалии – культ кофе, что-то вроде национального спорта с сочинением множества вариаций, понимают в этом деле бразильцы и аргентинцы. Но в любом вокзальном буфете итальянского города вам наливают в чашку нечто невообразимое. И ничего не понять: в конце концов, зерна ко всем приходят извне, из Латинской Америки или Африки, машины повсюду одни и те же. Что в остатке – вода? Это произведение коллективного народного разума, попадая в Италию, я пью по множеству раз в день. Утром – cafe-latte в высоком стакане с длинной ложечкой или капуччино с горкой пены, после обеда – эспрессо, порядочный человек после обеда кофе с молоком не пьет. И по ходу дня – пять-шесть раз – макьято (macchiato – дословно «запачканный»): эспрессо с добавлением нескольких капель горячего взбитого молока.
После купания на крошечном местном пляже из черной гальки начиналась прогулка. Либо в горы вдоль виноградников и абрикосовых садов по склонам, либо по Дороге влюбленных – Via dell’Amore. «Дорога» сильно сказано – это тропа по вырубленному в скалах карнизу над морем, и мало на свете троп прекраснее. По Дороге влюбленных можно дойти до соседней Манаролы, посидеть там с чашкой все того же кофе за столиком у воды и двинуться дальше, мимо разместившейся на вершине горы Корнильи – в Вернаццу. Тут по сравнению с Риомаджоре – почти столичный шик: есть музей чего-то, городской парк, крепость на холме, выходящая к бухте квадратная площадь с ресторанами по периметру. Можно перекусить тут: мы обнаружили очень недурное место с многообещающим и оправдывающим себя названием Gambero rosso – «Красная креветка». Помимо водных тварей, там сказочно делают прославленный лигурийский соус к пасте – песто: не из фабричной банки, а на своей кухне истолченную деревянным пестиком в мраморной ступке смесь листьев базилика, орешков пиний, чеснока, пармезана, оливкового масла. Все ингредиенты есть во всей стране, но песто не из Лигурии – не песто.
В «Креветке» вкусно, однако еще лучше сесть в поезд, через двадцать минут оказаться в своем Риомаджоре и, поскольку на дворе сентябрь, купить белых грибов, нажарить их дома с чесноком и петрушкой и запить чудесным белым вином – легким и чуть терпким, которое так и называется – Cinque Теrrе.
В Пятиградье хорошее вино – это признают даже тосканцы, все, что не из Тосканы, презирающие. Мирового и даже общенационального значения ему не добиться: слишком мало виноградных лоз умещается на тесных горных уступах. Совсем ничтожное количество производится десертного вина Sciacchetra (произносится «Шакетра» с ударением на последнем слоге), чрезвычайно ценимого знатоками за тонкость и редкость. Давно, со времен своей рижской юности, завязав со всяческой десертностью и прочей бормотухой, я был посрамлен.
Cinque Terre считается классическим к рыбе и морской живности, но и грибы очень уместны. Вот еще одно из потрясений Италии и шире – потрясений российского человека вообще. Рушатся основы: водка лучше скандинавская, икра не хуже иранская, а изобилие белых грибов в осенней Италии добивает окончательно. Что ж остается? Ну, осетрина, этого пока не отняли. А так и самые привычные, с детства родные кулинарные радости уже за границей: миноги, шашлык, борщ.
Повалявшись после обеда, можно сесть на пароходик и отправиться в цивилизацию: на запад в Портофино или на восток в Портовенере. Но неплохо отказаться от суеты, предаться тому, чему название придумано в Италии, – dolce far niente (сладкое ничегонеделанье), а место для ужина выбрано заранее. Ресторанчик у воды, с террасы смотришь, как темнеют море и небо. Долгий обстоятельный разговор с официантом – одна из радостей отдыха. Лексикон в две сотни слов плюс незнание грамматики – откуда берется полное взаимопонимание? Ведь обсуждаем не только заказанные блюда, но и внешнюю политику России, к чему подключается соседний столик, и итоги футбольного тура, на что из кухни прибегают с мнениями и прогнозами поварята. Загадка того же рода, что и превосходство итальянского кофе. Все общие слова лишь на что-то указывают, толком не объясняя: национальный характер, темперамент, язык. Вот разве что язык – вовлекающий и раскрепощающий чужака своей несравненной гармонической красотой, как бывает, когда неодолимо хочется подпевать незнакомой песне.