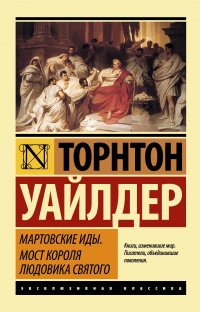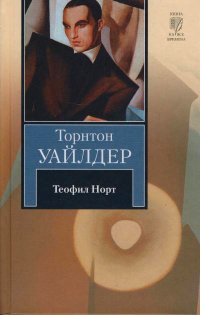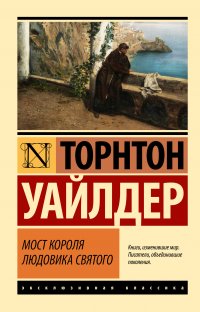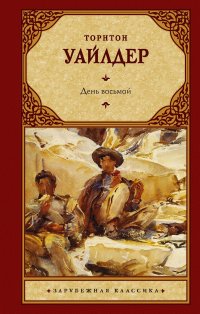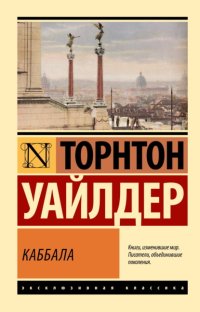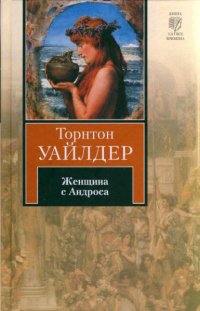
Читать онлайн Женщина с Андроса бесплатно
- Все книги автора: Торнтон Уайлдер
Печатается с разрешения The Wilder Family LLC и литературного агентства The Barbara Hogenson Agency, Inc.;
© The Wilder Family LLC, 1930
© Afterword. ТappanWilder, 2003
© Перевод. Н.А. Анастасьев, 2009
© ООО Издательство «АСТ МОСКВА», 2009
Если Вы хотите узнать больше о Торнтоне Уайлдере, его жизни и творчестве, пожалуйста, посетите сайт: www.ThorntonWilderSociety.org.
Первая часть этого романа написана по мотивам комедии Теренция «Андрия», автор которой, в свою очередь, опирается на две несохранившиеся пьесы Менандра.
Земля вздыхала, продолжая неизбывное свое кружение; ночные тени медленно наползали на Средиземноморье; Азия утонула во мгле. Могучий мыс, который впоследствии назовут Гибралтарским, еще долго отсвечивал красными и багровыми полосами, а с противоположной стороны, на освещаемых лучами заходящего солнца отрогах Атласских гор, проступали глубокие голубые морщины. Пещеры, окружающие Неаполитанский залив, погрузились в глубокую тень, издавая во тьме, каждая на свой лад, то ли переливчатые, как колокольчик, то ли глухие звуки. В Греции остались позади времена триумфов, в Египте – мудрости, но с наступлением ночи былая слава как будто возрождалась, а земля, которую вскоре назовут Святой, вынашивала во тьме драгоценное свое бремя. На море хватало места для всего: у Сицилии с ее курящимися вулканами бушевал шторм, а в устье Нила вода походила на влажную мостовую. Легкий ветерок колебал поверхность Эгейского моря, греческие же острова вдыхали внезапную свежесть уходящего дня.
Бринос, самый солнечный и наименее известный их них, с готовностью подставлял себя ветру. Вечер был долгим. Какое-то время шум волн, накатывающих одна за другой на мол небольшой бухты, перекрывался женским говором, мальчишескими криками, блеяньем ягнят. С появлением первых огней женщины удалились. По мере того как со стуком начали закрываться ставни лавчонок, утихли и ребячьи голоса, и в конце концов лишь отголоски разговоров мужчин, занятых в тавернах игрою в кости, смешивались со звуками моря. На балконы домишек, прилепившихся к склону холма, и ступеньки вьющихся лестниц, служащих улицами, падал бледный свет – предзнаменование еще не взошедшей луны.
Таверны были разбросаны по грубо замощенной площади, у кромки воды, и в одной из них играли пятеро или шестеро Отцов острова. К тому времени как луна появилась на небосклоне, игроков осталось только двое – Симон и Хрем. Симон был торговцем, он владел двумя складами и тремя судами, что постоянно курсировали между островами. Игра закончилась, кости остались лежать на столе, а игроки вздыхали, поглаживая бороды и думая о том, как долго им предстоит добираться до дома призрачными оливковыми аллеями. Сегодня Симон устал больше обычного: закон умеренности учит заниматься торговыми сделками и чистыми подсчетами не более трех часов в день, а нынче он потратил на всякие споры и передвижения целых пять.
– Симон, – внезапно заговорил Хрем с видом человека, которому предстоит выполнить неприятную и долго откладывавшуюся задачу, – твоему сыну сравнялось двадцать пять…
Понимая, что разговор заходит о деле, которого он всячески избегал, Симон тяжело вздохнул.
– Четыре года назад, – продолжал Хрем, – ты сказал, что старшие не должны заставлять молодых людей жениться. Само собой, никто Памфилия ни к чему не понуждает. Но чего он ждет? Он помогает тебе управляться со складом, он занимается спортом, он ужинает у андрианки. Сколько еще времени можно вести такой образ жизни? Когда ты наконец признаешь, что ему же будет лучше, если он женится на моей дочери?
– Хрем, он должен сам ко мне обратиться. Первым я не стану заговаривать с мальчиком об этом.
– Первым! Да ты и не будешь первым. Давно уже между нашими семьями было решено, что он женится на Филумене. И все это время мы только и говорим об этом. Сверстники уж смеются над ним. Ему отлично известно, что моя дочь готова выйти за него. С его стороны это чистое разгильдяйство. Просто безответственность и нежелание принять на себя обязанности мужа, отца и не последнего на острове домовладельца.
– Мой сын – молодой человек, который знает, что ему делать. Я ни к чему его подталкивать не буду.
– Что ж, тогда придется признать, что он просто не хочет жениться на моей дочери. А для нее унизительно ждать годами, пока он решится. Да и мать девочки сколько уж времени донимает меня, чтобы я покончил с этой историей. Может, и напрасно я это говорю, но ты из-за нерешительности, вы оба из-за нерешительности от доброго дела отказываетесь. Филумена – первая красавица на островах, да к тому же с отменным здоровьем. И по дому умеет делать все, что требуется от женщины. От союза наших семей все только выиграют, Симон, ты это не хуже меня понимаешь. Но все эти отсрочки и сомнения заставляют думать, что твой сын просто ждет, когда ему на глаза попадется другая девушка. Что ж, так тому и быть! Начиная с сегодняшнего дня моя жена будет подыскивать нового жениха.
– Право, Хрем, ведь сыну всего двадцать пять. Пусть еще немного погуляет. К чему так спешить с женитьбой и отцовством? Он славный мальчик и вполне доволен жизнью. Насколько я понимаю, твоя дочь тоже. Ну так пусть еще какое-то время все остается как есть.
– Внуки – вот что мне нужно! Между поколениями не должно быть больших разрывов. Это плохо для нравов и повседневной жизни.
– Лучше опоздать, чем поторопиться.
– Есть и еще одна причина, – продолжал Хрем, – по которой мне хотелось бы поскорее покончить с этим делом. Нам не нравится, что Памфилий зачастил к этой андрианке. Конечно, мне трудно говорить об этом, ведь и мой сын к ней ходит. Но разве не естественно, что к зятю относишься строже, чем к собственному сыну?
Симон поник еще сильнее и ничего не ответил.
– Полагаю, тебе не больше моего нравится появление этой иностранки, – вновь заговорил Хрем. – Наши острова всегда славились добропорядочностью и строгими нравами. Если в молодости в нас, случалось, и вселялся дьявол, всегда можно было завести в темный уголок какую-нибудь пастушку. Но эта андрианка принесла с собою всю атмосферу Александрии – духи, горячие ванны, поздние застолья и все такое прочее.
Симон почесал подбородок и проворчал в ответ:
– Всегда что-то случается, не одно – так другое. Что же касается этой андрианки, то лично я о ней ничего не знаю. Женщины трещат о ней без умолку, с утра до ночи, но разве их словам можно верить?
Решив, что это от него и требуется, Хрем с явным удовольствием пустился в объяснения. При этом он время от времени посматривал на Симона, пытаясь понять, занимают ли его подробности, представляющие такой интерес для него самого.
– Вообще-то ее зовут Хризия. Не знаю уж, почему она предпочитает называть себя андрианкой. На острове Андрос такие манеры, как у нее, не приняты. Наверняка она усвоила их в Коринфе и Александрии. Так там ей и надо было оставаться вместо того, чтобы заживо хоронить себя в нашем городе и читать стихи нашим юношам. Да-да, она декламирует стихи, словно какая-нибудь знаменитость. И раз в семь-восемь дней приглашает к себе на ужин двенадцать – пятнадцать молодых людей – естественно, неженатых. Они возлежат на кушетках, едят странную пищу и беседуют. Потом она поднимается и начинает декламировать. Целую трагедию может прочитать, не заглядывая в текст. Судя по всему, она очень строга с гостями. Заставляет их говорить с аттическим акцентом. Едят они, как это приято в Афинах: поднимают тосты, носят гирлянды, и каждый по очереди избирается царем вечера. Под конец приносят подогретые влажные полотенца, чтобы омочить ладони.
К явному разочарованию Хрема, Симон не обнаружил к его рассказу большого интереса – глаза его были опущены, а на лице сохранялось то же равнодушие, с каким он выслушивал разнообразные сплетни, гуляющие по острову. Хрем решил, что пора закругляться, и лишь добавил с оттенком возмущения:
– По мне, так Александрия – это Александрия, а Бринос – это Бринос. Еще несколько заморских идей – и нашему острову конец. Мы превратимся в толпу несчастных неразборчивых подражателей. Все девушки захотят читать, писать, декламировать. Нет, Симон, ты только подумай, во что превратится домашняя жизнь, если женщины научатся читать и писать? Мы с тобой женились на лучших девушках своего времени и всегда были счастливы. Хорошо хоть, мы можем научить здравому смыслу и добронравию по крайней мере еще одно поколение наших земляков до прихода времен, когда все женщины превратятся в танцорок, а мужчины будут увиваться за ними.
Симон хотел было ответить, но промолчал. Как никто на этом острове, Хрем был под каблуком у жены. Больше того, сидя в полутьме за ткацким станком, она мечтала командовать целым островом, используя своего беспокойного мужа как законный карательный инструмент.
– Ну, а потом, после окончания застолья, что происходит? – спросил Симон.
– Каждый платит за ужин, и платит прилично. А кое-кому время от времени дозволяется остаться до утра. Вот и все, что мне известно.
– И твой сын не пропускает этих ужинов?
– Вроде он повздорил с кем-то или, может, перепил, точно не знаю. По крайней мере на какое-то время он был отлучен от этого дома. Другие гости его прямо на улицу вышвырнули. Но с ней он снова наладил отношения.
– А ты с ним говорил об этой… этой Хризии?
– Да нет, делаю вид, что мне ничего не известно.
– И мой сын тоже в этой компании?
– Говорят, днюет и ночует.
Повисло долгое молчание. Мальчишка, прислуживающий в таверне, вышел на улицу и принялся закрывать ставни. Вернувшись, он шепнул Симону, что на улице его ждет какая-то старуха. Ждет довольно долго, поговорить хочет. Для Бриноса это было необычно, но Симон гордился тем, что никогда не выказывал удивления. Он лишь слегка кивнул и продолжал смотреть куда-то прямо перед собой.
– А женщины у андрианки бывают? – спросил он.
– Не знаю. Одни говорят – да, другие – нет. Но вообще-то в доме всегда полно народу. Это нечто вроде приюта для престарелых, недужных и… разного рода бедолаг-ветеранов. Дом находится на самой окраине…
– Я знаю, где это.
– …и те, кто там живет, кто бы то ни был, никогда не ходят в город. Они даже на дорогу в дневное время не выходят. Но поверь мне, горожане только о них и говорят.
Хрем поднялся и накинул плащ. Ему было ясно, что Симон не приблизился к окончательному решению.
– В общем, так, – заключил он, – надеюсь, что через десять дней ты сможешь дать мне ответ. Честно говоря, Симон, жена мне покоя не дает. Велела передать, что, если Памфилий не положит конец этим визитам, о женитьбе на нашей дочери можно забыть. И вообще с браком надо решать как можно скорее, иначе тебе придется подыскивать для сына другую невесту, которая в подметки не годится Филумене.
Впервые за все время разговора Симон вскинулся и медленно проговорил:
– Вы с женой тоже от доброго дела отказываетесь, Хрем. Я не могу говорить с Пафмилием так, как говорил бы просто с сыном, именно потому, что это не обычный юноша. Ты и вообразить себе не можешь, что это за человек.
– Да кто же спорит, Симон, мы знаем, что Памфилий – превосходный молодой человек. Но ты уж извини меня, знаем мы и то, что ему свойственны… нерешительность, медлительность. Чтобы в полной мере проявить свои качества и занять в жизни достойное место, нужно чтобы его подталкивал такой человек, как ты. Ведь Памфилий обожает тебя. К тому же он не так, как следовало, интересуется делами и устремлениями нашего острова. Ты знаешь молодого жреца храма Эскулапа и Аполлона? Так вот, нечто от этого жреца есть и в Памфилии. Такие люди предпочитают держаться в стороне. Они еще совсем не знают жизни.
Хрем вышел из таверны и каменистой тропою побрел домой. Симон чуть задержался.
«Что за скверный конец скверного дня», – думал он.
Оба они бок о бок выросли на острове. Тридцать лет оставались его известнейшими гражданами. Они прекрасно знают друг друга. В разговоре они позволили проявиться антагонизму, что всегда существовал между ними. Похвальба детьми – как же это вульгарно! Не по-эллински, не по-философски. Тем не менее что правда, то правда: в Памфилии действительно есть нечто от жреца.
* * *
Симон подошел к старухе, скрывавшейся в тени у двери, и отрывисто бросил:
– Это ты хотела поговорить со мной?
Наполовину напуганная, наполовину заинтригованная – как-никак почти два часа провела в ожидании, – Мизия едва нашла в себе силы пробормотать:
– Это моя госпожа хотела поговорить с тобой, господин мой, – Хризия, андрианка. – Она протянула обе руки в сторону берега.
Симон проворчал что-то. Подняв голову, он увидел в пятнадцати шагах от себя красивую женщину, опирающуюся на парапет прямо у воды. На голове у нее была вуаль, на плечи накинут плащ, и стояла она в свете луны так спокойно и отрешенно, словно два часа представляли собою лишь миг в ее ничем не нарушаемом душевном покое. Внизу, где расстилалась защищенная со всех сторон небольшая бухта, по-приятельски перестукивались бортами лодки, но все остальное застыло в мире и покое под светлой луной. Симон решительно шагнул к женщине.
– Ну?
– Я… – начала она.
– Я знаю, кто ты.
Она помолчала немного и заговорила вновь:
– Я оказалась в безвыходном положении. И вынуждена просить тебя о помощи.
Симон нахмурился и устало опустил глаза. Она продолжала ровным голосом, без тени волнения или заискивания:
– Мой друг с острова Андрос, откуда я родом, серьезно болен. Дважды я посылала ему деньги через моряков, плавающих между островами. Теперь я знаю, что люди эти бесчестные и деньги до него так и не дошли. Все, о чем я прошу тебя, так это поставить свою печать на коробку с деньгами. Тогда они непременно дойдут по назначению.
Симон не любил, когда люди вели себя как эта андрианка – с достоинством и независимостью. Чувство неприязни постепенно усиливалось. Он резко бросил:
– Ну, и кто он, этот твой друг?
– Раньше он водил суда, – с прежней твердостью в голосе ответила она. – Но теперь он не просто болен, а еще и умом тронулся. Рассудок он потерял после войны, слишком много на него бед свалилось. Я нашла людей, которые за ним присматривают, но только за деньги. В противном случае его просто отправят на один из островов вместе с остальными. Ты ведь знаешь такие места… пищу там на несколько дней оставляют в тазах – на всех… и еще…
– Да знаю я, знаю, – перебил ее Симон. – Но поскольку твой друг утратил рассудок и даже не понимает, в каких условиях живет, лучше и оставить его на острове с другими. Разве не так?
Хризия поджала губы и устремила взгляд куда-то в сторону.
– На это мне нечего ответить, – сказала она. – Может, для тебя это и так, но для меня – нет. В свое время этот человек был знаменитым моряком. Возможно, ты слышал о нем. Его зовут Филоклий. Мне кажется, никого, кроме меня, у него не осталось. Разве что ты согласишься все же помочь ему.
Имя Симону ничего не сказало, но тон его несколько смягчился.
– Когда ты хотела бы послать деньги?
– Э-э… Кое-какая сумма у меня есть уже сейчас, но лучше бы подождать дней десять.
– Как тебя зовут?
– Мое имя – Хризия, дочь Архия с Андроса.
– Хорошо, Хризия, я сделаю то, о чем ты просишь, и даже добавлю немного денег от себя. Но взамен и тебя хочу попросить об услуге. Ты откажешь моему сыну от дома.
Хризия немного отодвинулась и, положив руку на парапет, посмотрела вниз, на воду.
– Услуга перестает быть услугой, когда ее оказывают на определенных условиях. Великодушием не торгуют, Симон. – Эти афоризмы Хризия едва ли не прошептала, затем подняла голову и посмотрела прямо в глаза собеседнику: – Я не смогу сделать этого иначе, как предупредив твоего сына, что такова твоя воля.
Несколько покровительственное и даже циничное отношение Симона к окружающему миру основывалось на том, что никогда в жизни ему не приходилось выслушивать упреков в несправедливости, неверности либо недостатке щедрости. Раздраженный – но злости своей не выказывающий – тем, что сейчас его лишили этого преимущества, Симон возразил:
– В этом нет нужды. Ты можешь просто передать через слугу, что не хочешь больше видеть сына у себя дома.
– Нет, не могу. На этом острове есть несколько молодых людей, для которых двери моего дома по разным причинам закрыты. И я не могу включить в их число Памфилия без всякого объяснения причин. Если бы ты понимал сам дух наших встреч, ты бы не просил меня об этом. Мне кажется, в чем нас нельзя упрекнуть, так это в недостатке уважения друг к другу. Я плохо знаю твоего сына, мы и десятком слов с ним не обменялись. Могу сказать, однако, что пока он – первый среди моих гостей.
Хризия живо представила Памфилия, и ей стало весело и радостно оттого, что она говорит о нем добрые слова, и именно это заставило ее сдержаться и понизить голос:
– Он человек достаточно взрослый для того, чтобы самому принимать решения. А если их принимаю я, он должен понимать причину.
Симон ощущал, что эти удивительные и точные слова, сказанные о его сыне, каким-то образом объединили его с этой женщиной. Сердце едва не замерло от радости, но с губ все равно сорвалось:
– В таком случае тебе придется послать деньги на Андрос другим способом.
– Отлично.
Они посмотрели друг на друга. Симон неожиданно понял, что окружают его натуры слабые и что он одинок. Он давно уж не говорил с сильными и независимыми людьми, речи которых основываются на способности глубокого суждения и внутренней уверенности в себе. С женой, с Хремом, с другими жителями острова можно было говорить, не особо задумываясь над собственными словами и все равно возвышаясь над ними, но теперь в течение каких-то нескольких минут эта женщина уже дважды поставила его в тупик. Хризия заметила его смущение и поспешила на помощь. Она нарушила молчание, в котором он чувствовал себя злым и маленьким упрямцем.
– Скорее уж его младший брат нуждается в опеке, а твой Памфилий заслуживает иного отношения.
А по тону можно было понять, что сказать она хочет следующее: «Вы с ним люди одного роста и должны быть на одной стороне».
О сыновьях Симон любил говорить больше всего на свете, но сейчас никак не мог привести в порядок свои чувства и всего лишь вымолвил:
– Ну что ж… что ж, андрианка, я сделаю то, о чем ты просишь. Мои суда ходят на Андрос каждые двенадцать дней. Один корабль ушел не далее как сегодня.
– Прими мою благодарность.
– Могу я попросить тебя… э-э… не рассказывать обо всем этом Памфилию?
– Не скажу.
– В таком случае… покойной ночи.
– Покойной ночи.
Домой Симон возвращался усталым, но в приподнятом настроении. Его радовали добрые слова в адрес Памфилия, тем более, говорил он себе, что, судя по всему, эта женщина исключительно хорошо разбирается в людях. Он свалял дурака, но хорошо то, что хорошо кончается.
«Жизнь… жизнь…» – продолжал он разговаривать сам с собой, подыскивая слова, которые передадут ее многообразие, способность поднимать время от времени на поверхность скучной повседневности таких ярких людей.
Слова не приходили на ум, но приподнятое настроение сохранялось. Вот бы послушать, как она читает пьесы. В свое время Симон увлекался такими вещами, и когда дела приводили его на какой-нибудь из островов, где был театр, он не упускал случая посмотреть хорошую трагедию.
У входа к себе во двор он увидел Памфилия. Тот стоял в одиночестве и смотрел на луну.
– Добрый вечер, Памфилий.
– Добрый вечер, отец.
Симон пошел спать. Его переполняло чувство гордости, но на всякий случай он все же тревожно твердил себе: «Не знаю, что с ним делать. Не знаю, что с ним делать».
А Памфилий по-прежнему стоял один, глядя на луну и думая об отце с матерью. Он думал о них в связи с историей, которую рассказала Хризия. Под конец застолий она любила переводить разговор с местных дел на общемировые предметы (она часто приводила высказывание Платона о том, что подлинные философы – это молодые люди примерно их возраста. «Не потому, – добавляла она, – что у них это так уж хорошо получается, но потому, что они всей душой отдаются идее. Впоследствии же кто-то философствует ради похвалы, кто-то ради покаяния, кто-то – потому что это сложная интеллектуальная игра»). Памфилий вспомнил, как в один из вечеров беседа зашла о зле, которое приносят поэты, утверждая, что жизнь героична. А юноша с другого конца острова наполовину в шутку, наполовину с надеждой обронил:
– Знаешь, Хризия… понимаешь ли, домашняя жизнь совсем не похожа на жизнь, какой ее показывает Эврипид.
В поисках ответа Хризия некоторое время помолчала, затем подняла руку и начала:
– Давным-давно…
Стол грохнул от смеха. Но это был добродушный смех, ибо все знали, что она любит заключать свои слова в форму притчи и начинать рассказ этой детской присказкой. Памфилий вслушивался в звучание ее чистого красивого голоса:
– Давным-давно на земле жил герой, оказавший большую услугу Зевсу. Когда ему пришел срок умирать и он оказался в серых пустошах Ада, он воззвал к Зевсу, напомнил ему об этой услуге и попросил об ответной милости – вернуть его на день на землю. Зевс пришел в сильное замешательство и сказал, что это не в его силах, даже он не может вернуть наверх тех, кто спустился в царство, где правит его брат. Но воспоминания о былом настолько тронули его сердце, что он отправился во дворец к брату и, припав к его ногам, попросил оказать ему эту услугу. Царь мертвых тоже пришел в сильное замешательство и сказал, что даже ему, Царю мертвых, это не под силу, если только не вернуть человека к жизни в каком-нибудь сложном и болезненном виде. Но герой охотно согласился на любые условия, и Царь мертвых позволил ему вернуться не просто на землю, но и в собственное прошлое и заново прожить тот из отпущенных ему двадцати двух тысяч дней, который был менее всего насыщен какими-либо событиями. Но при этом его сознание должно раздвоиться, половина достается участнику, половина – наблюдателю: участник совершает поступки и повторяет слова многолетней давности, наблюдатель предвидит итог того и другого. Так герой вернулся к солнечному свету, в некий определенный день своей жизни, когда он был пятнадцатилетним подростком. Друзья мои, – продолжала Хризия, медленно обводя взглядом собравшихся, – проснувшись у себя в детской, герой почувствовал, что сердце его исполняется боли – не просто потому, что оно снова начало биться, но потому, что он увидел стены своего дома и понял, что вот-вот увидит родителей, которые давно уже покоятся в земле родного края. Он спустился во двор. Мать, сидящая за ткацким станком, подняла на мгновение глаза, поприветствовала его и снова вернулась к работе. Отец пересек двор, не заметив сына, – в тот день у него была масса забот. Внезапно герой обнаружил, что живые – это тоже мертвые и что о нас можно сказать, что мы живы только в те моменты, когда сердцем переживаем этот ниспосланный нам дар; ибо сердца наши недостаточно крепки, чтобы любить постоянно. Не прошло и часа, как герой, одновременно живший и наблюдавший жизнь, обратил к Зевсу мольбу избавить его от этого страшного сна. Боги услышали его, но перед тем как вернуться в царство мертвых, он опустился на колени и поцеловал землю, которая слишком дорога, чтобы вполне понимать ее.
Такими вот глазами видел сейчас Памфилий своего отца, только что проследовавшего к себе, и такими глазами видел мать, хлопочущую по дому, поддерживающую огонь в очаге, заканчивающую дневные дела. Именно эта история открыла ему глаза на тайную жизнь родительского сознания. Он словно проник взглядом за оболочку их маленьких радостей и дневной болтовни, заглянул в сердца и увидел пустоту, отрешенность, жалостливость и терпение. Хризия выработала целую концепцию жизни, любила повторять, что все человеческие существа – за вычетом немногих, кто загадочным образом проник в тайну богов, – просто переживают медленную безысходность существования, всячески скрывая от себя ужас осознания того, что в конечном итоге жизнь не таит никаких чудесных неожиданностей и что самое тяжкое бремя – неразделимость любви. Конечно, это объясняет комическую печаль отца и суетливую заботу матери. И вот сейчас, когда отец прошел по двору мимо него, эта мысль более чем когда-либо потрясла Памфилия. Что можно сделать для них? Что – дабы сравняться с ними – можно сделать для себя самого? Ему двадцать пять – уже не юноша. Скоро будет мужем и отцом – положение, которое он отнюдь не склонен романтизировать. Скоро он будет главою дома и хозяином этой фермы. Скоро постареет. Время протечет мимо, невидимое, как вздох, а у него нет ни замысла, ни правил, ни связного плана – всего того, что могло бы подсказать, как спасти и других, и себя от наползающей серости, от чувства поражения, с которым смиряются слишком легко.
– Как жить? – воззвал он к сверкавшим звездам. – С чего начинать?
* * *
Взгляд Хризии на род человеческий находил выражение, как мы уже видели, в притчах, цитатах из литературных произведений, пословицах и афоризмах. Себя она характеризовала одним словом: Хризия называла себя «умершей». А коль скоро она мертва, неудобства профессии, насмешки горожан, неблагодарность иждивенцев – ничто не могло ее задеть. Единственное, что беспокоило ее в могиле, – унизительная неразборчивость в любви, то, с какой назойливостью, даже по меркам ее профессии, женщины преследуют случайных прохожих. Подобного рода явления, как, впрочем, и любые иные, способные оказывать на нее угнетающее воздействие, Хризия научилась отметать как проявления слабости, гордыни, упрямого и ненаказанного тщеславия.
Наутро после разговора с Симоном на морском берегу она проснулась с чувством неясной тревоги, но решила не заниматься поисками причин этой новой докуки. Тем не менее она весь день преследовала ее – голос, повторяющий одни и те же слова: «Я одинока. И как я прежде этого не замечала? Я одинока». Действительно, профессия ее принадлежала к числу тех, что укрепляют смутное, лежащее в глубинах сознания многих людей представление – представление, согласно которому мы никому не нужны, привязанности возникают и проходят в зависимости от каприза разлук, пресыщенности и опыта. Самые ненадежные связи – те, что заявляются самыми тесными.
Тем не менее Хризия открыла два способа противостояния неотзывчивости и непостоянству мира, в котором жила. Первый – усовершенствования, привнесенные ею в традицию застолий у гетеры. Она трудилась над ними неустанно, и изумленным гостям эти застолья и впрямь казались пиршеством ума, праздником красноречия, воплощением аристократического изыска. Настоящие рассказчики устроены таким образом, что не знают своих мыслей до тех пор, пока не услышат, как, оживленные дарованным им специфическим талантом, они срываются с их уст. Хризия позволяла себе эту роскошь – беседовать с молодыми людьми от всей души. Многое оставалось за пределами их понимания, но ее нежелание снисходить до них, сам посыл, согласно которому анализ идей и произведений искусства есть их естественная стихия, вдохновляли гостей.
Хризия отдавала себе отчет в том, что, если оставить в стороне физическую красоту, она не особенно соответствует своей профессии – ей не хватает блеска, который ценят клиенты среднего возраста. Но мужчин помоложе, тех, кто все еще благоговеет перед любовью, эти заурядные упражнения, особенно если они насыщены грустью, достоинством и духом литературы, не разочаруют. Быть может, степень зрелости цивилизации как раз этим свойством и определяется – даром наблюдения за тем, как молодые люди первый раз в жизни влюбляются в женщину старше или моложе их. Если их юношеское воображение оказывается целиком захвачено пустой болтовней никчемных девиц, которых они готовы вознести на пьедестал, то им всегда суждено питаться объедками. Но даже лучшие из гостей казались Хризии далекими и незрелыми, и в конце концов она нашла другой способ делать жизнь более укорененной, а друзей – более постоянными: она взяла на себя опеку сирых и обездоленных, тех, кто в ней нуждается.
Про себя, предаваясь раздумьям, Хризия называла их своей паствой. И хотя эти люди попадали под ее крыло, пережив страшные, тяжелейшие беды, приспосабливались они к новым условиям жизни с удивительной быстротой. Более того, прежние испытания окутывались романтическим ореолом, и когда что-нибудь в нынешней ситуации переставало их устраивать, иные, по слухам, начинали сожалеть об утраченном рае невольничьих рынков, побоях и массовой резне в деревнях. Для Хризии давно не было загадок в человеческой натуре, и то, что паства взбрыкивает и даже позволяет себе проявлять снисходительность к своему пастуху, ничуть не обескураживало. Она любила ее и находила удовлетворение в тех выпадающих время от времени часах на закате дня, когда в саду собиралась разношерстная группа людей, ткущих пряжу в согласии и веселье. Такие часы напоминали жизнь дома.
* * *
Сегодня вечером предполагалось очередное застолье. Отгоняя преследующие ее печали, Хризия решительно встряхнула головой и отправилась вниз за покупками. Ее сопровождали Мизия и носильщик: Мизия несла сетку для фруктов и зелени, а носильщик – большой сосуд для соленой воды, куда поместят рыбу и устриц. Хризия медленно спускалась по извилистым лестничным пролетам-улицам. Она закуталась в широкий шарф из старинной жатой ткани, на голове была широкополая соломенная шляпа, в руке – небольшой деревянный веер. Отстраненность и ослепительный блеск легенды были частью ее профессии, ибо в то время в Греции распространилась ностальгия по старине. Хризия должна была как можно сильнее отличаться от других женщин и превращать это отличие в деньги.
Магазины и лотки были разбросаны на открытой площадке прямо у воды, и самая оживленная и говорливая публика на свете радостно гомонила под жаркими лучами утреннего солнца. Но стоило возникнуть этой молчаливой и загадочной фигуре, как рынок затих. Такой стати гречанкам как раз и не хватало, такой стати они втайне завидовали. Сами они были низкорослы, смуглы и голосисты, при этом непрестанная их болтовня сопровождалась непрестанной жестикуляцией. И все это племя страстно жаждало размеренности, безмятежности и плавности в движениях, так что в течение, должно быть, целого часа местные жительницы исподтишка ловили каждое движение андрианки со смесью благоговения и ненависти. При ее появлении они почувствовали себя провинциальными торговками.
Время от времени к Хризии подходили и заговаривали с ней молодые люди – завсегдатаи ее дома. В таких случаях незамужние девушки и молодые жены островитян, не скрывая ужаса, смотрели, как она улыбается, разговаривает и отсылает жестом их братьев и будущих мужей. Филумена, стоявшая в тени под навесом, прислонившись к стене, не спускала глаз с иностранки. Слегка повернув голову, она заметила стоящего за прилавком у двери отцовского склада Памфилия. Взгляд ее упал на собственное грубое платье, красные руки, и лицо постепенно залилось краской. А у Хризии становилось все тяжелее и тяжелее на сердце.
«Я жило в одиночестве и умру в одиночестве», – словно стонало оно.
По дороге домой Хризия разразилась страстным внутренним монологом: «Вся беда во мне самой. Я не умею любить по-настоящему. И знаю это. Что ж, Хризия, надо начинать жизнь сначала. Следует целиком посвятить себя пастве. Ты должна растопить лед между ними и тобою, пробить стену. Ты должна заставить себя снова полюбить их. Ты должна вновь ощутить ту радость, что испытывала при первой встрече с каждым из них. Рутина, каждодневное общение – вот что убивает. Но любить людей только при первом знакомстве – это трусость. А ну-ка, Хризия, встряхнись!»
В сотый, должно быть, раз женщина ощутила прилив надежды и мужества. На сей раз она победит. Приближаясь к дому, Хризия вся дрожала от нетерпения. Она действительно превратит жилище в дом.
«Если бы я по-настоящему любила, поняла бы их, – говорила она сама себе. – Жить никогда не научишься или научишься, когда уже слишком поздно, когда все испортишь, да так, что ничего уже не поправить. Но мне предстоит прожить на этой земле пятьдесят лет, и у меня должно все получиться».
Хризия не сразу поняла, что произошло в доме, пока ее не было. Уходя, она даже не заметила, что он пуст. Ее паства рассеялась. Она пребывала в сильной тревоге. Люди метались у ворот, вглядываясь туда, откуда она должна появиться, и единственное, что они сейчас испытывали, так это обиду, каковая являет собою еще одно свидетельство преданности. Хризия не отдавала себе отчета в том, что подобное изъявление любви в форме обиды есть одно из характернейших явлений этого мира. Пока ее не было, людей охватил страх. Их зависимость от нее была настолько велика, что даже краткое ее отсутствие напоминало им о лишениях, от которых теперь они были избавлены, об обстоятельствах, которые были столь ужасны, что сознание стремилось их упразднить, но которые тем не менее виднелись где-то вдалеке, с особой силой заставляя людей ощутить блага нынешнего своего положения и лишь укрепляя их в эгоцентризме. Все эти чувства выплеснулись на Хризию, когда она с трудом переступила порог своего дома. В середине дня она говорила себе, едва не впадая в истерику: «Нет, это невозможно. Я ничего не могу изменить. Ведь они попросту ненавидят меня. К счастью, я мертва. И вовсе не гордость моя задета. Я мирно покоюсь в земле. И все же, все же… как хочется, чтобы кто-нибудь пришел на помощь в таких делах. Если бы только боги хоть изредка спускались к нам, людям. И ничего не надо, лишь бы грела мысль, смутная мысль, что смысл жизни есть».
В застолье Хризия рассчитывала найти отдохновение.
«И это тоже трусость с моей стороны, – говорила она себе, – быть счастливой только с гостями, когда я могу направлять ход беседы, высказывать всякие мысли и быть предметом восхищения».
Но сегодня даже и в такой обстановке ей было не по себе. Гости казались более чужими и более молодыми, чем обычно, а она, в свою очередь, более капризной, чуть ли не раздражительной. Неудивительно, что и в беседе она почти не находила удовольствия.
Один из ее гостей, Никератий, выделявшийся уверенностью в себе, спросил Хризию, какой будет жизнь через две тысячи лет.
– Ну, прежде всего, – живо откликнулась она, – на земле не будет войн.
– Мне не хотелось бы жить в мире без войн, – возразил он. – Это будет эпоха женщин.
Хризия была задета этим оскорблением женского достоинства и не упустила случая бросить вызов столь явному унижению ее пола.
– Скажи, Никератий, ты хотел бы послужить государству?
– Да.
– И ты ценишь мужество?
– Да, Хризия, мужество я ценю.
– В таком случае попробуй родить ребенка.
Никератий нашел это замечание неуместным и покинул дом. Он пропустил следующие два застолья, но затем вернулся и попросил прощения за то, что позволил себе принять расхождение во мнениях за личную обиду. Признание своих ошибок всегда доставляло Хризии огромное удовольствие.
«Прочнее всего те связи, – любила повторять она, – что вырастают из заблуждений и готовности их простить».
Затем разговор перешел на пьесы о Медее и Федре, которые она читала гостям раньше, а также вообще на проявления безумной страсти. Молодые люди в голос заявили, что проблема совсем не так сложна, как кажется, и что таких женщин следует просто подвергнуть бичеванию, как провинившихся рабов, а затем запереть в комнату, посадив на хлеб и воду, пока не смирят гордыню. А потом кто-то из гостей, чуть ли не шепотом, поведал Хризии историю о местной девушке, чье поведение шокировало ее семью и друзей. Какое-то время девушка ни на что не обращала внимания, демонстративно продолжая свои безобразия, а потом поднялась на высокую скалу рядом со своим домом и бросилась в море.
Наступило молчание. Все вопросительно смотрели на Хризию, ожидая толкования столь удивительного исхода.
«Даже не пытайся ничего им объяснять, – подумала она. – Поговори о чем-нибудь другом. Глупость повсеместна и непобедима».
Но выжидательные взгляды все же оказали на нее воздействие. Какое-то время Хризия, задетая до глубины души, словно боролась с собой, потом негромко заговорила:
– Как-то, давным-давно, собралось вместе множество женщин. И пригласили они на свою встречу мужчину, поэта-трагика. Они сказали ему, что хотят отправить послание всему мужскому миру и именно его выбирают в качестве своего посредника и вестника.
«Передай им, – настойчиво заговорили они, – что наше непостоянство – всего лишь видимость. Скажи им, что все дело в том, что мы слишком зависим от своей природы, но в глубине души взываем к их терпению. Мы так же стойки, храбры и мужественны, как они».
Поэт печально улыбнулся и ответил, что мужчины, которым это и так известно, лишь постыдятся выслушивать это вновь, а те, кому неизвестно, ничего не извлекут из одних лишь слов. Тем не менее он согласился передать послание. Поначалу слушатели встретили его молча, затем один за другим расхохотались. И отправили поэта назад, к женщинам, со словами: «Передай им, пусть успокоятся и не забивают свои чудные головки подобными рассуждениями. Скажи им, что слава их не угасает, и пусть не геройствуют, подвергая ее опасности».
Когда поэт передал эти слова женщинам, иные залились краской стыда, другие – гнева, а кое-кто устало вздохнул: «Не стоило отправлять им никаких посланий».
Они вернулись к своим зеркалам и принялись расчесывать волосы. И, расчесывая волосы, они рыдали.
Едва Хризия замолчала, как молодой человек, почти не принимавший до того участия в общем разговоре, внезапно обрушился на нее с упреками в неправедном способе существования. Он был из тех, кто меряет чужую жизнь на свой аршин, стремясь по собственному усмотрению заставить людей играть ту или иную роль. Сейчас он хотел сделать Хризию служанкой или швеей. Гости начали перешептываться, отворачиваясь кто в смущении, кто в гневе, но Хризия смотрела прямо в горящие глаза юноши и восхищалась его прямотой. Была в этом уничижении, накладывающемся на собственную подавленность, даже некоторая гордость. Она и без того была расстроена недавней стычкой с Никератием и теперь решила проявить великодушие. Хризия встала и подошла к молодому фанатику. Взяв его за руку, она грустно улыбнулась и сказала, обращаясь ко всем: