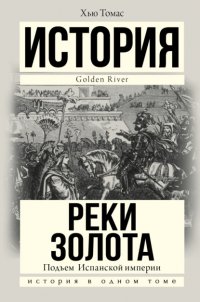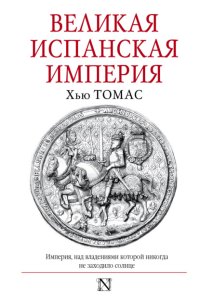Читать онлайн Золотой век Испанской империи бесплатно
- Все книги автора: Хью Томас
Hugh Thomas
THE GOLDEN AGE
The Spanish Empire of Charles V
Печатается с разрешения автора и литературного агентства The Wylie Agency (UK) Ltd.
© Hugh Thomas, 2010
© Перевод, комментарии. В. Гончаров, 2016
© Издание на русском языке AST Publishers, 2016
Предисловие
Эта книга хотя и представляет собой законченную работу, является второй в серии монографий, которые я пишу об Испанской империи. Первый том, опубликованный в 2003 году, назывался «Реки золота». Сейчас я работаю над третьим томом, который доводит нашу необычайную историю до 1580 года, когда Испания перестала расширять круг зависящих от нее земель: это был год, когда король Филипп II отказался от попыток завоевать Китай.
Несколько слов об именах. Карлос I и V в этой книге по умолчанию зовутся «Карлами». В «Реках золота» я предпочитал, говоря о Фердинанде, короле Арагонском, называть его «Фернандо»; это же употребление сохранено и здесь. Моктесума именуется Монтесумой, в соответствии с английской транслитерацией его имени – именно такое написание я обнаружил в нескольких испанских источниках XVI века. С другой стороны, я оставил за ацтеками их собственное, более точное наименование «мешики» (мексики), хотя их столицу, как правило, называю согласно испанскому употреблению: «Мехико».
Я хочу выразить несколько благодарностей: прежде всего Стюарту Проффиту и его коллегам в лондонском отделении «Penguin Books». Они показали себя людьми терпеливыми и дотошными, работать с ними было очень приятно. Стюарт оказался таким издателем, дружеское отношение которого дало мне не меньше, чем его компетентность и рассудительность. Моя благодарность Мартину Дэвису, превосходному и знающему редактору, потрудившемуся над этим текстом. Я должен сказать редакторское спасибо и моему агенту и творческому другу Эндрю Уайли и его замечательным помощникам. Тереза Веласко многократно со всей бережностью и тщательностью перепечатывала рукопись. Она и Сесилия Каламанте проделали для меня большую и тяжелую работу, за что я премного им обязан.
Суммировать все мои задолженности перед другими писателями представляется сложной задачей. Однако я проявлю выдающуюся неблагодарность, если не отмечу, сколь многим я обязан следующим людям: Мануэлю Фернандесу Альваресу, чья работа, посвященная XVI столетию, является примером для всех нас, а также великому историку, автору «Завоевания Перу» Джону Хэммингу, чьим исследованиям и трудам бесконечно обязаны все, кто работал над этим вопросом. Джон Хэмминг взял на себя труд выправить мою корректуру, чем избавил меня от множества ошибок. Моя жена Ванесса тоже вычитывала корректуру с величайшим вниманием. Я весьма благодарен Джеймсу Локхарту за его выдающееся исследование «Люди Кахамарки» и его предшествующий труд – «Испанское Перу». Как и всем исследователям Перу VI столетия, мне принесла большую пользу работа Гильермо Ломанна, которого я обычно встречал в восемь утра на ступеньках Архива Индий, – он ждал, пока его пропустят в salуn de lectores в старинном здании Эрреры в Севилье[1]. Он всегда оказывался за своим столом раньше, чем я за моим. Среди других работ, имевших для меня огромную ценность, были книги Марселя Батайона «Эразм и Испания» и Хосе Мартинеса Мильяна «Двор Карла V».
Хью Томас
Примечание относительно валюты
Наиболее распространенной денежной единицей была мараведи – медная монета ценностью в 1/96 золотой марки, которая в свою очередь равнялась 230,045 грамма золота. Дукадо (дукат) равнялся 375 мараведи, 1 реал – 34 мараведи, 1 песо – 450 мараведи, а 1 кастельяно – 485 мараведи. В хождении были также крузадо – старинные монеты, иногда золотые, иногда серебряные, а время от времени и медные, имевшие различную ценность. Эскудо равнялось 40 реалам, а куэнто имело неопределенную ценность.
Пролог
Повесть о двух городах: Вальядолид и Мехико
Глава 1
Вальядолид
Если грозит война, папы должны прилагать все усилия, чтобы либо обеспечить урегулирование дела без кровопролития, либо, если бушующая в делах человеческих буря делает это невозможным, настоять на том, чтобы война велась с меньшей жестокостью и не длилась долго
Эразм Роттердамский, «Enchiridion» («Оружие христианского воина»)
Карл Гентский из династии Габсбургов, король Испании и император Германии, властелин многих земель и правитель еще больших территорий за океаном, добрался до Вальядолида, своей временной, украшенной многими башнями столицы на северо-западе Испании, в конце августа 1522 года. Сей монарх, уже немало попутешествовавший, несмотря на то что ему было всего лишь двадцать два года, прибыл из Нидерландов; с ним было две тысячи человек пеших и более тысячи конных – эскорт, оказавшийся чересчур большим для англичан, когда Карл решил по пути посетить своего дядю по жене[2], Генриха VIII – ввиду чего половина свиты была оставлена в Кале. Генрих подписывал свои письма «votre pиre, frиre, et cousin et bel oncle Henry»[3]{1}. В двор Карла входили горничные, лакеи, конюхи и чистильщики гобеленов, наряду с солдатами и писцами, придворными и графами.
Особенно значительное положение при дворе Карла V занимал хранитель гобеленов Жильсон де Варенгьен, чьи предки находились в услужении у бургундской королевской семьи на протяжении нескольких поколений. Ведь в те давние, еще полные рыцарским духом времена короли повсюду возили с собой гобелены. Когда тетка Карла Маргарита в 1497 году прибыла в Испанию, чтобы выйти замуж за инфанта Хуана, в порту Сантандер ее встречали 120 мулов, нагруженных столовой утварью и гобеленами{2}.
Карл прибыл в Испанию через тот же славный порт Сантандер, расположенный на северном побережье и основанный, по преданию, самим Ноем; а в Вальядолид император и его свита вступили по большому мосту над глубокой, быстрой и мутной рекой Писуэрга, как раз в том месте, где в нее впадает меньший приток, Эсгева. Затем Карл пересек Пасео-де-лас-Морерас – Шелковичный бульвар, – и миновал внушительный новый дворец Бенавенте, носящей многие титулы герцогской фамилии, рядом с которым еще поколение назад располагался еврейский квартал.
Карл останавливался у Бенавенте в свой предыдущий визит в этот город в 1517 году. На этот раз он избрал обиталищем беспорядочно разросшийся особняк Энрикесов, своих испанских кузенов[4]. Жилище Энрикесов располагалось в центре Вальядолида, на Калье-де-лас-Ангустиас{3}. Остальной двор селился в арендованных домах, большей частью в восточной части города, возле верховного суда.
Хорошее изображение Вальядолида XVI столетия имеется в собрании работ фламандского художника Антона ван ден Вингерде. Вингерде, родом из Антверпена, в молодости работал в Нидерландах, затем, в среднем возрасте – в Англии и Италии и позже в Испании, где стал придворным художником короля Филиппа II. Ему принадлежат эскизы большинства городов Кастилии, которые он рисовал с таким усердием, что в 1572 году был вынужден вернуться в Мадрид с искалеченными руками. Его рисунки могут служить достаточно точным топографическим справочником{4}.
Вальядолид был городом церквей, монастырей и частных дворцов, часть которых впоследствии была отведена под общественные здания. Так, например, верховный суд (аудиенсиа) в 1479 году разместился в здании дворца некогда влиятельного семейства Виверо, который был построен главным казначеем короля Хуана II Алонсо Пересом де Виверо, убитым в 1453 году – это был жестокий период в испанской истории, уже почти забытый к 1520-м годам. Сын Переса де Виверо, Хуан, занимал такую же должность при дворе Энрике IV. Их семья была из обращенных евреев (конверсо), как и большинство высоких должностных лиц династии Трастамара, служивших кастильской королевской династии с 1369-го по 1516 год. Эти сановники ревностно служили короне, и именно Хуан де Виверо обеспечил встречу короля Фернандо с королевой Изабеллой в своем дворце, а затем их бракосочетание там же, в Сала-Рика.
В Вальядолиде начала XVI столетия было, наверное, около 400 господских (seсorial) домов. Это были каменные здания, часто беленные известкой в стиле мудехаров[5] – но было легко заметить, что Ренессанс, столь долго добиравшийся до Испании, наконец пришел и в Вальядолид. Окна здесь были шире, чем в других городах, двери располагались точно посередине фасадов. Над парадными входами порой можно было видеть медальоны в итальянском стиле, изображающие портреты владельцев. Здешние патио, как и фасады, были больше, чем в других городах. На первый взгляд дворец Бенавенте выглядел средневековой крепостью, но при ближайшем рассмотрении становился заметен дух Ренессанса, царивший уже во внутреннем дворе, – с листьями аканта на капителях колонн, медальонами с портретами прежних членов семьи Бенавенте и фризом в стиле платереско. Вскоре там появится также и ренессансный сад, разбитый графом-герцогом, который являлся одним из регентов страны на протяжении недавнего тревожного времени.
Другие аристократы тоже строились в Вальядолиде – по мере того как становилось очевидным, что этот город, по меньшей мере на текущее время, превращается в столицу новообразованного Испанского королевства. Поэтому маркизы Асторга, Вильяфранка, Дения, Виана, Вильясантес, Поса и Вильяверде (в Испании титул маркиза был гораздо более употребителен, чем в Англии){5} строили здесь особняки, помещая свои гербы над парадным входом; так же поступали графы Миранда и Ривадавия. Эти постройки в основном располагались в западной части города, и поскольку они были новыми, а некоторые даже еще достраивались, их вид оказывал весьма воодушевляющее действие на горожан. Владельцы не жили в них постоянно, однако они служили одновременно и достопримечательностью, и местом работы для многих из 40000 местных жителей – цифра, делавшая Вальядолид крупнейшим городом в Кастилии. Особняки знати часто служили пристанищем для двора, и если таких придворных, как толедский архиепископ Альфонсо[6] де Фонсека или королевский секретарь Альфонсо де Вальдес, было приятно иметь в качестве гостей, то некоторые другие попросту требовали все, что они пожелают.
Но даже еще больше, чем дворцы, в глаза бросались монастыри – их здесь было около тридцати, как женских, так и мужских, а также доминиканский «беатерио» («дом благочестивых») и выстроенная позже молельня последователей святого Филиппа Нери{6}. На иноземных путешественников, должно быть, производило большое впечатление количество крупных построек, принадлежащих различным религиозным орденам. Крупнейшей из них было здание монастыря иеронимитов, возведенное в середине XV столетия и ко времени нашего повествования окруженное садами. Когда Карл останавливался здесь прежде, в 1517 году, некоторые из тамошних монахов выступали против фламандцев, в то время окружавших монарха{7}. Почти настолько же большим был францисканский монастырь, построенный в конце XIII века на Пласа-дель-Меркадо неподалеку от Пласа-Майор. Прилегающий к этому строению сад занимал всю близлежащую территорию{8}. Кроме того, был еще доминиканский монастырь XIII века в центре города, обширный и беспорядочно построенный, с его великолепным собором Сан-Пабло.
Собор Сан-Пабло начали строить в XIII столетии и значительно расширили при Марии де Молина, хитроумной вдове короля Санчо IV Кастильского (она умерла в Вальядолиде в 1321 году). Фасад собора был перестроен в 1460-х годах знаменитым богословом, кардиналом Торквемадой{9}, а фрай Алонсо де Бургос сделал пристройки к церкви, прибегнув к услугам двух прославленных архитекторов: Хуана Гуаса и Симона де Колонья. Бургос – конверсо, так же, как и Торквемада, – был грубый, безнравственный, но умный доминиканец, некоторое время он служил исповедником королевы Изабеллы. Сперва он был епископом Куэнки, а затем возглавил богатую епархию Паленсия, к которой относился и Вальядолид. Он читал превосходные проповеди – возможно, потому что он много лет прожил в келье, практикуя уединение, и позднее оно вдохновило его на цветистые речи.
Именно в церкви Сан-Пабло в 1517 году испанская знать, возглавляемая графом Оропеса с мечом правосудия в руках, принесла присягу Карлу Гентскому{10}. Трое архиепископов, семеро епископов, восемь герцогов, пять маркизов, двадцать один граф, два виконта, пятеро комендадорес (командоров) и семеро архивариусов рыцарских орденов взошли на три ступеньки у алтаря, чтобы преклонить колени перед королем. Такая присяга была церемонией настолько же религиозной, насколько и политической, и завершилась клятвой, принесенной самим Карлом на кресте и Библии, после чего пропели «Te Deum». Такое событие было поводом для празднования, и многие представители знати, сами не приносившие присягу, собрались здесь просто чтобы посмотреть на происходящее.
Среди других значительных вальядолидских церквей были также церковь Санта-Клара, заложенная другом этой святой в 1247 году (хотя более новые здания относились к 1490-м годам), церковь Санта-Мария-ла-Антигуа, с ее прекрасными колоннами и квадратной башней в романском стиле, и Санта-Мария-де-лас-Уэльгас{11} – женский цистерцианский монастырь, выстроенный на востоке за чертой города, на месте дворца Марии де Молина. Прекрасная церковь Сантьяго, недавно построенная купцом Луисом де ла Серной, вскоре будет украшена восхитительной алтарной картиной «Поклонение волхвов» кисти лучшего испанского художника тех дней, Алонсо Берругете (сына Педро Берругете). Берругете родился в Паредес-де-Нава, маленьком городке в сорока милях к северу от Вальядолида, с которым связано имя еще одного деятеля испанского Возрождения – поэта Хорхе де Манрике, чей отец был графом Паредеса{12}. Он находился в Риме, когда в 1506 году на Эсквилинском холме была обнаружена знаменитая греческая мраморная скульптура Лаокоона – возможно, величайшая археологическая находка Ренессанса, – и это событие оставило в нем трепет на всю жизнь.
Император Карл сделал Берругете нотариусом канцелярии Вальядолида – синекура, оставлявшая ему достаточно времени, чтобы рисовать. Тетка Карла Маргарита Австрийская наверняка одобрила бы это назначение: оно придавало смысл ее покровительству.
Мы не должны также забывать, что монастырь регулярных канонисс Святого Августина в небольшом городке Портильо, к юго-востоку от стен Вальядолида, был заложен с целью помощи душам бедных в богадельнях. Тут же неподалеку находился и августинский монастырь, основанный в начале XV века знаменитым коннетаблем Кастилии Руем Лопесом Давалосом, – первым из знаменитой фамилии Давалосов, запечатлевшим себя в испанской истории; существовал также и цистерцианский монастырь, расположенный на Пласа-де-ла-Тринидад, церковь которого была известна своими прекрасными алтарями и тосканскими колоннами.
Бенедиктинский монастырь прежде был королевским дворцом, который передал монахам король Хуан I в конце XIV столетия, а церковь была выстроена по заказу Альфонсо де Вальдивьесо, епископа Леонского. Маленькая капелла была пристроена Инес де Гусман, вдовой главного казначея Алонсо Переса де Виверо. Резные сиденья в главной церкви были искусно выполнены Андресом де Нахера, незаконным отпрыском прославленного знатного семейства, носящего это имя («Мы не происходим от королей – короли происходят от нас» – таков был знаменитый девиз герцогов Нахера). Церковь, известная как «Колегиата», была расширена по настоянию ее аббата Хуана, а городской советник, родом из другой знаменитой семьи, Нуньо де Монрой, счел планы незаконченными. Церковь Сан-Андрес была известна тем, что являлась местом погребения лиц, казненных по приказу короля, – в их числе был и Альваро де Луна, долгое время исполнявший обязанности первого министра при короле Хуане II.
У Вальядолида, как у любого современного города, была и своя мирская жизнь. Здесь в 1481 году начали печатать книги – первая книгопечатня открылась при церкви Нуэстра-Сеньора-дель-Прадо, и первыми из-под пресса вышли буллы об отпущении грехов.
Для знати с менее интеллектуальными запросами в Вальядолиде имелись другие привлекательные объекты. Местные женщины, по мнению Андреа Наваджеро, венецианского посла в Испании в 1520-х годах, были прекрасны – хотя, как заметил фламандский придворный Лоран Виталь, слишком сильно красились{13}. Граф-герцог Бенавенте держал слона. В эти счастливые дни, предшествовавшие Реформации, часто устраивались праздники: «Tout est prйtexte а fкtes»[7]{14}. Летом на берегах Писуэрги постоянно устраивали танцы, а на Рождество, Страстную неделю (особенно в Великий четверг, когда из дверей церкви Святой Магдалены выходила яркая процессия) и праздник Тела Господня – пышные торжества; не стоит забывать и ночь на Святого Иоанна в июле, и Успение в августе, и Рождество Девы Марии в сентябре. В Страстную пятницу выступали процессии двух религиозных братств (кофрадиас) – «Девы у подножия Креста» и «Молитвы в Оливковом саду». Вторая из этих процессий в начале XVI столетия состояла из более чем 2000 пилигримов (насаренос[8]) и нескольких прекрасных платформ с фигурами святых и изображениями Тайной вечери и Туринской плащаницы. Все эти величественные религиозные празднества давали повод для музыки и танцев, а также боев быков{15}. Часто исполнялись пьесы, в особенности короткие сценки из повседневной жизни, называемые «сайнете».
Университет, который к тому времени был уже достаточно древним учреждением (он был основан в 1346 году), но в прежние годы контролировался Церковью, к 1522 году был полон гуманистами. Здесь можно было изучать юриспруденцию, медицину, богословие и «изящные искусства». Регулярно учреждались новые кафедры. В те времена, со своей тысячей студентов, он был третьим по величине университетом в Испании после Саламанки и Алькалы{16}. Лучший из современных ученых, занимающихся Вальядолидом, французский историк Беннассар, говорит, что в XVI веке ни в одном другом городе Кастилии не было настолько интеллектуальной атмосферы. Без сомнения, здесь, как и в большинстве учебных учреждений Испании, существовало два взгляда на классических авторов: сицилиец Лючио Маринео, Петр Мартир и братья Джеральдини были среди тех, кто прежде всего видел в поэзии красоту; другие, как Небриха, Диего де Мурос и Диего Рамирес де Вильяэскуса, ценили поэзию за ту истину, которую она выражала{17}.
Когда разговор заходит об интеллектуальной жизни в 1522 году, остается лишь один шаг до упоминания Эразма Роттердамского. Великий нидерландский гуманист и ученый отказался приехать в Испанию – но его идеи добрались сюда и проникли во все учебные и богословские учреждения. Сам Эразм по-прежнему чувствовал оптимизм относительно и европейского общества, и религии; разве он не написал: «Я могу лишь пожелать, чтобы мне довелось помолодеть на несколько лет, ибо передо мной рассвет золотого века»? Он подчеркивал, что все европейские правители пребывают в согласии и склоняются к миру. «Я не могу не чувствовать, – продолжал он, – что нас ждет новое Возрождение и в чем-то открытие заново законопослушных нравов и христианского общества, однако на этот раз в нем будет обновленная и более искренняя литература. Благодаря нашим благочестивым умам мы можем наблюдать пробуждение и расцвет умов блистательных…»{18}
Увы, его оптимизм был преждевременным. Тем не менее, книги Эразма Роттердамского пользовались в Испании необыкновенной популярностью. Ни в одной другой стране не было ничего подобного:
«…при дворе императора, в городах, в церквях, в монастырях, даже в тавернах и на больших дорогах – повсюду у кого-нибудь имелся экземпляр Эразмова «Оружия христианского воина» на испанском языке. До этих пор его читали лишь небольшое число латинистов, и даже они не всегда все в нем понимали; однако теперь его читают по-испански самые разные люди»{19}.
Эразм сумел увидеть необходимость рассмотрения проблем христианизации новых земель в Америках. В примечании к диалогу из «Ихтиофагии», добавленному в 1526 году, он размышляет о малых размерах территории, контролируемой христианами. Его собеседник спрашивает: «Разве ты не видел, как много южных берегов и островов несут на себе символы Христа?» «Да, – отвечает Ланио, персонаж, говорящий от лица самого Эразма, – и я узнал также, что оттуда можно привезти немалые богатства. Но я не слышал, чтобы туда привезли христианство»{20}.
Если даже Эразм смотрел в будущее с оптимизмом, то и многие простые христиане, очевидно, верили, что впереди их неотвратимо ждет новое, толерантное и интеллектуально насыщенное католичество. Вальядолид, должно быть, тоже в это верил. Многие из его образованных граждан проводили часы досуга за чтением знаменитых рыцарских романов, которыми в то время полнилась Испания. Фаворитом по-прежнему оставался «Амадис Гальский», но существовали и продолжения («Деяния Эспландиана», «Лизуарте Греческий»), новые романы в том же духе («Пальмерин Оливский»), а также исторический роман Овьедо «Дон Кларибальте».
Что касается одежды, то фламандские придворные, оказавшись в Вальядолиде, были удивлены, увидев тяжелые цепи из золота и яркие цвета одеяний. Женщины носили камчатные юбки и жакеты. В женских платьях 1520-х годов преобладали узкие плечи, узкая талия и широкий шлейф до пола. Мужчины проявляли тягу к роскоши не меньше чем женщины – они носили шелк, парчу, бархатную камку и тафту. Неудивительно, что в Вальядолиде того времени имелась целая армия портных – в 1560 году здесь был один портной на 200 жителей, – не говоря уже о торговцах тканями, изготовителях тесьмы, сапожниках и ювелирах. Самыми известными в городе ювелирами была семья Арфе из Германии. Энрике Арфе и его сын Хуан не только создали множество прекрасных украшений для повседневной жизни, но также усовершенствовали искусство изготовления золотых и серебряных сосудов для религиозных целей.
Как легко представить, в городе, где размещался роскошный, хотя и меняющий местоположение двор, имелась обширная армия рабов, как черных, так и мавров, а также колония «новых христиан» мусульманского и еврейского происхождения. Район города, известный под названием «Санта-Мария», расположенный к востоку от Калье-Сантьяго, представлял собой морериа — мавританское гетто; кроме того, здесь было значительное количество строителей, работающих на новых дворцах знати, многие из которых были мусульманами. Нигде в Кастилии бедняки не встречали лучшего к себе отношения, чем в Вальядолиде – без сомнения потому, что здесь было много работы, а также много благотворительных учреждений{21}. Время от времени мусульман обвиняли в тайной пропаганде, в том числе в распространении утверждения, что в местной общине появился пророк{22}. Итоги жизни в Вальядолиде хорошо подвел Мартин де Салинас, посол брата Карла V, Фернандо, в чьей глубокомысленной прозе мы можем увидеть описания епископов, герцогов, королей и монахов{23}.
А что насчет империи в Америке? В Вальядолиде было два здания, которые напоминали монахам, знати и даже самому королю о ее существовании: коллегии Сан-Грегорио и Санта-Крус. Здание первой располагалось сбоку от большой церкви Сан-Пабло, оно было заложено в 1480-х годах. Инициатором проекта был Диего Деса, друг Колумба из Саморы, впоследствии ставший архиепископом Севильи и Великим инквизитором. Свою лепту в оформление внесли Энрике де Эгас – брюссельский архитектор, построивший осталь (постоялый двор) в Сантьяго-де-Компостела, а также перестроивший собор в Толедо, – Хуан Гуас и Хиль Силоэ; Фелипе Вигарни создал в коллегии надгробие епископа Альфонсо де Бургоса, того самого, что перестраивал Сан-Пабло.
Из вышеперечисленных Вигарни представляет наибольший интерес. Бургундец, он в 1498 году прибыл в Бургос в возрасте около тридцати лет; историки считают его «одним из трех иностранных мастеров, научивших испанцев превосходной архитектуре и скульптуре»{24}. Он создал капеллу в кафедральном соборе Гранады, где своим «изящным резцом» высек надгробия короля Фернандо и королевы Изабеллы{25}. Уже к 1520 году он плодотворно сотрудничал с Берругете. Возможно, именно они двое были вдохновителями создания медальонов итальянского стиля в коллегии Сан-Грегорио, которые столь впечатлили фламандских придворных, прибывших вместе с королем Филиппом Красивым и королевой Хуаной, когда те слушали здесь мессу в 1501 году.
Элементом, демонстрировавшим внимание двора к Новому Свету и к конкистадорам, был фасад коллегии Сан-Грегорио: на нем были изображены волосатые дикари с дубинками в руках, наподобие тех, которых, по его словам, нашел на островах Карибского моря новоиспеченный вальядолидец Колумб. Их называли «масерос», т. е. «вооруженные дубинами». Примитивная дикость сцены компенсировалась изображением родового древа королевской фамилии и Альфонсо Бургосского, наряду с изображением самого названного епископа, преклоняющего колена перед святым Григорием.
В этой коллегии в XVI веке доминиканцы предоставляли семилетний курс обучения философии, логике, богословию и изучению Библии. Среди учившихся там были известные позднее теологи, отстаивавшие мнение, что у индейцев Нового Света есть душа (как фрай Франсиско де Витория и фрай Доминго де Сото), общественные деятели, управлявшие новой империей (например, фрай Гарсия де Лоайса, которому предстояло стать долгосрочным председателем учрежденного Карлом Совета Индий), а также первый епископ Лимы[9] фрай Висенте де Вальверде. Бывшим выпускником этого заведения был также и фрай Бартоломе де Карранса, архиепископ Толедский, чья интеллектуальная траектория доставила ему столько несчастий.
Находящаяся неподалеку коллегия Санта-Крус была выстроена не менее изящно, чем Сан-Грегорио, но ее стиль являл собой характерный образчик Ренессанса – чего и следовало ожидать от здания, выстроенного «Третьим испанским монархом», Педро Гонсалесом де Мендосой, который был архиепископом Толедо вплоть до своей смерти в 1494 году. Однако здесь мы не видим никаких признаков стремления кардинала увековечить в памяти своих студентов достижения его протеже Колумба, успеху которого он сам столь много способствовал. А ведь именно Гонсалеса де Мендосу мы должны вспоминать, думая о втором королевстве Карла V в Новой Испании, поскольку родственники кардинала, один Мендоса за другим, будут в дальнейшем играть не менее важную роль в установлении там испанских порядков, чем они сыграли в расцвете Возрождения в своей родной стране{26}.
В 1522 году при дворе Карла был еще один человек, связанный с Новым Светом. Среди прибывших вместе с императором в Вальядолид находился некто Жан Глапион, его французский духовник и советник. Он родился в местечке Лафес-Бернар в графстве Мэн и провел много лет во францисканском монастыре в Брюгге. Это был человек просвещенный и аскетический, беззаботный и набожный, он находился на попечении тетки Карла, разносторонне образованной эрцгерцогини Маргариты. Став духовником Карла, он пытался убедить его, чтобы тот поручил распространение идей Лютера Эразму, которому сам был весьма предан.
Глапион сопровождал императора на заседаниях главных советов, управлявших его королевствами. Однако затем, в 1520 году, Глапион и его соратник по францисканскому братству фрай Франсиско де лос Анхелес, услышав об открытиях Кортеса, выразили желание отправиться в Новую Испанию, чтобы обращать индейцев. Папа Лев X в своей булле «Alias felicis recordationis» от апреля 1521 года одобрил это стремление. Однако затем фрай Франсиско был провозглашен генералом ордена францисканцев, а Глапион стал помимо императорского духовника еще и его советником. Продолжал ли он после этого думать о поездке в Новую Испанию, сказать невозможно.
Глапион играл важную роль в принятии имперских решений в период с 1520-го по 1522 год, включая и назначение должностных лиц. Увы, в сентябре 1522 года харизматичный францисканец умер, оставив свое место более традиционно мыслящему духовнику-советнику, Гарсии де Лоайсе{27}. Останься Глапион жить, история Испании, Европы и католической церкви могла бы быть более толерантной, открытой новым идеям – и разумеется, более проникнутой идеями Роттердамца.
Вальядолид в 1522 году уже был крупнейшим центром. Затем подобные ему города будут воздвигаться по всей территории обеих Америк. Вскорости Новый Свет будет представлять собой такое же смешение дворцов и церквей, монастырей и рынков, площадей и улиц, зачастую носящих те же самые имена, что и в Вальядолиде. Испания перенесла в Индии традиции градостроительства, развитые в Риме и Средиземноморье. Они существуют там и по сей день.
Глава 2
Карл – король и император
История есть «великая госпожа», наш вожатый «даже среди величайших учителей наших», и наш самый верный проводник к «честному и праведному житию».
Бюде, цит. по «Основаниям» Квентина Скиннера[10].
Император Карл был выразителем городской традиции Испании и многих других земель. Несмотря на то что к 1522 году ему исполнилось всего лишь двадцать два года, он обладал значительным опытом. Его назвали по его прадеду, Карлу Смелому (le Tйmйraire), последнему герцогу Бургундскому – это христианское имя часто встречалось во Франции, но было почти неизвестно в Испании того времени{28}.
Карл родился в 1500 году, 25 февраля – в этот день тогда отмечалась память святого Матфея, евангелиста, сыгравшего некоторую роль в его жизни; Карл часто искал покровительства у этого святого{29}. Город его рождения, Гент, некогда был столицей средневековых графств Фландрии, которая являлась центром изготовления тканей, а также бургундским княжеством; именно будучи «Карлом Гентским», император в детстве и юности учился хорошим манерам, как подобает представителю бургундской знати. Однако сама Бургундия в те дни представляла собой довольно сложное многонациональное образование: это было бывшее французское герцогство с немецким монархом и фламандским сердцем. Первым языком Карла был фламандский.
Сам Карл был человеком многих национальностей, хотя среди его тридцати двух непосредственных предков имелся лишь один немец-Габсбург, противопоставленный длинной галерее кастильцев, арагонцев и португальцев. У него был даже английский предок в лице Джона Гонта (т. е. Гентского), герцога Ланкастерского – того самого «почтенного возрастом Ланкастера» из шекспировского «Генриха IV»[11]. Однако каким бы интернационалистом он ни выглядел, Карл провел свое детство во Фландрии. Его мать-испанка, Иоанна Безумная – Хуана ла Лока, – жила в далекой Кастилии, в Тордесильясе; отец, Филипп фон Габсбург – Филипп Красивый – был недосягаем, поскольку умер в 1506 году. Тем не менее, Карл нашел эффективную замену матери в даровитой сестре своего отца, Маргарите. Правительница Нидерландов, фактически королева, она была трижды вдовой, выйдя сперва за инфанта Хуана, сына и наследника испанских монархов, а затем за герцога Савойского, чью память вместе со своей собственной увековечила в изящной церкви в Бру, возле Бурк-ан-Бреса{30}. У нее был дворец в Мехелене, знаменитый своим первым в Нидерландах ренессансным фасадом: это здание, где переход от позднесредневековой готики к Ренессансу виден наиболее отчетливо, ибо здесь соотношение этих стилей друг с другом находится в почти абсолютном символическом равновесии.
Здесь, в тени прекрасного собора Святого Румольда, она содержала изысканный двор, окружив себя поэтами, музыкантами и художниками. Маргарита коллекционировала не только картины, но и любые необычные, прекрасные и экзотические объекты. Она сама рисовала, писала стихи, играла в шахматы и трик-трак, а ее библиотека пользовалась известностью как одно из первых величайших книжных собраний после недавнего изобретения книгопечатания. Ее библиотекарем был поэт. Она знала, что при дворе должны быть художники – и в ее случае это был великолепный Бернарт ван Орлей из Брюсселя и блестящий Альбрехт Дюрер из Нюрнберга, не говоря уже о короле шпалерного искусства Питере ван Альсте из Ангьена. Маргариту утвердил в ее полукоролевском звании ее племянник Карл, и в письмах к нему она подписывалась как «ваша смиреннейшая тетка». Ее влияние на него было огромным. Она с подозрением относилась к Франции – однако именно она научила своего племянника, кроме всего прочего, тому, что королевский двор может быть «салоном»{31}.
На Карла оказывали влияние еще по меньшей мере два человека. Первым из них был наставник, которого нашла ему Маргарита – Адриан из Утрехта, декан церкви Святого Петра в Лувене, член Братства общей жизни – благочестивого аскетического сообщества, основанного на севере Нидерландов, в Девентере, в конце XIV столетия. Полагаю, этих людей можно назвать протогуманистами. Адриан, будучи сыном корабельного плотника, мог рассказать Карлу о том, как живут обыкновенные люди. От Адриана «Карл перенял легкую манеру поведения и простое обращение, которое завоевало ему такую любовь у его фламандских подданных»{32}. Братство общей жизни было одним из тех католических новообразований, стремящихся к упрощению церковной жизни, которые, если бы им удалось добиться большего успеха, могли бы сделать Реформацию ненужной. В ордене насаждался культ бедности, о каковой Адриан также не упускал случая напомнить своему прославленному ученику{33}. Многие из знаменитейших людей того времени принадлежали к этому обществу – среди них был Меркатор, изобретатель картографии{34}, и Фома Кемпийский с его книгой «О подражании Христу», столь близкой учению братства.
Адриан, однако, нашел для себя возможным принимать мирские должности. Начав с простого доктора богословия при Лувенском университете, он затем стал его канцлером. Начав с должности преподавателя при Карле, он стал сперва фламандским послом в Кастилии, а затем, на время отсутствия Карла после мая 1520 года, и тамошним регентом. Хотя он оказался неспособен предотвратить произошедшую в этом году революцию{35}, непосредственно вслед за этим произошло нечто необыкновенное. А именно: в январе 1522 года кардиналы в Риме неожиданно провозгласили его папой. Флорентийский историк Франческо Гвиччардини, живший в то время, вспоминал, что кандидатура Андриана была предложена «без малейшего расчета со стороны кого бы то ни было действительно его избрать – но просто чтобы провести утро. Но затем в его пользу было отдано несколько голосов, и кардинал Сан-Систо разразился бесконечной речью в его поддержку, в то время как несколько кардиналов начали склоняться в его сторону…» За ними последовали другие,
«…более повинуясь внезапному порыву, нежели осознанному выбору, результатом чего явилось то, что в это же самое утро он был избран папой анонимным голосованием, причем избравшие его были не в состоянии привести хоть какую-то причину, по которой, среди столь многих трудов на благо Церкви, им вздумалось избрать чужестранца из «варварской страны», не заслужившего никакой поддержки ни благодаря своим достижениям в прошлом, ни из бесед, которые он мог вести с кардиналами, едва знавшими его по имени, и ни разу не бывавшего в Италии»{36}.
Сам Адриан писал своему другу, что «предпочел бы быть каноником в Утрехте, нежели становиться папой»{37}.
Будучи избран в январе, Адриан потратил много времени на то, чтобы добраться до Рима. В самом деле: он прибыл туда лишь в конце августа, и немедленно вслед за этим разразилась чума – что, как легко представить, было сочтено дурным знамением. В Ватикане над Адрианом насмехались из-за того, что он предпочитал вину пиво, а также потому, что он отказывался поручить Челлини, знаменитому тосканскому ювелиру и скульптору, хоть какую-нибудь работу. Его отказ поощрять непотизм вызывал у кардиналов ужас. На двери Ватикана было прикреплено большое объявление, гласившее: «Этот дворец сдается внаем». Другой плакат обвинял кардиналов, избравших Адриана: «Грабители, предатели крови Христовой, вы еще не скорбите, что отдали Ватикан на волю германского гнева?». «Этот наш новый папа не хочет никого знать, – писал один из придворных, Джироламо Негри, – весь мир пребывает в отчаянии»{38}. Кардиналы голосовали за него, потому что думали извлечь выгоду, заполучив в Ватикан наставника нового императора. Однако Карл не пытался поддерживать его; вообще, судя по всему, ему больше нравился Уолси, амбициозный кардинал-англичанин.
Избрание Адриана с политической точки зрения было ошибкой. Он был нечувствителен к античной древности, которая окружала его в Риме, считая ее пережитком язычества. Дворцу он предпочел бы скромный маленький домик. У него были другие заботы: один из первых его указов запрещал носить в Ватикане бороды{39}. Да, он служил мессу каждый день и говорил на хорошей, хоть и грубоватой латыни, но он был совершенно не искушен в политике. Великолепный историк папства Людвиг фон Пастор писал, что «Адрианово простодушное стремление жить исключительно ради долга было для итальянцев того времени словно явление из другого мира: за пределами возможностей их понимания»{40}.
Другим человеком, оказавшим влияние на императора Карла в его ранние годы, был Гильом де Круа, сьер де Шьевр. Этот дворянин, родом из влиятельной фламандской семьи, служившей всем великим герцогам Бургундии на протяжении предыдущего столетия, в 1509 году стал «гувернером и главным камергером» Карла. Его влияние было противоположно влиянию Адриана – но оно было весьма значительным, поскольку он являлся носителем бургундской традиции даже еще больше, нежели эрцгерцогиня Маргарита. «Говоря по правде, – признавался Карл архиепископу Капуи, – пока он был жив, монсьер де Шьевр правил мною». Он спал с Карлом в одной спальне и не спускал с него глаз весь день. Карл рассказывал венецианскому послу в Испании Гаспаро Контарини (писателю и будущему кардиналу), что сызмальства узнал цену Шьевра и «надолго подчинил свою волю его»{41}.
Шьевр был человеком себе на уме, но исполнительным – и суровым наставником. Когда французский посол Жанлис спросил его, зачем он заставляет Карла так много трудиться, хотя тому всего лишь пятнадцать лет, Шьевр ответил: «Кузен, я призван охранять и защищать его юность. Я не хочу, чтобы он оказался неспособным правителем из-за того, что не понимает положения дел или не научился как следует работать»{42}. Научиться работать! Может ли образование дать человеку что-либо более важное?
Шьевр был весьма заинтересован в продвижении интересов своей семьи. Тем не менее, именно он дал Карлу рыцарское образование, так много значившее для того, и рассказал ему об использовании различных видов оружия, о верховой езде, а также о таких героических творениях, как сочинения превосходного придворного Оливье де ла Марша. Ла Марш, государственный служащий из Франш-Конте, был капитаном гвардии при все еще с печалью вспоминаемом Карле Смелом. Он написал заметки о дворцовом этикете и церемониале, отводя в них первое место знаменитому бургундскому ордену Золотого Руна. Ему принадлежала аллегорическая поэма о Карле Смелом, «Le Chevalier dйlibйrй», написанная в 1482 году, а также мемуары, которые пользовались большим читательским спросом в следующем столетии.
Ла Марш был автором книги, где описывался кодекс поведения в различных европейских странах, которую читали император Максимилиан и, возможно, его дочь Маргарита. Благодаря Ла Маршу, для которого, судя по всему, жизнь представлялась как один сплошной вызов и цепь последовательных опасностей, память Карла Смелого заняла важное место в характере молодого императора Карла: ибо «никто другой, – как писал нидерландский историк Хёйзинга, – не вдохновлялся настолько сознательно образцами прошлого или выражал подобное стремление соответствовать им», как этот герцог{43}. То же самое может быть сказано и о Карле-императоре. Подобно своему предку, Карл гордился орденом Золотого Руна, который выражал для него значимость таких вещей, как доблесть, преданность, набожность и даже простота.
В Вальядолиде в 1522 году Карл, очевидно, был все тем же долговязым, угловатым юношей со странными чертами лица и вечно приоткрытым ртом, которого так часто рисовал любимый портретист его тетушки Маргариты, Бернарт ван Орлей. У него была сильно выраженная габсбургская челюсть{44}, и, как выразился один посол, было похоже, что его глаза посажены на чересчур длинное лицо. Он был тощ. Венецианец Контарини описывает его так: «Среднего роста, не длинный, не короткий, скорее бледный, нежели румяный, с крепкими ногами и сильными руками, нос довольно остер, но мал, глаза беспокойные, взгляд серьезный, но не жестокий и не суровый»{45}. Это определенно не был еще тот умудренный жизнью человек, которого мы видим на гениальных полотнах Тициана; он не похож ни на стоящую фигуру с собакой, ни на сидящего в кресле монарха с орденом Золотого Руна на груди, и тем более на рыцаря в латах в битве при Мюльберге. Впрочем, в своем телосложении Карл был не менее противоречив, чем во всем другом.
В молодые годы отрицательные качества, по-видимому, доминировали в его характере. Духовник Карла, Глапион, говорил Контарини, что молодой правитель слишком хорошо помнит несправедливости, причиненные ему другими людьми; он не был способен легко забывать{46}. Разговоры, судя по всему, его утомляли; ведение беседы не было чем-то таким, что давалось ему без труда{47}. Алонсо де Санта-Крус называл его «другом одиночества и критиком веселья»{48}. Один из придворных, де Лонги, охарактеризовал его темперамент в 1520-х годах как смесь пассивности и нетерпения.
Вскорости Карл начал поражать своих современников тем, что Рамон Каранде, великий историк начала XX века, назвал «его чрезвычайной способностью психологического проникновения»{49}. Его авторитетный биограф, немец Карл Бранди, писал, что в конечном счете он стал «императором в словах и делах, во внешности и жестах… Даже те, кто долгое время ему прислуживал, удивлялись не только его молодости, но также его энергии, строгости и величию»{50}.
Придворные и государственные чиновники понемногу начинали видеть в нем великодушие, широту ума, щедрость. Хотя он по-прежнему выглядел нездоровым, медлительным в движениях и в речи, и даже безобразным внешне, в Карле чувствовалось какое-то могущество, авторитет лидера. Он никогда не чувствовал себя с людьми легко и естественно – но теперь в его личности начали отражаться его высокие представления о чести и уверенность в своей цели. Как показывает небольшое собрание его мемуаров, он понемногу становился искренним и любопытным. Некоторые из этих черт уже проявляли себя в Вальядолиде в 1522 году{51}.
Благодаря Шьевру Карл был бургундским дворянином; Адриан Утрехтский сделал его набожным; его тетка Маргарита привила ему вкус к политике и изящным искусствам, а также познакомила его с идеей общественного служения, присущей всем Габсбургам. Это сочетание влияний породило в нем, по выражению Карла Бранди, «глубокомысленные принципы и желание воплощать их в жизнь, аристократические манеры, а также идеалы рыцарской чести и борьбы за христианскую веру, в духе кодекса Золотого Руна». Бургундия также дала ему представление о политических преимуществах строгого соблюдения дворцового церемониала.
Уже в 1522 году он имел вкус к хорошей одежде: он выглядел «muy rico y galбn»[12]. Он был физически развит, и его дед, император Максимилиан, говорил, что «рад, что мальчик делает такие успехи в охоте, поскольку если бы не это, люди могли бы заподозрить, что он бастард, а не мой внук»{52}. С ранних лет жизни он привык считать, что будет похоронен в прекрасном картезианском монастыре Шанмоль под Дижоном, где находились гробницы его предков, герцогов Бургундских, высеченные Клаусом Слютером, и всегда надеялся, что сможет отвоевать у Франции эту часть Бургундии; впоследствии он наказывал Филиппу, своему сыну, «никогда не забывать нашего герцогства Бургундского, которое является нашим исконным достоянием»{53}.
Карл, как и все представители его семьи, любил музыку. При дворе Маргариты он научился играть на клавикордах. Он с удовольствием слушал тетушкиных музыкантов, игравших на скрипках, тамбуринах и флейтах, а также хористов; любил он и слушать хорошую музыку в своей капелле{54}. Один из его друзей детства, Шарль де Ланнуа, происходящий из рода не менее выдающегося, нежели Круа (его дед, Гуго де Ланнуа, был одним из основателей ордена Золотого Руна), как-то заметил, что любить музыку пристало лишь женщинам. Карл вызвал его на поединок и сам выбрал копья и боевых коней. Схватка была весьма волнующей; хотя Карл в итоге победил, его конь пал, а шрамы от этого поединка остались у него на всю жизнь. Ланнуа впоследствии стал камергером (кабальерисо майор) Карла, а в марте 1522 года сделался вице-королем Неаполя{55}.
Карл Бранди писал, что один лишь Карл мог замыслить нечто столь великолепное, как витражи кафедрального собора Святой Гудулы в Брюсселе: «В одном окне за другим, словно возведенные на полпути между небом и землей, они стоят, сверкая яркими красками и церемониальной пышностью, – царственные невесты и женихи, попарно опустившиеся на колени в поклонении… кто, кроме Карла, мог бы замыслить и заказать нечто подобное?»{56} Кажется вероятным, впрочем, что идея могла принадлежать его тетке Маргарите, поскольку по меньшей мере пять витражей огромного трансепта были выполнены по рисункам искусного придворного художника Бернарта ван Орлея. Последний витраж, графически изображающий Страшный суд, был вкладом Эрарда де ла Марка – принца-епископа Льежского, друга Карла и одного из немногих европейских владык Церкви, на кого оказали влияние известия о Новом Свете. Сам епископ-даритель изображен на первом плане сцены с крестом в руках{57}.
Несмотря на значительную интеллектуальную подготовку, в свои юные годы Карл предпочитал проводить время с такими молодыми аристократами, как Ланнуа, Иоганн-Фридрих Саксонский – будущий курфюрст, в которого сестру Карла угораздило так неблагоразумно влюбиться, а также Фридрих фон Фюрстенберг и Макс Сфорца; все они были его пажами, и все считали более важным достижением способность преломить копье, оставшись при этом в седле, нежели умение правильно построить латинскую фразу. Все они впоследствии сыграют важную роль в жизни Карла, в особенности Иоганн Саксонский.
Хотя у Карла было много королевств, бегло он говорил только на французском и фламандском. Он начинал учить испанский в 1517 году, но еще в 1525 году Иоганн Дантиск, польский посол в Испании, писал, что Карл по-прежнему находит этот язык трудным, а также что на тот момент он, по-видимому, не владел и немецким (у Польши в то время было нечто вроде фамильного соглашения с Габсбургами). Латынь он тоже так и не выучил как следует, несмотря на уроки Адриана Утрехтского, – хотя сам позже неоднократно высказывал уверенность, что латынь совершенно необходима для его сына Филиппа. Рассказывают, что когда кто-нибудь обращался к нему на латыни, а он не понимал, то он обычно говорил: «Этот человек принимает меня за Фернандо» (имея в виду своего деда, короля Арагонского). Однако если ему все же удавалось понять, что ему говорят, он замечал: «Этот человек малограмотен, его латынь никуда не годится»{58}. В конце концов он улучшил свой испанский, но по-немецки не говорил хорошо никогда, и его латынь была весьма плоха, несмотря на то что он понимал итальянский.
В детстве у Карла не было никаких связей с его испанским наследием. Придворные, будь они коварные интриганы, как Хуан Мануэль, или дружественные ему клирики, такие как Алонсо де Фонсека, архиепископ Сантьяго[13], или Руис де ла Мота, епископ Паленсии, имели на него ограниченное влияние в сравнении с эрцгерцогиней, Круа и Адрианом Утрехтским. Санта-Крус, автор хроники того времени, считал, что ему было трудно найти в себе доверие к испанцам{59}.
Тем не менее, в 1516 году Эразм представил ему свое «Воспитание христианского государя», в то время как «Часы государевы» Антонио де Гевары, опубликованные в 1529 году, стали самой распространенной и читаемой книгой в Европе за все XVI столетие – чаще читали только Библию. Для Карла историческое знание стало «колыбелью практической мудрости». Можно сказать, что те, кто обладают лучшим пониманием прошлого, имеют «наибольшее право действовать в качестве советников при правителях»{60}. Французский ученый Гийом Бюде считал, что чтение исторических книг приводит к пониманию не только прошлого, но также настоящего и будущего.
В отношении политики Карла говорилось, что трудно определить, является ли он скорее монархом средневекового типа или же современного. Он дважды вызывал короля Франциска на поединок, исход которого, по его мнению, мог бы уладить все их разногласия. Карл не испытывал теплых чувств по отношению к национализму, ни даже к патриотизму, однако верность дому Габсбургов была для него делом совсем иного рода. Он не одобрял идею иметь одну определенную столицу: «Королям не нужны резиденции», как однажды он сказал своему сыну Филиппу, когда они вдвоем коротали неуютную ночь в королевском павильоне в Эль-Пардо{61}. В те дни Карл все еще выглядел средневековым монархом. Однако в то же самое время он уже знал, благодаря советам Меркурино Гаттинары, о преимуществах организованной государственной службы, а преобразования, которые он осуществил в своих правительственных комитетах, могли лишь улучшить образ постренессансного властителя.
В числе государственных чиновников, бывших в то время на службе у Карла, было много фламандцев и бургундцев, таких как Гаттинара, который был родом из-под городка Стреза в Пьемонте и прежде служил советником по юридическим вопросам у тетки Карла, Маргариты. Гаттинара, канцлер Карла с 1522 года, был поистине наиболее влиятельным среди этих людей. Это был очень одаренный человек, хотя и педант; он любил рассуждать о тонкостях употребления сослагательного наклонения, однако сочетал подобную внимательность к деталям с широкими взглядами. Он также весьма цветисто рассуждал об имперской роли Карла в своих частых и красноречивых меморандумах, однако его советы касались и многих менее значительных вещей – так, например, он рекомендовал Карлу сделать короткую стрижку и отрастить бородку наподобие той, что носил император Адриан{62}.
Император и его канцлер никогда не состояли в таких близких отношениях, в каких должен бы быть великий правитель со своим наиболее значительным государственным служителем; очевидно, Карла утомляла бесконечная напыщенность Гаттинары. В начале 1523 года, в Вальядолиде, Гаттинара писал своему господину, что по его мнению, Карлу грозит опасность последовать по пути своего деда Максимилиана, которого, несмотря на его многочисленные таланты, называли «дурным садовником», поскольку он никогда не собирал урожай вовремя. Необходимо составить точную смету всех приходов и расходов; кортесы (парламент) в Испании должны изыскать новый источник доходов. Он, Гаттинара, при первой необходимости готов написать Карлу черновики речей. Однако он хотел бы, чтобы Карл выработал «дальнейшую политику» в Италии:
«Заклинаю вас именем Господа нашего, чтобы до тех пор, пока вы не доберетесь до Италии, ни в совете, ни где-либо еще, ни в шутку, ни всерьез вы ничем не показывали, что собираетесь самолично овладеть Миланом. Не передавайте крепость испанцам, не принимайте город тайно у герцога. Ни о чем таком не может быть и речи, в каком бы секрете это ни держалось, ибо у стен есть уши, а у слуг языки…»
…и если Карл продолжит действовать так, словно ожидает, что Бог каждый день будет творить для него чудеса, то он, Гаттинара, будет просить уволить его от какого-либо дальнейшего вмешательства в дела финансовые или военные. В противном случае он будет рад остаться на королевской службе до того дня, когда Карл будет коронован в Италии. После этого он воистину сможет сказать: «Nunc dimittis servum tuum domine»[14]{63}.
В апреле 1523-го, по-прежнему будучи в Вальядолиде, Гаттинара писал Карлу о своем собственном положении: он хотел, чтобы его власть была либо подтверждена, либо забрана у него. Он заметил, что канцлеры Англии и Франции получают вчетверо больше, чем платят ему. Он жаловался, что иногда ему приходится по два часа дожидаться аудиенции у Карла, пока император встречается с людьми, которых он, Гаттинара, почитает ничтожествами. Он боится, что его звание канцлера низведено до ранга кабацкой вывески. В другой записке, примерно того же времени, Гаттинара пишет Карлу: «Даже если бы Вашему Величеству было суждено добавить ко всем своим талантам мудрость Соломонову, вы не были бы способны делать все сами»{64}. Даже самому Моисею Бог наказал искать себе помощников. Так же и Карлу не следует браться за что-либо, не удостоверившись, что он сможет довести дело до конца. Следует отличать обычные затраты правительства от расходов в чрезвычайных ситуациях, таких как война.
Гаттинара, ломбардец до мозга костей, верил, что тот, кто контролирует Северную Италию, держит в руках ключ к мировому господству. Коронация императора там станет печатью на всех его предыдущих достижениях. Один римский дипломат писал: «Пусть император правит Италией – и он будет править всем миром»{65}. Тем временем любовь всех его подданных должна быть для Карла «несокрушимой крепостью» – выражаясь словами Сенеки; их дружеские чувства следует взращивать, к их жалобам прислушиваться. Карл должен следить за тем, чтобы, если будет необходимо предпринимать какие-либо непопулярные действия, ответственность за них взяли на себя другие. Императору не пристало заниматься недостойными делами.
Затем Гаттинара касался политики в Индиях. Он спрашивал, считает ли император, что дикарей следует обращать в христианство. Советник Жерар де ла Плен (сеньор ла Рош), бургундец, которого Карл часто использовал для дипломатических поручений, сообщает, что с индейцами обращаются не как с людьми, но как с животными – несомненно, этого не следует позволять. Карл, по всей видимости, благосклонно относился к таким предложениям. Разве он не прислушался в 1518 году к Бартоломе де Лас Касасу и не принял его сторону; разве он сам не предложил, чтобы индейцам, которых прислал на свою родину Кортес в 1519 году, выдали теплую одежду, скроенную лучшими севильскими портными?
В июле 1523 года Карл созвал кортесы в Вальядолиде. Как обычно, присутствовали представители (прокурадорес) от половины городов Кастилии. В длинной речи, которую написал для него Гаттинара, Карл признал свои ошибки, но списал вину за них на свою молодость. Он цитировал Цезаря, Траяна и даже Тита: по его словам, все они считали стремление к миру основой любой внешней политики. Гаттинара тоже выступил, провозглашая божественное происхождение королевской власти – в конце концов, ведь сердца всех королей находятся в руце Божией. Он не упоминал индейцев открыто, но отметил необходимость продолжать завоевание Африки{66}. На кортесы все это произвело впечатление, и они проголосовали за то, чтобы выдать Карлу запрошенную им ссуду, – хотя сумма, на которую они согласились, была меньше, чем в каком-либо другом случае на протяжении правления Карла{67}.
В политическом смысле Карл являл собой такую же смесь, как и в генеалогическом: в одни минуты он казался либеральным, гуманным, толерантным; в другие он мог вскинуться, услышав малейшую критику. Его приговор, вынесенный разгромленным повстанцам после войны комунерос (членов парламента, восставших против правительства) в 1522 году, был образцом мудрости на много веков вперед: меньше сотни человек погибли в Кастилии в связи с этим восстанием, причем некоторые из них скончались в тюрьме от болезней{68}.
Кульминационной точкой этого второго пребывания Карла в Вальядолиде стала церемония на День Всех Святых в 1522 году, перед церковью Сан-Франсиско, когда он объявил об общем помиловании всех, кто был вовлечен в этот конфликт, – кроме двенадцати эксептуадос, на которых у Карла сохранился гнев. Учитывая, что повстанцы организовали, по каким бы то ни было причинам, серьезную атаку на авторитет короны, и даже предлагали власть матери короля – немощной, истеричной Хуане, такое мягкосердечие было поразительным.
В 1520-х годах Карл был убежден, прежде всего стараниями своего канцлера Гаттинары, что он занимает сверхчеловеческое положение в христианском обществе. Гаттинара в 1519 году провозгласил Карла «величайшим императором со времен разделения империи в 843 году». Карл был убежден другими, и сам начинал думать, что Бог избрал его на роль верховного вселенского правителя. Он верил, что является вторым по значимости мечом христианского мира – первым, конечно, был папа как наместник Христа. Он знал об «исповедальной природе» своей короны{69}. Власть над империей возлагала на него неотчуждаемую миссию, превыше всех других королей, а также право требовать их поддержки в объявленном им крестовом походе против мусульман – будь это армия султана в Венгрии или флот Барбароссы на море.
Гаттинара твердил ему, что расцвет всемирной монархии уже близится, и выражал надежду, что Карл приведет весь мир под руку «единого пастыря», как это предположительно было во времена римлян{70}. Остальная часть мира будет впоследствии завоевана или сама попадет в зависимое положение{71}. Цветистые фантазии Гаттинары действовали опьяняюще. Порой им удавалось убедить Карла, но зачастую они бывали им отвергнуты.
Идея, что Карлу уготовано великое место в том, что папа Юлий II называл «мировой игрой», была широко распространена. В 1520 году Кортес настаивал, что Карл должен считать себя «новым императором» Новой Испании в той же мере, что и Германии{72}. В 1524 году он пошел еще дальше, обратившись к Карлу как к «Вашему Величеству, которому подчиняется весь мир»{73}. Возможно, Кортес почерпнул это представление у своего капитана, Херонимо Руиса де ла Мота из Бургоса, который был двоюродным братом того самого наставника молодого Карла, что рассуждал об этом предмете в своей речи в Ла-Корунье в 1520 году. Даваемое им титулование отражало эту идею в первой же строчке: «Рor la divina clemencia, emperador semper augusto»[15]{74}. В 1530-х годах некий епископ отдаленной епархии Бадахос будет молиться, чтобы христианские государи «все объединились и примкнули к Вашему Священному Величеству как к монарху и Господину мира, чтобы истребить и преследовать язычников и неверных»{75}. Так, даже в Новой Испании некий малоизвестный конкистадор, Хуан де Ортега, родом из Медельина, родного города Эрнандо Кортеса, делая заявление от лица своего командира в 1534 году, говорил об императоре Карле как о «Его Величестве Господине мира»{76}. Ранее, во время его избрания императором в 1519 году, друзья Карла доказывали, что его величие, опираясь на столь могучий фундамент, как испанская и имперская короны, может означать, что, добившись имперской короны, он может объединить всю Италию и большую часть христианского мира в «единую монархию»{77}.
Отношение Карла к церкви было двойственным. Он видел себя прежде всего защитником христианства – а соответственно, всегда был рьяным, и даже твердолобым, католиком. Он ходил к мессе ежедневно, иногда по два раза на дню{78}. Однако вопросы догматики его не особенно интересовали, и он часто ссорился с папами – даже когда, как это было в 1522 году, эту высокую должность занимал его старый друг. Он мог даже призывать к войне против пап, как это произошло в 1527 году со вторым папой из семейства Медичи, Климентом VII. В ранние годы своего правления он придерживался довольно радикальных взглядов относительно реформы Церкви, и с явным удовольствием читал такую пагубную литературу, как диалоги о папстве Альфонсо де Вальдеса, своего блестящего нового секретаря родом из Куэнки.
Вальдес был высокопоставленным государственным чиновником. В 1522 году он еще занимал скромную должность нотариуса в канцелярии Гаттинары, но вскорости станет генеральным инспектором всего секретариата. Он был протеже Петра Мартира и испытывал едва ли не религиозный восторг по отношению к Эразму. Один из его диалогов, «Меркурий и Харон», написанный в конце 1520-х годов, начинается с размышлений первого из поименованных относительно того, что причиной войны, охватившей, кажется, весь христианский мир, являются происки врагов императора. Однако его мысли постоянно прерываются прибытием новых душ, перевозимых через Стикс на лодке Харона. Души эти по большей части не злы, а лишь невежественны, и чрезвычайно потрясены тем, что оказались на пути к вечным мукам после жизни, в течение которой они не сделали ничего худшего, чем следование общепринятым условностям. Возможно, при выборе сюжета для диалога на Вальдеса оказало влияние написанное несколькими годами раньше знаменитое полотно фламандского мастера Иоахима Патинира, где был изображен Харон, переправляющийся через Стикс?{79} Такие примеры классической темы на службе у христианского дискурса встречались редко.
Поскольку Вальдес был эразмистом, его писания были направлены не против принципов христианства, но против Церкви и папской курии. Себя он видел советником, наставляющим государя на путь истинный, тем Erasmista, что стремится превратить своего господина в просвещенного деспота{80}. Мятежи против плохих правителей, по его мнению, необходимы всегда. Карл тем временем получил от папы большую уступку в виде буллы «Eximiae devotionis affectus» 1523 года, которая даровала ему и его потомкам, как королям Испании, право представлять кандидатов на должности архиепископов и епископов и распределять соответствующие бенефиции в Испании и по всей Испанской империи{81}.
У Карла всегда имелась толерантная сторона: даже в своем завещании, написанном в то время, когда из-за боли и измождения он казался непреклонным, он предлагал, чтобы инквизиторам давалось звание каноника, и таким образом они не имели бы необходимости жить от имущества, конфискованного у обвиненных{82}. Он часто казался эразмистом, склонным к компромиссу с Реформацией: относительно богословия он был готов уступить в вопросах, касавшихся догматов веры, доктрины оправдания верой, использования причастной чаши для мирян – и даже идеи брака для священников{83}. Однако он не желал, чтобы это выглядело так, словно в этих вопросах он пользуется советами таких людей, как Вальдес. Он всегда считал, что папы делают ошибку, не интересуясь внутренней реформой Церкви, которая, как объяснили ему его наставники во Фландрии, была совершенно необходима и которую большинство немецких правителей, включая самых рьяных католиков, так желали видеть.
Что касается церкви в Испании, Карлу вскоре предстояло оценить «потрясающую эффективность» власти инквизиции на службе Церкви и короны. Понемногу к нему приходило осознание преимуществ органа правосудия, призванного обеспечивать единство христианской веры, тем самым делая возможным построение земной утопии – всемирной христианской империи. Однако в 1522 году это было еще не так; он еще не испытывал энтузиазма в отношении этой организации, помня о том, как его отец, Филипп, примеривался к идее отмены инквизиции и даже обращался к папе Льву X с предложением покончить с ней. Затем, по-видимому, Карл решил, что инквизицию можно использовать и в добрых целях{84}. Скорее всего именно по этой причине в сентябре 1523 года он утвердил весьма примечательное назначение, определив на пост инкисидор-хенераль своего старого друга, эразмиста Алонсо Манрике де Лара, который приходился сводным братом великому поэту Хорхе Манрике, автору известнейших строк: «Наши жизни – реки, что текут в море, и море это – смерть; туда отправляются князья, и там кончается их власть»[16]{85}.
Став епископом Бадахоса в 1499 году, Алонсо Манрике занимался в основном тем, что обращал в христианство мусульман, многие из которых взяли в крещении имя Манрике. Король Фернандо заключил его в тюрьму, сочтя его действия «вредоносными», но тот все же в конце концов сумел добраться до Фландрии, где присоединился ко двору Карла. Там он в 1516 году отслужил мессу в кафедральном соборе Святой Гудулы в Брюсселе, которая предшествовала провозглашению Карла королем Испании. После того как он подружился с кардиналом Сиснеросом (регентом Испании в 1516 году), который увидел в нем человека надежного и радеющего за дело Испании, его перевели в епархию Кордовы, где он предпринял достопамятное начинание, затеяв строительство христианского собора посреди великой Мескиты[17]. Также он приложил все усилия, чтобы содействовать Магдалене де ла Крус, приорессе клариссинок, претендовавшей на удивительный дар общения со святыми. В 1520 году в Ла-Корунье он был провозглашен главным капелланом императора, а в октябре того же года принял участие в коронационном шествии императора в Ахене.
Во всех этих деяниях Манрике следовал идеям Карла, несмотря на противодействие его нового духовника, доминиканца Гарсии де Лоайсы. В последующие годы, однако, Карл сожалел, что в 1520 году предоставил Лютеру гарантию неприкосновенности на Вормсском рейхстаге – последней крупной дискуссии между протестантами и католиками, и частенько бормотал по-испански: «Muerto el perro, muerta la rabia»[18]{86}. Он позволил Гарсии де Лоайсе и другим консервативным прелатам оттеснить Манрике де Лара в сторону, убеждая его посвятить все время своему архиепископству в Севилье, а управление делами инквизиции оставить совету{87}.
Уже в 1522 году с Карлом постоянно заводили разговоры о том, что ему необходимо жениться. Императору нужен был наследник. Тем не менее, весьма возможно, что у него была любовница в Испании – в неожиданном варианте Жермены де Фуа, неправдоподобно молодой вдовы его деда, Фернандо Католика. Разве в завещании деда не предписывалось, чтобы Карл озаботился ее благополучием? Предположение, что между ними двумя существовала по меньшей мере amitiй amoureuse[19], оспаривалось Фернандесом Альваресом – в то время как Лоренсо Виталь вспоминает, что император велел выстроить небольшой деревянный мостик между своими и ее покоями, который позволял ему навещать ее втайне{88}.
В 1522 году, после того как Карл покинул Фландрию, девушка, которую он необдуманно соблазнил в Нидерландах, Иоханна ван дер Гейнст, дочь гобеленного мастера из Ауденарде, родила девочку, которую ее отец впоследствии признал своей дочерью. Это была будущая Маргарита Пармская, которая благодаря воспитанию и обучению, предоставленными ей ее тезкой-эрцгерцогиней, тридцатью годами позже станет регентшей в Брюсселе.
И еще две девочки, отцом которых был, очевидно, Карл, родились в это время. Во-первых, это Хуана Австрийская, дочь одной из дам, сопровождавших Генриха Нассауского; позже ее отдадут в августинский монастырь в Мадригаль-де-лас-Альтас-Торрес, где она станет монахиней. И во-вторых, Тадеа, итальянская дочь Карла, чьей матерью была Орсолина делла Пенья, «краса Перуджи», прибывшая к императорскому двору в Брюсселе в 1522 году и впоследствии жившая в Риме; в 1562 году она была еще жива{89}. Не стоит забывать и вероятность того, что Изабелла, дочь Жермены де Фуа, вдовы короля Фернандо, также была рождена от императора. Последние упоминания о ней относятся к 1536 году{90}.
Карл был поразительной фигурой. Никто из его предшественников не обладал такими амбициями. Хоть его дед Максимилиан был истинным правителем эпохи Возрождения и гордился своими бургундскими предками, его нельзя было назвать интеллектуальным государственным деятелем, это скорее был просто немецкий политик. Карл же был многонациональным королем, которому служили и савояры наподобие Гаттинары. Он был ведущим государственным деятелем своего времени и принимал свое величие как должное. Новый Свет, по-видимому, был для него чем-то, чего он заслуживал и в чем нуждался, но Карл не был удивлен его открытием. Очевидно, Новая Испания казалась ему естественным развитием его империи.
Глава 3
Кортес и восстановление Мехико-Теночтитлана
Я заверяю ваше Императорское величество, что эти люди настолько непокорны, что при любом нововведении или возможности для мятежа они начинают бунтовать.
Письмо Кортеса Карлу V, 1524 год
Жизнь Эрнандо Кортеса была победоносной в смысле, едва ли знакомом кому-либо из других военачальников{91}. Кортесу, считавшему себя лишь посланником Карла, довелось открыть и завоевать великую империю, сочетавшую изощренную культуру с варварством. В 1522 году он командовал небольшой, но победоносной армией испанцев численностью примерно в 2000 человек, которой оказывали содействие многочисленные союзники-туземцы, радовавшиеся возможности поднять мятеж и отомстить своим прежним сюзеренам – ацтекам (мешикам){92}. Его окружала гвардия телохранителей, состоявшая примерно из 500 человек кавалерии и 4000 пехотинцев – причем все последние были индейцами{93}. У него не было никакого звания, которое позволяло бы ему командовать, однако в его руках была сосредоточена вся власть на руинах старой мексиканской столицы, Теночтитлана – хотя в 1524 году все уже называли ее «Мехико».
Новый Свет зеркально отражал старый; Кортес был великим европейским военачальником, завоевавшим новую страну. Он назвал ее «Новая Испания», ни больше ни меньше, и это название оставалось за ней последующие 300 лет.
Его старшие офицеры – братья Альварадо, Густаво[20] де Сандоваль, Андрес де Тапия, Франсиско Вердуго, сын Понсе де Леона Хуан Гонсалес Понсе де Леон, Алонсо де Авила, капитан его телохранителей Антонио Киньонес – были его помощниками и подчиненными не только в военном, но и в политическом отношении. У кое-кого из этих командиров имелись хорошие связи в Испании: например, Херонимо Руис де ла Мота был двоюродным братом императорского наставника, епископа Паленсии, а Бернардино Васкес де Тапия – племянником одного из членов Совета Кастилии, Педро Васкеса де Оропеса. Некоторые из таких имеющих связи командиров Кортеса вернулись в Испанию, чтобы распространить там вести о его деяниях, – к примеру, Франсиско де Монтехо из Саламанки и Алонсо Эрнандес Портокарреро, кузен графа Медельина и племянник Сеспедеса, судьи меняльного рынка в Севилье, и Диего де Ордас из Леона, который вернулся в Испанию еще в предыдущий год, надеясь найти для себя выгодную должность.
Кортес сознавал, что то, что он сделал, достойно удивления, и понемногу начинал вести себя как преемник Александра Великого, Юлия Цезаря и даже аргонавтов. Побежденная Мексика была усмирена, а несколько членов семьи покойного императора Монтесумы признали испанцев своими новыми правителями. Сын Монтесумы, дон Педро Монтесума, которого, казалось бы, следовало считать его наследником, и его дочь донья Исабель (известная также под своим мешикским именем Течуипо), были первыми из таких коллаборационистов. Был также Сиуакоатль (его второе имя было Тлакотцин), управляющий при старом правительстве, а теперь работал совместно с Кортесом в разрушенном Теночтитлане.
Другие поверженные властелины старого Мехико – такие как Тетлепанкецальцин, правитель Тлакопана и Такубы, его коллега Иштлильшочитль, правитель Тескоко, и прежде всего несчастный Куаутемок, преемник Монтесумы на месте владыки Теночтитлана – были пленниками Кортеса. Куаутемока непосредственно сразу же после испанской победы подвергли пыткам по приказу королевского казначея Хулиана де Альдерете, чтобы заставить его открыть местонахождение спрятанного золота и других сокровищ, и Кортес не противился этому, поскольку отчаянно нуждался в чем-нибудь, что можно было бы предложить своим победоносным, но неуемным соратникам-конкистадорам. Впрочем, судя по всему, эта жестокость была сотворена помимо его воли.
Кортес стал диктатором новой завоеванной им территории. В сражениях, имевших место между маем и августом 1521 года, погибло огромное множество людей, большей частью мексиканских туземцев, но возможно, также и около пятисот испанцев. Это не входило в намерения Кортеса: он желал контроля, власти, повиновения – но не кровопролития и резни{94}. Он думал, что сможет овладеть Мексиканской империей, захватив ее властелина, и что впоследствии император Карл сможет править Новой Испанией через Монтесуму. Однако осуществлению этого плана помешал Панфило де Нарваэс, соперник Кортеса, а также схватки, начавшиеся между индейцами и испанцами после того, как Педро Альварадо решил, что сможет предотвратить индейское восстание, ударив первым, – в конечном счете его действия как раз и привели к бунту.
В начале 1522 года Кортес все еще ожидал реакции Карла на известие о своих ошеломительных успехах, детали которых он послал ему письмом, написанным собственноручно, как и всё, что присылалось из Индий{95}. Задержка была не удивительной, поскольку, хотя падение Теночтитлана произошло 13 августа 1521 года, доклад об окончательном завоевании Мексики достиг Испании лишь в марте 1522 года{96}. Карл в это время еще пребывал в Нидерландах и вернулся в Испанию только летом того же года.
По расчетам Кортеса, этот доклад должны были сопровождать, помимо Алонсо де Авилы, его секретаря Хуана де Риверы и начальника его телохранителей Киньонеса, еще и значительные сокровища, захваченные в Мексике: 50000 песо золотом, из которых корона должна была получить 9000, много крупного жемчуга и нефрита, несколько обсидиановых зеркал в золотых рамах и даже три ягуара. Было отправлено также множество подарков – мозаики из переплетенных перьев, бирюза, одеяния, хлопковые ткани, разрисованные карты, изукрашенные щиты и искусно сделанные из золота и серебра фигурки попугаев и сверчков. Все это предназначалось для друзей Кортеса, испанских чиновников и представителей знати, а также для святых мест – монастырей и церквей.
Много других конкистадоров тоже воспользовались возможностью послать золото своим родственникам, оставшимся в Испании. В исторической перспективе наиболее многообещающим подарком был, пожалуй, каучуковый мяч из тех, какими пользовались индейцы для своих странных, но подробно разработанных игр у стены: он представлял собой один из самых достопримечательных даров, принесенных Америкой Старому Свету. Увы, значительная часть этих богатств была перехвачена между Азорскими островами и Испанией французскими авантюристами под водительством пирата Жана Флорина, действовавшего по поручению своего судовладельца Жана Анго. Помимо этого, обратной экспедиции пришлось столкнуться и с другими трудностями{97}.
Однако прежде чем детальный отчет Кортеса в «третьем письме» достиг двора в ноябре 1522 года, король и император Карл принял несколько весьма важных решений. После совещания императора с членами Совета Кастилии, которым в итоге пришлось разбираться с вопросами, имеющими отношение к Индиям, Кортесу 11 октября 1522 года (т. е. за месяц до того, как прибыл его доклад) были присвоены звания аделантадо (главнокомандующий с проконсульскими полномочиями), репартидор (распределяющий) индейцев, а также губернатора и капитан-генерала Новой Испании. Очевидно, что для Кортеса это означало полный политический триумф, поскольку отныне он был формально освобожден от любого подчинения своему бывшему начальнику, губернатору Кубы Диего Веласкесу. Это было победой также и потому, что таким образом признавалось великое имя, данное Кортесом новой земле: «Новая Испания» – имя, указывавшее на наднациональный характер новой кастильской монархии. Кроме того, по всей видимости, этим решением Кортесу предоставлялось абсолютное командование: «губернатор» и «капитан-генерал» были верховными званиями{98}.
Тем не менее, территория, на которую распространялись полномочия Кортеса, была неопределенной; никто не знал точно, где начинались и заканчивались его владения{99}. Но предполагалось, что он по крайней мере сможет контролировать своих союзников, оказавших ему такую помощь в его завоеваниях, – не только правителей долины Мехико, освобожденных теперь от мешикского ярма, но также тотонаков, Тласкальтеков и большую часть из 500 других племен, расположенных на территории прежнего государства мешиков.
Через четыре дня после того, как Кортес получил основные указания, был выпущен декрет, в котором говорилось о должном обращении с индейцами, а также выделялись дотации из государственных денег на финансирование представителей (прокурадорес), которые будут представлять Новую Испанию в Кастилии{100}. Характерным моментом этого декрета было то, что он подтверждал точку зрения Кортеса на прибытие Нарваэса в Новую Испанию в 1520 году: «…поход Панфило де Нарваэса с флотом явился причиной мятежа и временной утраты великого города Теночтитлана-Мехико…»{101} Карл также написал Кортесу теплое письмо, восхваляя его достижения{102}. Тот больше не мог жаловаться на недостаток признания на родине – впрочем, королевская почта и письмо императора достигли Новой Испании лишь к сентябрю 1523 года. Виной тому частично была странная нерасторопность посланников – кузенов Кортеса, Родриго де Паса и Франсиско де Лас Касаса, – которые потратили невероятное количество времени на сборы в дорогу, а затем решили ехать через Кубу, где доставили неприятное известие об успехах «Кортесильо», как называли Кортеса в тех краях, Диего Веласкесу. Как и следовало ожидать, тот был чрезвычайно расстроен услышанным.
Император Карл сопроводил признание заслуг Кортеса и принятие его в качестве губернатора Новой Испании назначением четырех должностных лиц, в чьи задачи входило «содействовать» Кортесу в управлении новыми провинциями. Это были казначей Альфонсо де Эстрада, фактор, или главный управляющий новой империи, Гонсало де Саласар, инспектор администрации Педро Альварес де Чирино[21] и счетовод Родриго де Альборнос.
Это были значительные люди. Эстрада бывал во Фландрии, был адмиралом в Малаге и затем коррегидором (представителем правительства) в Касересе. Он занимал постоянную должность советника в своем родном городе, Сьюдад-Реале. Эстрада хвалился, что является незаконнорожденным сыном покойного короля Фернандо – возможно, так оно и было. Саласар был гранадец, но его семья происходила из Бургоса. Он был служителем при королевском дворе и прибыл в Новую Испанию в сопровождении немалой свиты. Альварес де Чирино происходил из Убеды, где был известен в качестве агента королевского первого секретаря, Франсиско де Кобоса, который был в этом городе самым влиятельным лицом, как в политическом, так и в социальном отношении. Четвертый из назначенных чиновников, Родриго де Альборнос, возможно, был родом из города Пардиньяс в провинции Луго и, судя по всему, занимал какую-то незначительную должность при испанском дворе. Итальянец-придворный Петр Мартир, который, несмотря на почти восьмидесятилетний возраст, по-прежнему являлся советником короля в вопросах, относящихся к Индиям, просил его присылать домой шифрованные отчеты о деятельности Кортеса. Мартир как-то высказался о Кортесовом лукавстве, алчности и «частично обнаружившей себя склонности к тиранству»{103}.
Назначение этих четырех аристократов в Новую Испанию несомненно показывало, что корона относится к завоеваниям Кортеса серьезно. Вместе с тем было понятно, что их задачей было контролировать завоевателя и предотвращать любое чрезмерное утверждение своей власти с его стороны. Однако подобно Пасу и Лас Касасу до них, эти советники потратили слишком много времени на то, чтобы добраться до новой провинции. Задолго до их прибытия Кортес принялся за свое грандиозное произведение искусства, величайшее достижение Испании в Америках в XVI столетии – возрождение Мехико-Теночтитлана{104}.
Некоторые из друзей и соратников-конкистадоров советовали Кортесу отстроить столицу Новой Испании где-нибудь вдали от озера Теночтитлан, например в Такубе или Койоакане. Как им стало известно, прежняя столица часто подвергалась опасности наводнений, одно из которых, весьма масштабное, случилось в 1502 году. Поскольку окружающая местность была болотистой, можно было ожидать неизбежных трудностей с питьевой водой. Критики доказывали, что Койоакан будет гораздо более удобным местом для столицы – и Кортес, несомненно, внял их доводам, поскольку немедленно вслед за своей победой в 1521 году выстроил там, на южном берегу озера, большой, прохладный, просторный особняк, ставший его резиденцией{105}.
Однако уже в январе 1522 года Кортес возвращается к своему плану все равно отстроить заново старый город. Некоторые из его противников сочли, что он пытается создать укрепления, чтобы противостоять любым попыткам лишить его власти. Однако мотивы, стоявшие за решением Кортеса, были другими: он не хотел, чтобы место, где располагался легендарный Теночтитлан, оставалось памятником былой славе столицы. Индейцы тоже были за строительство, так что собрать необходимое количество рабочей силы не составляло труда.
Ключевую роль в возрождении города сыграл некий «геометр» по имени Алонсо Гарсия Браво, рожденный в местечке Ривьера, что располагается на дороге между Малагой и Рондой в Андалусии, и получивший образование в области городского строительства еще до того, как покинул Кастилию в 1513 году, вместе с Педрариасом – Педро Ариасом Давилой. Он добрался до Новой Испании вместе с экспедицией Франсиско де Гарая и тотчас же примкнул к армии Кортеса. Приняв участие в нескольких битвах в качестве конкистадора, Гарсия Браво затем отправился в Вилья-Рика в Веракрусе, где ему предложили спроектировать крепость, которую планировалось построить в этом городе, – двухэтажную, как утверждает бургосец Андрес де Росас, свидетельствуя о своем проникновении в жизнь и достижения нашего архитектора{106}.
Успех строительства Гарсия Браво в Веракрусе привел к тому, что Кортес предложил ему управлять работами по восстановлению Теночтитлана{107}. Браво прибыл в столицу летом 1522 года и принялся изучать местность вместе с самим Кортесом, выясняя, какой вред был нанесен городу, за который шла такая отчаянная борьба. Чтобы помешать индейцам бросать сверху камни на его людей, Кортес приказал разрушить ряды двухэтажных домов, кое-где это было сделано при помощи артиллерии. Но хотя два главных храма древних мешиков, расположенные в сердце Теночтитлана и Тлателолько, были серьезно повреждены, местоположение дамб, главных улиц и остатков многих строений было очевидным.
Первым поручением, данным Гарсии Браво, было строительство крепости с двумя башнями в восточном конце города, рядом с развалинами старого темпло майор[22]. Здесь располагалась озерная пристань Атарасанас, где Кортес собирался держать на причале свои тринадцать бригантин, построенных под руководством умелого, хотя и озлобленного севильца Мануэля Лопеса[23], сыгравшего столь значительную роль в закреплении испанской победы над мешиками. Башни были построены под присмотром Сиуакоатля, который, хоть в это и трудно поверить, теперь сотрудничал с победителями. Внутри одной, более высокой, располагались покои; другая предназначалась для защиты кораблей. Враги Кортеса впоследствии имели глупость доказывать, что якобы строительство башен было действием, направленным против королевской власти.
При разработке генерального плана реконструкции Гарсия Браво предложил придерживаться основной структуры старого мексиканского города с его обнесенным стеной центром, где в прошлом располагалась священная территория с великой пирамидой, видной со всех сторон, и святилищами при ней. К священной территории можно было приблизиться по трем дамбам – с севера, с запада и с юга; на востоке связи с материком не было. Северная дамба планировалась по эстетическим соображениям, поскольку прямой путь (через Тепейак, нынешнее местопребывание базилики Девы Марии Гуаделупской) прошел бы параллельно и слегка к востоку. К югу, за стенами города, располагался большой рынок, где индейские покупатели и продавцы кишели уже через несколько дней после завоевания города 13 августа 1521 года.
Вокруг этого открытого пространста располагались дворцы старой знати. Улицы внутри городских стен в прошлом зачастую представляли собой наполненные водой каналы, как в Венеции. В центре города эти каналы были прямыми, однако, как и в Европе, за пределами великого сердца города встречались и кривые закоулки. К северу от священной территории, за стенами, лежал город Тлателолько с собственным крупным рынком и развалинами собственной пирамиды. Возможно, что при строительстве нового города Кортес и Гарсия Браво вдохновлялись примером Санта-Фе – искусственного города, выстроенного Фернандо и Изабеллой под стенами Гранады в 1491 году, – хотя он и был меньше{108}.
Хотя великие храмы Теночтитлана и Тлателолько лежали в руинах, это не относилось ко многим другим. Пятнадцатью годами позже, в 1537 году, епископы Мехико, Гватемалы и Оахаки писали в Испанию императору Карлу, что многие индейцы до сих пор пользуются своими старыми храмами для совершения обрядов и вознесения молитв, хотя уже без жертвоприношений – после 1521 года они резко прекратились. Кортес не препятствовал проведению старых обрядов, хотя и поощрял миссионерство, сперва со стороны францисканцев, а затем доминиканцев. Епископы искали поддержки короля в своем намерении разрушить эти здания и сжечь находящихся в них идолов, а также его согласия на то, чтобы использовать камень от ацтекских храмов для постройки новых церквей. Король – или же Совет Индий – в ответном письме, пришедшем на следующий год, писал, что действительно, эти здания должны быть разрушены «без большого шума», а идолы сожжены. Камень от древних храмов, несомненно, должен быть использован для постройки церквей{109}.
Кортес решил сохранить два главных дворца Монтесумы в качестве правительственных зданий. Один стал национальным дворцом, где располагались его личные апартаменты и канцелярии; впоследствии здесь размещались апартаменты и канцелярии вице-королей, а еще позднее – президентов независимой Мексики. Другой, бывший его штаб-квартирой на протяжении счастливых месяцев, проведенных им в городе с ноября 1519 по июль 1520 года, должен был стать национальным ломбардом. Кроме того, они с Гарсией Браво приняли важное решение: в центре города должен был расположиться испанский квартал, где конкистадорам и побладорес («поселенцы», название, обычно применявшееся к тем, кто прибыл позже) выделялись участки земли для строительства или реконструкции имеющихся домов в соответствии с так называемым траса – слово, означающее «план». Между 1524-м и 1526 годами городской совет Мехико-Теночтитлана в соответствии с этим решением выделил 234 соларес (участка), а также 201 приусадебный участок внутри города.
Старым индейским кварталам, не входившим в траса, предстояло остаться без изменений, хотя к их названиям и были добавлены христианские приставки – отныне они назывались Сан-Хуан-Мойотлан, Санта-Мария-Куэпопан, Сан-Себастьян-Ацакуалько и Сан-Пабло-Сокипан. При каждом из этих кварталов должна была быть своя церковь, «иглесиа де висита», как их называли, под руководством францисканцев, которые с 1522 года имели своей штаб-квартирой просторное, крытое соломой строение неподалеку от дамбы, ведущей в Такубу (впоследствии оно станет монастырем Сан-Франсиско). Каждый из этих индейских кварталов должен был, почти как в старые времена, управляться местным старейшиной, которого завоеватели называли «сеньор». Между тем Тлателолько предоставлялся сам себе, в качестве отдельного города, носящего новое имя – Сантьяго.
Перестройка района, входившего в траса, началась летом 1522 года. Гарсия Браво старался проследить за тем, чтобы к каждому жилищу была проведена вода, чтобы все дома строились в согласии с определенной схемой и чтобы все основные дороги имели в ширину пятнадцать вар[24]{110}. Расположение каналов должно было приблизительно соответствовать тому, что было прежде, хотя некоторые из них предстояло отрыть заново, а другие заново наполнить водой.
В этих хлопотах Гарсии Браво помогал знатный конкистадор Бернардино Васкес де Тапия. Родом из города Торральба, что возле Оропесы, Васкес де Тапия был племянником Франсиско Альвареса, аббата Торо и инквизитора Кастилии. Его отец был членом Королевского совета Кастилии.
По оценке францисканского монаха Мотолинии, в 1524 году в городе работали 400 тысяч индейцев-мешиков под руководством верховного жреца Тлакотцина, который к этому времени оставил свое мексиканское именование и принял вместо него имя Хуан Веласкес. Как утверждал Мотолиния, там работало больше людей, «чем тех, кто трудился на строительстве Иерусалимского храма»{111}. В их число входило множество жителей соседнего города Чалько, что лежал в долине Мехико, – специалистов по строительству и штукатурным работам, чьи предки, вероятно, работали на первоначальном строительстве великого города. Прибыли несколько второстепенных архитекторов, чтобы работать под началом Гарсии Браво, таких как Хуан Родригес – в их задачу входило приспособить дворец Монтесумы к нуждам Кортеса.
Выдающиеся мешики, среди которых был и сын Монтесумы, дон Педро Монтесума, помогали испанцам набирать рабочих на строительство. Мотолиния вспоминает, что пение строителей – а в старые времена это было обычным ритуалом, сопровождавшим все подобные строительные мероприятия, – «не прекращалось ни днем, ни ночью (los cantos y voces apenas cesaban ni de noche ni de dнa)»{112}. Специалист по истории имперской архитектуры Джордж Кублер указывал, что, несмотря на все горе, которое могли испытывать индейцы в связи со своим поражением, их приводили в восторг (и, возможно, в конечном счете помогли завоевать их расположение) незнакомые им прежде механизмы, привезенные в Новую Испанию завоевателями. В первую очередь это были приспособления на основе колеса – блоки, повозки, тачки; но также они восхищались при виде мулов и гвоздей, стамесок и железных молотков. Обретение вьючных животных вело к чудесной революции в технологии, однако гвозди казались не менее важными, в то время как повозки имели для них особое очарование{113}. Таков был огромный вклад, сделанный Испанией в техническую культуру Нового Света.
К лету 1523 года очертания нового города начали понемногу вырисовываться. По политическим соображениям он должен был быть величественным и впечатляющим, поскольку в его задачу входило служить воплощением силы, в которой нуждались и которую обретали как завоеватели, так и завоеванные. Мехико-Теночтитлан не сводился к мостовой и горстке глинобитных лачуг, это был огромный город европейских масштабов – такая столица, какой до сих пор не обзавелась даже сама Испания. Весь год напролет окрестности города кишели рабочими, таскавшими каменные плиты и огромные древесные стволы. Уже можно было начинать восхищаться потрясающими арками на главной площади – европейская арочная архитектура, до этих пор совершенно неизвестная в древней Мексике, теперь встречалась в столице повсюду.
В начале 1524 года здесь можно было видеть зарождающиеся монастыри и церкви с куполами над часовнями, а также частные дома, обнесенные стенами с зубцами и контрфорсами, двери которых были укреплены набитыми гвоздями, а окна – решетками. Полным ходом шло строительство временного кафедрального собора. Над стенами уже выглядывали верхушки фруктовых деревьев из внутренних садов. Не были забыты и виселица с позорным столбом – тоже в каком-то смысле приметы цивилизации.
Критики Кортеса обвиняли его в том, что он в первую очередь заботится о строительстве дворцов для своих приближенных. Однако помимо дворцов, к 1526 году были возведены тридцать семь церквей{114}. Один из секретарей Кортеса, Хуан де Ривера – довольно ненадежный эстремадурец, вероятно родом из Бадахоса и возможно кузен Кортеса, впервые прибывший в Новую Испанию в качестве нотариуса при Панфило де Нарваэсе, – так описывал в отчете Петру Мартиру великое предприятие, затеянное в Новой Испании главным конкистадором: «В настоящий момент он пытается возродить из руин огромный озерный город, которому война нанесла повреждения: акведуки уже восстановлены, уничтоженные мосты и многие из разрушенных домов отстроены заново, и мало-помалу город приобретает свой прежний вид». Ривера прибавлял, что и торговая жизнь тоже возвращается к прежнему состоянию: здесь снова можно видеть рынки и ярмарки, «лодки приплывают и уплывают так же оживленно, как и прежде, и торговцев, по-видимому, такое же множество, какое было во времена Монтесумы»{115}. В дополнение к вышесказанному, были выстроены две больницы, одна из которых – Сан-Ласаро, возле Тлашпана – предназначалась специально для прокаженных, а вторая для всех прочих заболеваний{116}.
Вскорости после начала великого предприятия по восстановлению Теночтитлана Кортес написал еще одно письмо императору Карлу, выражая свое беспокойство относительно того, что не получил ответа на свои предыдущие письма, и объясняя, что в текущих обстоятельствах он был «почти вынужден» даровать своим сотоварищам-конкистадорам энкомьенды, поскольку чувствовал необходимость сделать хоть что-нибудь для тех, кто помог ему одержать великую победу над мешиками. К несчастью, он не мог предложить им достаточно золота или жемчуга, чтобы вернуться в Испанию! Он обсудил этот вопрос со своими офицерами (в число которых, как мы предполагаем, входили те, кому предстояло получить выгоду от его решений, а именно братья Альварадо, Тапия и Сандоваль). «Умоляю Ваше Величество одобрить мое решение», – так заключал Кортес свое письмо{117}.
«Энкомьенда» – средневековый термин, означавший, что человеку даруются не земельные угодья, но что губернатор, или капитан-генерал, жалует ему труд и приношения некоторого количества туземных индейцев – натуралес, – живущих в определенном месте. Прецеденты такой практики существовали при отвоевании Испании у мусульман; эта же схема использовалась и в испанских владениях в Карибском море. Кое-кто из людей Кортеса имел энкомьенды на Эспаньоле или Кубе, а в некоторых случаях и там, и там. Даруя конкистадорам энкомьенды, Кортес удовлетворял их желание властвовать. Территория при этом не указывалась, но в некоторых обстоятельствах подразумевалась. История энкомьенд на протяжении XVI столетия полна противоречий, поскольку зачастую корона принималась доказывать, что дар относился лишь непосредственно к тому человеку, которому он был пожалован, в то время как энкомендерос желали передать его потомкам на несколько поколений, если не навечно.
Первый энкомендеро появился в Новой Испании в апреле 1522 года – это был относительно неизвестный конкистадор Гонсало де Сересо, который, несмотря на то что прибыл в Новую Испанию вместе с Нарваэсом, в конечном счете стал пажом Кортеса. Получив в энкомьенду большой город Чолулу, он стал помогать перевозить из Тласкалы в Тескоко лес для строительства бригантин Мартина Лопеса. Впоследствии он сделал состояние на торговле и играл значительную роль на начальном этапе жизни колонии{118}.
Кроме него, первыми энкомендерос стали золотоволосый вождь Педро де Альварадо, получивший в энкомьенду город Шочимилько, Франсиско де Монтехо (непосредственно в тот момент находившийся в Испании), которому был дарован богатый город Аскапоцалько, славный своими серебряных дел мастерами, а также Алонсо де Авила, который сопровождал письмо Кортеса от 22 мая в Испанию и был захвачен в открытом море французами – он получил Куаутитлан, Сумпанго и Шальтокан. Самому себе Кортес отвел Койоакан, город строителей Чалько, Экатепек, а также город Отумба, послуживший в 1520 году сценой великой битвы.
Значительную роль в деятельности испанцев в те первые годы сыграла их попытка включить в свои планы многочисленных вождей старой ацтекской империи. Так, Кортес отдал Педро, сыну Монтесумы, древний город Тулу. Такуба с ее 1240 домами и несколькими сотнями натуралес отошла Исабель, дочери Монтесумы и бывшей жене Кортеса{119}. Все понимали, что выжившие представители монархии и общественные лидеры будут приняты завоевателями в качестве таковых при условии, что они не станут противопоставлять себя христианской религии{120}. Это правило соблюдалось в империи еще много лет. Туземным правителям пришлось принять абсолютный запрет на полигамию и человеческие жертвоприношения. Энкомендерос получали право пользоваться трудом жителей того или иного поселения и получать свою долю производимой продукции – но взамен они должны были взять на себя заботу о религиозной жизни в своем регионе. Энкомендеро не мог жить в своем имении, а должен был поселиться на том участке в Мехико-Теночтитлане, который был ему отведен в траса Гарсии Браво. Таким образом в Новой Испании устанавливалась связь между городским и сельскохозяйственным устройством, отражавшая положение, уже существовавшее в карибских колониях (на Эспаньоле, Кубе, Пуэрто-Рико и Ямайке), а также во владениях Педрариаса в Дарьене и Панаме. В дальнейшем такие планы воспроизводились по всей Испанской империи в Южной Америке.
В 1522 году Кортес выслал в Испанию карту Теночтитлана, которая была опубликована вместе с латинскими изданиями его второго и третьего писем к Карлу V. В ней сочетались, как указывают некоторые современные авторы, фантастические и реалистические черты. Это латинское издание было выпущено в Нюрнберге – столице немецкого книгопечатания того времени. В виде «прихотливого изображения ацтекской столицы», выполненного в стиле так называемых «островов», оно вошло в печатную работу «Isolario», где содержались иллюстрации всех самых знаменитых островов мира. После первого издания, вышедшего в Венеции в 1528 году, Бенедетто Бордоне выпустил по меньшей мере еще четыре; одно из них и содержало план Теночтитлана, взятый из карты Кортеса{121}. Наконец-то мы приближаемся к эпохе создания хороших карт.
Глава 4
Христианство и Новый Свет
Люди обязаны тебе многим, но ты обязан им всем. Даже если твоим ушам приходится слышать горделивые наименования «непобедимого», «несокрушимого» или «величества»… не принимай их, но относи их все к Церкви, которой одной они могут принадлежать.
Эразм Роттердамский, «Enchiridion» («Оружие христианского воина»)
В третьем письме к императору Карлу, достигшем Испании в ноябре 1522 года, Кортес просил, чтобы в Новую Испанию прислали еще нескольких священнослужителей. На тот момент их было при нем только четверо: два белых священника, отец Хуан Диас из Севильи, бывший в экспедиции Кортеса с самого начала, и отец Хуан Годинес, а также двое монахов, фрай Педро Мельгарехо де Урреа – францисканец, также из Севильи, – и фрай Бартоломе де Ольмедо, мерседарий из-под Вальядолида. Через недолгое время в Новую Испанию прибыли фрай Диего де Альтамирано, францисканец и кузен Кортеса, и фрай Хуан де Варильяс, еще один мерседарий – судя по его имени, возможно, он тоже был отдаленным кузеном Кортеса. Все они осознавали, какой груз ответственности на них возложен.
Высказанная в письме Кортеса просьба о присылке новых священников была подкреплена другим письмом, носившим подпись Кортеса, а также подписи фрая Мельгарехо и казначея Альдерете. После упоминания о верной службе, которую сослужили короне Кортес и другие конкистадоры, шли следующие строки: «Мы умоляем Его Величество прислать нам епископов и клириков из всех орденов, славящихся доброй жизнью и трезвым уставом, чтобы они помогли нам более надежно утвердить нашу Святую Католическую Веру в этих краях». Далее авторы просили короля вверить управление Новой Испанией Кортесу, поскольку он является «столь добрым и преданным слугой Короны». Заканчивалось письмо мудрым пожеланием: «Мы просим его также не присылать нам законников, поскольку их прибытие в эту страну учинит здесь сущую неразбериху…» Подобные откровенные высказывания были характерной чертой того времени. Авторы письма также выражали надежду, что епископ Фонсека не станет более «мешаться» в дела Кортеса и что губернатора Веласкеса на Кубе арестуют и отправят обратно в Испанию{122}.
Христианство, разумеется, участвовало в покорении Индий с самого начала. Крест являлся символом завоевания не меньше, чем символом обращения язычников. С Колумбом в его втором плавании были священники{123}, они сопровождали также и большинство конкистадоров в Вест-Индии. К 1512 году здесь имелись два епископа в Санто-Доминго и третий в Пуэрто-Рико, а в 1513 году еще один, фрай Хуан де Кеведо, был назначен епископом в Панаму.
Кеведо привез с собой многочисленную свиту священников и каноников. Его знаменитый спор с Лас Касасом в присутствии короля Карла был подробно описан{124}, равно как и разногласия в Санто-Доминго, последовавшие за потрясающей проповедью фрая Антонио де Монтесиноса. Конкистадоры в некоторых отношениях шли по стопам тех испанцев, что отвоевывали собственную страну у мавров, – но кроме того, они считали, что отвоевывают для христианства новые земли у естественных союзников мусульман XVI столетия{125}. Принятое папой в XV веке решение даровать Португалии права на распространение в Африке и Индийском океане, а Испании назначить новую зону влияния в Индиях задало общее направление всем завоеваниям. В июльской булле 1508 года папа Юлий II дал королю Фернандо право назначать епископов на все кафедры и распределять другие церковные бенефиции.
В 1517 году кардинал Сиснерос, регент Испании, получил письмо от Лас Касаса, в котором тот предлагал прислать в Индии инквизиторов{126}. Сиснерос согласился. Папа выписал концессии. Сперва Алонсо Мансо, епископ Пуэрто-Рико, получил титул инкисидора-хенераль Индий. Этот епископ в 1490-х годах исполнял должность сакристан-майора[25] при дворе инфанта Хуана, и с тех самых пор пользовался неизменным покровительством архиепископа Диего Деса.
Затем буллой «Alias felicis recordationis» от 25 апреля 1521 года дозволялось отправиться в Новую Испанию двоим францисканцам: фраю Франсиско де лос Анхелес (на самом деле он был Киньонес), брату графа де Луна из Севильи, и фраю Жану Глапиону из Фландрии, императорскому духовнику. Однако им так и не удалось довести до конца это назначение, поскольку первый стал генералом своего ордена, а блестящий Глапион умер в Вальядолиде прежде, чем сумел организовать свое путешествие.
Так получилось, что в 1523 году в Мехико-Теночтитлан отправились три других францисканца: Иоханнес Деккус, Иоханн ван дер Ауверн (Хуан де Айора) и Педро де Ганте{127}. Деккус некогда был вторым духовником императора, а также профессором богословия в Париже; он занял место фрая Жана Глапиона в Брюгге. Ван дер Ауверн претендовал на шотландское происхождение; говорили даже, что он – незаконнорожденный сын короля Шотландии Якова III.
Фрай Педро де Ганте родился около 1490 года в Айгеме – районе Гента возле аббатства Святого Петра. Он никогда не упоминал имен своих родителей, но возможно, что он был незаконным сыном императора Максимилиана. В 1546 году он писал императору Карлу: «Ваше Величество и я знаем, насколько мы близки и насколько одна кровь течет в наших жилах», и в 1552 году еще раз высказался в том же духе. После смерти фрая Педро в 1572 году провинциал францисканского ордена фрай Алонсо де Эскалона говорил испанскому королю Филиппу, что почивший состоял «в очень близком родстве с вашим наихристианнейшим отцом, благодаря чему мы имели возможность получать многочисленные и богатые дары»{128}. То, как составлено это письмо, позволяет предполагать, что фрай Педро приходился Карлу братом – а ведь мы знаем наверняка, что у Максимилиана были два незаконнорожденных сына, оба из которых в зрелом возрасте стали епископами{129}.
Педро де Ганте прошел обучение в Лувенском университете, после чего стал послушником во францисканском монастыре в Генте, где провел несколько лет. Он покинул его в 1522 году вместе с императором – своим предполагаемым братом или племянником, – и в мае следующего года погрузился на корабль, отправлявшийся в Новую Испанию. Вместе с двумя своими сотоварищами он прибыл туда 13 августа 1523 года, в день второй годовщины взятия Мехико-Теночтитлана. Возможно, на его решение отправиться в Новый Свет оказало влияние то, что это не получилось у Глапиона. Он провел три года в Тескоко, где основал школу Святого Франсиска позади часовни Сан-Хосе. Здесь он открыл мастерские для кузнецов, портных, плотников, сапожников, каменщиков, художников, чертежников и изготовителей подсвечников. Такое профессиональное обучение было для мешиков делом чрезвычайной важности.
Педро оставался в Новой Испании до конца жизни, и за это время обучил тысячи мексиканцев чтению, шитью и письму. Он целенаправленно содействовал слиянию испанского и индейского образа жизни. Так, если ему предстояло присутствовать на индейской церемонии, он сочинял для нее христианское песнопение. Он рисовал новые выкройки для индейской одежды в христианском духе: «Таким образом индейцы впервые научились выказывать послушание Церкви».
Был он Габсбургом или нет, но Педро обладаль прекрасной, по мнению его бесчисленных друзей, внешностью и представлял собой величественную фигуру, достойную своей предполагаемой родословной. Всю жизнь он оставался послушником и никогда не был посвящен в духовный сан, ввиду чего никогда не имел высокого звания. Тем не менее, это не мешало второму архиепископу Мехико, доминиканцу фраю Алонсо де Монтуфару, говорить: «Педро де Ганте – вот архиепископ Мехико, а не я».
Вскорости в Новый Свет были назначены несколько служителей инквизиции. В 1523 году в Индиях было совершено первое аутодафе: в Санто-Доминго был осужден Альфонсо де Эскаланте. Эскаланте был ни более ни менее как нотариусом в Сантьяго-де-Куба, где его дом служил местопребыванием местной литейной мастерской. Он также выступал свидетелем в предпринятом Диего Веласкесом в 1519 году расследовании действий Франсиско де Монтехо. Несмотря на все это, он был сожжен как практикующий иудей{130}, причем его казни предшествовали обычные жестокие пытки, как это было принято у инквизиции того времени.
В том же году папа Адриан VI предоставил францисканцам в Новом Свете особые привилегии. Отныне они могли каждые три года сами избирать своего настоятеля, которому предоставлялась вся полнота епископской власти, за исключением возможности рукополагать в сан. Следствием этого было то, что уже в начале 1524 года в Новую Испанию отплыли еще двенадцать францисканцев.
Эти люди добрались до Санто-Доминго в феврале, до Кубы в марте, и до Веракруса 13 мая того же года, после чего отправились босыми в Мехико-Теночтитлан. Это были не обычные францисканцы, но люди из церковной провинции Сан-Габриэль в Эстремадуре – реформированного отделения ордена, члены которого стремились отражать в своей жизни бедность евангелистов и христиан первых веков после Рождества Христова. Это были радикальные реформаторы, в основном из знатных семей, чьи принципы привели их к многочисленным столкновениям с обычными поселенцами. Эта милленаристская секта была основана в 1493 году Хуаном де Гуадалупе в новом монастыре в Гранаде, посвященном святому Франциску. Вскоре таких монастырей было уже шесть – пять в Эстремадуре и один в Португалии.
Этих новых францисканцев привел в Новую Испанию фрай Мартин де Валенсия, который был родом из Валенсии-де-Дон-Хуан, городка, лежащего примерно в пятнадцати милях к югу от Леона на берегах реки Эсла, на пути в Бенавенте. Ему было пятьдесят лет, когда он прибыл в Новую Испанию, и хотя он был ревностнейшим католиком, у него не было необходимых способностей, чтобы выучить новый язык. Он пытался компенсировать это тем, что молился в людных местах, чтобы индейцы, подражая ему, могли прийти к Господу – поскольку, как он сам говорил, «туземцы весьма склонны повторять то, что у них на глазах делают другие». И действительно, индейцы были превосходными имитаторами. Тем не менее, как говорят, рьяный монах бил тех индейцев, которых считал чересчур медлительными, чтобы ускорить их обучение. Незадолго до своей кончины он решил, что должен переплыть Тихий океан, чтобы отыскать «людей великих способностей, живущих в Китае»{131}.
Однажды, еще в Испании, когда он читал проповедь, посвященную обращению неверных, ему было явлено видение огромного множества новообращенных. Прервав проповедь, он трижды воскликнув «Хвалите господа Христа!», из-за чего братья-францисканцы решили, что он сошел с ума, и держали взаперти, пока он не объяснил им, что видение направляет его крестить язычников{132}.
В число других францисканцев входил фрай Луис де Фуэнсалида – судя по имени, он, видимо, тоже был родом из Старой Кастилии. Этот человек имел весьма гуманистические взгляды на лежавшую перед ним задачу. Согласно его мировоззрению, христианство являлось религией всего мира, и лишь те, кто отказывался принять этот факт, могли не брать на себя труд выучить какой-нибудь из индейских языков (возможно, здесь таился выпад в сторону фрая Мартина), никогда не проповедовали туземцам и не принимали их исповедей. Он превозносил присущее индейцам ощущение страха Божьего и, судя по всему, считал, что их набожность во многих отношениях превосходит религиозное чувство испанцев{133}. Для того чтобы поразить воображение индейцев, чьими душами он стремился завладеть, он однажды написал пьесу на языке науатль, в форме диалога между архангелом Гавриилом и Девой Марией. В пьесе описывалось, как архангел преподносит Деве письма от томящихся в лимбе патриархов, прося ее принять посланных к ней представителей. Фрай Луис был первым испанским клириком, способным говорить проповеди на науатле, и первым, кому предложили стать епископом Мичоакана – от какового предложения он, впрочем, отказался{134}.
Фуэнсалида был вторым по значимости человеком в этой незаурядной экспедиции. Он был другом Кортеса, чьи интересы отстаивал во время его ресиденсии[26]{135}, защищая его от обвинений, например, доминиканца фрая Томаса де Ортиса, который, подобно большинству членов своего ордена, выступал противником капитан-генерала{136}.
Из других монахов наиболее интересной фигурой был фрай Торибио де Паредес. Он родился в городке Бенавенте, названием которого пользовался в качестве имени, прежде чем принял прозвище Мотолиния, которое означало «бедняк, бедный человек» на языке науатль – очевидно, он где-то услышал, как к нему обращаются, используя это слово{137}. Это был умный, страстный и благородный человек, неоднократно выражавший свое восхищение величием старой империи мешиков, – но отвращение к ее религии. Их пеший поход произвел на него огромное впечатление: «Некоторые деревни [в Новой Испании] расположены на горных вершинах, – писал он, – другие в клубине долин, так что божьим людям приходится то карабкаться под облака, то временами спускаться в пропасть. Местность здесь сильно пересеченная, а из-за высокой влажности многие места покрыты грязью, ввиду чего встречается много мест, где легко поскользнуться и упасть»{138}. Мотолиния пространно описывал собственные впечатления, ввиду чего его «Memoriales» и «Historia»[27] до сих пор имеют неоценимое значение{139}.
Среди других францисканцев были престарелый Франсиско де Сото, суровый фрай Мартин де ла Корунья, талантливый фрай Хуан Суарес, ставший первым «хранителем» (т. е. настоятелем) монастыря Уэхоцинго, фрай Антонио де Сьюдад-Родриго, фрай Гарсия де Сиснерос, который был вдохновителем художественного училища в Тлателолько, законовед фрай Франсиско Хименес, а также два послушника – фрай Андрес де Кордоба и фрай Хуан де Палос. Это были великие люди, которые взяли на себя инициативу сделать Новую Испанию сияющей обителью христианства.
Эти двенадцать человек босиком продвигались к Мехико-Теночтитлану. Кортес, впрочем, приказал, чтобы перед ними расчищали дорогу и строили им укрытия повсюду, где бы они ни захотели отдохнуть. Однако путешествие все равно было трудным, поскольку погода стояла жаркая, на пути постоянно попадались ущелья или горные потоки, а москиты и змеи набрасывались на путников с неослабевающей яростью. Вначале францисканцы пришли в Тласкалу, и лишь потом, в середине июня, Кортес принял их в Мехико-Теночтитлане, встретив их на коленях – жест, весьма впечатливший старых мешикских правителей, таких как Куаутемок, которые были свидетелями этой встречи. Прибыв, двенадцать монахов естественным образом присоединились к трем другим францисканцам, уже бывшим в столице.
Вскоре после этого они устроили общее собрание, на котором присутствовали все пятнадцать францисканцев, – вероятно, в то время больше не нашлось бы во всей Новой Испании. Они согласились, что начнут строить четыре обители (в Мехико, Тескоко, Тласкале и Уэхоцинго), для чего получат необходимую финансовую поддержку у капитан-генерала. При каждой будут жить четыре монаха, и каждая станет распространять учение и обращать в христианство туземцев на обширной территории{140}. Эти монахи уже имели формальную беседу с мешикскими жрецами, надеясь обратить их в христианство. Те отвечали им: «Разве недостаточно того, что мы потеряли? Того, что мы потеряли сам наш образ жизни? Того, что мы были уничтожены? Делайте с нами все, что вам угодно. Таков наш ответ, о наши владыки, – это всё, что мы можем ответить на ваши слова!»{141}
Единственными доступными ныне текстами, дающими представление о том, как выглядели эти первые наставления, являются проповеди, которые читали францисканцы, а также несколько бесед, записанных фраем Бернардино де Саагуном в его «Флорентийском кодексе»{142}. Собственно катехизис до нас не дошел, но предваряющие его рассуждения представляют интерес. Монахи говорили мешикским жрецам:
«Не верьте, будто мы боги. Не бойтесь: мы такие же люди, как вы. Мы всего лишь посланники великого владыки, называемого Святейшим Отцом, который является духовным предводителем всего мира и которого переполняют скорбь и страдание при виде состояния, в каком находятся ваши души. Души, которые Он поручил нам отыскать и спасти. Это является и нашим сокровеннейшим желанием, и по этой причине мы принесли вам книгу Святого Писания, где содержится слово единственно истинного Бога, Господа Небес, которого вы никогда не знали. Вот почему мы здесь. Мы не ищем золота, серебра или драгоценных камней. Все, что нам нужно – это ваше благополучие.
Вы же, со своей стороны, говорите, что у вас уже есть бог, поклоняться которому вас научили ваши предки и ваши короли, – не так ли? У вас есть множество богов, каждый из которых имеет свое назначение. И вы сами же признаете, что эти боги вам изменили. Вы оскорбляете их, когда вы несчастливы, обзывая их шлюхами и глупцами. А они, во время жертвоприношения, требуют от вас не чего-либо иного, но вашу кровь и ваши сердца. Эти изображения [жертвоприношений] внушают отвращение. И напротив, истинный и всеобщий Бог, Господь наш Создатель и податель существования и жизни… имеет характер, разнящийся от ваших богов. Он не изменяет. Он не лжет. Он никого не ненавидит. Он никого не презирает. В Нем нет никакого зла. На все дурное он глядит с величайшим ужасом, запрещает и предотвращает его, ибо Он бесконечно благ. Он есть глубочайший источник всего блага в мире. Он есть сама сущность любви, сострадания и милости… Будучи Богом, Он не имеет ни начала, ни конца, ибо Он вечен. Он создал небо и землю, а также ад. Он создал для нас всех людей на земле, а также всех дьяволов, которых вы почитаете богами. Истинный Бог существует повсюду. Он видит всё, знает всё. Он достоин всяческого преклонения. Подобно человеку, Он пребывает в Своем царственном дворце; здесь же, на земле, у Него есть Его королевство, начало которому положено Им от начала времен. И вот теперь Он хочет, чтобы вы вошли в него…»
В ответ мешики говорили, что кажется несправедливым призывать их отказаться от церемоний и обрядов, которые их предки восхваляли и считали благими. Они узнали еще недостаточно, чтобы обсуждать предложения францисканцев, но хотели бы собрать вместе своих жрецов и обсудить с ними эти предметы.
Однако когда это было выполнено, их жрецы «были чрезвычайно обеспокоены и почувствовали великую печаль и страх, и не давали ответа». На следующий день мешики вернулись, и их предводители объявили, что они очень удивлены, слыша, что францисканцы не считают мешикских богов богами, поскольку их предки всегда считали их за таковых, и поклонялись им как таковым, и научили своих потомков почитать их при помощи жертвоприношений и церемоний. Не глупо ли отвергать древний закон, установленный еще первыми поселенцами, обитавшими в этих местах? Они считали, что будет невозможно убедить стариков отказаться от своих старых обычаев. Они угрожали своим властителям гневом богов и сулили народное восстание, если людям скажут, что их боги на самом деле не боги. Они повторяли снова и снова, что признание поражения само по себе достаточно тяжело для них и что они предпочтут умереть, чем отказаться от своих богов{143}.
В 1525 году Цинтла, правитель-Кальцонцин из Цинцунцана, попросил фрая Мартина де Валенсия прислать ему нескольких монахов. Тот так и поступил, направив к нему фрая Мартина де Корунью с братиями – хотя Цинтла скорее всего был потрясен, узнав, что фрай Мартин намерен разрушить его храмы и идолов.
Это было тяжелое время. Мнение христиан разделилось: некоторые из монахов придерживались оптимистического взгляда на возможность обращения язычников и были великодушны и терпеливы (Педро де Ганте, Мотолиния); другие, среди которых был и первый прибывший в Новую Испанию доминиканец фрай Томас де Ортис, были настроены противоположным образом. Фрай Томас свидетельствовал, обращаясь к Совету Индий:
«…индейцы совершенно неспособны к обучению… У них нет никаких достойных человека искусств или ремесел… Чем они старше, тем хуже их поведение. В возрасте десяти-двенадцати лет в них, кажется, еще можно найти какие-то признаки цивилизованности, но позже они становятся подобны жестоким зверям… Бог не создавал расы, более исполненной порока… эти индейцы тупее, чем ослы»{144}.
Что кажется совершенно очевидным, так это то, что все главные ордена – как августинцы, так и доминиканцы с францисканцами – были союзниками короны в их частых стычках с энкомендерос{145}.
В 1525 году Петр Мартир писал в своем едва ли не последнем письме:
«Сказать правду, мы и сами не очень понимаем, какое решение принять. Следует ли объявить индейцев свободными и признать, что мы не имеем никакого права взыскивать с них труд, пока их работа не оплачивается? Знающие люди в этом вопросе разделились, и мы колеблемся. К противоположному решению нас подталкивают главным образом братья доминиканского ордена, посредством своих писаний. Они доказывают, что будет лучше – и надежнее как для телесного, так и духовного блага индейцев, – если мы передадим каждого из них определенному хозяину навечно и согласно наследственному принципу владения… Может быть показано на многих примерах, что мы не должны соглашаться предоставить им свободу, [поскольку] эти варвары замышляли уничтожение христиан повсюду, где только могли»{146}.
Основные направляющие всей этой христианской деятельности в конечном счете, разумеется, выковывались в Риме. Там в это время происходили весьма неординарные события. Папа Адриан VI, последний неитальянец в череде пап вплоть до Иоанна Павла II, добрался до Ватикана только к 29 августа 1522 года. Первая же созванная им консистория вызвала всеобщее изумление – ибо прежде всего он выразил надежду, что христианские правители смогут объединиться против турок-оттоманов. Затем он обратился к курии. В его речах сквозила убежденность в том, что во всех кардинальских дворцах властвует беззаконие. Он настаивал, что кардиналы должны довольствоваться годовым доходом в 6000 дукатов, и в целом порицал образ жизни римского двора{147}.
Увы, в декабре того же года турки осадили крепость рыцарей-иоаннитов на Родосе, и великий магистр был принужден сдать ее. Где остановятся турки? Этот вопрос казался весьма насущным. Тем не менее, немецкие государства отказывались прийти на помощь. Адриан восклицал: «Я смог бы умереть счастливым, если бы мне удалось объединить христианских властителей против нашего общего врага». И добавлял: «Горе тем правителям, кто не применяет верховную власть, дарованную им Господом, для того, чтобы возвеличивать Его славу и защищать избранных Им людей, но оскорбляют ее междоусобной борьбой»{148}.
Далее Адриан продолжал в том же духе. Так, например, в январе 1523 года он обличал Лютера и исключительное положение, занимаемое им в Германии: «Мы не можем даже помыслить ничего более невероятного, чем то, что настолько великая и благочестивая нация смогла позволить отступнику от католической веры, за многие годы его проповеди, совратить себя с пути, указанного нам нашим Спасителем и его апостолами и скрепленного кровью столь многих мучеников»{149}.
Однако скорой реформе церкви не суждено было случиться: в сентябре 1523 года Адриан пал жертвой жестокой болезни. Тридцать пять кардиналов поспешили собраться в Сикстинской капелле; прибывшие ради этого из Франции явились прямо в дорожной одежде. Кто будет следующим наместником святого Петра? Уолси? Или Джулио де Медичи – племянник Лоренцо де Медичи, – которого считали кандидатом императора Карла и который действительно был фаворитом последнего три года назад?
Конклав заседал несколько недель. На этот раз кардиналы не сделали ошибки, выбирая преемника, и 19 ноября кардинал Медичи, императорский фаворит, был избран папой под именем Климента VII. Герцог Сесса, зять «Гран Капитана»[28], который был теперь посланником императора в Риме, комментировал это событие с несколько излишним оптимизмом: «Новый папа всецело является ставленником Вашего Величества. Столь велика власть Вашего Величества, что даже камни вы можете обратить в послушных детей»{150}.
Ни Адриан, ни Климент не интересовались всерьез Новым Светом. Им приходилось соглашаться с назначением туда епископов, отправкой францисканцев и прочих миссий – но они еще не видели широчайших возможностей, открывавшихся там для Испании, Европы и всего христианского мира. Тем не менее, все эти назначения, разумеется, имели свои политические последствия, и император Карл знал это лучше чем кто-либо другой.
Глава 5
Карл в Вальядолиде
Здесь все считают, что Его Величество собирается реформировать свой совет и двор (Aca se cree que SM quiere reformar sus consejos y sa casa).
Мартин де Салинас, в письме к Франсиско де Саламанка, казначею инфанта Фернандо[29], Вальядолид, 7 сентября 1522 года.
Император Карл оставался в Вальядолиде на протяжении года, с сентября 1522-го по август 1523-го – такая неподвижность была необычна для монарха, не просто привычного к путешествиям, но выросшего в мире постоянных перемещений – мире, в котором его предшественники, Изабелла и Фернандо, прожили всю свою жизнь. Основную часть этого времени Карл провел в беспорядочно разросшемся дворце семейства Энрикес, хотя дважды, в сентябре 1522-го и в апреле 1523 года, он выезжал в Тордесильяс, чтобы навестить свою мать Хуану, обреченную влачить остаток своих дней в расположенном там женском монастыре Святой Клары. Кроме этого, один или два раза он удалялся от мира в знаменитый монастырь бернардинцев (цистерцианцев) в Валбуэне-дель-Дуэро, в одном дне пути к востоку от Вальядолида.
Карл принялся за реорганизацию управления своим государством, прежде всего пересмотрев количество должностных лиц, связанных с Государственным советом, который занимался главным образом внешней политикой и зависел в 1522 году от внутреннего совета, возглавляемого Гаттинарой, который и являлся двигателем всех этих административных реформ{151}. Среди других членов был рыцарственный друг Карла – Генрих Нассауский, который к этому времени стал великим камергером Нидерландов. Хотя в жизни он был беззаботным и обаятельным человеком, именно Генрих был ответственен за введение строгой формальности бургундского церемониала в испанскую придворную жизнь. Он командовал имперской армией в 1521 году, а в 1522-м сопровождал Карла в Испанию, где исполнял обязнанности председателя новообразованного испанского Финансового совета.
Несмотря на то что к этому времени он чудовищно растолстел, Генрих женился на испанской наследнице знатного рода, Менсии де Мендоса, маркизе де Сенете – одной из двух сестер, про которых губернатор Кубы Диего Веласкес шутил, говоря своим друзьям в Сантьяго-де-Куба, что однажды женится на одной из них. Торжественное бракосочетание в присутствии короля состоялось в Бургосе в июне 1524 года. Менсия обладала хорошими связями, а также была очень богата; в 1530-х годах она была хозяйкой знаменитого салона в Нидерландах, поддерживая голландских художников и писателей. Историк Овьедо тепло отзывался о ней как об «очень утонченной, образованной и обходительной женщине, копии ее отца, маркиза, с которым ни один рыцарь в Испании того времени не мог сравняться в изящных манерах и благосклонном расположении духа»{152}.
Карл часто искал совета у двух других бургундцев: Шарля де Пупе, сеньора Ла Шоль, и Жерара де ла Плена, сеньора Ла Рош. Пупе родился в 1460 году, когда в Бургундии был период расцвета. Он служил Филиппу Красивому в Испании, но большую часть своей жизни провел во Фландрии. Ему приходилось возвращаться в Испанию для переговоров с кардиналом Сиснеросом, который был в то время регентом, а затем с Адрианом VI, сразу после того, как того избрали папой. Уже тогда Пупе видел положительные качества великого Кортеса{153}. Некоторое время он был не только членом внутреннего совета, но также и наставником Карла.
Владетель Ла Роша, Жерар де ла Плен, побывал в Германии, утверждая Карла в его императорском звании, бывал он и в Англии в качестве посла, а вскоре он присоединится к Генриху Нассаускому в Финансовом совете Кастилии{154}. Он был внуком большого друга Маргариты Австрийской, Лорана де Горрево, которому посчастливилось взять подряд на торговлю африканскими рабами в Испанской Индии в 1518 году, и также входил в Государственный совет.
Испанию во внутреннем совете Карла в начале 1522 года представляли двое: епископ Руис де ла Мота – уроженец Бургоса и конверсо по происхождению, – и Хуан Мануэль. Первый был капелланом и проповедником при королеве Изабелле, и затем, во Фландрии – при императоре Максимилиане; также в некотором роде он был наставником молодого императора Карла. Это он, уже вернувшись в Испанию, во время встречи Кортеса в Сантьяго, произнес вошедшую в историю фразу «новый золотой мир» по отношению к Новой Испании. Будучи назначен епископом богатой в те дни епархии Паленсия, Руис де ла Мота почти не имел возможности насладиться пребыванием в верховном совете империи, ибо в сентябре 1522 года на пути в Испанию, в Англии, заболел лихорадкой и умер в Эррера-де-Писуэрга, что возле Агилар-де-Кампоо. Кое-кто считал, что его отравили. Если так, то это было следствием его интереса к Индиям, поскольку двоюродный брат Руиса де ла Мота в то время был с Кортесом в Теночтитлане{155}.
Хуан Мануэль, со своей стороны, имел в Испании обширные владения, в которые входила и крепость Сеговия. Его отцом – тоже Хуан Мануэль, советник, служивший при кастильских королях Хуане II и Энрике IV, – был внебрачным отпрыском королевского семейства. Первым важным постом, который он занял в 1495 году, была должность посла от Католических королей во Фландрию, к Филиппу Красивому, женившемуся тогда на Хуане Безумной. В его задачу входило предотвратить французское влияние на Габсбургов. Он сопровождал Филиппа в Испанию в 1506 году и был творцом его тамошнего триумфа. После этого он оставался во Фландрии на протяжении всего детства Карла.
Хуан Мануэль разыгрывал свои карты настолько успешно, что стал первым испанцем, удостоившимся ордена Золотого Руна. Его долготерпение во Фландрии было вознаграждено, когда в 1520 году он стал императорским послом в Риме, где помогал обеспечить вступление Адриана Утрехтского на папский престол – впрочем, лично они с Адрианом были в плохих отношениях. Император Карл попросил его вернуться в Испанию, что он и сделал в феврале 1523 года, начав служить в Финансовом совете. Летописец того времени Херонимо Сурита писал о нем, что он был одновременно «доблестен и хитер, а также, несмотря на скромное телосложение, полон выдумки и остроумия, чрезвычайно осмотрителен; это великий придворный, наделенный такой тонкостью и живостью…»{156}
Государственный совет, отвечавший в 1520-х годах за все подвластные Карлу государства, на 1519 год включал в себя шестерых фламандцев и бургундцев (Гаттинара, Горрево, Плен, Ланнуа, Генрих Нассауский и Шарль де Пупе) – или семерых, если добавить в этот список духовника-советника Глапиона. Со стороны Кастилии было только двое: Руис де ла Мота и Хуан Мануэль. Как легко догадаться, столь большое количество «бюрократов из Брюсселя» должно было казаться испанцам жульничеством. Даже секретарем совета был саксонец – Жан Аннар, до Карла служивший при Максимилиане. В 1524 году он был обвинен в коррупции, и на его место пришел ловкий бургундец Жуан Алеман, сьер де Буклан, который принял на себя должность генерального инспектора королевства Арагон, что дало ему также покровительство над Неаполем{157}. Обаятельный и умный, охотно выполнявший большие объемы работы, Алеман сделался незаменимым как для Гаттинары, так и для Карла, особенно в 1522 году, когда первый много месяцев находился в отлучке в Кале. Алеман и Гаттинара оба какое-то время служили при parlement в Доле, первый – простым писцом, второй – в должности председателя. К 1526 году Алеман, кажется, становится уже скорее соперником Гаттинары, нежели его протеже.
Вот эта-то группа людей, имея при себе двух секретарей, собиралась вместе каждый второй понедельник, являя собой основной источник, откуда Карл черпал советы. Он встречался с ее членами также и по другим поводам, в том числе и приватно.
Кастилия в то время управлялась рядом советов, из которых наиболее важным являлся Королевский Совет Кастилии{158}. Он собирался каждую пятницу, как это было заведено еще во времена короля Фернандо. Если в Государственном совете, занимавшемся внешней политикой, доминировали фламандцы, то Совет Кастилии имел дело с деталями управления государством. Он представлял собой истинное правительство страны – кабинет, как это называлось бы в более поздние времена. Его председателем в 1522 году был епископ Гранады Антонио де Рохас-и-Манрике, выходец из знатной кастильской фамилии, которая имела своих представителей на Кубе, а впоследствии будет иметь их и в Перу.
Антонио де Рохас был наставником брата императора, инфанта Фернандо, в котором его дед и тезка, король Арагонский, судя по всему, видел своего наследника. В 1522 году Рохас был выдающейся фигурой среди тех, кто, находясь в ближайшем окружении Гаттинары, стремился улучшить работу государственной администрации. Он удостоился особого внимания в докладе, составленном педантичным эстремадурцем Галиндесом де Карвахалем, который в 1522 году характеризовал его как честного государственного мужа с чистыми руками и рьяного поборника справедливости. Порой он бывал нетерпелив и поддавался гневу, но – тут же добавлял Галиндес – «я уверен, что невозможно найти человека, более подходящего для той работы, которую он выполняет»{159}.
Приблизительно с 1523 года начали свое существование еще семь других советов. Среди них был Военный совет, собиравшийся каждую вторую среду, за исключением того времени, когда страна пребывала в состоянии активного конфликта; Совет инквизиции; Совет военных приказов; Бухгалтерский совет (Контадуриа Майор); и Совет Арагона. Кроме того, имелся совет, посвященный добыванию денег, а также их расходованию. Этот последний, Финансовый совет, был наиболее новым из всех. Большинство этих учреждений в 1520-х годах числило в своих членах несколько фламандцев: так, например, председателем Финансового совета был Генрих Нассауский.
И наконец, существовал также Совет Индий – новый комитет, который изначально представлял собой группу советников при Совете Кастилии во главе с Родригесом де Фонсекой, всесведущим епископом Бургосским, а теперь получил некоторую формальную независимость. Трудно назвать точную дату, когда это учреждение начало функционировать самостоятельно, но нечто близкое к подобному запуску его в действие произошло около 1520 года{160}. Тем не менее, оно никогда не теряло тесной связи с Советом Кастилии.
Первым председателем Совета Индий стал не Родригес де Фонсека, так долго бывший королевским «министром Индий во всем, кроме имени»{161}, но генеральный магистр ордена доминиканцев фрай Гарсия де Лоайса, преемник Жана Глапиона в роли императорского духовника. Он являлся также епископом Эль-Бурго-де-Осма, невзрачного городка с превосходным собором, чью великолепную решетку недавно оплатил кардинал и архиепископ Толедо, Алонсо де Фонсека.
Другими членами Совета Индий были Пьетро Мартире д’Ангьера – иначе Петр Мартир, итальянский гуманист, обучивший на протяжении 1490-х годов столь многих представителей кастильской знати. Он всегда питал всепоглощающий интерес к Индиям и по собственному настоянию сделался главным информатором Ватикана в Испании касательно этого предмета. Здесь же были Луис Кабеса де Вака, епископ Канарских островов, и Гонсало Мальдонадо, епископ Сьюдад-Реаля[30]. Единственным постоянным советником был доктор Диего Бельтран.
Таковы были люди, которые, совокупно с секретарем Франсиско де Кобосом, в те годы принимали критические решения относительно испанской империи в Америке. Именно они утверждали губернаторов (а впоследствии вице-королей), одобряли новые экспедиции (энтрадас) и определяли размеры жалованья судей. Они назначали младших чиновников, выслушивали жалобы и отвечали на запросы. Они отводили самим себе синекуры и бенефиции в Новом Свете – хотя ни один из членов совета не имел основанного на собственном опыте представления о том, что такое Индии. Франсиско де Кобос был главным «учредителем» Индий – пост, который приносил ему неплохое жалованье. Гаттинара, канцлер империи, учитывая его заботу о литейном деле, ввиду его финансового значения для государства, с самого начала с энтузиазмом сотрудничал с советом{162}.
Из всех вышеперечисленных людей самым значительным, несомненно, был председатель. Фигура Гарсии де Лоайса остается неясной, его биографии{163} не осталось. Судя по всему, на эту должность его предложил Гаттинара{164}, чье суждение о людях не отличалось тонкостью. Гарсия де Лоайса был родом из Талаверы-де-ла-Рейна, где его отец Педро де Лоайса служил советником; он обучался в Саламанке, где стал коррегидором. Его мать носила фамилию Мендоса, хотя не похоже, чтобы она происходила от основной ветви этого влиятельного семейства.
Гарсия де Лоайса вступил в доминиканский орден в молодом возрасте. Он стал приором монастыря Святого Фомы в Авиле – того самого, в изысканной, хотя и неброской церкви которого расположена искусно выполненная из белого мрамора гробница инфанта Хуана, единственного сына Фернандо и Изабеллы, приходившегося Карлу дядей{165}, – а затем приором огромнейшего Сан-Пабло в Вальядолиде, самого знаменитого из доминиканских монастырей в Кастилии. В 1518 году Гарсия де Лоайса стал генеральным магистром ордена{166}. Причиной его последующего успеха, очевидно, послужило то, что он оказался способен подавить бунт комунерос в 1521–1522 годах{167}. Ему было предложено архиепископство в Гранаде, но он отказался – вероятно, из-за проблем, которые создавало мусульманское население провинции. Вместо этого он остановился на Бурго-де-Осма, которая была тогда богатой епархией. Однако с 1523 года Гарсия де Лоайса уже является главным придворным проповедником.
Спокойный, благоразумный, далекий от любых авантюр, Гарсия де Лоайса сурово отчитал своего коллегу фрая Педро де Кордобу за то, что тот позволил Монтесиносу произнести свои знаменитые проповеди в Санто-Доминго[31]. За председательство в Совете Индий ему платили 200 тысяч мараведи в год. Какое-то время он занимал также пост инкисидор-хенераль (верховного инквизитора), где стремился сократить инквизицию до ее средневековых размеров{168}. Он жил при дворе, и собрания Совета Индий происходили непосредственно в его покоях.
Разумеется, статус императорского духовника позволял Лойасе быть хорошо информированным обо всем происходящем. Австрийский историк Пастор писал о нем, что хотя он был превосходным священнослужителем и человеком «высоко морального облика, полным энергии и преданным императору», ему «не хватало качеств государственного мужа». Он часто выказывал «недостаток предупредительности и несгибаемую жесткость… которые оскорбляли людей». Из-за отсутствия такта Лоайса был готов демонстрировать свою неистовую натуру даже перед папой.
Однако пока что все это было еще в будущем. В 1524 году Гарсия де Лоайса казался просто честным человеком – по контрасту со своим предшественником Родригесом де Фонсекой; но кроме того он был духовным лицом, а в те времена считалось, что епископы – как раз те люди, которым надлежит управлять империями.
По отношению к протестантизму Гарсия де Лоайса был тверд до нетерпимости. Он ни в коей мере не был последователем Эразма, и ввиду этого оказался в оппозиции к таким светочам эпохи, как архиепископ-гуманист Алонсо де Манрике, который сменил его на посту главного инквизитора в 1523 году, или Альфонсо де Вальдес, эразмист и секретарь Гаттинары. Относительно своего господина, императора, он вел себя смело. Так, он писал Карлу, сокрушаясь о том, что тот, будучи императором, «унизил себя, пытаясь убедить еретиков пересмотреть свои заблуждения… Ваше Величество закрывает глаза, поскольку в вашем распоряжении нет достаточных сил, чтобы их наказать»{169}. Позднее он довольно мрачно рассуждал о Реформации: «Одна лишь сила могла подавить восстание против короля [имеется в виду война с комунерос]. Так же одна лишь сила сможет подавить восстание против Господа»{170}. В другом письме он призывает Карла
«…восстать из бездны греховной, чтобы приступить к новой книге совести… Вы не должны сомневаться в том, что Бог никому не дает королевства, не возложив на него еще большую, нежели на обыкновенных людей, обязанность любить Его и повиноваться Его велениям… В вашей личности леность пребывает в непрестанном сражении со славой. Я молюсь о том, чтобы милость Господня была с вами в управлении страной и чтобы вы сумели возобладать над вашими природными врагами: хорошей жизнью и бесцельной тратой времени»{171}.
Карл позже писал о Гарсии де Лоайса – возможно, имея в виду эти приведенные выше замечания:
«…было бы лучше, если бы он вернулся от придворной жизни обратно к своим священническим обязанностям. Если бы его здоровье не было столь худо, он мог бы занять выдающееся место в политике. Его советы всегда были мне весьма полезны. Однако слабое здоровье и неспособность поладить с кардиналом Толедским[32] являются двумя его величайшими недостатками»{172}.
Хотя Гарсия де Лоайса никогда не бывал в Индиях, он не был так уж отделен от реалий имперской жизни, поскольку его двоюродный брат, фрай Франсиско Гарсия де Лоайса, рыцарь-иоаннит и до недавнего времени посланник в Османской империи, уже в 1522 году готовился возглавить экспедицию к Магелланову проливу и дальше к Молуккским островам. Его целью было захватить эти острова для Испании, пока ими не завладела Португалия.
Согласно папскому декрету и соглашению двух правительств в 1494 году, области мира западнее линии, определенной Тордесильясским договором, должны были отойти к Испании, а восточнее – к Португалии. Однако в дискуссии не было оговорено, где именно на востоке должен начинаться запад. И вот теперь Испания считала, что запад должен принадлежать ей, включая Молуккские острова. Франсиско Гарсия де Лоайса собирался подтвердить эту точку зрения, и 24 июля 1525 года из Ла-Коруньи отправилась экспедиция, состоявшая из семи кораблей, одним из которых командовал знаменитый Эль-Кано, за три года до этого вернувшийся из плавания на магеллановом корабле «Виктория». Путешествие не увенчалось успехом – но по крайней мере оно дало председателю Совета некоторое знание из первых рук о том, как обстоят дела в тех краях, над которыми он должен был председательствовать{173}. Тем временем в Вальядолиде продолжались споры о том, где провести разделительную линию между испанскими и португальскими владениями. Петр Мартир составлял о них отчеты с обычной для него компетентностью{174}.
Остальные члены этого первого Совета Индий имели не столь большой вес. Луис Кабеса де Вака, родом из Хаэна, будучи в Нидерландах, учил императора Карла читать и писать по-испански, а также преподавал ему историю Испании. Андалусец и родственник отважного исследователя Альваро Кабесы де Вака, он в 1517 году вернулся в Испанию вместе с Карлом. По-видимому, император всегда ему доверял, однако, не считая того, что позднее он слышал о жизни в Индиях от своего кузена Альваро, он не имел к этим странам никакого прямого касательства. Впрочем, его дед Педро де Вера был завоевателем острова Гран-Канария, и, соответственно, было только уместно, что в 1523 году он был назначен епископом Канарских островов – кстати, он был одним из немногих испанских епископов, кто жил в своей епархии.
Другим членом Совета Индий был Гонсало Мальдонадо из Сьюдад-Родриго, протеже Алонсо де Фонсеки, обеспечившего в 1525 году его назначение епископом в родной город. Император Карл использовал его для нескольких неожиданных поручений – например в 1529 году послал его в Парму искать особой финансовой поддержки у генуэзских банкиров. Подобная роль не была в те времена несовместимой с положением провинциального епископа{175}.
И наконец, еще одним членом этого первого Совета Индий был Петр Мартир, гуманист с Лаго-Маджоре. Его назвали в честь святого Петра Мученика – первого мученика в доминиканском ордене (он был канонизирован после того, как его убили в 1252 году между Комо и Миланом, и являлся объектом поклонения в Ломбардии XV столетия). Наш Петр Мартир происходил из древнего рода графов Ангьера, однако из бедной его ветви, так что за его обучение платил граф Джованни Борромео, богатый человек из знатного семейства. В конце 1470-х годов Мартир отправился в Рим, где служил при нескольких кардиналах, прежде чем стал секретарем у Франческо Негри, губернаторе Рима. Он подружился с кардиналом Асканио Сфорца, самым богатым из кардиналов после Родриго Борджиа. Затем блестящего молодого интеллектуала взял к себе Иньиго Лопес де Мендоса, сын маркиза Сантильяна, прибывший в Рим в качестве испанского посла. Когда Лопес де Мендоса вернулся в Испанию, Мартир отправился вместе с ним.
В 1487 году он прочел в Саламанке несколько лекций по классической литературе, после чего его новые друзья начали умолять его остаться в Испании, и он согласился. Кардинал Сфорца просил его регулярно присылать ему письма о том, что происходит в Испании; отвечая на просьбу, Мартир писал как Сфорца, так и самому папе. В Риме с жадностью ждали его писем, в которых рассказывались интереснейшие вещи о Колумбе и других путешественниках в Новый Свет, их прибытие представляло собой литературное событие первостепенной важности. Король Неаполя обязательно требовал у кардинала Сфорца копию, а папа Лев Х велел, чтобы ему читали их за обедом. Мартир писал на латыни, которую не считал мертвым языком и использовал соответственно, хотя иногда и вставлял слова на итальянском и испанском, чем навлекал на себя насмешки некоторых кардиналов{176}.
Судя по всему, в какой-то момент Лопес де Мендоса, его первый испанский покровитель, утратил к нему расположение, начав считать его чересчур многословным. Однако Мартир продолжал с успехом читать лекции в Саламанке{177} и обучать классическим языкам наследников испанской знати: перечень его учеников можно было использовать как справочник о подающих надежды молодых людях эпохи{178}. Мартир стал капелланом при королевском дворе, а затем послом при османском султане Баязиде, который симпатизировал изгнанным из Гранады мусульманам и грозился сделать то же самое с христианами в Леванте, не говоря уже о францисканцах в Палестине. Судя по всему, Мартиру удалось тактично убедить султана, что тому выгоднее поддерживать хорошие отношения с Испанией.
Учитывая этот успех, нет ничего удивительного в том, что королевский секретарь Мигель Перес де Альмасан (конверсо из Арагона, который стал секретарем по международным делам при Изабелле и Фернандо и был фаворитом последнего) попросил Петра Мартира попытаться установить столь же хорошие отношения между королем Фернандо и королем Филиппом Красивым. Однако после смерти Фернандо Мартир в своих письмах в Рим враждебно отзывался о суровом кардинале Сиснеросе, которого он не любил{179}. Позже, при императоре Карле, он относился к «фламандцам» с не меньшей враждебностью, чем любой испанец, хотя и восхищался Гаттинарой. Он был одним из первых в Испании людей, осознавших важность завоеваний Кортеса. Впоследствии он исполнял роль переводчика (с латыни на испанский) при Адриане Утрехтском, когда тот был регентом Испании – и, возможно, надеялся получить от него некоторую награду, когда тот станет папой. Однако Адриан не раздавал подарков.
Начиная с 1523 года Мартир пользовался всеми благами, сопутствующими сану протопресвитера города Оканья – одного из любимых городов королевы Изабеллы, расположенного милях в сорока к югу от Мадрида (протопресвитерами назывались высшие чины белого духовенства). О Ямайке, где у него также имелся титул и права владения, он говорил так, словно был на ней женат: «Моя супруга», так он называл ее. «Я соединен с этой прелестной нимфой, – писал он и добавлял: – Нигде в мире не найти столь приятного климата»{180}. Следует предположить, что ему доводилось беседовать с теми, кто бывал там.
Мартир обладал бесконечной любознательностью. В его обыкновении было просить людей, знавших Индии на собственном опыте, отобедать с ним. «Я нередко приглашал молодого Веспуччи [племянника Америго] к своему столу, – писал он, – не только потому, что он обладает несомненным талантом, но и из-за того, что он делал записи обо всем, что наблюдал на протяжении своего путешествия». То же он говорил о Себастьяне Каботе, который в 1518 году стал пилото майор, то есть главным штурманом, вслед за Диасом де Солисом: «Кабот часто посещает мой дом, и время от времени присоединяется ко мне за моим столом»{181}.
Маринео Сикуло, собрат-итальянец Мартира, долгие годы бывший профессором в Саламанке, вспоминал, как, обедая с Мартиром, он с большим воодушевлением разглядывал у него прекрасные стулья, ибо они были выполнены «превосходно и с непревзойденным искусством». Мартир был в изобилии окружен золотом и серебром, а также рукописями и прочими вещами, которые валялись по всему дому в некотором небрежении{182}.
Франсиско де лос Кобос был секретарем Совета Индий с самого начала. Озабоченный, как и покойный епископ Родригес де Фонсека, в первую очередь собственным финансовым преуспеянием, он уделял мало внимания Новому Свету, на чью судьбу имел столь огромное влияние. Это был главный кабинетный секретарь при Карле V – педантичный, сухой, компетентный, интересующийся женщинами, лишенный воображения. Кобос родился в 1490 году; его отцом был Диего де лос Кобос Товилья, сражавшийся в последних сражениях войны с Гранадой. Овьедо в своей книге «Воспоминания за 50 лет», посвященной рассказам из жизни кастильской знати, писал, что изначально это семейство не имело ни гроша{183}.
Гарсия де Лоайса писал императору, что Кобос «знает, как компенсировать вашу небрежность в обращении с людьми… Он служит вам с величайшей преданностью, он чрезвычайно благоразумен; он не тратит попусту ваше время, пытаясь показаться умным, как делают другие; он никогда не сплетничает о своем господине; и люди любят его больше чем кого бы то ни было другого из тех, кого мы знаем». Самому Кобосу он говорил, что прочел его письмо папе: «Ваши письма доставляют Его Святейшеству больше удовольствия, чем все те, которые показывает ему посол, поскольку он говорит, что они написаны от сердца… с глубочайшим смыслом… величайшей проницательностью и без лжи»{184}.
Один из современных компетентных историков писал, что Кобос был «сообразителен и находчив, неутомимый работник, искусный дипломат, очаровательный собеседник, с некоторыми претензиями на звание гуманиста, автор прекрасных писем, но вместе с тем упрям, мстителен и превыше всего жаден до наживы»{185}. В свое время Лопес де Гомара, биограф Кортеса, характеризовал Кобоса словами «толстый, привлекательный, веселый и жизнерадостный, и столь приятный в общении». Впрочем, он тут же добавлял, что «он был усерден и скрытен… очень любил играть в карточную игру «примера» и беседовать с женщинами»{186}. Судя по всему, он никогда ничего не читал; он никогда не упоминал в своих письмах Эразма, и вообще в них не обсуждались какие-либо из величайших событий того времени.
Согласно Лас Касасу, он был «привлекательной наружности и крепкого телосложения», а также «мягок в речах и тоне». Бернардо Наваджеро – еще один венецианский посол, носящий эту фамилию, – считал, что «Кобос весьма любезен и очень опытен. Самую большую сложность представляет устроить с ним встречу, но после того, как вы оказались у него в кабинете, его обращение настолько очаровывает, что любой посетитель уходит от него совершенно удовлетворенным».
Кобос добился представления ко двору через Диего Вела Альиде, мэра де лос Кобоса, который был мужем его тетки и одновременно счетоводом и секретарем при королеве Изабелле. С самого начала его карьера неуклонно шла вверх. В 1503 году он был назначен королевским нотариусом в Перпиньян, а в 1508 году стал главным счетоводом (контадор майор) Гранады. В тот же год он стал советником в Убеде, соответственно перенеся свое местожительство в Андалусию.
Почти все то время, что Сиснерос был регентом, Кобос провел в Брюсселе. Овьедо полагал, что это Уго де Уррьес, секретарь Карла по делам Арагона, представил его всемогущему Шьевру, с которым работал. Король писал Сиснеросу: «…он пришел, чтобы служить нам, и служил, и служит нам по сей день». Тем не менее, его имя не фигурирует среди тех, к кому Сиснерос относился неприязненно{187}