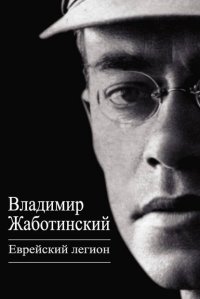
Читать онлайн Еврейский легион (сборник) бесплатно
- Все книги автора: Владимир Евгеньевич Жаботинский
Предисловие
Владимир (Зеев-Вольф, Вольф Евнович) Жаботинский родился в Одессе 18 октября 1880 года (12 хешвана 5641 года), в ассимилированной еврейской семье. Отец, Евно (Евгений Григорьевич) Жаботинский, служащий Российского общества мореходства и торговли, занимавшийся закупкой и продажей пшеницы, был выходцем из Никополя; мать, Хава (Эвва, Ева Марковна) Зак, была родом из Бердичева. Старший брат Мирон умер ребенком; сестра Тереза (Тамара, Таня) Евгеньевна Жаботинская-Копп была учредительницей частной женской гимназии в Одессе.
Когда Владимиру исполнилось шесть лет, его отец умер, но мать, несмотря на наступившую бедность, открыла лавку по торговле письменными принадлежностями и определила сына в гимназию в Одессе. В гимназии Жаботинский учился посредственно и курса не закончил, так как, увлекшись журналистикой, с 16 лет стал публиковаться в крупнейшей российской провинциальной газете «Одесский листок» и был послан этой газетой корреспондентом в Швейцарию и Италию; также сотрудничал с газетой «Одесские новости». Высшее образование получил в Римском университете по кафедре права.
Перед Пасхой 1903 года Владимир Жаботинский стал одним из организаторов первого в России отряда еврейской самообороны (ожидавшийся погром, однако, произошел не в Одессе, а в Кишиневе). В августе того же года Жаботинский был делегирован на 6-й сионистский конгресс в Базеле, и с этого момента начинает принимать активное участие в сионистском движении. В начале 1904 года он переехал в Петербург и вошел в состав редколлегии нового сионистского ежемесячного журнала на русском языке «Еврейская жизнь» (в дальнейшем «Рассвет»), с 1907 ставшим официальным органом сионистского движения в России. На страницах этой газеты Жаботинский вел ожесточенную полемику против сторонников ассимиляции и Бунда.
С началом Первой мировой войны Владимир Жаботинский выдвинул идею, что сионистам следует однозначно принять сторону Антанты и сформировать в ее составе еврейскую армию, которая бы приняла участие в освобождении Палестины и затем стала костяком организации там еврейского государства. Находясь в Египте, Жаботинский совместно с Иосифом Трумпельдором сформировал «Еврейский легион» в составе британской армии.
После войны Жаботинский поселился в Палестине. Весной 1920 года он был арестован английскими властями за организацию самообороны во время арабо-еврейских столкновений; заключен в крепости в Акко и приговорен к 15 годам каторги, но вскоре освобожден по амнистии. По освобождении Жаботинский был избран в руководство Всемирной сионистской организации, но очень быстро у него возникают идейные расхождения с большинством, включая лидера организации Вейцмана. Они касались следующих пунктов: сторонники Вейцмана считали, что декларация Бальфура дала все необходимые политические гарантии, и дело сионистов заключается отныне в сельскохозяйственной колонизации Палестины и создании базиса для «национального очага» – однако Жаботинский требовал усиления в деятельности сионистов политического элемента и гарантий еврейской государственности «на обоих берегах Иордана». Сторонники Вейцмана в своей внешнеполитической деятельности уповали исключительно на дипломатические методы – Жаботинский настаивал на силовом давлении как на мандатные власти, так и на палестинских арабов.
Жаботинский резко выступал против господствующих в сионистском движении социалистических идей, указывая, что классовая борьба подрывает необходимое евреям национальное единство; он выдвинул лозунг: «только одно знамя» и сравнивал совмещение социализма и сионизма с поклонением двум богам сразу.
В 1923 году Жаботинский вышел из правления Всемирной сионистской организации в знак протеста против принятия ею «Белой книги» У. Черчилля, констатировавшей невозможность превращения Палестины в мононациональную еврейскую страну. В 1925 году круг сторонников Жаботинского организационно оформился в Союз сионистов-ревизионистов со штаб-квартирой в Париже. На 15-м конгрессе Всемирной сионистской организации фракция ревизионистов предложила объявить создание еврейского государства официальной целью движения, но не получила поддержки.
В 1933 году Жаботинский добился выхода Союза сионистов-ревизионистов из Всемирной сионистской организации. Попытка примирения между Жаботинским и Бен-Гурионом (как представителем левых сионистов), предпринятая при посредничестве Петра Рутенберга (бывшего российского эсера, соучастника убийства Георгия Гапона, с 1920-х годов – промышленника и руководителя «Хаганы» в Палестине), не встретила поддержки среди левых сионистов и провалилась.
Окончательно раскол в сионистском движении оформился в 1935 году с образованием «Новой сионистской организации» под председательством Жаботинского, со следующей программой: «1) создание еврейского большинства на обоих берегах Иордана; 2) учреждение еврейского государства в Палестине на основе разума и справедливости в духе Торы; 3) репатриация в Палестину всех евреев, которые желают этого; 4) ликвидация диаспоры». Подчеркивалось, что «эти цели стоят выше интересов личностей, групп или классов». Штаб-квартира новой организации находилась в Лондоне.
4 августа 1940 года Владимир Жаботинский умер. В 1964 году прах Жаботинского был перезахоронен в Иерусалиме на горе Герцля – как это требовал сам Жаботинский в своем завещании от 1935 года.
Из ревизионистского движения, созданного Жаботинским, вышли современные израильские «правые», которые в лице блока «Ликуд» с 1970-х гг. играют виднейшую роль в политической жизни Израиля.
В Тель-Авиве есть Институт Жаботинского, занимающийся увековечиванием его памяти и наследия. В том же здании находится штаб-квартира партии «Ликуд».
Евреи России
ЕВРЕЙСКАЯ КРАМОЛА[1]
…Наша еврейская затрата на дело обновления России не была соразмерна ни с нашими интересами, ни с нашим значением, ни с нашими силами. Даже в моменты наибольшего опьянения надеждами не было в рядах еврейской армии ни одного глупца настолько бессовестного, чтобы ждать от успеха борьбы полного ответа на еврейский вопрос, – ни одного, кто в глубине души не понимал бы, что в обновленной России нам придется жить с теми же соседями, а психология соседей в этом отношении еще нигде и никогда не перерождалась от политической реформы, и суть неравенства не меняется от замены казенного гнета общественным непризнанием.
Это все понимали. Все понимали, что нам обновление России даст меньше, непомерно меньше, и все же мы заплатили больше, непомерно, безумно больше того, что могли заплатить, и того, что стоило заплатить. В течение пятнадцати лет мы собственною волей систематически вносили на алтарь общего дела удесятеренную живую подать, а когда взошел посев, судьба взыскала с нас уже помимо нашей воли неслыханную доплату… Кто же был прав? Или все это теперь окупится? Или не разумнее было бы для раздавленного и опустошенного племени уступить переднее место в бою сильнейшим? И если даже поверить, что от этого, по чужой косности, ход событий растянулся бы на более долгие годы. Кто решится сказать, что не лучше было бы для нашего народа встретить обновление позже, но не за такую цену?
Наши политические плясуны в ответ на все это кричат о психологии лавочника, о мелочных расчетах, достойных мещанской глуши. Да. Над народным достоянием и благом честный человек должен стоять на страже скупо и расчетливо, как лавочник над своею кровной кассой. Семь раз отмерь и один раз отрежь – это правило мещанина, но политическая партия совершает низкое и нечестное дело, если она хоть на мгновение забывает об этом правиле. Звать массу на трудный подвиг, не взвесив раньше до золотника, во что это ей обойдется, не разорит ли ее непомерное бремя и стоит ли вся игра свеч, – это значит быть в худшем случае предателем, в лучшем случае болтуном. – Но тут есть и другая сторона расчета. Наши затраты не окупятся для нас, но окупятся ли они хоть для общего дела? Правда ли то, что еврейская энергия облегчила и ускорила восход русской свободы?
За каждым из нас должно быть признано право, на исходе определенного периода истории, в такие дни затишья, как нынешние, сесть за стол и подсчитать итоги, подсчитать все то хорошее и все то дурное, что произошло от участия нашего народа в революции. Я хочу это сделать. Попытаюсь это сделать исключительно с помощью трезвого рассудка, намеренно сухо, без всяких апелляций к чувству. Речь идет о подсчете, об итоге, и я хочу действовать, как безличный и добросовестный бухгалтер, у которого, быть может, не все данные в руках, но одна только прямая цель – получить, насколько это в его силах, правильный баланс.
Ходячее представление так формулирует роль, сыгранную в освободительном движении евреями.
Революции не было. Надо было вызвать ее. И это взяли на себя евреи. Они – легко воспламеняющийся материал, они – грибок фермента, который призван был возбудить брожение в огромной, тяжелой на подъем России. И так далее. Все это много раз уже сказано, много раз писано черным на белом и считается большой истиной. Но я, счетовод, над этой затратой еврейского народа останавливаюсь в нелегком раздумьи и не знаю, окупилась и окупится ли она.
О, бесспорно, это заманчивая задача: быть застрельщиками великого дела, разбудить политическое сознание в 150-миллионном народе, поднять красное знамя в Литве так высоко, чтоб увидал и Тамбов, и Саратов, и Кострома – чтоб увидали и сказали друг другу: «Пойдем за ним». И. конечно, все это было сделано, поскольку оно зависело от еврейских революционеров: знамя было поднято, и так высоко, и с таким шумом, что Кострома, несомненно, увидела. Но какое действие произвело это на политическое сознание Костромы?
Я вспоминаю, отмечаю, подсчитываю, и вижу ясно, что действие было двоякого рода. С одной стороны. Кострома, бесспорно, вводилась и искушение. Эта борьба на другом конце России не могла не вызывать у нее, Костромы, соблазнительной мысли: значит, можно и у нас попробовать тем же манером? В то же время отдельные евреи добирались и до самой Костромы и лично старались там претворить эту соблазнительную мысль в действие. Все это вело, конечно, к пробуждению политического сознания. Но… А с другой стороны?
Я вспоминаю потемкинские дни в одесском порту. Огромная толпа гаванских и заводских рабочих, самодельная трибуна и ораторы на этой трибуне. Днем толпа еще не была пьяна, даже не подозревала, что через несколько часов она же будет лизать ликер с булыжника мостовой и жечь пакгаузы. Днем толпа эта была настроена несколько торжественно и необычайно, благодаря присутствию мертвеца в палатке и вообще всей обстановке того странного дня. Толпа была в том состоянии неопределенного подъема, когда из нее можно сделать все. что угодно: и мятеж, и погром. Речистый молодец, с открытым славянским лицом и широкими плечами, мог бы ее повести за собой штурмом на город. И ораторов, действительно, слушали с захватывающим вниманием. Но речистый добрый молодец не появлялся, а выходили больше «знакомые все лица» – с большими круглыми глазами, с большими ушами и нечистым «р». И в толпе всякий раз, со второго слова каждого оратора, слышалось замечание: А он жид? Именно замечание, а не возглас, не окрик: в этом, сохрани Боже, не чуялось никакой злобы – это просто, так сказать, принималось к сведению. Но ясно в то же время ощущалось, что подъем толпы гаснет. Ибо в такие минуты, как та, нужно, чтобы «толпа» и ее «герой» звучали в унисон, чтобы оратор был свой от головы до ног, чтобы от голоса, от говора, от лица, от всей повадки его веяло родным – деревней, степью, Русью.
Тут были ведь не спропагандированные люди, которых можно взять резонами, – тут была масса, не подготовленная, но ко всему готовая, если ее схватить за душу. Но чтобы схватить за душу, надо иметь доступ к душе, а чтобы уметь проникать в душу народа. нужно принадлежать к этому народу. Нужно тогда, чтобы ничто, ни одна нотка, ни один жест не покоробили, не оттолкнули стихийного чутья толпы. Здесь этого сродства не было. Выходили евреи и говорили о чем-то, и толпа слушала их без злобы, но без увлечения; чувствовалось, что с появления первого оратора-еврея у этих русаков и хохлов мгновенно создалась мысль: жиды пошли – ну, значит, все это, видимо, их только, жидов, и касается. Создалось впечатление чужого, не своего дела, раз о нем главным образом радеют чужие. И больше ничего. Да и этого было довольно: расплылось и упало настроение, толпа стала разбредаться, появились награбленные бутылки, и беспомощные агитаторы ушли в город. Оставив порт и босячество на волю судьбы.
Я далек от того, чтобы медленный рост политического сознания в русских массах объяснять всецело обилием евреев-агитаторов. Но я не сомневаюсь в одном: подымать народную новь может только свой. У чужого – если он не Лассаль, но ведь Лассаль был гений агитации, а гении не повторяются, – у чужого нет того обаяния, которое в таких случаях необходимо. Народ чует чужака и особенно чужаков, если их много, и инстинктивно сторонится.
А враги этим пользуются. Из двадцати процентов евреев они делают девяносто и кричат народу: берегись, это еврейское дело! И народ им верит, или, по крайней мере, долго и упорно верил, и мы это чувствовали на своей спине. Когда невмоготу становились страдания русского народа, и вот-вот готов был прорваться его гнев, – кто сосчитает, сколько раз в такие моменты реакция спасала себя искусной игрою на этой слабой струнке стихийного существа – на недоверии к революции, предводимой инородцами?
Я прекрасно знаю, что еврейские революционеры нисколько не ответственны за то, как освещала реакция их роль в освободительном движении. Да я никого и не виню, я только подсчитываю результаты. И говорю, что если с одной стороны еврейская революция будила политическое сознание русских масс, то с другой стороны преизобилие евреев в рядах крамолы давало реакции ценный и богатый материал для затемнения политического сознания этих масс. Отрицать это значило бы лгать самим себе. И пусть не думают, что это был слабый или недействительный фактор затемнения! В 1863 году реакция сыграла такую же спекуляцию на польском восстании, и успех этой спекуляции всем известен. Недоверие к чужаку всегда было и долго еще будет могучим тормозом для правды, приходящей извне.
И я, бухгалтер, не знаю, что мне делать с этой статьей баланса, на какую страницу вписать ее. Революционный пыл еврейских социалистов будил политическое сознание остальной России, но он же способствовал и затемнению этого сознания. Он давал топливо для революции и пищу для реакции. Что же было сильнее: первое или второе? Иными словами: ускорила или замедлила еврейская крамола наступление всероссийской революции? И если даже ускорила, то на великий ли срок? И стоит ли этот срок той крови стариков, и женщин, и детей, которой нас заставили заплатить, под ножами предателей, за крушение старого строя? Не выгодней ли было для народа подождать еще несколько лет – ведь и без евреев, наконец, не погибла бы Россия, – но дешевле заплатить за свободу?
Пусть, положа руку на сердце, отвечает, кто может, – я не могу, потому что не знаю ответа.
Я написал недавно в одной русской газете, что еврейская кровь на баррикадах лилась «по собственной воле еврейского народа», и меня упрекали за эту фразу. Но я именно так думаю. Я считаю невежественной болтовнею все модные фразы о том, что у евреев нет народной политики, а есть классовая. У евреев нет классовой политики, а была и есть (хотя только в зародыше) политика национального блока, и тем глупее роль тех, которые всегда делали именно эту политику, сами того не подозревая. Они делали ее на свой лад, с эксцессами и излишествами, но по существу они были все только выразителями разных сторон единой воли еврейского народа. И если он выделил много революционеров – значит, такова была атмосфера национального настроения. Еврейские баррикады были воздвигнуты по воле еврейского народа. Я в это верю, и раз оно так, я преклоняюсь и приветствую еврейскую революцию.
Но на пользу ли народу пошла эта революция? Не знаю. Воля народа не во всякий отдельный момент ведет к его благу, потому что не всегда народ способен верно учесть объективные шансы за и против себя. И в особенности легко ошибиться тогда, когда весь расчет основан на вере в сильного союзника, на вере в то, что он поймет, он откликнется, он поможет, – а на деле никто из нас этого союзника не знает, и Бог весть еще, как он нас отблагодарит…
Только там, где на себя самого и ни на кого больше не должен рассчитывать народ, – только там воля народа всегда ко благу его. Таково наше движение. Мы не звали народ ни к кому в объятия, не сулили ему ничьей благодарности за услуги и заслуги: мы строили и скрепляли народное единство, и воспитывали сознание национальных задач. И потомки благословят нас за наши суровые призывы к эгоизму, за наше открытое и явное неверие в чужую помощь, и скажут: благо тем, которые в то смутное время, полное миражей и обольщений, умели выбрать прямую дорогу и повели свой народ навеки прочь от чужой помощи и чужого предательства.
Мы – партия национального зодчества – никогда не хотели играть вслепую, и в этом вся разница между нами и другими. Мы всегда знали, что работа на поле, где не мы хозяева, есть игра с завязанными глазами и ничем иным не может быть, и мы протестовали против вовлечения народной массы в эту безумную авантюру. И теперь, после новых и решающих опытов, мы с полным сознанием остаемся на старой позиции. Мы честно и дружно пойдем с освободительным движением, ибо вне свободы немыслимо национальное сплочение, но самая сила вещей отвела евреям место во вторых рядах, и мы оставляем первые шеренги представителям нации большинства. Мы отклоняем от себя несбыточную претензию вести: мы присоединяемся – это все, что объективно под силу нашему народу. В этой земле не нам принадлежит созидательная роль, и мы отказываемся от всяких притязаний на творчество чужой истории.
Поле нашего творчества внутри еврейства. Мы служим еврейскому народу и не желаем другого служения. Здесь мы не слепы, здесь не ведем народ в безвестную темноту, на добрую волю союзников, которых не знаем, за которых не вправе ручаться. Здесь мы даем народу цель и говорим: у тебя нет союзников – или сам за себя, или нет спасения. Никто на свете не поддержит твоей борьбы за твою свободу. Верь только в себя, сосчитай свои силы, измерь свою волю, и тогда – или иди за нами, или да свершится над тобою судьба побежденных.
1906 г.
О евреях в русской литературе
В «Свободных мыслях» была помещена статья К. Чуковского о евреях в русской литературе: потом появилась на ту же тему статья г. Тана, больше похожая на лирическое письмо, чем на статью. Последнее обстоятельство дает и мне повод высказаться по этому вопросу. Будь это спор, я бы не принял участия в нем… Другое дело обмен личными настроениями по лирическому примеру г. Тана, – и я прошу позволения последовать этому примеру.
Кое в чем наши личные настроения сходны. Меня весьма тронуло, например, что г. Тан пишет всеми буквами черным на белом: «мы, евреи». Это нововведение: насколько знаю, это в русской печати второй случай. Обыкновенно еврейские сотрудники русских газет пишут о евреях не «мы», а «они»: местоимение первого лица приберегается для более эффектных случаев, например: «мы, русские», или «наш брат русак» (я сам читал).
Растрогало меня и то, что г. Тан отказывается считаться с пресловутым доводом, будто не следует «в такое время» задевать «такой вопрос». Мы с г. Таном прекрасно знаем, что дело тут не в задевании вопроса, а в упоминании лишний раз слова «еврей», чего многие терпеть не могут: в этом смысле «такое время» было и год, и два, и пять лет, и пятнадцать лет тому назад. Но вслух, конечно, приводятся самые благородные мотивы – что не надо, мол, «играть в руку». Выеденного яйца не стоят эти благородные мотивы. Из-за них не было еврейскому публицисту никакой возможности поговорить с евреями, читающими по-русски, об их делах или об их недостатках – например, о множестве рабских привычек, развившихся в нашей психологии за время обрусения нашей интеллигенции. Эта интеллигенция не читала ни «Восхода», ни древнееврейских и жаргонных газет, а читала больше всего провинциальную прессу черты оседлости – которую, кроме нее, почти никто не читал, в которой, кроме нее, почти никто не писал и которая в общем не печатала ни одного слова о еврейских делах. Порою хотелось рвать на себе волосы от бешенства, и знаете ли, теперь тоже нередко хочется. Лучше бы тысячу раз «сыграть на руку» черным людям, которые от этого не стали бы чернее, чем так наглухо запереть все пути к среднему еврейскому интеллигенту, чем так упорно приучать его к забвению о себе самом и о долге самокритики, чем так обидно воспитывать в нем унизительное невнимание к себе и своему делу…
По существу предмета наши настроения зато вряд ли совпадают. Обсуждать, хороши или плохи евреи в чужих литературах, я не стану – это было бы уже спором, от которого я отказался. Замечу только, что дело совсем не в том, чувствует ли себя г. Тан, как сам утверждает, неразрывно привязанным к русской литературе или не чувствует. Чуковский отнюдь и не собирался оторвать его или других от русской литературы: он только задал себе вопрос, велика ли польза русской литературе от этих неразрывных привязанностей, и пришел sine ira et studio к печальным выводам. Чтобы не прятать даже мимоходом своего мнения, прибавлю, что я с г. Чуковским совершенно согласен; прошу г. Тана не принять это с моей стороны за щелчок по его адресу – я его, г. Тана, кроме газетных статей, право, не читал и судить не могу: но вообще нахожу, что евреи пока ничего не дали русской литературе, а дадут ли много впредь – не ведаю. Однако не сомневаюсь, что против г. Чуковского был уже в печати, как водится, выдвинут длинный список «еврейских замечательных людей», блистательное доказательство наших великих заслуг перед отечеством и человечеством. «Рассвет» остроумно заметил, что в этих случаях докапываются чуть ли не до девиц, окончивших гимназию с золотою медалью. Таковых, слава Б-гу, немало, и честь Израиля нетрудно спасти, ибо мы люди маленькие и малым довольны. Заграницей наши онемеченные или офранцуженные братья чувствуют себя на вершинах радости, когда кого-нибудь из них в кои веки примут в высшем туземном обществе: они делают важные лица и говорят многозначительно: ого! А у нас однажды г. Горнфельд, я помню, печатно выразил свой восторг по поводу того, что «в одном рассказе Елпатьевского больше интереса к евреям, чем во всех сочинениях Успенского», – из чего явствует прогресс гуманности и благого просвещения. После этого почему же не удовлетвориться гордым сознанием, что нашего такого-то печатают в лучших журналах – так сказать, принимают в высшем туземном обществе? При малом честолюбии и на запятках уютно…
Если г. Тану или другим уютно в русской литературе, то вольному воля. Я, например, не только не стал бы их манить назад, но даже не выражу сомнения, точно ли так им уютно, как они рассказывают. Напротив, признаю и не сомневаюсь. Но я это иначе объясняю, иначе освещаю. Г. Тан объясняет свои родственные чувства к русской литературе, между прочим, и тем, что деды его захватили жаргон, проходя через Ахен, а ему, г. Тану, какое дело до Ахена? Это резон, но я советовал бы г. Тану употреблять его пореже и с осторожностью; ибо мы на своем пути прошли не только через Ахен, но и через Вильну, Киев, Одессу, отчасти через Петербург и Москву, и если мы начнем так небрежно отмахиваться от попутных городов, то нам с г. Таном могут со стороны предъявить вопрос: – Что это такое? Cuis regio, eius religio? Где переночевали, там и присягнули, а выйдя вон – наплевали? Эх, вы, патриоты каждого полустанка…
Я бы лично этого окрика не хотел, и потому предпочитаю не плевать на Ахен и не лобызать торцов Петербурга. Свои гражданские обязанности несу там, где я приписан и ем хлеб, и несу их корректно; в сердце же к себе я чужих людей не пускаю: в том, какой я город люблю и к какому городу равнодушен, никому давать отчета не желаю, и принципиально демонстрирую совершенно одинаковое благорасположение к Ахену и Москве. Будь у меня всамделишный свой город, я бы тогда стал говорить о любви: и это, быть может, была бы такая любовь, какою сорок тысяч людей на запятках любить не в силах. Но при нынешнем моем положении воздаю кесарево кесареву, а божию держу про себя. Исповедую лояльный космополитизм, и ни на сантиметр больше.
Самый же вопрос о жаргоне я беру не с точки зрения Ахена, да и вопрос о том, в какую литературу идти еврейскому писателю, беру не с точки зрения жаргона. С жаргоном я считаюсь потому, что на нем фактически говорит народ, и, следовательно, для того, чтобы работать в народе и с народом, надо работать и на жаргоне. Это ясно, как дважды два четыре, и совершенно при этом не важно, где, когда и из чьих рук мы подобрали это наречие. Но вопросом о языке еще не решается вопрос о том, куда идти, в какую литературу. Часть евреев вырастает, не владея жаргоном, и некоторым из этого числа очень трудно потом овладеть. Это большая помеха для работы в еврейском переулке, это заставляет писать по-русски, но писать по-русски еще само по себе не значит уйти из еврейской литературы.
В наше сложное время «национальность» литературного произведения далеко еще не определяется языком, на котором оно написано. Это ясно в особенности по отношению к публицистике. «Рассвет» издается на русском языке, но ведь никто не отнесет его к русской печати. Так же точно к еврейской, а не к русской литературе относятся наши бытописатели О. Рабинович и Бен-Ами, или поэт Фруг, хотя их произведения написаны по-русски. Решающим моментом является тут не язык, и с другой стороны даже не происхождение автора, и даже не сюжет: решающим моментом является настроение автора – для кого он пишет, к кому обращается, чьи духовные запросы имеет в виду, создавая свое произведение. Шутник может спросить, не относится ли в таком случае погромная прокламация «К жидам г. Гомеля» тоже в вертоград еврейской литературы: но если не оперировать курьезами и брать вопрос серьезно, то «национальность» литературного произведения в таких спорных случаях устанавливается, так сказать, по адресату. Если пишете для евреев, то много ли, мало ли вас прочтут, но вы остаетесь в пределах или хоть на окраинах еврейской литературы. Можно поэтому не знать жаргона и все-таки не дезертировать, а служить, по мере сил и данных, своему народу, говорить к нему и писать для него. Дело тут не в языке, а в охоте.
Я прекрасно понимаю, что нелегко требовать этой охоты от писателя, знающего по-русски. Он может писать для русской публики, это гораздо заманчивее – и аудитория неизмеримо больше, и жизнь шире, многообразнее, богаче. Искушение слишком велико. Оторваться от этого простора и сосредоточить свои мысли на переживаниях еврейства – это жертва, для некоторых и большая жертва. Из малороссов, одаренных сценическим талантом, большинство пока уходит на велокорусские подмостки, и причина та же: аудитория шире и культурнее, репертуар лучше, общественное признание куда серьезнее… Одного заметного столичного публициста недавно убедили стать во главе органа, посвященного еврейским интересам; и он через месяц ухватился за первый повод и ушел, высказавшись так: – У меня все время было такое чувство, точно я из громадного зала попал в чулан…
Не виню совершенно ни его, ни ему подобных: но с другой стороны нечем тут и гордиться. Человеческая мысль очень лукава и умеет раскрасить в багрец и золото какой угодно поступок; и в этих случаях она подсказывает уходящим из чулана красивые речи о том, что широкое лучше узкого, общечеловеческое (русское называется общечеловеческим) важнее национального, интересы ста миллионов с лишним важнее интересов пяти миллионов и так далее. Но все это пустые словеса перед тем фактом, что наш народ остается без интеллигенции и некому направлять его жизнь. Оттого я сказал, что иначе все это освещаю, в иную меру оцениваю, и могу вам назвать совершенно искренне, в какую именно меру. В грош я это оцениваю, эти раззолоченные узоры на халате дезертира, эти пошлости на тему об узком, широком и общечеловеческом, потому что это неправда. Если человек уходит из чулана в большой зал, значит, он пошел по линии своей выгоды, и больше ничего. Не поймите меня банально, я не говорю о денежной выгоде; но идти по линии своей выгоды – значит идти туда, где человеку легче удовлетворить свои аппетиты и запросы, где атмосфера тоньше, среда культурнее, резонанс шире, подмостки прочнее и вообще все пышнее и богаче. Только потому они и уходят, и ничего нет в этом возвышенного, ибо всякий средний человек предпочитает Рим деревне и согласен даже быть в Риме сто пятнадцатым, лишь бы ходить по мрамору, а не по деревенской улице. Может быть, в том-то и дело, что только средние люди так рассуждают, и потому Бялик и Перец у нас, а в русской литературе подвизается г. Тан и еще не помню кто; но оттого народу не легче, если у него остаются генералы и нет офицеров, и дезертирство остается дезертирством. Я этим никого не ругаю, я человек трезвый и не вижу в дезертирстве никакого позора, а простой благоразумный расчет: на этом посту мне, интеллигенту, тяжело и тесно, а там мне будет легче и привольнее – вот я и переселяюсь. Вольному воля. Мало что в чулане осталась толпа без вождей и без помощи – ведь никто не обязан быть непременно хорошим товарищем. Счастливой дороги. Но не рядите расчета в принципиальные тряпки, не ссылайтесь на возвышенные соображения, которых не было и не могло быть у людей, что покинули нас в такой неслыханной бездне и перетанцевали на ту сторону к богатому соседу. Нас вы этими притчами не обманете: мы хорошо знаем, в чем дело, знаем, что мы теперь культурно нищи, наша хата безотрадна, в нашем переулке душно, и нечем нам наградить своего поэта; мы знаем себе цену… но и вам тоже!
Опять-таки настаиваю на прежнем: мой набросок получил оттенок беседы с г. Таном, и г. Тан может принять все это на свой счет, а мне бы не хотелось. Ей-богу, я в точности не знаю, перекочевал ли он или нет, говорю не о нем и вообще не о ком-нибудь, а так. Обмениваюсь личными настроениями. И раз это личное настроение, то хочу вам указать еще одну его деталь: нашу окаменелую, сгущенную, холодно бетонную решимость удержаться на посту, откуда сбежали другие, и служить еврейскому делу чем удастся. головой и руками и зубами, правдой и неправдой. честью и местью, во что бы то ни стало. Вы ушли к богатому соседу– мы повернем спину его красоте и ласке: вы поклонились его ценностям и оставили в запустении нашу каплицу– мы стиснем зубы и крикнем всему миру в лицо из глубины нашего сердца, что один малыш, болтающий по-древнееврейски. нам дороже всего того, чем живут ваши хозяева от Ахена до Москвы. Мы преувеличиваем свою ненависть, чтобы она помогала нашей любви, мы натянем струны до последнего предела, потому что нас мало и нам надо работать каждому за десятерых, по тому что вы сбежали и за вами еще другие сбегут по той же дороге. Надо же кому-нибудь оставаться. Когда на той стороне вы как-нибудь вспомните о покинутом родном переулке и на минуту, может быть, слабая боль пройдет по вашему сердцу, – не беспокойтесь и не огорчайтесь, великодушные братья: если не надорвемся, мы постараемся отработать и за вас.
1908 г.
Асемитизм русской интеллигенции
(из статей о «чириковском инциденте» [2])
Из всей обстановки любопытного случая, разыгравшегося на чтении новой драмы г. Шолома Аша, и из всех разговоров, которые затем последовали, неопровержимо вытекает одна неприятная правда: что г. Чириков высказал коллективные мысли. Об этих щекотливых предметах наши соседи, по-видимому, уже давно шушукаются. Мы найдем, конечно, утешителей, которые станут божиться, по обыкновению, что г-да Чириков и Арабажин совершенно одиноки в своем образе мыслей; при этом случае кстати вспомнить, что г. Чириков не особенно талантлив, и даже его пьесу «Евреи» не пощадят, а г-на Арабажина, который мало известен, и совсем низведут до нуля; и получится, как всегда, что только нули осмеливаются ворчать против евреев, а «лучшая часть интеллигенции неизменно стоит за нас». Что и требовалось доказать. Но неприятная правда всетаки в том, что г. Чириков высказал общие мысли, и это в его лице русская интеллигенция начинает показывать коготки. Насколько талантлив г. Чириков, предоставляю судить тем счастливцам, которые читали этого писателя: я, кроме «Евреев», никаких плодов его пера не вкушал. Но если правду говорят, что г. Чириков и по таланту, и по всем другим качествам посредственность, то тем характернее этот выпад.
Тут перед нами, очевидно, человек как все, т. е. самый ценный тип для изучения массовой психологии: в свое время, когда надвигалась весна и «все» были добродушно настроены, он от чистого сердца написал юдофильскую пьесу, а теперь, когда «все» начали морщиться, он опять-таки от чистого сердца запретестовал против нашествия кашерных блюд на стол русской литературы. Тогда действовал без умысла и теперь инстинктивно отражает свою среду. И столь же симптоматично выступление г. Арабажина. Большая публика, особенно еврейская, совсем его не знает, и потому надо ей сказать, что это один из тех людей, которые всю жизнь ужасно заботятся, как бы не подмарать и не подмочить свою передовую репутацию. В этой заботе чуть ли не главный момент их политической психологии. В свое время г. Арабажин редактировал «Северный Курьер», выступивший в защиту евреев после скандала с «Контрабандистами». Теперь он, хотя с оговорками, осторожно, кончиком мизинца, поддержал г. Чирикова в том смысле, что вот, действительно, есть и такое мнение, и хотя мое дело сторона, а вы, евреи, все-таки приутихните.
«До сих пор вы имели дело только с отбросами общества, теперь будете иметь дело с настоящей русской интеллигенцией», – предсказывает г. Арабажин. И будьте уверены – раз г. Арабажин об этом говорит, значит об этом уже можно говорить: отлучение от передового лагеря не последует. Люди этой категории выступают только тогда, когда чувствуют за собою молчаливый мандат многих. Конечно, г-да Чириков и Арабажин люди не крупные, но ведь никогда первачи не бывают застрельщиками, и никогда не только генералы, но и вообще большие люди не бегут перед полком, отправляющимся в поход. Впереди бежит, обыкновенно, городское отрочество и вообще элементы менее ценные и зато более подвижные, а настоящая серьезная сила идет сзади, и, быть может, не сейчас.
В данном случае даже очень вероятно, что не сейчас. Политический момент все-таки неудобен для открытого разрыва между русской передовой интеллигенцией и евреями. Главные органы передовой печати постараются замять всю эту историю (они упорно молчат о ней), а потом и в еврейской среде подымут голос утешители, оправившиеся от ошеломления, и запоют старую песню, что все обстоит благополучно, – старую песню, приниженную, льстивую, неискреннюю, – старую песню, на которую не стоит отвечать, ибо авторы ее лгут и сами знают, что лгут и что никто им не верит. А под шумок этих успокоительных заверений будет делаться тихое, незаметное дело: все те отрасли русской умственной жизни, которые теперь «заполнены» евреями, начнут потихоньку избавляться от этого услужливого, дешевого, но непопулярного элемента. Лозунг «judenrein!» проникнет понемногу и в передовую прессу, и в издательства, и в передовой театр; для этого совсем не потребуется, чтобы во главе учреждений стали антисемиты – напротив, найдутся и еврейские редакторы или антрепренеры, даже некрещеные, которые, считаясь с настроением потребителя, сами позаботятся об уменьшении процента евреев. Создадутся вполне приличные литературные общества, куда евреям будет затруднен доступ, конечно, в самой благородной форме, без подчеркиваний, без явного антисемитизма. Вообще до антисемитизма, в грубом смысле этого слова, у передовой интеллигенции дело еще не скоро дойдет, а просто захочется ей пока побыть наедине с собою, без постоянного еврейского свидетеля, который слишком акклиматизировался, чувствует себя чересчур по-домашнему, во все вмешивается, всюду подает голос…
Некоторые органы большой передовой прессы Петербурга решили, очевидно, совсем замолчать случай с г-дами Чириковым и Арабажиным. Это можно было предвидеть заранее. В эпоху ассимиляции немецких евреев кто-то пустил в обращение следующую формулу: лучший способ проявить юдофильство, это – не говорить ни слова ни о евреях, ни об их противниках. Лучший ли, не знаю, но, несомненно, удобнейший способ. В нравы и традиции русской печати ввела его почтенная и заслуженная московская газета, декан и образец русского прогрессизма. Эта газета выдвинулась в эпоху самой отчаянной травли еврейского племени и стойко молчала в течение 25 лет на сию щекотливую тему: не обмолвилась ни одним звуком ни о евреях, ни об их литературных гонителях. Пример не остался без подражателей, и с тех пор замалчивание считается высшим шиком прогрессивного юдофильства. Такой шик задают теперь «Наша Газета» и «Речь» по поводу чириковского приключения. Как раз в тех кругах, которые весьма близки обеим редакциям, об этом случае говорят очень много, а обе газеты молчат и, несомненно, думают, что у них это выходит очень эффектно и многозначительно: сама, дескать, истина молчит нашими устами!
С последним я вполне согласен и даже попытаюсь разобраться в таинственном содержании этого многозначительного безмолвия. В самом деле, о чем молчит истина устами почтенных органов? Что знаменует их немота в этом случае? Что знаменует самый случай, каков его общественный смысл?…
Прежде всего надо заступиться за гг. Чирикова и Арабажина: когда они уверяют, что ничего антисемитского не было в их речах, то они оба совершенно правы. Из-за того, что у нас считается очень distingue помалкивать о евреях, получилось самое нелепое следствие: можно попасть в антисемиты за одно слово «еврей» или за самый невинный отзыв о еврейских особенностях. Я помню, как одного очень милого и справедливого господина в провинции объявили юдофобом за то, что он прочел непочтительный доклад о литературной величине Надсона. Когда г. Чуковский констатировал тот неопровержимый факт, что евреи, подвизающиеся в русской изящной литературе, ничего стоящего ей не дали, очень недалеко было от того, чтобы и г. Чуковского ославили антисемитом. То же самое теперь с г. Чириковым. Хороши или плохи русские бытовые пьесы последних лет, я судить не берусь: но г. Чириков совершенно прав, когда говорит, что глубоко прочувствовать их может не еврей, а только русский, для которого «Вишневый сад» есть реальное впечатление детства. Если бы г. Чириков сказал: «а не поляк», никто бы в этом не увидел ничего похожего на полонофобию. Только евреев превратили в какое-то запретное табу, на которое даже самой безобидной критики нельзя навести, и от этого обычая теряют больше всего именно евреи, потому что, в конце концов, создается такое впечатление, будто и самое имя «еврей» есть непечатное слово, которое надо пореже произносить…
Кого особенно несправедливо обижают, это г. Арабажина. Если оставить в стороне его выпады в печати против сионизма, которые не стоят внимания прежде всего потому, что г. Арабажин в этом вопросе некомпетентен, то именно он уж совсем ничего греховного не сказал. Он и вообще (судя даже по тем пересказам, против которых он печатно протестует, и тем более по его собственной передаче) не выразил в этом споре никаких собственных взглядов. Он только констатировал, что настроение, звучавшее в словах г. Чирикова, свойственно не одному лишь последнему, а имеет или может иметь сторонников в кругах, прикосновенных к русской литературе и русскому театру. Г. Арабажин сделал даже оговорку, что лично он этого настроения не разделяет, но что оно все-таки есть, и он считает долгом обратить на это серьезное внимание товарищей-евреев. Может быть, все это было высказано им и г. Чириковым в более мешковатой форме (нельзя же забывать, что спор был в частной товарищеской компании, где половина собравшихся друг с другом на «ты»), но по существу ничего антисемитского, реакционного и по всем прочим статьям преступного эти нашумевшие речи не содержали. Одно только в них было: симптоматическое.
Именно с этим всего неохотнее согласятся юдофилы-замалчиватели. С их точки зрения уж лучше записать гг. Чирикова и Арабажина в список отлученных от прогресса, чем признать, что в речах этих писателей звучал смягченный отголосок некоего общего настроения, пробивающего себе дорогу в среднем кругу передовой русской интеллигенции. Спорить тут невозможно, документальных доказательств не добудешь – наличность такого настроения можно установить пока только на ощупь, и не всякий захочет признаться, что уловил в других или в самом себе нечто подобное. Но если быть искренним, то ведь ни для кого не тайна, что это так. Из всех бесчисленных толков, вызванных чириковским инцидентом, явственно звучал один общий мотив: «это» не новость, об «этом» уже давно и много поговаривают. Есть, конечно, люди, которые в таких случаях нарочно затыкают уши – и не только себе, но и другим, в том числе и заинтересованной стороне; и пойдет эта заинтересованная сторона доверчиво дальше по старому пути, не слыша надвигающегося грома, и потом будет захвачена врасплох. Это считается шиком прогрессивного образа мыслей, и ничего не поделаешь с людьми, которым такая тактика по вкусу. Я и не намерен их переубеждать. Пусть притворяются оглохшими и незрячими. А все-таки назревает какое-то облачко и невнятно доносится далекий, еще слабый, но уже неприветливый гул…
Повторяю – то, что назревает в некотором слое русской интеллигенции, не есть еще антисемитизм. Антисемитизм очень крепкое слово, а крепкими словами зря не следует играть. Антисемитизм предполагает активную вражду, наступательные намерения. Разовьются ли эти чувства когда-нибудь в русской интеллигенции, предсказать нелегко: но пока до них еще, во всяком случае, далеко. То, чем веет теперь, чем так сильно пахнуло изза завесы, чуть-чуть приподнятой гг. Чириковым и Арабажиным, то не антисемитизм, а нечто отличное от него, хотя родственное и, быть может, служащее предтечей антисемитизму. – Это асемитизм. В России это слово малоизвестно, зато за границей, где куда лучше знают толк в разных оттенках жидоморства, оно давно в ходу. Это не борьба, не травля, не атака: это – безукоризненно корректное по форме желание обходиться в своем кругу без нелюбимого элемента. В разных профессиональных сферах оно разно проявляется. В сфере литературно-художественной, с которой у нас «началось», оно приняло бы форму такого рассуждения: я пишу свою драму для своих и имею право предпочитать, чтобы на сцене ее разыграли свои и критику писали свои. Этак мы лучше поймем друг друга.
