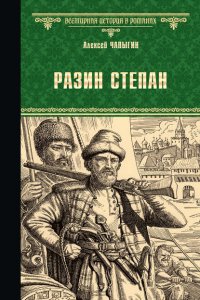Читать онлайн Гулящие люди бесплатно
- Все книги автора: Алексей Чапыгин
© B. Akunin, 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2017
* * *
Часть первая
Начало Сенькиной жизни
Сенька, стрелецкий сын, рос под материнской строгостью и заботой.
Рос парнишка не как все – тянулся не в ширину, вышину, а как-то вперед и назад. Иногда думали, что будет с горбом. Кости лопаток выдвигались гораздо вперед, оттого было холодно спине без запояски, если же Сенька опоясывался высоко, под грудями, то мать била его:
– Вяжи пояс по чреслам, противу того, как святые отцы запоясывались… не немчин ты, сын стрелецкий!
Сенька не знал, кто такие святые отцы, но уж не любил их и боялся: «А неравно как они к матке в гости придут?»
– Нелепые у тебя, парнишко, руки, ниже колен висят, персты тоже будто у матерого стрельца, – говорил Лазарь Палыч, ощупывая сына, особенно когда был старый стрелец во хмелю, но про лицо белое, будто девичье, про кудри на голове Сеньки и глаза ничего худого не сказывал.
Сенькин отец, Лазарь Палыч, – пеший стрелец, белокафтанник Полтевского приказа[1], старший брат Сеньки – ездовой стрелец[2], и Сеньке по роду быть в стрельцах. Голова уж не раз говорил Лазарю, чтоб Сеньку записать в приказ, но Лазарь Палыч медлил. Сеньку часто тянуло утечи из дому куда глаза глядят, опричь того, что мать Секлетея Петровна за ленивую молитву била, а еще и потому, как тать Лазарь получал еду за караул в Кремле натурой, не вареную – Сенька носил к нему обед ежедень и сткляницу водки. Мать, отпуская Сеньку к отцу, наказывала:
– Хмельное пущай пьет с опаской!
Тать после еды делался добрее, тогда Сенька его спрашивал о татарских послах, он видал, как татаре, выходя от царя, за пазухи пихали дареные кубки и чаши:
– Тать, пошто поганым еще кубки дают?
Тать, оглянув посторонь, чтоб кого не было близ, сказывал:
– За те чаши с халатами вольность свою продают…
– Тать, а пошто поганых иным путем да в другие ворота пущают… не в те, отколь в Кремль заходили?
– Экой ты у меня зёрький, – а чтоб в Кремле были, да дороги прямой не ведали…
– А пошто их за городом держат? В город за караулом водят? – И боялся Сенька, тогда он пятился от татя.
Тать кричал на него:
– Пшол, дурак! Много знать будешь!
Сенька опасался и никогда татю не говорил, что, когда шел в Кремле с едой, на него наскакивали посадские ребята скопом, навалом… Сенька их бил, иногда за них лез в драку кто большой – Сенька и больших бил. Про драки Сенька матке Секлетее тоже не сказывал, боясь, думал: «Слушать в Кремль не будут».
Видал Сенька за городом, как послы татарские на коней скачут. Скочит поганой, подогнет ноги, стремена-то коротки, и с глаз долой – ни коня, ни всадника, только пыль пылит.
Сеньке хотелось нарядиться в такой халат, нахлобучить островерхую шапку, вздеть за спину саадак с колчаном да лук с тетивой и ускакать с погаными куда придет. Рос мальчишка в шумное время, когда Москва с пригородом гудела как борть[3] пчелиная. Все говорили, и Сенька слышал:
– Никон патриарх веру изломил!
Матушка Секлетея Петровна у икон в углу шепотом ежедень проклинала Никона, а поминала с молитвой какого-то Аввакума.
Не на шутку ленив был к молитве стрельчонок, и за то матушка тонким батогом трудилась над ним поутру и вечером, но Сенька рос быстро – скоро его так растопырило на стороны, что матери между ног влезать не стал, тогда матка стала докучать татю:
– Побей ты его, Лазарь Палыч!
Лазарь Палыч, – черная борода с проседью легла ниже грудей и на Никона, изломившего веру, дородностью лика схожий, – отнекивался:
– Буде того, Петровна, что ежедень в Кремле на козлах зрю чужие зады – кого за дело, а кого и так разнастав бьют. Добро будет, мне время не сходится, сведи-ка лиходельницу[4] к мастеру на Варварский крестец, азам учить… старшого обучил, этого мыслю против того же. Там и побьют. Без боя наука не стоит.
Суров видом отец был, но любил Сеньку, а когда во хмелю, так и гневался за одно дело: Сенька звал его вместо тятя – тать.
– Чего брусишь, песий сын? Вразумись!
– Лгешь, тать, я сын стрелецкой.
– Ты сказывай! Я стрелец?
– Стрелец, тать!
– Ты ведаешь, что тать – это грабежник, а я что, хищением чужого живу?.. – И называл Сеньку лиходельницей.
Тут уже за Сеньку вступалась Секлетея:
– Хозяин! Лазарь Палыч, пошто парнишку лаешь?
– Пущай закинет татем брусить!
– Недоумок еще он!
– А ну, сведи к мастеру – там в ум придет, когда на горох в угол поставят.
Из упрямства или привычки худой Сенька продолжал отца называть татем. Лазарю некогда было заниматься сыном. За плеть он не привык браться, боялся шибко убить, и жену свою Секлетею, против того, как другие делали, стрелец никогда не бил. Да и служба у Лазаря Палыча была в служилую неделю маетная, а в свободную Лазарь в лавке стоял на торгу.
Утром, до свету встав, едва успевал Лазарь по конюшням пройти, по хлевам и, как хорошие хозяева делали, лошадей, коров покормить куском хлеба из рук, а уж время придвинулось, надо в Кремль в караул идти.
Старший сын Лазаря, ездовой стрелец, коему боярские дети даже завидовали, натянув на плечи малиновый кафтан, цветом похожий на кафтаны приказа Головленкова, раньше отца выбирался на службу, зато Стремянной полк[5], и провожал Петруха, сын Лазаря, – либо царицу на богомолье, а то и послов каких нарядят встретить. Шел Петруха по службе впереди отца: полк Лазаря был вторым, а Петрухин – пятый, полковника Маматова, и все потому, что грамотен Петруха, лицом пригож и телом и силой удался в Лазаря. Немало в свое время денег Лазарь мастеру за Петрухину учебу передал, да съестного к праздникам короба большие. Сеньку Лазарь любил и думал: «Надо обучить, денег не жалеть на детище!»
– В рост не идет парнишка! – докучала Лазарю жена.
– Под твоим шугаем[6] чего вырастет, ужо как выберется, потянется, – отвечал Лазарь, а Сенька все же рос только на зад, на перед, и еще стало его распирать на стороны.
– Што бы ему горой расти, а то кучей идет! – сокрушалась Секлетея Петровна. Она решила найти знахарку: – Пущай-де в бане его попарит.
Мать рано, еще до свету, повела Сеньку к мастеру.
Пришли, долго на образа молились, после того низко кланялись на все стороны. Потом мать Секлетея Петровна рядилась с мастером да расспрашивала, как будет учить. Наконец мастер, тряся полами мухтоярового потертого халата, рыжего с полосами, ответил сердито:
– День начался неладно! Замест мужа забрела женка – должно, не крепко ее хозяин держит, что доверил единородного сына вести наукам обучать? А перво начнем с того, что паренек до наук уж, поди, не охочий – велик ростом… еще год минет, его не учить, а потребно будет женить… ты же того не разумеешь – не всяк мастер за сие дело учебы большого возьмется…
Мать не отставала, рядилась с упором. Мастер махнул рукой, от него пахло водкой:
– Да не торг у нас! Ну, пущай учится за гривну в год и три чети ржи… К часослову перейдем, тогда мастеру принесешь горшок каши, гривну денег, да в дому твоем молебен чтоб пели…
Мать ушла, покрестив Сеньку.
– Такого и бесу не уволокчи – не крести, не бойся… – проворчал мастер.
В углу у образов замигала восковая свечка. Мастериха, румяная, толстая баба, громко икая, зажгла эту свечку, боком глядя на образа, перекрестилась, уходя к себе в повалушку, сказала мастеру:
– Козел худой! Чула я, што ты рядил? Учить ведь надо такого жеребца.
– Иди, не мешай, Микитишна! Поучу – накинут… вишь, стрелец с парнем наладил женку, с баб много не уторгуешь… разве что насчет… – Он пьяно подмигнул.
– Тьфу, ты, козел худой!
Все ученики, их было шестеро, встали на молитву, в один голос пели «отче наш», после молитвы еще громче и, не крестясь, тянули славословие розге:
- Розгою детище дух святый бити велит…
- Розга убо мало здравия вредит,
- Розга разум во главу детям вгоняет,
- Учит молитве и злых всех встягает,
- Розга послушны родителям дети творит,
- Она же божественному писанию учит,
- Розга аще биет, но не ломит кости,
- А детище отставляет от всякие злости…
- Розга учит делать вся присно ради хлеба,
- Розга детище ведет вплоть до неба…
- Вразуми, правый Боже, матери и учители
- Розгою малых детей быть ранители…
- Аминь!
Ученики расселись за длинный стол на скамью. Учитель поместился в конце стола на высоком стуле. Ноги упер в низкую подножную скамью. С мастером бок о бок за столом возвышалась горка с грязной посудой – ученикам она казалась иконостасом, так как на горке лежала книга, именуемая «Азбуковник», в ней поучение всяким премудростям. «Азбуковник» давался ученику лишь в конце учебы за то, что ученик грамотностью доходил почти до самого мастера. Когда мастер садился на стул, Сенька заметил у него за пазухой две вещи: посудину с вином и плеть.
«Эво он чем учит, мочальная борода», – подумал Сенька.
Потирая руки, усевшись, мастер крикнул:
– Женка! Эй! Микитишна! Принеси-ка нам для борзого вразумления стрекавы![7]
За приотворенной дверью повалуши побрели шаги, они скоро прибрели обратно: мастериха принесла большой пук крапивы, кинула под ноги мастера, на руках у ней были замшевые рукавицы.
– Иршаны кинь тут! – приказал мастер.
Мастериха сбросила рукавицы на пук крапивы и еще раз покосилась на Саньку. Сеньке показалось, что она улыбнулась ему.
«Чего толстая ощеряется?» – подумал Сенька. Вынув посудину, мастер потянул из горлышка, закупорив хмельное, сказал, кладя за пазуху стклянку:
– Благословясь, начнем!
Ученики, кроме Сеньки, торопливо закрестились. Все раскрыли писаные старые буквари.
Вдвинув глубже за пазуху посудину, мастер оттуда же выволок ременную указку, она-то и показалась Сеньке плетью.
– Детки-и! Очи долу – зрите грамоту… – помолчав, мастер прибавил: – А-а-а-з!
– Аз!
– Аз, – повторили ученики. – Буки-и, веди-и, глаголь!
– Сия есте первая буква, именуемая – аз! Что есте аз?
– Сия первая буква!
– Та-а-к! Сия первая буква знаменует многое для души христианина… означая сие многое переходит в букву буки… в букву есть и мыслете! «Аз есмь Господь Бог твой».
– Аз Господь твой!
– Аз есмь Господь Бог твой!
– Аз есмь Господь твой!
– Бог, Бог твой – истинно! И тако сие определяется: уразуметь должны – где же сие изречено суть?
Ученики молчали.
– Сие изречено суть в заповедех Господних, данных Моисею на горе Синае.
– Сие изречено на горе Синаю!
– Ну, лги дальше!
– Данных горе Синаю!
– Гнев Божий на меня за вас, неразумных и малогласных, ибо уды мои от трудов великих тяжки, а надобе первого лжеца стрекавой вразумить… Ну же, отыди нечестивый, мало внемлющий учителю, на горох пади в углу. Ты иди! – указал кожаной указкой учитель.
Ученик отошел в угол и медленно опустился на колени. Учитель пьяно воззрился на ученика:
– Прямись! Не гни хребет! – Он сердито пошлепал кожаной указкой по столу.
Переминаясь коленями, тонявый ученик в белом кафтанишке мялся и вытягивался в углу. Мастер говорил:
– Сей упряг благословясь рассудим о букве добро! Что есте добро?
Ученики молча ждали. Помолчав и приложив палец ко лбу, учитель продолжал:
– Буква добро пятая по счету есте буква великая, а тако – с прилежанием молити Бога – добро! Ходити в церковь божию, внимати службе и поучению божественному – есте добро! Почитати отца и мати своих – добро! Чести молитвы, а тако – первая молитва за великого государя нашего Алексия Михайловича и его государев светлый род – добро! Вторая молитва – за святейшего патриарха всея Русии, за великого иерарха, отца церкви нашей, от грек приемлемой, Никона – добро велие! Ведомо мне, – продолжал мастер, вновь потянув из посудины, – что все вы дети стрелецкие, альбо посацкие, и, ведомо, стрельцы – потатчики Нероновой и Аввакумовой ереси[8], проклятой собором российских и греческих иерархов, и добро ваше, дети мои, наипохвальное, когда станете доводить мне о родне своей – како отцы ваши и матери, молясь Богу, персты слагают… двуперстно, альбо по-иному? – Мастер поник головой к столу. Очнувшись, сказал, икнув: – Фу, утомился аз! – потряс головой, отгоняя сон, и прочел без книги стихиру в поучение:
- В дому своем, от сна восстав, умыйся,
- Прилунившегося плата концом добре утрися.
- В поклонение святым образам продолжися,
- Отцу, матери низко поклонися…
Мастер поднял руку с ременной указкой и повысил голос:
- С трепетом к учителю иди,
- Товарища веди,
- В дом учебы с молитвой входи,
- Тако же и вон исходи!
Грузно поднявшись, мастер запел молитву, ученики, поглядывая на его фигуру, вторили пению.
Когда от мастера парнишки вышли и побрели грязными улицами, скользя на поперечных бревнах, накиданных там и сям, иногда упираясь коленями, цепляясь руками, перелезали рундуки, проложенные к соборам, то на лицах их, на плечах тоже, как бы лежала тяжесть учебы пьяного учителя, только Сенька шел бодро – он ничего не боялся. Мать перестала его бить, отец никого не бил, про мастера Сенька думал:
«Худой, пьяной… полезет, так сунуть его кулаком в брюхо – отвалится… ежели погонит, то бес с ним, неладно учит – татя с маткой велит доглядывать…»
Все пробирались к Замоскворецкому мосту. Трое ребят жили за Кремлем в Слободе, они убрели в сторону. С Сенькой в Замоскворечье идти остались двое. Все трое были стрелецкие дети, кафтаны на двоих длиннополые, новые, набойчатые, на Сеньке – кафтан торговый, мухтояровый, сапоги иршаные[9], их Сенька любил марать в грязи, оттого что становились тесны.
И только лишь перейти парнишкам на мост, как из-за бани, недалеко к кабаку цареву от ларя, где лежали веники, вышли навстрет им два рослых парня в улядях[10], привязанных к онучам, в протертых на грудях кафтанах.
– Гей, ходячие буквари со Спасского моста, стой!
Сенька сказал:
– Пошто?
– Стой! То зарежу.
Двое ребят встали, Сенька пошел.
– Ты чего же, песий сын?
– А лжешь – я стрелецкой!
– Мне хучь боярской – ище лучше, – скидай кафтан, убью! – Большой и грязный дернул рукавом, в рукаве был нож.
– Лихие? А ну!
Лихой взмахнул ножом, Сенька, сдвигая рукав к плечу, увернулся, ударив лихого кулаком в грудь.
– Чо-о! – охнул лихой и попятился, уронив в грязь ножик.
Сенька шагнул на него, ударил еще в лицо и грудь – лихой упал.
– Надо скоро!
Он кинулся к другому, схватил лихого поперек туловища, подняв, повернул в воздухе так, что с ноги у него сорвался опорок, отлетел, а Сенька сунул лихого шапкой в грязь. Парнишки дрожали, плакали, они были полураздеты, кафтаны валялись на дороге.
– А ну – оболокись! – Сенька стал им помогать одеться.
Лихие не наскакивали, не до того им было – один искал нож в грязи, другой наглядывал опорок. Когда нашли свое, и даже не погрозив Сеньке, отошли к ларю. Тот, с ножом, громко сказал, плюнув:
– Лез на теленка, попал быку на рога – черт!
Другой, бороздя по лицу рукавом, утираясь, ответил:
– На больших пошли, да с малыми не управились…
– Черт с ними! Другой хабар[11] найдем!
Сеньке хотелось избыть молитву дома.
Матка, как придешь, в угол поставит: «Молись!» Он, проводив парнишек по мосту, вернулся к Кремлю и, обойдя его, пошел в сторону Слободы. Остановился Сенька, услыхав крики, обогнул тын Протопопова дома, за углом увидал большой народ. Люди кричали, подымая кулаки, грозились. Женки были тоже, те пели молитвы. Молитву покрывали матюги. Люди собрались посадские да мастеровые Колокольного и Кузнечного ряда, блинники, калашники также. Все они напирали на стрельцов. Стрельцов вел площадной подьячий[12], у него с пояса сорвали медяную чернильницу с пером и в грязь утоптали. В стороне, опершись на бердыш, стоял отец. Сенька к татю своему не подошел:
– Службу ведет!
Подьячий, поправляя колпак, надувая красное лицо, закричал татю:
– Эй, служилой! Чего зришь, не поможешь?
– Не мое то дело! – гукнул тать. – Я из Кремля с караула иду!
Люди оттесняли стрельцов от высокого попа, он, в черной камилавке, надвинутой на самые глаза, с лицом, замаранным грязью, кричал время от времени, и голос из него шел, как из медяной трубы:
– За веру отцов и дедов! Ратуйте, детушки! Разгоним антихристовых выродков! Ужли не разгоним?! Да един я угнал седмь скоморохов, бубны им изломил! Ратуйте во имя Иисуса за шестиконечный крест противу латинского крыжа-а!
Сенька видел в правой руке попа деревянный черный крест, высоко поднятый, в левой поп держал тяжелое кропило и так им махал, что двенадцать стрельцов не могли с попом совладать. Сеньке хотелось подраться, но он не знал, за кого идти: за попа или стрельцов, и еще тать в виду… Подьячий привел стрельцов, много их было, они навалились на попа, сбили с ног. Поп глухо, как из бочки, бубнил, когда его распластали в грязи:
– Добро су! За волосы волокут Никоновы доброхоты… ребра ломят! Так-то нам за веру Иисусову…
Толпу разогнали. Попа привязали к телеге вервями. Сенька заспешил домой, сторожа запирали по городу[13] решетки. Когда он пришел, то мать Секлетея Петровна заставила умыть руки и стать на молитву. «Чего боялся – на то налез…» – подумал Сенька, но скоро кончил молитву – пришел тать и брат Петруха, а с ними приволокся хромой монах.
– Будь гостем, отец Анкудим! – сказал тать.
– Спаси, сохрани… укрыли от темной ночи, от лихих людей. Можно на Иверское мне на подворье[14], да там перекрой идет…
Брат Петруха, ставя мушкет в угол, спросил:
– Нешто ты их боишься, лихих-то? Что с тебя, святого, содрать!
Тать сказал:
– Не святой! Чего грешишь! Был купец, государев акциз[15] утаил, а за то на Ивановой на козле бит кнутом[16] двожды.
– То, Лазарь Палыч, горькая правда! Животишки мои до едина пуха отписали на великого государя…[17]
Все помолились и сели за стол.
– Ну, и дело у тебя, я чул, отец, было с протопопом.
– Дело, Петруха, дело – колесом задело… не мое то дело – я глядел только, как бились стрельцы иного приказа…
– Поди теперь далеко угонят Аввакума?
– Ковать зачали да за приставы взяли, чай, не близко утянут.
– Ой, бедной, ой, страдалец! – сказала мать и перекрестилась.
– Молились бы по старине, спаси, Богородице, а то, вишь, Никон указал старые служебники жечь… Оле! Добрые хозяева – лют Никон и монасей не милует, величает бражниками…
Тать слушал монаха, зевнул, покрестил рот:
– Гордостью обуян аки сатана!
Мать отошла к печи, вернувшись, подала чашку щей.
– Чернцу, – он ведь смиренник, – надо бы постное, – прибавил тать.
Монах замахал руками:
– Живу в миру… вкушаю, что сошлось – грех не в уста, из уст идет он.
– Тата, ешь да молчи больше, – сказал Петруха, – брусишь о патриархе не ладно.
– Ништо, Петра! Анкудим на меня «слова государева» не скажет.[18]
– Ой ли?
– Много сородников моих Никон погубил, Богородице, храни – сам зол я… зол… мне ли с наветами на добрых людей идти?
Мать Секлетея к концу ужина сходила в подклет. Сенька боялся подклета – там крысы. Принесла малый жбан пива. Кроме Сеньки, всем разлила пиво в оловянные ковшики. У монаха, – видел Сенька, – дрожали руки, он пиво плескал на скатерть, крестился, пил и наливал сам, а потом громко, будто себе, хмельным голосом заговорил:
– Иконы, мощи волокет на Москву… сие деет все чести для своей… ужо изойдет от того Никонова велеумия зло велие – оле-о! Изошла когда-то неправда при деде царя Грозного Ивана ересь[19], жидовинами рекомая… Богородицу не почитали, креста животворящего не признавали же, а лаяли о кресте, что оный есте виселица…
– Ужли, отец честной, были таковые богохульники? – Мать Сенькина перекрестилась. – Спаси, сохрани!
– Были, хозяюшка! Духа свята чтили яко кочета на нашесте…
Сенька спросил монаха:
– Дедо, а уж не с руками ли тот святой-то дух?
– Паси Богородице! Тебе пошто оное пытать?
– Да вишь ты! На учебе мастер нам чел стихиру – в ей сказано, что святой дух робят биет розгой…
– Лазарь Палыч! Ты слышишь? Побей его хоша плетью…
Тать молчал, монах ответил матке:
– Хозяюшка… не тронь молодшего! Ум в ем бродит.
– Вот и надобе худой умишко на место загнать – не сказывай лиха.
– Не я, учитель чел – мастер!
– И мастер тож богохульник.
– Жено! Хозяюшка хлебосольная! Паси Богородице, хто на Руси под боярином ли, воеводой и патриархом стоит, тому боя не миновать. Сыщет младой – коли в рост войдет… Бояр и тех биют, ежели государь повелит, недалек день, когда боярина у всех в памяти на Ивановой на козле били за боярскую девку, что растлил ён… Едино лишь царей не биют, а главу и им усекают.
Тать поднял кулак, крепко ударил им по столу, аж суды все заговорили:
– Анкудим! Ни слова боле… – тать глянул к узкому окну, – ладно, что из подклета повалушу состроил, окон великих не нарубил, а то зри, кто ушами водит по подоконью… нам, чернен, чести мало за тебя на дыбе висеть!
– Спаси, спасе! Прости, Лазарь Палыч, Христа для – с хмеля язык блудит! Дай за слово твое укоротное в землю тебе постукаю… дай!
– Сиди! Скамлю свалишь… пей во здравие и не бруси кое не к месту.
– Не лгу я, хозяин, – истину поведал…
– Такой истины о государях не рони в народ, а мы с Петрой на тебя не доводчики…
– С попами, хозяин, нынче заварен великий бунт… спаси, не разросся он, разрастется, когда попов широким вверх постановят… укажет патриарх попам чести служебники новые, а они и по старым едва бредут! В Иверском-Святозерском[20] нынче их печатать зачинают, старые книги жгут… Дионисий архимандрит и иные старцы главу повесили, торопко посторонь глядят, кто по вере идет постригаться, пытают – грамотной ли? Ежели грамотной, то постригают, не свестясь с Макарием митрополитом… во-о!
– Вот это, чую, правду ты сказал – нам, стрельцам, ужо дела будет, как ныне с Аввакумом… во Пскове, чул, воры шевелятся, в набат бьют, а звон тот катится до Нову-города… Ну, буде! Тебе, я зрю, Секлетея моя Петровна лавку устрояет со скамлей, нам с Петром пора тож… Петра в горнице спит, я же в клети, где родня моя пиры водила, а ты уж внизу заусни…
Сенька долго не спал, слышал, как пьяный монах бормотал во сне да матка поминала Аввакума, шептала молитвы. Парнишка думал: «Матка не бьет – силы мало… тать едино что грозит… Татя, матери не боюсь, а грамоты страшно… Утечи бы с этим монахом в монастырь, там, сказывают, чернцы живут ладно… вот, как только… и каковы святые отцы? Они в монастыре, мыслить надо, водятся…» С тем парнишка и уснул.
Поднялись далеко до свету – в шесть часов[21]. Монах над книгой бормотал, крестился, капая воском на пол и на страницы книги. Матка с ним тоже и Сеньку заставила ползать перед образом. Потом, постукав лбами о пол, все еще крестясь, сели за стол, ели не пряженную, холодную баранину с чесноком и пиво допивали. Тать сказал:
– Служить тяжко! В караулах не ворохнись, головы сыскивают строго. Ладно большим служилым, а малой стрелец хоть в землю копайся.
Монах ответил, щурясь на татя:
– Бывает, паси, Богородице, – я лгу! И ты лги, хозяин!
– Пошто, отец, я лгу?
– Да вам ли не жить? От государя подъемные емлете, тяготы податные, пашенные вас не давят…
– Оно, конешно, Анкудим, податей мы не платим, зато с нашей торговли, альбо ремесла побор… Ну, выпьем да о бунтах посудим.
Петруха, из-за стола вставая, сказал:
– Мамо! Прибери-ка со стола хмельное, а то батька зачнет брусить, в железы ковать придут – ты, отец, прости, правду я молыл!
– Ой, молодший, пошто так? Паси Богородице.
Мать убрала со стола пивной жбан, куски и кости… Отец с братом ушли. Мать заставила Сеньку еще раз молиться, а потом он уловил во дворе большого гуся, посадил его в пазуху, пошел к мастеру. Гуся снести в поминки мастеру Сеньке приказала мать. Гусь у Сеньки за пазухой топырился, шипел, норовил вырваться. Сенька его уминал глубже, но гусь вываливал из-за пазухи шею и голову.
– Навязала матка, экое наказанье! – ворчал Сенька, пихая в пазуху гуся.
А когда он, не доходя Варварского крестца, остановясь, завозился с птицей, кто-то сунул ему палку меж ног, Сенька упал. И мигом по стуку каблуков узнал ребят, тех, что с боем часто наскакивали. Его, упавшего, к земле пригнести не успели. Сенька вскочил на ноги. Парней было семеро, он сказал им:
– Слышьте, парни! Кой от вас наскочит, буду бить смертно.
Парни свистели, махали кулаками, а один размахивал батогом.
– Гришка, бей! Нынче замоскворецкой не уйдет.
– Гусь бою ему вредит!
Гришка, завернув длинный рукав к локтю, готовясь, кинулся на Сеньку, норовя сбить под каблук, но Сенька наотмашь так ударил парня в грудь, что парень, пятясь далеко, упал навзничь, и лицо у него посинело, – лежал недвижимо.
– Держись, я вот! – крикнул Сенька, уминая за пазуху горячую птицу левой рукой, правой, готовый ударить, кинулся на бойцов, а они разбежались в стороны.
Оттого Сенька к мастеру опоздал. Знакомо было стрелецкому сыну видеть мастера, как всегда, во хмелю… Сегодня также изрядно хмельной мастер стоял по конец стола. Сенька, войдя, низко поклонился мастеру, сдирая с кудрей шапку.
– А молитва где твоя, собачий сын?! – закричал мастер.
– Вот-те замест молитвы поминок матка шлет! – Сенька, растопырив пазуху кафтана, толкнул гуся на стол.
«Го-го-го!» – загоготал гусь, топорща крылья и расправляя шею. Гусь ходил матерый, как и всякая животина во дворе Лазаря Палыча. Гусь махал крыльями, тяпая по столу желтыми лапами, – со стола повалились на пол чернильницы, буквари и песочница. От стука по полу закрякали утки. «Ко-ок-кого! Ко-о-к!» – тревожно бормотал под столом петух. Ловя крошки, по полу перебегали курицы. Оказалось, матка не напрасно навязала Сеньке гуся – сегодня был день, в который ученики дарили мастера. Сам же мастер, видимо, не знал ни о каком дне и забыл о посулах – в руке его нынче не указка, а настоящая кожаная плеть.
– Што сие есть? Поминки! Эй, Микитишна! Прими добро, нам же дай простор молитве и учебе – «от жены бо начало греху, и той все умираем!». Эй, хозяйка!
Дверь повалуши приоткрылась, мастериха, стыдясь показать волосы[22], прятала их под синий плат, громко выкрикнула:
– А ну тя, козел, с твоим достатком! Куда их столько пустишь? У меня портомоя разведена, полы тож зачну прати… – Увидав Сеньку, особенно румяного от ходьбы и боя, прибавила уже добрее: – Ты, несмышленыш, грамотой самой молодший, иди мне в помогу!
Сенька, не сводя глаз с мастера, чертя спиной и лопатками по стене, пробрался в повалушу, дверь за собой плотно запер. За дверями мастер, не понижая голоса, выкрикивал:
– Хто азы постиг, тому аз-раз! – Слышался удар плети. – А кой тут лжет по книге, хто в углу плачет – по тому плеть скачет! Теперь же обороти всяк и иди на новый бой…
Слыша шлепки плети да голос мастера, Сенька подумал: «Худой… тоже за плеть держится… меня не побить ему, только неладно ежели погонит. Тать с маткой бранить зачнут…» – и поливал пол из ведра. Мастериха, высоко подтыкав подолы, растирала грязь с водой вехтем. Сивого цвета густые волосы выпирали из плата, потом рассыпались по жирным плечам. Ей было жарко в красной рубахе с поясом по широким бедрам…
– Ах, грех какой! – Она отстегнула пояс, раскрыла ворот.
– Плещи, девка красная, шевелись! Бел, пригож и никуды не гож! – Она прижала Сеньку широким задом к дверям повалуши… – Ну же!
У Сеньки горели щеки, в голове трезвонило, и был он как пьяный. «Что она со мной?.. Тут, вот бес!» – Он не посмел или не хотел ее оттолкнуть…
– Ну, ну, грех не твой, моя душа и голова моя в ответе…
– Ой, как студно!
За дверями истошным голосом кричал мастер:
– Микитишна! Хозяйка моя, подавай сюда новца-юнца на бой и учебу!
Мастериха быстро повязала по рубахе пояс, поправила на голове плат, подобрав волосы и открыв дверь, из щели сказала:
– Тебе, козел, кой раз сказывать надо? По дому он мне опрично всех помогает. – Приперла дверь, мокрая и потная, кинулась на Сеньку: – Ой, ладной, сугревной мой…
Сеньке было стыдно, скучно и нехорошо, а она лезла целоваться. За дверью мастер топал ногами, кричал:
– От жен-бо царства распадошеся! Муж, кой дает жене своей повольку, сам повинен в погублении души ее, и огню геенны адовой предан будет за окаянство! Фу, упарился! Стадо мое, воспой хваление розге, Богу молитву и теки в домы своя.
Мастериха, задними дверями отправляя Сеньку домой, шепнула:
– Имячко твое?
– Сенька!
– Помни, ладной, с сегодня я твоя заступа. Матке не скажи чего…
– Студно мне… не скажу.
Пошла Сенькиной учебе девятая неделя, но мастериха его мало от себя отпускала, оттого он редко брался за букварь.
– К козлу моему поспеешь, – говорила она и находила Сеньке работу.
Сама же стала одеваться нарядно. Тать, чтоб Сенька не голодал, указал снести мастеру харчей. Мастериха еду сготовляла будто завсегда к празднику. Сеньку сажала за стол раньше мужа. Хмельной мастер, пересыпая насмешки руганью, поговаривал:
– Микитишна! Учинилось с тобой лихо, не выросло бы от лиха брюхо… хо, хо!
– А ты, козел, пей, ешь да молчи! Никто те указал вдовцу худому на младой жениться, век чужой гробовой доской покрыть…
– А и сука ты! Сготовляешь пряжено ество да маслено – ну, а как же, от сих мест мне, старому, хмельного не испить? Изопью! Но ужо постерегу я вас, лиходельники, да плеткой того, другого – раз, а кому и два.
Мастер пить стал больше, Сенька осмелел и едва замечал мастера, что он учитель и хозяин. За пять недель Сенька в рост пошел, усы стали пробиваться.
Пора была недосужая, Секлетее Петровне стало времени мало – с раннего утра уходила в церковь, а там на торг – послушать, что народ говорит, и не дале как вчера провожала по Ярославской дороге протопопа Казанского собора Аввакума. Сенька по разговору знал, что был тот поп, который со стрельцами дрался. Еще мать Сенькина сказывала, как видела – у Николы Гостунского по Никонову слову ободрали митрополита, митру с него сорвали да в чернецкое платье одели и следом за Аввакумом тоже в колодках на телеге направили по той же дороге. Сегодня вечером пришли тать с Петрухой не одни, а привели с собой хромого монаха, того, коего звали Анкудимом. За ужином разговоры вели против прежнего – о царе, Никоне да боярах. Петруха брат сказал татю особо:
– Отец! Скоро ли, нет, того не ведаю, нарядят меня встрету патриарху[23], едет из греков…
– С востока, чул и я, хозяева хорошие… за милостыней, спаси, сохрани, – будто у нас своих нищих мало…
– Не скоро, Петра, то дело, ведомо мне, он еще в Валахии[24], да наша ростепель пойдет, борзо не поскачешь… гати дорожные размоет, где не хошь… удержишься…
Монах сидел рядом с Сенькой, погладил его по спине, в лицо заглянул, попивая из ковша пиво, ухмыльнулся:
– Судьба, должно, младый, идти тебе со мной к Иверской… Здесь, зрю, азам не научат.
– Пошто так, отец? – спросила монаха мать.
– А уж так, жено… по монашескому обету таково мне сказывать и ведать не гоже… а только как числился я в купцах, то оное познал на подручных моих… Бывало, очи от них отвел, а они к лиходельницам-бабам шасть!
Сенька видел, как мать поглядела на него долгим взором и губами пожевала, – утерла глаза, сказала монаху:
– В Иверской монастырь неладно, отец, он никонианской, кабы иной, где по старым книгам поют обедню… и учат тоже…
– Богородице дево! Да по дороге отрочь-обитель… мимо пойдем к Нову-городу!
– Вот и остойся ты, отец, Бога деля в отрочь-обители, не порти парнишку никонианством! Грех моей душе… грех…
– Уведу, хозяюшка хлебосольная.
Тать засмеялся:
– Аль то будет чернец, а не стрелец? Хоша парень осьмнадцати годов не изошел, да в книгах приказной избы записан со всеми нами, семейно, – хватится об ем голова – худо на вороту!
Мать заступилась:
– Сам ведаешь, Лазарь Палыч, рано ему в стрельцы, поспеет намотаться.
– Рано, конешно… шесть на десять, а поручимся с Петрой, мушкет дадут, вишь, в рост малого потянуло…
– Истинно рано, жено, младому во стрельцах быть… два года, а в теи года в монастыре легонько постигнет грамоту. Здесь же он ее постигает не верхом, вишь низом.
Сеньке хотелось уйти из дому от молитвы маткиной, от грамоты и мастерихи, которая его совсем охапила, как мужа. Тать, тот думал свое и говорил упрямо:
– Эх, отец Анкудим! Как зазнался Никон, давно ли в Новгороде молебны пел, нынче же родовитых бояр в приказе стоя держит, сести не указует им.
– Не пойму я патриарха! Нас, монасей, от бояр и боярских детей не боронит, а над боярами властвует… Тут не дально время был я в старцах в Щапове селе досмотреть патриарши борти, пчелы и мед… Там меня гонял пьяной сын боярской, чуть саблей не посек, больную ногу мне извредил, а Никону патриарху я челобитье подал – меня же и обвинили: «Сам-де с озорником бражничал!»
– Сломают ужо Никону рога бояре – вот мое слово.
– Сломают, Лазарь Палыч! В памятях того не держу, чтоб боярин кому обиду спущал…
Скоро все разошлись спать. Отец с Петрухой вверх, монах уклался внизу. Сенька тоже хотел идти в повалушу. Мать заставила с ней молиться дольше, чем всегда, а потом со свечой в руке подступила к Сеньке:
– Сдень рубаху!
Сенька покорно содрал с плеч рубаху.
– Скидай портки!
– Студно мне, мамо!
– Чай я тебе мать – не чужая, скидай.
Сенька неохотно обнажил себя. Мать оглядела его и плюнула, крестясь:
– Оболокись! Сказывай, блудом грешишь? С мастерихой?
– Мне студно, да она виснет…
– То и есть! Поди спать в подклет, буде на перине, поспи на голом полу.
– Там крысы, мамо, боюсь!
– Женок бесстыжих не боишься, твари, гнуса спужался, – подь!
Сенька покорился, пошел спать в подклет. Туда ставили кринки с молоком да на стене вешали всякую рухлядь.
Мать старательно заперла дверь подклета за Сенькой, положила в крюки три железных поперечных замета и замком замкнула.
Сенька боялся крыс, ему казалось, что сонному они объедят нос и уши. Он решил не спать, сел на холодный пол, прислонясь лопатками спины к стене. Спать ему давно хотелось, брала дремота. В дреме он помышлял о своем бумажнике[25] и подушке. Крысы, как стихло все, завозились близко. Сенька вскочил, крысы исчезли. Когда вскочил Сенька, то уткнулся в дверь, он плечом налег на нее, дверь крякнула.
– Ага! – Он навалился грудью.
Она еще как будто подалась, и снаружи ее задребезжали заметы. Тогда Сенька ударил по двери обоими не по годам тяжелыми кулаками, а дверь трещала, звенела, но не пускала его. Крысы смело шныряли у Сеньки под ногами. Он в ужасе присел и фыркнул:
– Ффы-шт, беси!
Крысы отбежали, но возились в дальнем углу.
– Да, черт же ты, матка!
Сенька ударил еще раз по двери кулаками, послушал – никто не шел выпустить его. Тогда он изо всей силы навалился на дверь и слышал: затрещали дубовые стойки, еще налег покрепче – ага! – стало заметно, что крючья и пробои подались из гнезд, образовалась щель, но рука не пролезала, тогда он снова навалился на дверь до боли в грудях и просунул руку наружу.
– Ага!
Нащупал замок, железо не гнулось, он понатужился, сломал у замка дужку – замок выдернул, бросил, а погодя немного, ощупав, отодвинул заметы, иные снял с крючьев и, распахнув дверь, вышел.
– Черт! Спать охота… – И тут же недалеко от подклета кинулся на сенник, положенный для казачихи-девки[26] на двух кованых сундуках, заснул, но рано утром слышал шаги и голос матери Секлетеи Петровны:
– Да, Лазарь! Испортит вконец лиходельница-мастериха парня!
Тать, видимо, торопился в караул:
– Эх, ты, Петровна! Мала охота спущать парня в монастырь… Не в попы идти, станет стрельцом, азам обыкнет…
– А нет уж, Лазарь Палыч! Бабник стал, того дозналась, а там и бражник будет, то близко стоит.
– Поздаю я с твоей говорей… пождала бы моей неделанной недели[27], тогда я отвез бы их, хоть за монастырь Троице-Сергия… не близок путь пеше идти… Ну, коли стоишь на своем, то гостю Анкудиму накажи определить куда ладнее и доле осьмнадцати лет чтоб не держали парня… Подумаем, что будет…
– То и будет, Лазарь! Услать парня надо – беда на вороту. Заперли в подклет, а он, глянь-ко, двери выломал.
– Будет сила в малом! В меня уродился. – Тать ушел.
Матка без докуки за то, что ушел из подклета, разбудила Сеньку.
– Здынься, сынок! Умойся, помолись.
Сенька послушался, он уж давно не спал. Когда, умытый, вышел, монах у стола допивал остатки пива в жбане. Видно, матка до его прихода говорила с монахом.
– Так ты его, отец, не покинь, доведешь – перво грамоте чтоб обучили, а иное делал бы, что на потребу обители.
– Перво дело – обучим… это уж, спаси, спасе, завсегда так.
– По старинным обителям, отче, много поди праведников обитает?
– Есть и такие, мати, не столь праведные, но бессребреники и постники великие есть!
Сенька спросил:
– А ты, старче, скажи – монахи бражники в монастырях есть?
– Сам узришь, спаси, сохрани, будешь в обители – узришь. Тебе сие пошто?
– Да вишь – на Варварском крестце, когда я к мастеру ходил учебы для, сидели монахи и завсе хмельные… иные дрались тамо.
– Да замолчи ты! – вскинулась мать. – Вот мне, за грехи, видно, уродилось детище.
– Зело пытливой ум! – сказал монах, мокрая его борода зашевелилась, и, растопыривая грязные персты, он продолжал: – Жено богобойная! Изрек младый истину… Сам великий государь писал к строителям и игумнам, а паче митрополитам, «что многие монахи, сидя на крестцах улиц, побираютца, меняют с себя чернецкое рухло на озям мужичий, едят скоромное, не разбирая дён, и по кабакам бражничают». Человек, жено, зело грешен, и ризы монашеские не укрывают греха, а споспешествуют ему… Един Бог без греха… един, и силы бесплотные…
– Ну вот, отец Анкудим! Я малому в путь собрала суму, в суме той портки, рубаха и убрусец лик опрати… веду его чисто, и чистым он придет к обители. Да тебе вот рупь серебряной – Иисусу на свечку и иным угодникам о здравии нашем. Теперь же благослови, отче!
Монах покрестил матку двуперстно. Она Сеньку поцеловала и тоже покрестила, после креста сунула Сеньке за пазуху кису малую с деньгами. Когда уходили, мать с крыльца кричала Анкудиму:
– Будешь на Москве, отец, не ходи на подворье, там построй идет, гости к нам и о малом моем весть дай-й!
– Чую, жено! Да мы еще не борзо оставим град сей… – проворчал монах.
Вместо Дмитровской дороги монах пошел на Серпуховскую, а там на Коломенскую, потом стали они колесить без дорог, спали на постоялых да кое-где. Сеньке надоело, он спросил Анкудима:
– Старче, чего ты ищешь?
– Отрок! Ищу я спасения в забвении, не все, вишь, кабаки монашескому чину приличествуют.
– Так вот те кабак!
– Непристойный он, то царев кабак!
– Зри дале – може, вон тот?
– Не наш… Были, вишь, в одном месте да перешли… а по тем путям наши кабаки, должно, дошли, и вывели кабацкие головы[28], вот эво, то будто и наш! – Анкудим повернул круто с дороги к старинному дому, вросшему в землю. – Этот, спаси, спасе, кажется, с приметой… – разговаривая, подошел к дому, постучал в ставень закрытого окна, воззвал громко: «Сыне божий, помилуй нас!»
– Идут – наш, не идут – не наш!
Сенька слышал далекие шаги, потом заскрипел замок в калитке ворот, над которыми ютилась облезлая, черная, с пестрым ликом икона.
– Аминь! Шествуй, отче, да пошто не один?
– Отрок сей – мой спутник к обители.
Они вошли во двор, потом спустились в подвал по гнилой лестнице.
– Эки хоромы древни, спаси тя, выбрал, Миколай! В прежнем месте было краше, – ворчал монах, волоча хромую ногу. – В кои веки на козле палач пересек кнутом жилу, маюсь… да еще неладной боярской сын погонял, извредил ступь, ты не спешно иди, мне тут незнакомо…
– Ништо, под ногой плотно! Из старого места целовальники выжили – бежал… да и то, в древних тепла боле, а свет тому пошто, хто зрит свет истинный?
– Праведник ты, спаси, спасе…
Узким, вонючим от ближней ямы захода[29] коридором с тусклым светом фонаря прошли в сени, из сеней, нагибаясь в осевшей двери, в избу с лавками и русской курной печью. В обширной избе с высоким, черным от курной печи потолком для хозяев прируб, там они вино курили, а под полом в ямах хоронили брагу и мед – мед держали на случай, если объявится такой питух, кто водки или браги пить не станет, тогда, как на кружечном дворе, отколупывали кусок меду, клали в ендову и разводили водкой. При огне сальных огарков, еще плошки глиняной с жиром, дававшей вонючий свет, за длинным столом Сенька увидел троих питухов да двух женок. Одна – молодая, похожая на мастериху, румяная, другая – с желтым лицом и ртом поджатым, в морщинах.
Анкудим сел на скамью к питухам.
– Благословенна трапеза сия – мир вам!
– Кто ты, не зрю, да будь гостем! – прохрипел один питух, силясь, руками упершись в стол, поднять согнутые плечи и голову.
– Вкушаем – то мирны бываем! – сказал другой, плешатый, питух.
Третий, сутуловатый, широкоплечий, похожий ростом и туловом на него, Сеньку, молчал, только тряхнул темно-русыми кудрями. Анкудим как уселся, так и сказал хозяину громко:
– А ну, спаси, спасе, лейте нам в чары хмельного! Да чуй, хозяин хлебосольный, лей мед в одну чару, а водку в другу – мой отрок не вкушает горького…
– Подсластим, обыкнет! – мрачным голосом изрекла худая женка.
Молодая встала со скамьи, шатко подошла к Сеньке. Он, ошеломленный непривычным видом притона, стоял и не садился. Кабацкая женка накинула ему на шею руку, пахнущую чесноком и водкой, вползла на скамью рядом с монахом, хотела Сеньку посадить силой, но он мотнул головой, и вся скамья с питухами зашаталась.
– Тпрр-у! Экой конь… садись, молодший… базенькой.
Сенька, подвинув ее, сел рядом с Анкудимом. Молодая женка хмельным голосом затянула:
- Подарю тебе сережки зеньчужные
- Да иные, золотые с перекрутинкою.
Другая мрачным голосом подхватила:
- Дашка с парнем соглашалась,
- Ночевать в гостях осталась!
Сенька все еще не оправился, притихнув, слушал песню. Молодая задорнее прежнего выпевала:
- Ей немного тут спалоси,
- Много виделоси!..
Опять с хриплым горловым присвистом пристала пожилая:
- Милый с горенки во горенку похаживает,
- Парень к Дашиной кроватке приворачивает…
Молодая, обхватив талию Сеньки, стараясь покрыть говор кругом, выкрикивала:
- Шелковое одеялышко в ногах стоптал.
- Рубашонку мелкотравчату в клубок скатал…
– Эй, женки! Паси, сохрани – не надо похабного.
– А ты, чернечек, чуй дальше!
- Тонка жердочка гнетца, не ломитца,
- Со милым дружком живетца, не стошнится!
Дальше Сенька не слушал, подали на стол разведенный водкой мед. Из кувшина Анкудим налил две оловянные чашки.
– А ну, младый! Паси Богородице, хотел я горького, дали сладкого, приникни – горького в миру тьмы тем…
Сенька отодвинул свою чашку, его дома берегли от пьянства:
– Не обык!
Плешатый питух через стол крикнул:
– Ой старячище-каличище! Младый стал молодшим, аль не зришь? Перво дай ему, чтоб большим быть, испить табаку! – Обратясь к питуху с темными кудрями, прибавил осклабясь: – Эй, Тимошка, царев сын![30] Дай им рог.
Молчаливый питух сдвинул брови, ответил тихо:
– Чую и ведаю, плешатый бес, тебе раньше меня висеть на дыбе. «Слова государева» не долго ждать…
– Умолкаю – дай им рог!
Рог с табаком Тимошка разжег трутом, дал Анкудиму. Сенька видал, как тайно от матки Петруха с татем пили табак[31], ему давно хотелось того же.
– Може, спаси, сохрани, такое занятно? Я так не бажу оного и меду изопью… Кису, кою мать сунула тебе в дорогу, дай мне – за твой постой с хозяевами сочтемся, отдача – в монастыре, не сгинет за Анкудимом.
Сенька отдал монаху кису с деньгами, рог с табаком взял, сунул в рот. Рог бычий – на верхнем конце его дымилась трубка, в середине рога, когда Сенька тянул дым в себя, хлюпала вода. Он потянул раз и два… подождал и еще потянул столько же, закашлялся и сплюнул густую слюну:
– Горько!
– Паси, спасе! Да испей меду.
Сенька выпил чашку меду и снова, уже охотнее, начал тянуть табак. Анкудим налил ему еще меду.
– Житие наше слаще андельского, да, вишь, краток век человечий…
После тошнотворно горького табаку Сенька без просьбы охотно выпил свою чашку меду, а когда Анкудим наполнил чашку, он и третью выпил. После выпитого меду стрелецкий сын почувствовал в груди что-то большое, смелое и драчливое. Ему хотелось, чтоб женки играли песни, тогда и он пристанет, а если помешают им играть, так Сенька похватает из-за стола питухов и будет их бить головами в стену. Чтоб ему не сделать чего худого, Сенька съежился, подтянул под скамью ноги и крепко зажал рог с табаком в широкой ладони.
– Питух не мне – Анкудиму дал рог, пущай-ко отымет!
Но кудрявый питух не подходил к Сеньке и рог обратно не просил. Пьяная женка, рядом сидя, не унималась, тянула к себе и что-то не то наговаривала, не то напевала.
– Чего она виснет? А ну! – Сенька встал.
Когда разогнул ноги, всунутые под скамью, то монах и женка свалились со скамьи, а кудреватый питух пересел на лавку. Он сказал, Сенька слышал:
– И молод, да ядрен!
Стрелецкий сын пошел в избу. На широких лавках лежали грязные бумажники, Сенька подошел, лег на лавку, уронив длинную руку с лавки на пол, не желая, разбил рог, черепки его тут же кинул, а липкое с ладони растер на груди.
– Эх, табак уж не можно пить?! – Он это громко сказал и плюнул.
Женки, обе пьяно ворочаясь над ним, тянули на пол. На полу к ночи раскладывали в ряд несколько бумажников. Как от мух, Сенька отмахнулся от женок.
– Ой, мерин!
Молодая уговаривала его:
– Базенький! Для леготы ляжь, ляжь для леготы… скатишься с лавки…
Он перелег. Холодный бумажник на полу жег его, и чувствовал Сенька, как рядом подвалилась молодая женка, обняла, руки ее стали по нем шарить.
– Бес! Задушу – уйди!
Голос у него был не свой, женка отодвинулась. Сенька думал одно и то же: «Анкудим – сатана! Замест монастыря эво куда утянул! Маткин рупь на свечи – пропил, кису из пазухи взял, деньги тож… куда дел?» Сеньку не зашибло беспамятством, ему показалось только, что он слышит каждое слово и каждый шорох. Теперь Сенька прислушивался, зажмуря глаза, о чем говорят. Анкудим спорил с питухами:
– Патриарх Никон все чести для своей деет, паси, спасе, а ежели кой монастырь возлюбит, то и украшает… нече лихо сказать…
– Чужим красит…
– Спуста молвишь – чужим… Все, что на Руси, – свое, не чужое, спаси, сохрани…
– Да ты, чул я, чернец из Иверского?
– Иверского Богородицкого Святозерского монастыря… чо те?
– Мне зор застишь – хвалишь?
– Правду реку – спаси, спасе…
– Откеле Никон икону ту Иверскую уволок – с Афона горы?[32]
– А и добро, что перевез! Списали икону, перевезли к нам… изукрасили лалами…
– А еще… пошто мощи митрополита Филиппа[33] потревожил? Уволок из Зосимовой обители.
– Не место ему в Соловках… Святитель был он бояр Колычевых, на родину в Москву перевезли.
– Ладны вы, старцы Иверского! Многие вотчины загребли под себя – мужик от вас волком воет…
– Спаси, спасе, мужик везде воет, та и есте доля мужицкая… Мы зато всякого пригреваем не пытаючи… грамотеев ежели, так выше всего превозносим…
«Ишь, сатана, бес», – подумал Сенька. Питух не унимался.
– Чул, чул – разбойников укрываете!
– Спаси, сохрани – разбойник человеком был в миру, а нынче, я чай, на соляных варницах робит в Русе.
Сенька услыхал голос питуха Тимошки, кой дал ему рог с табаком:
– Впрям, чернец, у вас всем дают жилье?
– Дают и не пытают, хто таков, ежели работной, а пуще коли грамотной… Воевода не вяжется к нам… у нас свои суды-порядки, стрельцы свои и дети боярские тож.
– А патриарх бывает почасту?..
– Как же, как же, книги в монастыре печатают – назрит сам.
– Так, а ежели меня бы с собой взяли? Я грамотной…
– Нет, уж ты иди один… ждать долго, спаси, сохрани, мы еще тут побродим…
– Та-ак…
– А вот как, спаси, плоть немощна, подтекает… надо убрести в заход – э-э-к, огруз!
Сенька слышал, как спороватый питух остановил Анкудима.
– Ты изъясни, чернец, пошто Никон назрит свое – чужое зорит?
– Про што пытаешь?
– Я о святынях!
Анкудим, было поднявшийся, снова сел.
– Не нам сие уразуметь, спаси, сохрани… Да зорит ли? Поелику украшает.
Сенька, мотнувшись, встал, пошел в сени, нашарил дверь в коридор, ощупывая ногами землю, прошел к яме захода. Когда миновала надобность, уходя, сломал перед ямой жерди.
– Забредет, сатана… маткин рупь будет помнить!
Монах шел по сеням навстрет, обняв, узнал Сеньку, погладил его и свернул от слабого света фонаря во тьму к яме. Сенька вернулся. Лег, хотел слушать, а стал дремать. Сквозь дрему слышал, как в прирубе всполошились хозяева, кто-то пришел за ними, они, хлопая дверьми, ушли, потом оба вернулись. Хозяйка охала, хозяин матюгался. В избе притащенное ими воняло и булькало… Сеньке хотелось поглядеть, но глаза смыкались… Он слышал еще голос женки:
– Ой, хозяин! Кто это у ямы жерди изломил? Чуть не утоп чернец Анкудим…
– Должно, погнили жердины, надо чаще менять.
После этого слышанного Сенька заснул каменным сном, ночью с груди он отталкивал тяжелое, и губы жгло, как огнем. Снилась ему мастериха. Проснулся – в избе темно, лишь одно выдвижное оконце светит – отодвинули ставень. В избу дуло утренним. Из избы уходили питейные вони. Близко где-то московским звоном звонили к ранней, да у дороги на Дмитров за окнами он слышал голоса нищих: «Ради Господа и великого государя милостыньку, кре-е-щеные!» Светало больше. Питухов, кроме Анкудима и женок, в избе не было. Молодая женка сидела на лавке у его изголовья, балуя ногами, закидывала ногу за ногу – глядела на него. Сенька отвернулся. Старая ела у стола и не успела дожевать, как в избу заскочил солдат[34] в сермяжной епанче, без запояски. Молча кинулся на старую женку, сволок ее за волосья, опрокинув скамью, распластал на полу и начал бабу пинать, она взвыла, будто волчица, заляскала зубами.
Из прируба вышел хозяин с рубцом под правым глазом, левый был тусклый, сказал солдату:
– Ты ба, служилой, в избе бой не чинил, неравно убьешь, волок ба за ворота!
Солдат замахнулся на хозяина:
– У-у, ты! Гукну вот своему полковнику немчину, тоды тебе правеж, а шинок поганой опечатают…
– Бей, коли! Ты в ответе…
Солдат за волосья уволок женку на двор. Сенька слышал, как он выкрикивал:
– Убью! Рухло по кабакам зоришь, робяты голы!
Баба выла и затихла. Хозяин стоял, не то слушал, не то в окно глядел. Из прируба вышла хозяйка, подошла к мужу.
– Солдату отпусти хмельного… денег сунь, а то наведет расправу – хоронись тогды в ино место. Слы-ы-шь?
– Чую – не толкуй… пущай угомонится. – Хозяин скрылся из избы.
Анкудим вышел из прируба с кувшином, в сермяжном озяме, сел к столу допивать мед. Его одежда, вымытая от навоза, висела над черным устьем печи на ухватах – рубаха, ряса и скуфья. Наливая в чашку оловянную мед, Анкудим говорил:
– Спаси, спасе, все исходит к ладному концу! Быть бы в пути нынче, да грех лег у порога храмины сей… хозяева же зело хлебосольны…
Молодая женка пристала к Анкудиму с говором:
– Чуешь, чернечик, как увечно бьют бабу? Вот она, доля наша… Сунусь домой, и мне против того тое терпеть.
– Бражничал да мылся – и всю ночь очей не сомкнул, спаси… а зрел зде и не дале окаянство твое, лиходельница, как ты, будто бес, спутника мово блазнила. Срам твой зрел… учить тебя пуще той надо – бить!
– А пошто он кудряш? А пошто базенькой? Такому от баб покою не будет… Чуй, отец, примите меня с собой – убреду хоть на край света…
– Богородице, храни… дале врат монастырских не убредешь!
– Отец, ты молодшего спусти, монахом не будет, – ведаю крепко.
– Оле-о! И мать его сыщет с меня, коли проведает… От греха угнала, а я, недостойный, навел на худчий…
– Не лгу, отец! Спусти со мной молодшего, а я в холопки продамся, его же буду питать и обряжать.
– Запри гортань, блудница! Спаси, спасе, сказываешь такое с глупа ребячьего разума, – закону о себе не ведаешь! Перво – куда бы ты ни утекла, муж сыщет, привяжется, господарь, у которого муж в холопех, тоже, и тебя со стыдом и боем домой оборотят. Едина твоя бабья доля – у мужа в руках аль в монастыре в черницах, иного пути не ищи!
После слов монаха Сенька видел, что бабу как бес с лавки толкнул, она зачала плясать по избе да кричать:
– А я в гулящие бабы пойду! А я нищей стану у церкви!
Анкудим ей строго прибавил:
– И закон тебе тогда будет как собаке – плеть да обух! – и закрестился, читая молитву: «Грех мой пред тобой есть, выну…»
По всем путям серпуховским, коломенским и другим ходил Анкудим, отыскивая тайные кабаки. Прихрамывая, принюхивался, как пес, но изошли все деньги, тогда он с последнего ночного постоя одноконечно повернул в Новгородский уезд. Когда Сенька спрашивал монаха: «Пошто Анкудим так поспешает?», монах обмолвился:
– Деньги пропиты… по полям ветер, волци да лихие люди… а пуще того, ежели ввечеру, то поспешать надо, из Богородского села на остров к ночи лаву разберут… Добро спать в келий, да и монаси имутся, яко Митрофаний, хмельного добудем…
Когда ночевали в монастыре, то Сенька от монахов проведал, что самый большой в нем грамотей – некий недавно постриженный Тимошка, при постриге названный Таисием, к нему и архимандрит с письмами ходит, ежели надо дать кому отписку. Монахов Таисий тоже учит проповедническому складу, в печатном деле он же назрит правильное титло в новопечатных книгах и в правке книг с греческого понимает борзо.
Сеньку в монастыре сдали на послушание. Парень матерый, что ни день – в рост идет, а грамоте не обучен. Святейший монасей тупых грамотой не любит. Анкудим по уговору с Сенькой – «что быто, то забыто» – решил ему выговорить почет и известил монастырское главенство: «Приведенный мной отрок не смердьяго рода и не мещанина тяглого сын, сын он стрелецкий, отец его при государе стоит – Стремянного полка ездовой». Решено было отдать новца Таисию в послушание и поучение. Сенька признал в Таисии того молчаливого питуха, коего кто-то в тайном кабаке назвал царским сыном. Таисий, взглянув на Сеньку, усмехнулся, сказал поучительно и складно, благо послухов кругом не было, были они одни в келье:
– Как стояли мы по запретному делу на тайном кабаке и за тайное питие, кабы нас уловил караул, сошлось бы платить кабацкому голове полтину, а воеводе, по уложению, приучилось бы ставить спину нашу под батоги. Мы же утекли добром, так видно, брат Семен, и нынче против того суждено нам, как брат брату, делать заедино по-тонку, ибо монаси – царские богомольцы, в миру они те же кабацкие головы.
– Мне чего желать, брат Таисий? Я, коли гожусь делать что для тебя по-тонку, туда и иду!
– Вот так – аминь!
– Грамоте, вишь, не обучен и по-тонку делать мало годен.
– Грамота – дело великое… и ежели ты будешь всюду идти за мной, то грамоте обучу, зачнешь борзо чести. Идем!
По дороге в монастырское книгохранилище Сенька говорил:
– Был я, брат Таисий, у мастера, да он завсегда хмелен – учил худо по букварю…
– Нам букварь не надобен! – Таисий повозился мало с грудой книг и выволок одну, Сеньке показалось – самую толстую. – Вот зри! Аз, буки, веди, глаголь, добро. – Таисий перекидывал тяжелые листы и снова возвращался на прежние. – Спервоначалу зачнем складывать – аз, буква первая, но ты ее переставь на любое место, вот буки впереди: будет ба, буки аз – ба! Веди впереди будет: веди аз – ва. Буквы не стоят на одном месте, и ты их переставляй – вот еще: добро и аз – будет да!
– Это вразумительно и легко.
– Что понял, то и легко. Запомни на глаз: аз буква – домик с поперечиной, добро – домик на ножках, глаголь – едино что кочерга вверх крюком, иже – две палки стоячи, поперечиной наискось связаны, наш – буква, как иже, только, зри, поперечина едино, что кушак по кафтану, прямая, и одна палка с круглой шапкой наверху. Мыслете – два домика рядом. Нынче возьмем мыслете и аз, будет – ма, еще рядом поставим против того же мыслете и аз – будет мама.
– Ой, и ладно же!
– Теперь закорючка петлей вниз с палкой за ней – будет еры, а без палки – ерь.
Потом новый учитель показал Сеньке титлы и счисление до десяти, объяснил, что аз – один, буки – не числится[35], а веди – два, глаголь – три, добро – четыре, есть – пять!
Ежедень ходили они в книгохранилище. Время шло скоро, и Сенька неожиданно для себя оказался способным чести книги, он замечал, что с каждым днем узнает новое… Сразу не далась ему только грамматика и просодия, но и тут он приналег изрядно, стал понимать. Одного лишь понять не мог и думал: «Да как же так? Мастер годы учит ребят, бьет их, пугает, а Таисий обучил шутя, будто играл песни, по книге». Поучившись, шли они в монастырскую трапезную, где Таисий посреди трапезной на тот день читал жития святых. За столами обедали розно: за одним – монахи, за другим – бельцы и миряне. Сеньку Таисий оставил у себя в келье. По ночам после службы тайно пили из рога табак, а дым пускали в печную трубу. Таисий, поучая Сеньку, рассказывал ему о своих бегах за рубеж.
Бывал он в Литве и у турчина. Мало-помалу уяснил Сенька, что его учитель пуще всего хочет собрать денег сколь можно больше и даже верит в клады, схороненные в старых могилах. В заговоры, разрыв- и плакун-траву не верит.
– Пошто много денег? – любопытствовал Сенька.
– Деньгами, брат Семен, можно откупиться от воеводы и палача. Дьяков да подьячих купить еще легче. Это завсегда помни!
К чтению Сенька так пристрастился, что после службы стал прятаться на полати собора, где без приберега лежали многие книги. Монахи, бражники кои были, те стали подшучивать над Сенькой, а тот монах, именем Илья, который в Иверской заведовал ключами соборов, даже лаял Сеньку не единожды. Таисий, прознав это, упросил настоятеля, чтоб послушнику его Семену не поперечили ничем быть книгочием. Когда же проверил Сеньку по всем правилам чтения, то поставил вместо себя читать за обедом в трапезной. Таисий так же успешно обучил Сеньку письму. Анкудиму, спутнику Сеньки в Иверский-Святозерский, от правил монастырских стало скучно, он уговорил власти монастырские пустить его в Москву. Монахи с Анкудимом к святейшему[36] послали челобитьецо малое: «Пожалуй нас, великий государь, святейший патриарх, угодьями, кои лежат впусте круг Валдай-озера». Анкудим сказал Сеньке:
– В Москве буду, твоих навещу, кому иному, а матери дай отписку и благословение испроси!
Сенька, чтоб порадовать матушку Секлетею, написал ей письмецо в трапезной в присутствии двух-трех монахов как послухов над письменностью послушника. В кельях, по правилам монастырским, чернил, перьев держать не разрешалось. В ночь, когда отошел из Иверского Анкудим, лежа на постелях, Таисий поучал, как всегда, Сенька слушал:
– Отсюда уйду, только, брат Семен, я тебя еще с тайного кабака приметил и полюбил. Тебе тоже с чернцами быть не след – уходи и ты за мной, мало медля. Мир дуракам широк, умным узок он – встренемся в миру и будем заедино.
– Я тебя тоже люблю, брат Таисий.
– Запомни, брат: в миру, о коем я чел многие книги, нет святости.
– А чудотворные иконы?
– Чудотворные или иные иконы рук иконников, ученных тому, и монахов изловчение, да еще вера ослепленных попами людей. С чудотворными деется тако: старцы юрода изберут, угрозят ему узилищем альбо денег дадут и указуют: «Делись!», «Прорицай!». Народ же, узрев дивное и признав святость в юроде, течет толпами к монастырю, несет деньги. Помирая, иной вклады деет на помин души. Царь и бояре тож за монахов стоят и им поблажки деют на тот случай мног, и в уложении царевом роспись есть – сколь платить церковнику, ежели обидишь его: за обиду патриарха и голову секут. Как брату своему, тебе открою ныне, что втай держу. Замыслил я царем стать. Внимай: был такой малоумный царь Федор, Грозного царя Ивана сын, рождена от него едина дщерь, да и та скоро кончилась. Я, как время тому изошло немалое, назовусь сыном того царя… ежели по летоисчислению сын Федора царя и много старее меня был бы, но кому стукнет в голову оное исчислять? Был уж один самозванец, сыном Федора звался, – это после Гришки Отрепьева, но дьяк иной, может, и ведает такое по книгам, да народ дьяку не верит. Бояра к летоисчислению и летописанию тупы и безграмотны, да и боярам народ не верит. Верит народ истцу да удалому молодцу! Так как время то было до Никоновой правки служебных книг, я, где прилучится, буду сказывать о старой вере, а старая вера живет крепко в польской Украине[37], среди казаков и запорожцев… думку мою, как душу свою, храни крепко.
– Верь мне, брат Таисий…
– И вот, посмекаю денег – кинусь в Запорожье, хохлачи не единого самозванца к Москве выводили и царем звали и чести ему требовали… при хабаре добром и я царем стану…
– Ой, страшно так-то, брат!
– Что мне бояться? Голову потерять не страшно, так что ее и без того потерять ежечасно можно… Хабар изломится – удачи не будет, сбегу в Литву, ляцкий язык свычен мне… не впусте нынче трудился над польской книгой, кою прислал в монастырь патриарх, требуя переложить ее на наш язык. Там, коли что, утеку в турчину, проберусь в индийское царство – за рубежом дорога широкая… Денег надо поболе. – Таисий сорвался с одра, кинулся к двери и, осторожно приоткрыв ее, выглянул в коридор. Ложась обратно, сказал: – Почуялось, будто кой раб у двери стоит.
– Мне слышалось тоже, – ответил Сенька.
– Одно дело сорудуем на днях, а дело такое – для ради денег, – деньгами легко купить кого мне надо, и везде тебе ворота отперты – разрыв-трава – это деньги! Перво дело, мыслил я, до казны монастырской досягнуть, но то нам несручно, крепко берегут ее старцы посменно. Нынче иное, сыскал чертеж церквам: старой деревянной и каменной, коя еще строится. В том чертеже каждый угол и столб мне ведомы… В деревянной Иверская пядница в церковь положена при освящении, на ей риза золотная, дробницы звездами по венцу. Противу того, как риза у образа цата с большим камением[38]. Еще имется Иверская Афонская, и та икона с царем на войну пошла. Но с Богородицей после – перво дело подсоби мне – залезем под паперть, под полом ухоронен корыстной чернище Нифонт.
– Но, брат Таисий, плита Нифонта у алтариков на паперти, меж столбов, – я не единожды чел то рукописание по камени.
– Пожди, брат Семен, и чуй – старец тот был казначеем во многих киновиях и строителем церковным был же. Денег имал, ведомо мне, тьмы-тем, ложен в колоду в праздничном клобуке, серебром шитом. Мекал я, в том клобуке его деньги, родни не знал, монахов таился, монастырю и на помин души пулы[39] медной не дал… Плита на паперти, кою зришь ты, чести для его и памяти. Керста Нифонта под полом в каменном гнезде, под плитой многопудовой. Перед смертью ему ее соорудили каменщики, иные от них нынче новую церковь устрояют… По-тонку я тех каменщиков допрашивал и все познал…
Прошло немало времени. Сенька, уставая на монастырских работах, забыл разговор с учителем Таисием, но он, Таисий, видимо, от замысла не отступился, сказал перед сном:
– Сею ночью взбужу, брат…
Оба они лежали в тонком сне. Сенька смутно мечтал, Таисий выжидал поздних часов ночи. Позвал тихо:
– Бодрствуй, брат, – и не дал Сеньке надеть монастырские уляди, онучи указал окрутить вервью и сам был в онучах.
Он прихватил с собой короткий лом, на конце лома, чтоб не бренчал, была намотана перщата. Подошли к паперти темного собора – в углу Таисий нагнулся и из фундамента, на котором лежало нижнее бревно, вынул с помощью Сеньки плиту. Под плитой оказалось отверстие. Когда Сенька вслед за Таисием пролез под паперть, в лицо его пахнуло смородом мертвых. Таисий раскинул полы подрясника, под полой был скрыт маленький слюдяной фонарь. Сквозь слюду тускло озарилось низкое подземелье. Между деревянными столбами, которые верхом своим доходили до сводов паперти, под полом было в ряд расположено три гробницы. Сеньке кинулась в глаза корявая надпись на серой плите: «Иеромонах смиренный Нифонт». Таисий молча указал рукой в деревянный потолок, оба они стояли недвижимо и слушали. Из собора еще не ушел соборный старец Илья, пришедший досмотреть негасимые лампады. Старец ушел и долго звенел ключами, сперва у дверей, потом по двору.
– Теперь орудуй, вот лом! Сдынь плиту.
Сенька ответил:
– Не потребен лом – я руками, – понатужившись, приподнял многопудовый камень, потом повернул его боком…
Монахи, видимо, узнали, что кто-то ходил в усыпальнице под старым собором, и едва лишь окончилась служба, архимандрит Филофей с древним настоятелем Паисием пошли под собор, их сопровождали старцы-строители – патриарший Евфимий и монастырский Максим. Монахи не узнали, что решили у гробницы Нифонта власти, только гробница показалась им тронутой мало. Архимандрит распорядился пол в усыпальнице посыпать толченой известью. Все знали, что это «для следу». Ключи от усыпальницы вместе с ключами собора хранились у старца Ильи.
Кругом монастыря на острове, где собор и икона Иверской, залегали стена и город. Городом звались все кельи, житницы и башня, рубленная в шесть углов, печатная и малая с ней о бок квасоваренная. Трапеза и еще патриарша палата с кельями тоже патриаршими. Эти же кельи служили приказом. Стена прозывалась городней оттого, что на сажень с пядью была кладенная кирпичом и камнем, а сверху рубленная. В стене трое ворот – Пречистые находились против собора, лицом к лаве, что перекинута с острова в село Богородское, Кузнечные – против квасоваренной башни, и Водяные ворота стояли лицом и иконой к широкой стороне озера. Зимой сквозь них ездили за водой. Летом через них же таскали воду на коромыслах. В деревянной части стены у монахов, особенно старых и заслуженных, были кельи. В кельях – печи. Хотя в кельях стенных позволялось обитать только летом, но монахи запрещений не исполняли. Для келий были устроены заходы, а чтоб дух шел от заходов и не смородил, то заходы таковые поделаны были вверху стены, и к ним из-под Кузнечных ворот шли лестницы. В стенной келье в три клети любил жить сам наместник, древний Паисий, с келейником старцем Митрофанием. Митрофаний числился изрядным бражником, но так как наместник его неизреченно любил, то Митрофанию грех его прощался, а кроме того, и все старцы более или менее не прочь тянули от хмельного. Заходы вверху стены кое-где погнили, благодать чрева в тех местах текла наружу, а потому и спасение от сморода вонючего верхотурьем мало достигалось. Начальство монастырское приказывало чистить ямы под каменным фундаментом, чистились ямы исправно, да и это не спасало.
Сколь времени истекло после хождения под собор, Сенька не помнил. Учитель Таисий хотя и пугал его своими затеями, но власть над ним имел большую. Сегодня после всенощной Таисий тихо поучал:
– Брат Семен! Мыслил я тебя вапами[40] украсить под свой лик да на мало время учредить в чине своем диаконском, и думу ту кинул… а ну как ты сбился бы в службе, то и делу конец! Старцы уяснили бы все – я утек, а тебя замест меня пытать и судить – суд их немилостив… Крест на грудь да затеи бесовы… Но вот на днях дам тебе сткляницу хмельного… ты оную посуду старцу келейному Митрофанию тайно снесешь и не таись перед ним: «Кто дал питие?» – укажи на меня. Наместник его господин Паисий древний – в ночи его крепко сон одолевает и скорбен ухом – за дверями спит. Ты пожди, когда Митрофаний дар изопьет, то повадки его ведомы: позовет свести на городню, ты сведи Митрофания до захода. У захода лавица есть, на ней он уснет. Не мешкая, тогда шибись вниз, дрова, что у Кузнечных ворот, костры – запали, бересто сухое. К иным поленницам приткни огню, пасись, чтоб кто не углядел тебя. Время изберем глухое, позднее. Когда хорошо займется, ты побежи из кельи в нижних портах, ударь в набат. Я тем временем в соборе с пядницы Иверской посрываю узорочье. Покуда монахи тушат пожог да лаву соберут, из Богородского народ двинется на пожар. С народом я утеку, и ты цел будешь. Митрофаний прост умом, ежели его построже опросить, то все примет на себя.
Вскоре глубокой ночью монастырь загорелся. Пожар залили Богородского села мужики. В патриарши палаты, они же приказ, стали звать и опрашивать всех монахов, даже скитников с ближних островков вызвали, но один из всех не явился: книгочий, справщик книг диакон Таисий. Власти монастырские заволновались. Строитель Евфимий сказал архимандриту:
– Отец Филофей, оный монах пакостный был… не единожды за Таисием я доглядывал и слушал – вредно он научал своего послушника Семена…
Архимандрит еще указал позреть казну монастырскую.
– Казна цела! – ответил отец казначей.
– Не все цело в соборе!
К голосу монахов пристал и соборный старец Илья. Справились и нашли: на иконе Иверской пядницы срезаны золотые дробницы, украдена цата жемчужная с большим камением. Архимандрит указал накрепко опросить всех старых монахов, а послушника Таисиева Сеньку, так как он молчал, велел кинуть в тюрьму. О пожаре патриарху Никону написать, об убытках от пожара все исчислить и договорить, о покраже с образа умолчать до времени… О поимке Таисия написать в Новгород воеводе князю Юрию Буйносову-Ростовскому. На извещение о пожаре монастыря иверские власти получили от патриарха письмо и чли его после службы в соборе…
«Прошлого-де… сентября… в третьем часу ночи неведомо каким обычаем, на городе у вас меж житниц и квасоваренною башнею, у Кузнечных ворот, загорелися дрова – от дров город и кельи, которые были построены в городу – шесть келий сгорели. Да городу от тех келий выгорело четырнадцать сажен. Да нового городу выгорело сорок сажен, а от поваренной-де башни по Водяные ворота город и трапезу отстояли. Монастырская-де казна цела, только у братьи и на городу в летних чуланах немного погорело, а из нижних-де келий все выношено. От кого пожар учинился, и вы сыскать не могли. Только первым увидали на городу против чулана соборного старца Ильи горят дрова, и вы расспрашивали келейников старцев с большим пристрастием и наместников-де, старец Митрофан повинился: “Как-то пожарное дело учинилось не нарочно”. И вы того иеродиакона Митрофана, заковав в железа, отдали за караул до нашего великого господина святейшего патриарха указу. Но ведомо да будет вам, старцы, что не тот виноват, кто для нужника с огнем ходит на сторону, а тот виноват, кто в городовой стене строит кельи, чего нигде не водится. С дьяконом как хотите правьте, а отныне в городовой стене везде бы вам печи порушить и впредь в городовой стене отнюдь бы жилья не было и на городню для нужника ходить не велеть! Стыдно слышать, что стены городовые вами огажены… Еще всяк служилой люд грозится на вас за лихоимство! “Уже мы сильно собрався, иверских старцев порубим и монастырь весь разорим… от насильства иверских старцев житья не стало, многими-де нашими землями завладели. Полоненники-де бегают в Иверский монастырь, иверские старцы их постригают, а иных неведомо куда отпускают, только окромя-де Литвы некуда отпускать”…»
По прочтении письма старцы иверские задумались, подумав крепко, порешили:
– Цату, срезанную с Богородицы, тайно справить – жемчуг есть запасной, а кой можно, неприметно и ободрать с меньших икон…
– Там был в середке лал доброй, такого лала не подберешь, – вставил свое слово отец казначей.
– И лал сыщем! Меньший, да сыщем.
– Митрофания слобонить надо, братие, – попросил соборный старец Илья.
– Паисий докучает по нем… надо расковать Митрофания! – указал архимандрит.
Про Сеньку никто из братии не упомянул, а Тимошку, или дьякона Таисия, умышленно не вспоминали.
Сенькина судьба становилась зловещей, как и многих других послушников, заточенных в монастырские погреба и навеки забытых. Чтоб изгладить память о пожаре и покраже соборной, старцы решили переменить игумена. Замест Филофея избрали архимандрита Дионисия, а в управление монастырем поставили в замену древнего Паисия – старца Филарета. Новые властители монастырские заспешили с постройкой храма каменного, для досмотра за рабочими потребовали из Новгорода от воеводы стрельцов. Пока они хлопотали, переделывая городню и выламывая печи из келий городовой стены, получилось извещение святейшего, «что сам он жалует в Иверский-Святозерский». Это было для старцев необычно и неожиданно. Начались приготовления – лаву из Богородского села сделали как мост на временных быках с поручнями, поручни украсили фиолетовым сукном, любимым цветом святейшего. В золотых ризах, с распущенными волосами, подобрали в певчие мальчиков, взятых из сел монастырских и приученных к согласному пению, ненавистному старообрядцам-раскольникам. Под колокольный звон всех церквей иверских патриарха ввели в его келью (на погребах) со сводами, расписанными иверскими иконниками и знаменщиками: по золоту синие и красные кресты в переплет с цветами, а в цветах – лики херувимов. Никона власти монастырские усадили на его расписное кресло в палате и поясно поклонились. Земно кланяться Никон воспрещал. Посох свой патриарх отдал келейнику диакону Ивану, тот встал с патриаршим посохом за креслом господина. Патриарх оглядел чины монастырские, сказал с некоторой насмешкой в голосе:
– А ну, отцы праведные, сказывайте о том, о чем мне писали и что писал я противу того, да пошто не вижу близ себя тех, кто верховодил делами монастыря в пожарное время?
– Паисий древен – не может с одра встать, замест его новый у нас избран старец Филарет – не обессудь, великий господин святейший патриарх!
– А-а, так… то новые власти все грехи принимают на свои головы? – проговорил Никон и подумал кратко: «Патриарши богомольцы! Упади я, на меня же кинутся, аки псы…»
– Пожог, великий государь святейший патриарх, случился глухой ночью и не опознанный от кого… Митрофания иеродиакона по слову твоему, пригрозив, освободили…
– Но куда же делся тот дьякон, книгочий и правщик книг Тимошка и где ныне тот Тимошка?
Архимандрит Дионисий выдвинул впереди себя прежнего старца Филофея:
– Сказывай, отец Филофей! Я того дела не ведаю.
– Казни меня или милуй, святейший патриарх, а Тимошка утек из монастыря в ночь пожара. – Филофей упал земно перед патриархом.
– Встань! – строго сказал Никон и продолжал: – Зачем вы, старцы иверские, неведомого бродягу и шпыня постригли и пошто возвеличили до сана диакона? Он у вас литургисал, а потом он же, учинив пожар, утек!
– По указу твоему, великий господине святейший патриарх, постригли того Тимошку! Писал ты к нам, богомольцам твоим: «послушников-де и грамотных постригать, не отказывать им в получении благодати и чина церковного». Тимошка был зело грамотен и малый вклад принес монастырю и жизни был постной, смиренной… По всему тому и послушника ему дали малоумка, но послушничонко, должно, воровал с ним заедино, ибо ни единым словом не оговорил его, а за то мы того послушничешка, стрелецкого сына, заковав, держим в порубе под караулом… – медленно и, показалось Никону, хитро глядел и говорил бывший архимандрит Филофей.
С Филофеем заговорили многие старцы, соборный Илья даже вскликнул, воздев правую руку вверх:
– Все мы на сих словах брата Филофея крест святой челуем!
Патриарх, нахмурясь, слушал, потом большой рукой погладил на груди панагию с диамантами, расправил черную пышную бороду, сурово спросил:
– Ведомо ли вам, старцы, про «Номоканон[41]» государев? И ежели ведомо, то в нем есть статья: «Поп, кой клятвенно поцелует крест святой, отрешается от службы в храме!» Так еще вопрошу – ведомо ли вам про то?
Игумен Дионисий смущенно ответил:
– Хотя и не указано нам ведать того, но ведомо, великий господин патриарх! Сбрусил тебе старец Илья и иные с ним…
– Так вот, чтоб вы впредь не брусили… – Никон слегка сдвинул налегший на глаза крылами золотого херувима белый клобук. – Хочу видеть того Тимошкина послушника, как сами вы говорите, он малоумок, и суды ваши мне ведомы, давно ли писал я вам об иконнике, коего в тюрьму кинули за то, что с крестьяны вашими пить вина не захотел, крестьяне его избили, а вы еще и заковали… Ведите сюда малоумка.
– Как его вести, господине, – в кайдалах или расковать?
– Ведите каков есть! Сами идите в собор, учредите службу, опрошу парня, буду к пению.
Архимандрит Дионисий и прежний, Филофей, радуясь, что гроза миновала, пошли в собор, велели продолжать звон, начатый встречей патриарха и остановленный, когда он воссел в палате да заговорил.
– Уст парнишка не разомкнет, – проворчал Филофей, – дела монастырские святейшему не все ведомы.
– Анкудимко довел! В пожар видали его у квасоваренной башни! – сказал старец Илья.
– Анкудимко – пес! Он все пронюхал, – прибавил Дионисий.
Сеньку в оковах в палату привели стрельцы, один шепнул ему:
– Поклонись, дурак, патриарху!
Сенька, громыхая кандалами, поклонился Никону земно, когда разогнулся, взглянул и подумал: «Будто сам царь!» Таких попов Сенька не видал, видал иных, что приходили к матушке Секлетее тайно – лохматые и ругатели, если спрашивали о чем, то матушка велела им говорить правду, не таясь. «Этому надо тоже все сказать! – решил Сенька. – Вишь, сам – патриарх!»
Патриарх, взмахнув рукой, откинул на клобук крылья херувима и самый клобук сдвинул далеко на затылок, колюче глядя карими глазами в лицо колодника, проговорил жестко:
– Сказывай, чернец, как на духу, без утайки – каким воровством грешен?
Сенька глядел смело, хотя и был пуган огнем, приведен к пытке и изнурен тюрьмой:
– За собой, великий господин, не ведаю воровства. Мой грех лишь в том, что как послушник исполнял волю отца Таисия…
– Тимошки, не Таисия! Монах, кинувший чернецкие одежды, не отец, а расстрига и бродяга.
– Тимошка, великий патриарх, был мне едино что отец. Он меня обучил грамоте, от него я познал много, чел книги и радость себе в том великую нашел… Ему я не мог ни в чем отказать…
– Образ чудотворный владычицын с ним подымал ли? Дробницы золотые и цату богородичну не срывал ли с ним?
– То дело одного Тимошки, но ежели б позвал, то власть надо мной имел он великую, пошел бы с ним!
– Ты о сем ведал?
– Не таю, великий господине, – все ведал!
– Властям монастырским не довел пошто?
– Нет, не довел!
– А потому святотатство твое таково же, как и самого еретика Тимошки… это первое воровство, за него пытка и смерть! Второе твое воровство… – Никон понизил голос, от того он стал у него зловещим. – Прежнего строителя старца Нифонта могилу вы с Тимошкой разрыли и пошто разрыли?
– Истинно, великий патриарх! Оное было так – взбудил меня Тимошка в ночь… со сна я худо помнил, куда иду… Привел он и указал вход под собор… я не пытал его, пошто идем – сам Тимошка мне по пути сказал: «Клобук-де на нем с деньгами, в том клобуке и зарыт старец!»
– Старец бессребреник был, постник великий, что ж вы обрели в том гробу?
– Во гробу том, великий патриарх, нашли мы многое множество червя… лика, главы Нифонтовой от червя мы узреть не могли… от смрада и червя Тимошка задрожал весь, указал мне плиту заронить, кою я поднял… сам он малосилой, и ему бы той плиты не сдвинуть.
Ставшее грозным лицо патриарха в густой бороде шевельнулось улыбкой, глаза засветились добрее, он подумал: «Нифонта ставили в поучение – бессребреник, постник!» Подумав, переспросил Сеньку:
– Не лжешь ты, будто черви одолели гроб того праведника?
– Ни единым словом не лгу, великий господин святейший! Тьма-тем черви и дух смердящий.
Никон громко вздохнул, сказал тем, кто был в палате:
– Идите на молитву! – Обернулся к своему келейнику: – Ты, Иване, тоже! Дай посох, иди.
Иван Шушерин патриарший передал посох, Никон принял и глазами проводил всех уходящих. Когда за последним дверь палаты закрылась, сказал:
– Детина! Стань ближе ко мне.
Сенька торопливо шагнул к креслу патриарха, споткнулся о кандалы, они волоклись со звоном, тогда он нагнулся, руки были скованы спереди, разжал кольца кандалов и, свободный от железа, подошел.
Никон удивленно спросил:
– Ты всегда так гнешь железо?
– Кое не гнется – ломаю.
– Пошто не ушел из тюрьмы?
– Я старцев не боюсь – то разве надо было?
– Смерти боишься?
– Ужели то страшно, великий патриарх?
– Умрети младым много страшно! Помысли – ссекут голову, кинут в яму, в остатке черви съедят, как Нифонта, коего колоду зрел ты!
– Пошто, великий господине, черви, може, псы, – а я, ежели главы нет, и ведать того не буду!
– Пытки боишься?
– Пугали меня старцы огнем и дыбой, но не боюсь.
– Худо пугали – палач нажгет клещи, вретище с тебя сорвут и за бок калеными щипцами? Кровь, смрад, боль непереносимая.
– Того не ведаю, а вот когда я недоростком был – в тую пору не единожды зубами мерзлое гвоздье гнул, так от того дела за ухами скомнуло, потом ништо…
– Ништо?
– Ни… как подрос, забредал в конюшню с каурым баловать… конь был четрилеток, так я… надо ли сказывать?
Никон, опустив голову, думал, и вспомнилось ему его детство, как сам он бился на кулачки лучше всех, а подрос, то укрощал диких лошадей, вязал их, валил с ног.
– Чего умолк?
– Да надо ли такое сказывать?
– Все говори.
– Так я, великий господин святейший патриарх, каурого за хвост, а он лягаться… как лягнет – я ногу ево уловлю, и не может лягнуть… Тяну за хвост одной рукой, другой ногу зажму, он ногу из руки дерет и до крови подковой надирал… мало-таки больно было… Да еще крыс, святейший патриарх, гораздо боюсь!
– Не могу умом по тебе прикинуть… Сказывал ты, книги чтешь, и то ты сказывал разумно – про учителя злодея Тимошку говорил с разумом, а ныне яко юрод и дурак говоришь…
– Винюсь, великий патриарх, худо обсказал, но молыл правду.
– Как имя тебе, раб?
– Семен буду.
– Знай, Семен, от меня ты тоже ведаешь правду – по воровству твоему, хотя ты и был лишь помощником злодею, уготована пытка, в полный возраст придешь – за святотатство казнь смертная.
– Чую, великий патриарх.
– Но… если я тебя возьму за себя, спасу от смерти и пытки, так будешь ли честно служить мне?
– Ты волен в моей жизни, великий патриарх, и если захочешь, чтоб служил тебе – буду служить, не щадя живота, куда хошь пошли меня, без слова пойду!
– Добро! Сказанному тобой верю… Вдень себя в кайдалы, жди.
Сенька отошел к дверям и старательно заклепал себя в кольца желез. Никон громко позвал:
– Эй, войдите в палату! – Когда вошли стрельцы с монахами, прибавил: – Раскуйте колодника. Беру его с собой. Если вы дали какую-либо грамоту воеводе, то отпишите: «Святейший имает “дело государево” на себя! Вора Тимошку будет сыскивать своими людьми и судить его будет великий государь сам с бояры».
Никон зашел в собор к службе, потом, не садясь за трапезу, уехал.
Монастырские власти думали долго, «кто довел патриарху о всех делах тайных монастыря»? Потом окончательно решили: Анкудимко монах! И хотя он ране пожара ушел из Иверского, но у него есть доглядчики и доводчики в селе Богородском, а ведомо, что в село он к пожару заходил и ночевал. Они на том же собрании отписали воеводе: «Дивное содеялось, боярин князь Юрий! Сам святейший патриарх будет имать утеклеца своими людьми патриаршего разряда и судить того вора Тимошку будет сам же, и тебе бы, воевода, в то дело не вступаться!» Когда пришла первая отписка от монахов к воеводе, то князь Юрий Буйносов-Ростовский вскочил и матерно выругался, он только что затеял дать пир своим друзьям, а тут «дело государево».
– Привечают в монастыре чернцы хмельные всяких воров и бродяг, но когда их покрадут или, худче того, подойдет им к гузну, узлом пишут: «Берись, воевода, правь дело государево!»
Пока он расспрашивал дьяков[42], да стрельцов подбирал, да подводы готовил, и сыскных людей налаживал, получилась отписка вторая: «И тебе бы, воевода, в то дело не вступаться!» Тогда князь спешно приказал закинуть все сборы по “делу государеву”, позвал ездового.
– Гей, холоп! Садись на конь да скачи борзо, извести моих друзей – воевода князь Юрий просит пожаловать на пир! – Про себя прибавил: «А и благо тебе, Никон! Не люблю я тебя, да спасибо, что от лишней работы избавил!»
С Ивана Третьего вплоть до Петра всяк выходящий из Кремля, идя Спасскими воротами к Красной площади, переходил через овраг по мосту. Тот Спасский мост, по дьяческим записям, «был длиною двадцати сажен с саженью, а поперег пять саженей». Под этим мостом в шестнадцатом веке, во время пожара Москвы от хана Перекопского Менгли-Гирея[43], убежав из железной клетки, сгорел лев, любимец Ивана Грозного, его православный царь часто кормил трупами казненных. Велик и страшен был тот пожар деревянной Москвы: на колокольнях плавились колокола, «жидкая медь, аки вода, текла по кровлям церквей». Мост сгорел, но его перестроили, а после Смутного времени на Спасском мосту по ту и другую сторону объявились лавки книжников. Торговля шла бойко лубочными картинами, печатанными на досках. Картины изображали «Страшный суд», «Хождение Богородицы по мукам», лики чудотворных икон, но столь безобразные, что патриарх Никон поднял на бумажные иконы гонение. Продавалось тут и рукописанье, сочиненное заштатными попами, дьяконами или же просто грамотеями. Покупалось оно явно, продавалось книжниками из-под полы тайно, а потому и за гроши. Тут же покупались сказки «Бова Королевич[44]», с фряжского переложенные, и другие. На мосту всегда шумела, толкалась толпа от раннего утра и до отдачи дневных часов. По мосту в возках не ездили, разве что редко проедет царь верхом или важный боярин. Толпу разгоняли стрельцы, лавки тогда запирали. А дальше моста, если убрать толпу, за площадью Красной ряды полукругом, и видно в каждой лавке, кто чем торгует: на виду покупателя развешаны сукна, сбруя, образа и утварь церковная, парча, позументы с бусами, канитель и кружево золотное для обшивки сарафанов и кафтанов боярских. За первым рядом, лицевым, – второй и третий, там торгуют рыбой, мясом и курями, а еще дальше вглубь – колокольный, каретный и лапотный ряды. Сегодня, как всегда, в стороне, прячась за углами лавок, стоят подкрашенные бабы, пестро одетые и чаще хмельные, у каждой такой во рту закушено по кольцу. У одних с бирюзой, у иных со смазнем[45] голубым или алым. К таким торговкам подходят только мужчины, женщины, проходя, косятся на них, плюют в их сторону, а какая не удержится, то и ругнет:
– Бесстыжие!
– Лиходельницы!
Связываться с такими бабами боятся. Драться умеют хорошо, а пуще того матерным лаем устыдят. Мужчины, подходя, говорят тихим обычаем:
– Молодка, продаешь кольцо?
Кольцо изо рта исчезает, оно либо на пальце блестит, или зажато в ладони.
– Прода-ю-с.
– Сколь дорого?
– Тебе как – с медом хмельным ай насухо? С медом-то за сласть полтина!
– Буде четыре деньги.
– Тогда без сласти… Тишае иди… я догоню!
В толпе продираются скоморохи, медведя волокут на цепи с кольцом за губу. Кто из потешников с козьей, иной с бараньей харей. К скоморохам пристают из толпы, смеются:
– Плясать ноги есть, сыграть – ни, всю вашу музыку патриарх Никон за Москвой-рекой на болоте пожег.
– Пущай жгет! На губах сбубним.
– На гребне чесальном посвищем!
Кто-то, злобясь на патриарха, кричит, чтоб многим дошло в уши:
– Никон, братие, не то скомрашью кабацкую музыку сжег, он летось святые иконы в церкви поколол да огню предал!
– Иконоборец!
– Иконам указал глаза прободать да по Москве носить окалеченные!
– Истинно! Зрели сие, плакали люди, глядючи.
– Ужо сыщется ему от Бога.
– От людей не пройдет тоже!
– Берегись, народ! Уши есть, Фроловска[46] пытошна за мостом!
– Эй, гляньте, – бирюч.
– Чуйте его, не шумите гораздо!
Четверо стрельцов приказу Кузьмина в голубых кафтанах батогами разгоняли толпу, очищая дорогу бирючу. Бородатый бирюч, в шапке шлыком, загнутом за спину, в мухтояровом зеленом кафтане, бьет палкой в литавру, привешенную на груди. Уняв барабанным боем шум толпы, кричит зычно:
– Народ московский! Кто из вас будет куплять у торгованов скаредных бумажные листы с иконами немецкими, кальвинскими, еретическими или же неправо печатать мерзко и развращенно таковые листы, тому быть от великого государя святейшего патриарха Никона в жестокой казни и продаже!
Стрельцы с бирючом проходят, литавра и голос звучат в отдалении.
– Вишь, робята, Никону стали нынче бумажные иконы за помеху!
– Так будут худче печатать деля смеху-у!
– Сказываю вам – уши есть! Фроловска пытошна близ…
– Во Фроловой нынче негде пытать, около пытошные отводные башни стены осыпалось с двадцать сажен!
– У набатного колокола во Фроловой у палатки свод расселся!
– Запоешь не хуже у заплечного во Констянтиновской!
– В Констянтиновской тож – в воротех вверху расселось в трех местах!
– Да вы каменщики, што ль?
– Мы с Ермилкой в нарядчиках были, меру тащили – подьячий стены списывал!
– Воно вы каки, робяты! А я в стенных печурах щелок варил… Идем коли в кабак – угощу!
– Ермилко! Идешь, царь зовет?
– Оно далеко да грязно…
– А ништо! Проберемся.
С серого неба сеет не то дождь, не то изморозь, но крепок хмельной полуголодный народ. Бродят люди с утра по грязи, по слякоти, едят с лотков блины, оладьи, студень глотают, утирают мокрые рты и лица шапками. Ворот у многих распахнут, болтаются наружу медные кресты на гайтанах, иные шутят о крестах наружу: «Крест мой овец пасет!» Пытошные башни многим знакомы, разговор о них не умолкает. Никон государит немилостиво, при нем еще крепче пытают, а царь на войне с Польшей.[47]
– Куда ни ставь башню, хоша на гору Синайскую, – пытка однака!
– Никон нам рай уготовал, патриаршу палату подновил, кельи пристроил!
– Подвалы под палатой изрыл, там жилы тянут!
– В хомутах железных народ гнут!
Вместе с влагой воздуха к ушам толпы липнет колокольный звон. Шапки с голов сползают, люди крестятся. Отдачи дневных часов еще не было, но уже прошла в Кремль новая смена стрелецкого караула, а на Красной площади и у Спасского моста толпа гуще, озорнее и шумливее. Народ московский вслед за патриархами исстари говорит: «На Спасском крестце до поздня часа безместные попы торгуют молебнами!» Близ церкви Покрова (Василий Блаженный) чернеет сумрачной крышей патриарша изба[48] – канцелярия безместных попов. В ней всем попам, служащим по найму, кроме попов подсудных, призванных в Москву за грабежи и буйства, дается разрешение служить – знамя, всякому, в ком есть надобность в попе, на дому. За знамя идет с попов плата в десять денег, а с иного, просто смотря по достатку, и не меньше трех алтын. Но приезжие попы и игумны озорны, всегда полупьяны от бродячей жизни в большом городе, они все «никому же послушны», иначе своевольны – в патриаршу избу не идут, знамен не берут, а, увидав того, кто нанимает попа, подымают меж собой шум и драку:
– Эй, хрещеный! Памятцу твою беру и шествую в дом твой!
– Борзо чту синоди-ики! Синоди-ики. Плата на дому по сговору, с хлебенным и питием!
Мохнатый от заплат на рясе, схожий на медведя, лезет поп. Кто не посторонился его, тот либо в грязь упал, или получил ссадину на лбу… Длинные, с седыми клочьями, волосы попа прижаты железной цепью наперсного медного креста тяжелого, будто на веригах. Таким патриарх воспрещает держать крест в руке или носить на груди, крест должен быть носим на торели, то и на блюде. Только на Спасском крестце и патриарха не слушают. Поп, сокрушая толпу, басит замогильным с перепоя голосом:
– Чуйте меня, православные! Худое, гугнивое пенье не избирайте, то разве попы? Они же комары с болота. Меня, попа Калину, наймуйте, я когда пою в храме, то свечи меркнут!
Озлясь, попы отвечают Калине:
– Разве ты поп?
– То, крещеные, убоец с большой дороги – явлен в Разбойном приказе.[49]
– Паситесь его, он везен в Москву с приставы!
А там по краю того же Спасского оврага под большим хмелем трое велегласно поют о кабацком житии:
- Пьяницы на кабаке живут и попечение имут о приезжих людях – како бы их облупити и на кабаке пропи-и-ти!
- И того ради приимут раны и болезни и скорби много-о…
- Сего ради приношение их Христа ради приимут от рук их денежку и две денежки и, взявши питья, попотчуют его… и егда хмель приезжего человека переможет и разольется…
- И ведром пива голянских найдет и приимет оружие пьянства и ревностию драки и наложит шлем дурости и примет щит наготы, поострит кулаки на драку!
- Вооружит лице на бой, пойдут стрелы из поленниц, яко от пружна лука, и камением, бывает, бьем…
- Пьяница вознегодует и на них целовальник и ярыжные напраслины с батоги проводит…
- Яко вихор развиет пьяных и, очистя их донага, да на них же утре бесчестие правят, и отпустит их с великою скорбию и ранами…
Те, что трезвее и степеннее, попы, между которыми есть и московские, безместные, собрались особой кучкой у крыльца патриаршей избы. У них наперсные кресты попрятаны за пазуху, только цепочки шейные видны. На попах камилавки старые или скуфьи. У каждого в руках знамя. Маленький попик, не обращая внимания на безобразия, шум и бой пьяных попов, говорит:
– Гляньте, отцы, то безотменно деля лихих дел ходит дьяк и наймует подсудных попов!
– Нужное, бате, нам то? Да, може, он ставленников ищет, хощет попам дать работу…
– То истинно! Поживиться на поповский доход хощет.
– И не дьяк он, батька, что в котыге да с батогом будто дьяк, а глянь под котыгой на кушаке что…
– А что?
– Чернильница, песочница да каптурги[50] с рукописаньем, то подьячий[51], може, он судного приказу судейской ярыга.
Кто-то в толпе степенных попов бубнит:
– Не суди, не судим будеши… Яко да воссудят тя нечестивые судилища, аще да уподобишься куче наво-о-зной!
– Хмельных среди нас нет, а вот, отец, испил-таки!
– Плюнем!
– Не едино ли нам – дьяк ли, ярыга ли?
В толпе пьяных попов у моста ходит степенно курчавый подьячий в синей котыге, с дьяческим посохом и в дьячей шапке с опушкой из бурой лисицы, по тулье шапки канитель золотная с малым жемчугом.
– Ну, отцы духовные, здравствую!
– Здравствуем тебе, блазнитель наш!
– Уговор помните?
– Какой уговор? В пьяной главе все молитвы истлели!
– Сыскали, нет ли деля меня попов подсудных?
– Сыщутся! Только до тюрьмы нам мала охота.
– Иными-таки граблено, да маловато, авось Бог пронесет!
– Я по своей службе, опрично других дьяков и не судного приказу!
– Ты это насчет грамоток? Чли, дьяче, твои грамотки о государевых пирах – ладно едят патриарх с боярами!
– Сытно!
– Эй, поп Калина-а! Сюды-ы!
– Чого? А-а, подьячий! – Бурый поп с медным крестом лезет к подьячему. – Угощаешь?
– Подсудной?
– Такое имеется за Калиной – по разбойному делу зван!
– Иные с тобой есть?
– Есть! Вон те семеро – все по суду везены к Москве.
– Идем в кабак!
– Дьяче! Нас пошто не зовешь?
– Кого надо сыскал – вы лишние!
– Скупой бес!
– Лихое дело, знать, замыслил!
– Рясы-то подогните, кресты попрячьте, а то с кабака вон пого-ня-ат!
Девятеро с подьячим, попы сидят в царевом кабаке, в кружечной избе. Подьячий угощает. Разговор тихий, похожий на сговор по-тонку.
– Ты, Калина, их поведешь… знайте! Патриарх нынче патриаршу палату перестроил – горница с крыльца первая, холодные сени… вторая – теплые сени… В патриаршей палате на рундуках со ступенями лавки, полавочники – бархат зелен, четыре окна – на подоконках бархат золотной, – хватит вам на кунтуши!
– Оно бы ладно, да стрельцы там патриарши с секирами…
– Стрельцы до едина в разброде, дети боярские угнаны к государю в сеунчах говорить, патриарший боярин – и тот в отлучке, в патриарших хоромах двое: любимой патриарш дьякон Иван да келейник, а кой тот келейник – не доглядел я…
– И доглядывать его нече! Лишь бы на стрельцов не пасть…
– Я иду с вами, а пошто мне под беду голову клонить – сказываю правду, сказке моей верьте… стрелецкие дозоры от палат уведены, стрельцы все у ворот в Кремль. Слух шел, что болесть объявилась худая[52], так от лишних прохожих в Кремль ворота пасут… Попов караулы не держат – колико скажете: «Идем к патриарху чествовать былое новоселье!»
– В твоих грамотах чли, дьяче, о патриаршем новоселье, сытно едят попы, кои царю близки…
– Эй, молодший! Дай-кось еще кувшинчик в подспорье к вечере праведной!
– И еще пием, братие, за здравие дьяка государева-а!
– Тише с гласом своим!
– Имечко твое скажи, дьяче… чтоб… ну хоша ба за обедней помянуть…
– Имя рцы! Коли-ко вздернут на дыбу, то язык чтоб молыл правду-у!
– Струсили, попики?
– Нам чего терять? Спали под Спасским мостом, будем спать в тюрьме на полатях… голодно, да тепляе!
– На патриарха идти готовы… Никон – пес цепной! Попов малограмотных указует гнать взашей… венечные деньги давать-де епископам без утайки… утаил грош – правеж! – батоги по голенищам.
– Вдовых попов от службы в монастырь гонит – служить нельзя… И монаху из попов до семи годов служить не указует…
– Сами дошли, что идти к патриарху надо… чего боитесь? Бояре будут вам потатчики, многие злобятся на Никона… еще то – что заберете из его рухляди, тащите в стенные печуры, теи печуры, кои заделаны кирпичом, инде щелок варили, в иных кузнецы ковали, нынче они закинуты, а двери есть… те, что с севера…
– Вот то ладно! Не в ворота – в печурах разберемся, ино что припрячем.
– Когда идти, дьяче? Долго не тяни.
– Знак дам, выйду к Спасскому, колпак сниму да помолюсь на ворота, и вы годя мало за мной поодиночке, сбор на Ивановой.
– Добро!
– Вы в палате хозяйничайте, я же патриарши кельи пошарпаю.
– Щучий нос тину чует – там поди деньги?
– Деньги? Патриарша казна в патриаршей палате за рундуком, у алтаря в кованой скрине…
– Истинной ты, дьяче, грабежник!
– Веди со святыми биться.
– Я так не иду, пущай скажет имя!
– Да, имя, оно ты скажи!
– Имя Анкудим! Был купцом, утаил государев акциз, бит кнутом на Ивановой… именье в продаже на государя. Шибся в чернцы в Иверский-Святозерский. Сошел с чернцов, а нынче в дьяках сижу…
– Приказ именуй – приказ!
– В Посольском приказе[53]…
– Добро! Не страшно нам, коли такая парсуна идет с распопами.
– Только уговор – кроме нас, никому же слова об этом.
– Первый раз, что ли, по грабежу идем? Пьяницы мы, да язык на месте…
– Мы никому же послушны, на пытке бывали – молчали.
– Ну, братие, решеточные сторожа шевелятся.
– Ворота скрипят!
– Благослови, дьяче, расходимся и богоявления твоего ждем!
Подьячий пошел в сторону, подумав, вернулся:
– Калина поп!
– Чого?
– Вот те денег на топоришки…
– То ладно! Без топора не шарпать, едино что курей ловить!
– Чтоб под рясой прятать!
– Не учи, прощай!
Подговорив попов идти на патриарха, Тимошка в сумраке, осторожно сняв шапку, вошел в горницу дьяка Ивана Степанова, его покровителя. Дьяк был не у службы ни сегодня, ни завтра, а потому за обильным ужином с медами крепкими и романеей, без слуг, угощался единый. Тимошка истово двуперстно помолился на образа с зажженными лампадами, поклонился дьяку, круто ломая поясницу, не садился, шарил глазами. Дьяк тряхнул бородой:
– Садись, Петрушка! – и шутливо прибавил, делая торжественное лицо: – Нынче без мест!
Тимошка сел. Дьяк налил ему чару водки – пей, ешь, бери еду, коли честь и доверие от меня принял…
Тимошка, бормоча: «За здравие Ивана Степаныча, благодетеля, рачителя великого государя», выпил и закусил.
– Молвю тебе, Петрушка… Расторопен ты, грамотой я востер, ты же еще борзее меня, а худо за тобой есть – не домекну, кто ты? – Дьяк поднял волосатый палец с жуковиной, пьяно тараща глаза на Тимошку.
Тимошка выжидал, закусывая, подумал: «Я тебе Петрушка, так и ведать не надо больше…»
– Не-е домекну! – Дьяк, опустив палец, сжал кулак. – С тобой мои дела в приказе Большого дворца[54] расцвели аки вертоград кринный[55] и все же… зрю иной раз и вижу тебя схожего со скоморохом, у коего сегодня харя козья, а завтра медвежья… Ответствуй мне, пошто такое? Противу того и дела твои тьмою крыты…
– Не ведаю такого за собой, Иван Степаныч… и то скажу – трезвый обо мне слова не молышь, а в кураже завсегда сумленье…
Дьяк ударил по скатерти рыхлым кулаком, в желтом сумраке сверкнул перстень. Свечи нагорели в шандалах, заколебались, с одной упал нагар, стало светлее.
– Шныришь ты по делам, кои и ведать тебе не гоже! Мои подьячие сыскали грязное дело за тобой… и вот то дело: в пору, как с дозволенья моего помог ты в письме и чёте боярину дворцового разряда[56] хлебные статьи о послах расписать, а что вышло из сего дела – ведаешь?
– Подьячие твои, Иван Степаныч, от зависти на меня грызутся и поклепы, ведаю я, возводят.
– Годи мало! Те статьи многие в твоей суме под столом сыскались, иние же в каптургах упрятаны – пошто тебе тайные статьи? Пей, ешь да сказывай – я тебе едино что духовник.
– Дьяче! Иван Степаныч, благодетель… озорство оное ненароком сошлось – замарал, вишь, листы бумажные – бумага немецкая с водяными узорами – и думал не показать, как убытчил казну государеву! В том и вина моя… в тай мыслил скрыть рукописанье, сжечь и сжег…
– Да сжег ли? Такого берегчись надо! Инако за тайну государева столованья и посольского тебе висеть в пытошной, да и мне, того зри, стоять у допроса с пристрастием… Пасись, Петрушка! Ну, седни будет! Тебе ведомо и мне понятно, хоша сумнительно. Нынче давай пить, есть да, помоляся, почивать до иных дел… Еще скажу – не марай себя! Мне ты дорог знанием и старой верой пуще того… Никонианства, новин его не терплю! Как тебе, противу того и мне: отец наш праведной Аввакум – в его благодати будем обретаться.
Аминь!
Тимошка придвинулся к дьяку ближе:
– Чуй, благодетель, дай мне денег поболе…
– Пошто деньги?
– Дело истинное – святого учителя нашего по моленью у государя великой государыни Марии Ильинишны[57] из ссылки вертают…
– Hy-y?!
– Уж боярин Соковнин Прокопий[58] место устрояет ему на Кириллово в Кремль, привезут отца Аввакума, тощ он, скуден, великие муки претерпел в дальних Даурских странах[59]… ему потребны порты и брашно особое и суды тоже, не серебрены, конешно, а и то, на все деньги…
– Сума у Прокопья потолще нашей, но постереги и мне доведи, когда привезут учителя… ай то радость! А денег не дам! Постой, чуй вот што!
– Чую…
– Завтре я не у дел! В церковь чужую, опоганенную Никоном, идти не мыслю, в приказ тоже – пить буду, – ведомо тебе, бражничать на досуге люблю! – ты же за меня стань в приказе, в приказ купцы придут… и… дать должны на мое имя посул[60], ты тот посул от купцов прими, роспись им от имени моего дай… Вот те деньги приветить учителя! Сполни, да пущай купцы не скупятся, будет им та промыта в науку – не ставить падали на государеву поварню-у!
– Не поверят мне купцы, Иван Степаныч! Что им моя роспись без твоей, а тебя оповестить и долго и далеко…
– Али тебе мою жуковину дать? Перстень – орел двоеглавый с коруною, дар государев? Боюсь дать…
– Да раньше верил, и я печатал твоим перстнем, благодетель, пошто сегодня вера в меня пала?
– Сегодня весь ты чужой какой-то.
– То подьячие поклеп тебе навели.
– Оно так! А видали тебя робята на кабаке с попами крестцовскими, попы те все грабители, пьяницы! Не марай себя, Петрушка. Печатай купцам, бери перстень…
Тимошка, почтительно приняв перстень, с низким поклоном проводил дьяка, снова сел за ужин. Сидел он долго, будто наедался в дорогу, и думал: «Хорош, ладен странноприимец гулящих людей государев дьяк Иван! Только, Тимошка, знай край, не падай – сгореть в этом доме, едино что от огня, легко… Ну, а ты завтра кончи… Перво – с купцов деньги получи и рукописанье им на помин души припечатай… Жуковина дьячья с коруною и впредь гожа… Другое дело – попов поднять… У патриарха узорочья бездна – не зевай только! Третье – путь тебе, Тимошка, вон от Москвы…» Выпил переварного меду с патокой крепкого, отдышался и прошептал вставая:
– В дому твоем, богобойный дьяк, заскучал я… Табаку у тебя пить не можно и опасно!
Обновленная Никоном патриарша крестовая палата обширна, как и дела в ней – патриарши, нынче и государевы. Когда идут церковные сговоры, тогда на Ивановой колокольне звонят для зову протопопов и игуменов, тот звон церковники издалека чуют, спешат не опоздать. У патриаршей палаты проход в келье завешен персидским ковром. В переднем правом углу палаты иконостас с иконами греческого письма, близ его резное кресло патриарха с подушкой сиденья из золотного бархата, с ковровым подножием. В первых от крыльца палаты, холодных сенях у дверей стрельцы с батогами, – сегодня их нет, сняты к воротам в Кремль. Во вторых, теплых сенях на лавках, обитых зеленым сукном, – всегда патриарший любимец дьякон Иван. Только в сей день, учредив в полном порядке патриарший стол питием и брашном, Иван благословился у патриарха пойти в монастырь к Троице Сергия. В полном доверье у Ивана Шушерина оставлен в патриарших сенях Сенька, стрелецкий сын, взятый Никоном из Иверского-Святозерского, бывший колодник. Слуг у патриарха довольно[61], одних детей патриарших боярских[62] с двадцать наберется, бывает и больше. Патриарх, негодуя на расстройство в делах государевых, разослал боярина патриаршего Бориса Нелединского и детей боярских с указами – кого к воеводам, кого к губным старостам[63], к кабацким головам и попам, нерадиво кинувшим церкви без пенья. Сам он всегда при делах и хлопотах, чтоб не навлечь на себя попрека от царя и с честью государить, а нынче приспешал. Слухи один хуже другого – то об одном родовитом боярине, то о другом: «готовят-де тебе, великий государь патриарх, лихо», разозлили и утомили его, а пуще и злее всякого зла – собралась малая боярская дума опрично патриарха с Морозовым, Милославским, Салтыковым[64] и другими, решено было той думой, «что патриарх-де уложение государево лает[65]». Сегодня патриарх решил пировать, а порешив, указал на сенях его келейнику и постельнику Сеньке:
– Не принимать! Ни боярина, ни игумена, тож и протопопа.
В большой хлебенной келье, за палатой с иконостасом, с софами, обитыми шелком, для послеобеденной дремы, с поставцами из золотых и серебряных суден – ендовых и кратеров с рукомойником и кадью медной в углу за ширмой штофной – на тот грех, ежели гостя какого нутром проймет. Сегодня у Никона «собинные» гости – боярин Никита Зюзин[66] с боярыней своей Меланьей. Перед ними гордый патриарх, грозный не только епископам, но и боярам, лишь смиренный инок и хлебосольный хозяин. Никон выпил три ковша малинового крепкого меду, но он едва в легком хмеле. Боярин Никита пил те же три ковша, прибавляя к ним чару ренского, а стал развязен и огруз. Боярин бородат, сутуловат, широк костью, ростом он в плечо патриарху.
Боярыня Меланья пила лишь романею чаркой малой. Ей было весело и хорошо. Против обычного, она чаще смеялась, да казаться стало, что кика с малым очельем в диамантах застит ее большие светлые глаза. Боярыня кику все чаще подымает холеной рукой в перстнях так высоко, что уж волосы как огонь начали гореть под кикой, чего замужней боярыне казать мужчинам нельзя, правда, чужих тут нет – муж и ее наставник. Грудь тоже стала вздрагивать под шелковой распашницей, да сквозь наносный легкий румянец проступил на убеленном лице свой, яркий… Никон, сдвинув к локтям рукава бархатного червчатого кафтана, гладил левой рукой пышную бороду, отливающую темным атласом. При блеске многих пылавших лампад и свечей в серебряных шандалах глаза его особенно искрились. Внутренние ставни двух окон были закрыты наглухо, и день не казался днем. На голове Никона, как говорили ревнители старины, срамной греческий клобук с деисусом[67], шитый жемчугом, с бриллиантовым малым крестом. Пиршество учреждено с рыбными яствами, хозяин и гости едят руками, кости кидают в мису под столом. Половину патриарша стола занял пирог сахарный, видом орел двоеглавый, в лапах орла – обсахаренный виноград с вишенью. Боярин много раз пытался говорить, наконец, тряхнув мохнатой головой, выкрикнул:
– Дру-у-г, благодетель, великий господин патриарх, не осердись на молвь мою!
– Сердца моего нет на тебя, боярин Никита! Сказывай! Все приму.
– Чаю я, великий господине, от того дела, что учинил летось нелюбье многое… иконы фряжского письма поколол и в землю изрыл… то пошло сие в глазах всего народа… чернь, господине, буйна и дика…
– Боярин Никита, друг мой, вина наряжай сам, потчуй себя и жену и говори – внемлю.
– Пью за здоровье, за долгое стояние за церковь и государство друга моего великого государя патриарха всея Рус-си-и-и, во-о-т!
– Пью я за твое здоровье, боярин! За работу твою на известковых копях, за соляные варницы, кои от сего дня дарю тебе! И ты, дочь моя духовная, Меланья, краса, пей, не ищи поклонов хозяина… А ну, боярин, еще раз – сказывай!
– За подарки такие поклон тебе до земли, великий друг, богомолец… И то неладно, господине, что слуги твои худородные с шумством и гомоном доселе ходят по горницам родовитых бояр, рвут с божниц, со стен тоже, от твоего имени парсуны и новописаные иконы…
Никон грозно сверкнул глазами, сдвинув брови.
– Про иконы, боярин Никита, молчи!
– Ох, великий патриарх, друг мой! Вот ведь какой я пес – то язык блудит, даришь ты мне, а я мелю прежнее, иконы фряжские, парсуны – тьфу им!
– Про иконы ответят за меня тебе, боярин Никита, сам святой Симеон Метафраст[68] и Дамаскин Иоанн[69]…
Никон, чтоб потушить злой блеск в глазах, сжал рукой бороду, нагнул голову и, налив меду полковша, не переводя дух, выпил. Боярыня испугалась лица патриаршего, оно стало мрачным. Привстав за столом, сказала, трогая рукой кику и кланяясь:
– Учитель светлый! Боится господин мой, боярин Никита, за тебя! Ведь родовитые бояре сильны, своевольны, инде сам великий государь Алексей Михайлович трудно справляется, а ну как они от злобы из-за икон на тебя черной народ поднимут? И, не к ночи будь сказано, убойцов на голову твою светлую наведут… боярам не впервые ведаться с гулящими людьми корысти ради да вершить лихие дела… Мы, сироты, ужасны за твое богомолье…
– Во-о-т! С тем и жену мою на пиры твои, великий господине, волоку… друг мой! Ведает она, о чем я скорблю душевно, и радуется дарам твоим и… еще пью за долголетие друга патриарха! А все же скажу… уложение государево тобой, великий патриарх, попрано… на том стоят бояре, и то будут они поклепом клепать великому госуда-а-рю-у Алексию!.. И еще спасибо на подарке…
– Перестань, боярин Никита, – осадила мужа боярыня.
– Умо-лка-ю! Пью за долголетие друга!
Патриарх ласково погладил по спине боярыню… Потом сам с собой, но громко, будто кого убеждая, заговорил:
– Долголетие мое едино что лихолетие. Бояр не боюсь, всех потопчу! – Он примолк, наливая снова в ковш меду, потом продолжал: – Иных изрину от церкви! Все в моей власти, покуда заедино со мной правит великий государь…
Боярин поднял над столом непослушную голову, сидя, он коротко вздремнул, но слух его сквозь пьяный угар ловил голос патриарха.
– Друг ты мой собинный! А как отступится от тебя великий государь? Тогда, что тогда? А, во-о-т! Псы цепные видом Сеньки Стрешнева[70] да лисы старой государева дядьки Бориса сглодают… Сглонут тебя! Во-о-т!
Не обращаясь к захмелевшему боярину, Никон говорил, как бы убеждая кого-то: боярыню он не считал знающей людские дела:
– Государь вкупе с врагами моими, боярами, клялся в соборе, когда шел я на стол патриарший – все клялись быть в моей воле! Так ужели венценосец, помазанник на царство, государь, презрит клятву над крестом честным? Да, я не почитаю уложение, ибо оно не государево, а боярско-холопское. Едино лишь в писании и утверждении его попы были дураки, а бояре завсегда хитрость лисицы и жадность волка имут. По уложению тому хотят вязать нас без суда духовного, нет, не бывать тому! Церковь из веков выше царей… Церковь пошла от святых апостол, и я, патриарх, не мир вам несу – меч!
Боярыня перестала пить. Поглядывая на грозное лицо патриарха, она прислушивалась. Ей послышалось – прошли шаги за дверью и повернули вспять. Сказала:
– Учитель мой светлый, кто-то бродит за дверью.
Никон тяжело поднялся, умыл руки в углу, поливая из серебряного стенного рукомойника, утер их рушником, тут же с полки, завешенной тафтой красной, взял гребень, расчесал бороду и, повернувшись к иконам в угол, перекрестился широко троеперстно, потом подошел и отворил дверь. За дверью стоял Сенька в новом кафтане скарлатном алом, он молча низко поклонился.
– Тебе, парень, не надобно быть тут… Не зван ты…
– Святейший патриарх! Два боярина в холодных сенях ждут давно и гневаются на меня… я и не смею без зова, да не стерпел – один боярин лает смрадно!
– Указано всем на сей день меня не видеть! Пущай их изрытают лай.
– Лезут, сказывает один – дело не мешкотное, указ от великого государя из Смоленска.[71]
Никон тряхнул головой, засверкал бриллиант на вершке клобука:
– Скоро дай мантию, панагию и посох!
Сенька быстро прошел в ризничную, вернулся, стал облачать патриарха. Обыденно. Хотел снять кафтан, патриарх указал:
– Надень мантию на кафтан! В палате прохладно.
Сенька, облачив патриарха, подал ему на блюде золоченом панагию, потом рогатый посох черного дерева с жемчугами и серебром в узорах по древку.
– Зови бояр! Введешь, пройди сюда к гостям, прибери стол, как Иван делает, налей из кратеров в ендовы меду – исполни все с вежеством и безмолвием.
Сенька в ответ также поклонился, патриарх торжественно вошел в крестовую, сел на свое кресло. Два боярина в распахнутых кармазинных ферязях, под ферязями кафтаны золотного атласа, оба вошедших в горлатных шапках, стуча посохами, шли неспешно по сеням, войдя в палату, сняли шапки, стали молиться, держа в левой руке посох и шапку. Один вошел по ступеням рундука, сел на лавку, надев шапку, он оперся на посох и, не глядя на патриарха, глядел в пол. Другой, не надевая шапки, подошел, говоря: «Благослови, владыка святый», и нагнул рыжеватую голову.
Патриарх, встав, благословил его. Сел и молча ждал. Рыжеватый надел шапку, вошел по рундуку, поместился на лавке рядом с первым, молчаливым боярином. Молчал патриарх, оба боярина тоже. Наконец, сдвинув брови и тыча в пол рогатым посохом, Никон заговорил:
– Все ложь! Сказывали – дело неотложное, так пошто же язык ваш нем, бояре?.. Кому благословенье патриарше непотребно, тому уготовано будет отлучение церковное… оно любяе и ближе…
Тогда благословленный боярин сошел с лавки, встал перед патриархом, сказал ласково:
– Не до чинов нынче, великий государь святейший патриарх! Пришли мы наспех с боярином Семеном Лукьянычем говорить тебе о деле важном, да узрели иное: пришли-де не вовремя. Ждали долго в холодных сенях… оттого и мысли не увязны и язык нем…
– В чем, боярин, нужа ваша?
– Ведомо ли святейшему, что в Коломне солдаты, кои вербуются на войну, и датошные люди шалят?
– Туда посланы нами стрельцы и дети боярские, и сыщики…
– Добро! А ведомо ли государю патриарху, что в той же Коломне да и на Москве в слободах, там инде объявилась невиданная болезнь?
– И то нам ведомо, боярин! За грехи ваши, бояре, за безбожие многое, растущее день от дни, идет на вас кара божия… Вот он, – патриарх поднял посох в сторону угрюмо сидевшего боярина, – боярин Семен Стрешнев! Патриарх для него не патриарх – поп черной, и худче того. Ведомо мне, что чинит он в дому своем.
Угрюмый боярин неторопливо встал, не сходя с рундука, заговорил звонким, отрывочным говором:
– А ты, ты, святейший патриарх? Чтишь ли нас, сородичей государевых? Не обида ли то, что держишь нас, бояр, в холодных сенях со своими холопами, не считая часов?.. Не ты ли срываешь парсуны в наших хоромах? Не ты ли указуешь нам меру мерити чиноначалие?
– Властью, данной от Бога и великого государя, изметаю я латинщину и кальвинщину в домах ваших, сие, аки короста и парш смрадный, идет на Русь православную! Через вас идет сей разврат…
– Оберегатель, ревнитель старины недреманный, так пошто же избил и избиваешь ты Аввакума, Павла Коломенского[72] и иных? Пошто потрясаешь жезлом против восстающих на новопечатные книги и троеперстное сложение знаменующих крест перстов?
– Не крест знаменуют персты – Троицу, боярин Семен! Не за старину ополчился я на худых попов – за невежество их гнету! Вы же басурманскими новшествами гоните заветы и презрите законы святых отец… С ними не удержитесь, ибо издревле сказано: «А которая земля переставливает порядки свои, и та земля не долго стоит». Вы что же деете? Боярин Борис Иванович вознес на божницу образ Спасителя в терновом венце, письмо фрязина Гвидона[73], списанное боярскими иконниками, и тот образ не образ – латинщина[74] суща. Вот он, боярин Прокопий, сын Соковнин, укрыватель раскольщиков, не таясь, с похвальбой весит в хоромах своих распятие господне немчина Голя-Бейна[75] и его Иисуса в гробу простерта, и то есть кальвинщина[76]. Христос – Бог, у него же, Бейна, Христос – гнусный мертвец, и распятие его таково же. Таких кунштов я не терплю, бояре! Такое и подобно сему измету, яко сор и падаль!
– А ну, господин святейший патриарх! Не прати о вере пришел я, пригнан от Смоленска послом великого государя к тебе с повелением: «Еже объявится на Москве худая какая болесть липкая к людям, то тебе бы, патриарху и градоправителю, пекчись крепко о государевом семействе, от лиха опасти немешкотно!» Мне же укажи, што отвечать на тот спрос к тебе великого государя?
– Великий государь, царь всея великие и белые и малые Русии, самодержец Алексей Михайлович пущай положится на меня, друга своего собинного, надеется на попечение мое о роде государевом и не опасается.
– Прощай, патриарх! Уезжаю, гневись или милуй, но и теперь в бытность мою на войне воеводой не благословлюсь!
Боярин сошел с рундука, Никон сказал:
– Тому, кто не верит в чины святительские, благословение творить впусте.
Рыжеватый боярин Прокопий Соковнин поясно поклонился патриарху, спросил с хитрой лаской в голосе:
– Что замыслил, великий государь патриарх, о наносной болести и того ради што укажешь орудовати?
– Сегодня, боярин, что замыслил я, пошто знать? Завтра ведомо да будет всем!
Патриарх встал. Бояре ушли. Патриарх стоял на подножии своего кресла. Он проводил глазами бояр до выходных холодных дверей и был доволен, что спесивцев, государевых ближних, никто не провожает. Они сами отворили и затворили тяжелые двери на крыльцо:
– Служите себе, как я иной раз сам себе служу, сие ведет к смирению…
Патриарх сел в свое кресло – тишина и одиночество, в котором он пребывал редко, делали приятной минуту, он ничего не думал. Но вот в голове его против воли ожили, прозвучали слова его друга боярина Зюзина: «Тогда псы цепные видом Сеньки Стрешнева».
– Да! На войне такие нынче владеют помыслами царя пугливого, ревнивого к своей власти… Ну, я попробую избыть ворогов!
Бояре, затворив дверь, сходили неспешно с крыльца патриаршей палаты, они не оглядывались, зная, что никто за ними не следит. Стрешнев сказал:
– Мордовское отродье, смерд! Влез в глаза и уши государевы лестью… опоил будто отравой сладкоглаголанием о божестве, и царь возлюбил его в простоте души. Он же, Никита Минич[77], возлюбил выше царской власти свою власть – ковать, вязать, судить и миловать, будто природный грозный государь! С этой дороги он свернуть не мыслит, ежели ему оглобли не изломят…
– Крепок он, Семен Лукьяныч, на своем столе! Великий государь, сказывать не надо, утонул в ем, в его велегласном благолепии… У государя денег и на войну недочет, он же на монастыри стройку берет, а своих доходов девать некуда… И ты бы, боярин, поопасился споровать с ним ясно, злить его…
– Ништо! Мы с Борисом Иванычем да Салтыковыми ему оглобельки подсечем – на ухабе тряхнет Никонов возок под гору!
– Эх, и ладно бы! Зри, боярин, сколь попов по Кремлю бродит с нищими, и те попы все с «крестца».
– Впервой, что ли, видишь, боярин? Царевны ежедень тунеядцев кличут наверх…
Никон позвонил в колоколец серебряный, висящий сбоку иконостаса. Из кельи вышел Сенька.
– Семен! Запри двери на крыльцо и сени и будь там.
Сенька помог патриарху подняться с кресла, поддержал, но входная дверь отворилась, в первые сени вошел боярин.
Патриарх сказал:
– Прими боярина… Этот надобен мне!
Сенька встретил боярина в теплых сенях, принял от него посох и шапку.
Вошедший боярин сановит, стар, высок ростом и толстобрюх. Одет в охабень зеленого бархата, на полях охабень низан жемчугом бурмицким. Под охабнем, распахнутым широко, с закинутыми за спину длинными рукавами, виднелся кафтан зербарфный[78] с голубыми травами. По кафтану кушак алый с кручеными кистями, на концах кистей искрились яхонтики малые. Боярин помолился на иконостас, опустился земно, а когда нагнулся, чтоб лечь ничком, под охабнем у него будто что лопнуло и запищало длительно. Сенька, держа посох и боярскую шапку, помог боярину встать на ноги. Широко крестясь, старик подошел к патриарху под благословение. Никон стоя благословил и сел, сказав:
– Садись, боярин, на скамью близ…
Боярин сел на почетную скамью, предназначенную для иностранных послов.
– В добром ли здоровье живет боярин Артемей Степанович?
– Благодарствую, государь великий патриарх! По богомолению твоему жив и бодрствую!
– Не впусте звал тебя, боярин! Жду давно, и гость ты желанный.
– Благодарствую, святейший патриарх!
– Внимай, боярин, Артемей Степанович, и верь мне!
На лице боярина отразилось почтительное внимание, он сказал:
– Внемлю, господине!
– День-два, много три, помешкаю и уеду с государевым семейством. Людно в городе, и не дале как вчера призывал я к себе немчинов дохтуров и лекарей, пытал их о болезни, кая объявилась в людях нынче. Довели мне те дохтуры такое: «чтоб люди, у коих объявится та болезнь, призывали бы в дом свой не одного лишь попа с церковной требой, а пуще искали бы лекаря и слушались того… в одной бы хате с больным не жили, и ежели больной умрет, рухлядь его сжигали бы». Так вот, уезжая, тебе, боярин Артемей Степанович, оставляю я оберегать город и слободы[79], и первое дело – пустить бирючей кликать по площадям то, что довели дохтуры и лекари… Еще от себя заповедую тебе, чтоб всяк человек – тяглой ли, посадской, или дворянин и боярин – крыс, мышей убивали, ибо эта тварь жадна к мясному, она будет поедать смрадных мертвых, а оттуда и хлеб в домах, муку и харч… От той поганой, гнусной твари, мыслю я, беда, аки огнь злопышущий!
Боярин опустил на руки и посох седую голову, сказал, не подымая глаз на патриарха:
– Великий патриарх! Из веку наши люди упрямы… Чаю я, все они примут за наказание господне, а против божьего наказания и перстом не двинут…
Никон, как бы не слыша боярина, продолжал, в голосе его звучала торжественность:
– Благословляю тебя, боярин Артемей Степанович Волынской, на всякую брань за порядок! Во имя Отца и Сына и Духа Свята… Избери себе помощников бояр, тех, кои не будут котораться, считаться с тобой родовитостью! Беда идет не на одного человека, беда идет на всех нас, не разбирая ни боярина, ни смерда… Ополчитесь дружно против нее… Завтра дам тебе грамоту на градоправство и о том объявлю через бирючей всенародно!
– Для чести такой, святейший патриарх, стар я, но умолкаю перед твоей святительской десницей и делу всенародному готов служить!
– Спасибо тебе, боярин! Не за одно ко мне благорасположение, а и за народное благо… Укажи еще, Артемей Степанович, чтоб нищих и юродов разогнать от церквей приставам без всякой милости… Смрадны они и не Бога для рубища и раны свои показуют, а волю алчную свою творят!
Боярин, так же не глядя на патриарха, еще ниже склонил голову на посох, заговорил:
– Великий патриарх святейший! Ведомо тебе и всем из старины дальной, что нищие у государыни царицы и царевен, а также у боярских боярынь вверху живут, и там наша власть досягнуть не может…
– Я уж о том не раз докучал государыне царице Марии Ильинишне, и за то она на меня гневна и еще гневна, когда я гнал от нее сверху отца раскольщиков Аввакума, но гнева не страшусь, ибо утишу его через великого государя, а нищих гнать буду! Вот слушай, боярин.
Патриарх выдвинул из широкого резного кресла, из ручки его, малозаметный ящик, куда складывались им все челобитные, также поклепы друг на друга церковников. Никон развернул длинный свиток:
– Доводят мне епископы многих градов, протопопы и попы: «Во время служб по церкви бегают шпыни человек по десяти и больше с пеленами на блюдах, собирают на церковь, являются малоумными. В церкви смута, брань, визг и писк и лай смрадный, драка до крови, ибо многие приносят с собой палки с наконечниками». Иные, боярин, пишут так: «По улицам бродят нищие, притворные воры, прося под окнами милостыни, примечают, кто как живет, чтоб, когда тому время, лучше обкрасть. Малых ребят крадут. Руки, ноги им ломают и на улицах их кладут деля умиления человеков».
– Прости меня, великий патриарх, но и ты нищих кормил в своих палатах и питием и одеждой их благотворил же.
– Прошло тому время, боярин! Душой я иной раз кривлю – дею так, ради преданий древних, до меня делали сие великие иереи, а нынче в церквах все иконы с юродами я сорву и пожгу! Кривлю душой – уложение государево иной раз в монастырях толкую монахам и старцам, указуя в нем статьи, сам я не чту сего уложения государевым.
– Нелюбье государево и гнев по сему делу неминуем тебе будет, великий господине патриарх!
– Не убоюсь гнева того!
– Спаси тебя Господь!
– И еще, боярин, укажи стрелецким головам, пятидесятникам тож, худых попов со Спасского крестца разогнать, знамен им отныне не давать, в домы служить не пущать – те попы, как крысы, с больных улиц понесут гниль в хоромы. Кои непослушны будут указу – брать повели на съезжую[80] и рассылать с приставы по отчинам их!
Боярин поднял голову, взглянул на патриарха и крепче налег на посох:
– Ох, великий господине патриарх! Многотрудное, чаю я, и неисполнимое дело сие… Попы крестцовские из веков гонимы, но они никому не послушны, сила их в черни народной, чернь стоит за них и посадской народ тьма-тем, все за попов… быть оттого смятенью!
– Боярин Артемей Степанович! Беда идет великая, огребаться от той беды надо всякими мерами сильными, опричными иных времен, или погибнет весь народ!
– Что за болезнь пришла на нас, святейший владыко?
– Черная смерть, боярин! Тело человеков кроется в един день волдырями синими, гнойными, тот человек, аки в огне, сгорает вкратце…
– Спаси, Господь!
– Господь не воинствует, он лишь направляет дела людей… Укажу еще, если явного бунта не будет: народу, чтоб к чудотворным иконам и мощам в болезни не течь! Больные зачнут марать гноем те чудотворные пелены и болеть пуще… и вера у многих оттого падет!
Боярин, уронив посох, зажал руками уши:
– Святейший патриарх, что слышу я?! Ты против божественного чуда?
– Не против, боярин! Против смрада я и невежества человеков воинствую… Теперь отпущаю тебя, боярин, на брань с невежеством! Нынче скоро служба всенощная у государыни царицы на сенях, и я зван к тому.
Боярин встал, подошел к руке, поцеловал руку патриарха. Никон ответил ему целованием в голову и широко перекрестил. Вслед боярину патриарх приказал Сеньке:
– Проводи боярина до возка!
Боярин приостановился:
– У меня, святейший патриарх, возок на полозьях летних, в запятах и переду есть люди – самому тебе потребно беречься, слуга один, пусть будет в хоромах.
– Ништо нам! Да чуй, боярин, – ворота в Кремль укажи затворить все, опричь Боровицких.
– То будет исполнено, господине!
Сенька, поддерживая боярина, свел его с высокого крыльца. Боярина подхватили его люди. Когда сажали в возок, он снова пискнул низом живота и громко сказал:
– Ох, Господи!
Старика укутали от сырой погоды плотными тканями. Тройка белых, сереющих в сумраке коней подхватила и унесла возок. Сенька коротко глянул вслед и повернулся уходить. Из мокрой полутьмы кто-то шагнул к нему. Этот кто-то, в армяке, шайке шлыком – признак не простого рода, – бородатый, с длинными кудрями, сказал:
– Брат Семен!
У Сеньки дрогнуло внутри, голос напомнил Таисия – Тимошку, учителя из Иверского монастыря. Воспоминание странно очаровало. Сенька, поднимаясь на крыльцо, глядел на идущего сбоку, не узнавал лица:
– Ты ли, брат Таисий?
– Видом не тот – делами он, Таисий… Ой, грех, брат Семен! Стал ты саянником – сарафанником бабьим… Уговор забыл?
– Какой?
– Быть в миру заедино!
– Меня тогда монахи заковали… Патриарх призвал, расковал, дал я слово служить ему, сколь сил хватит.
Сенька не остерегался и не оглядывался, но слышал, как трещит от многих шагов лестница. Тимошка колдовал над ним воспоминаниями, он чувствовал свою власть над Сенькой, подымаясь вместе с ним в патриаршу палату, попрекал:
– Сатане в зубы пошел мой труд! Никону довел на себя и старцов иверских про пожар и цату богородичну напрасно. Тебя лишь не марал, а ты, чую я, ушел от меня навсегда?..
– Знай и ты, Таисий! Меня за твои дела ковали… причислили к святотатцам, смерть предрекали…
Когда Сенька вошел в сени, сел на лавку с Таисием, тогда опомнился – он увидел, что следом за ним вошел огромного роста поп в кропаной рясе, с большим медным крестом на груди, за первым влезли еще два попа, таких же полупьяных и оборванных.
– Не входи! – крикнул Сенька, вскочив на ноги.
Первый поп нагло ответил:
– Ого, миляк! Дал шубу, скидай и армяк.
Не своим и злым голосом Сенька сказал:
– Побью, как псов!
Тимошка, боясь, что попы испортят ему ловко начатое дело, крикнул:
– Подождите входить!
– Пошто, Таисий, навел бродяг?!
– Брат Семен! Чуй, пришли мы…
Большой поп не выждал конца Тимошкиной речи, выхватил из-под рясы топор. Кончая речь Тимошки, заорал:
– С благословением отчим! – и шагнул вперед.
Когда сверкнул топор, Сенька кинулся к попу так быстро, что минуту видеть ничего нельзя было: сверкнул топор, мелькнули кулаки, поп упал навзничь, ударился головой в стену палаты, перевалился на колени, уронив топор, Сенька нагнулся быстро, еще сверкнул топор последний раз. Сенька обухом ударил попа в голову – у него вывалились оба глаза, повисли на кровяном лице, и поп распластался на полу обезображенным лицом вниз. Сенька оглянулся. Тимошки в сенях не было, в щели дверей мелькнула ряса одного из попов, а тот, третий поп, что остался, ползал на коленях по полу и, воздев вверх руки, восклицал:
– Не убий! Не убий!
Из теплых сеней неспешно раскрылась дверь. Никон в полном облачении стоял на пороге. Крыльцо патриаршей палаты содрогалось, с грохотом вниз волоклись ноги – будто обвал камней с утеса.
– Отец! Святейший! Грабить пришли – мой грех – убил!
Сенька уронил топор. Поп на коленях взывал к Никону:
– Святый отче! Кто почему, а я нищ, за милостыней! Ты щедроимец, праведный наш!
Сенька одной рукой встряхнул попа, как ветошь. У попа из-под рясы вывалились крест медный на порванной ржавой цепи и топор:
– Вор тоже!
Патриарх сказал:
– Подойди ко мне, Семен!
Сенька подошел. Никон поцеловал его в голову, сказал еще:
– Заметом закрой сени… У иконостаса палаты, где колоколец, возьми ключ, отопри на северной стене дверь, вернись и забери этого попа, сойди с ним в подклет, сдай палачу Тараску… Я изыду к службе постельным крыльцом в государев верх, в переходах прикажу стрельцам дать к крыльцу палаты караул. Падаль в поповском платье, битую тобой, кинь за крыльцо. Вернись в хлебенную келью к столу, уложи боярина опочивать – я чай, упился он? Усни, меня не жди! Диакон Иван поздает, будет к утрене…
Патриарх, не входя в холодные сени, повернулся, ушел в Крестовую палату.
В хлебенной от храпа боярина мигали свечи в шандалах. Голова его была на кресле, а ноги под столом. Сенька погасил свечи, оставив гореть один неяркий масляный шандал. Тяжелого боярина в расстегнутых малиновых портках, шитых по швам до голенищ жемчугом, он перенес на софу, положил навзничь. Не снимая с боярина ни сапог, ни кафтана, оставил. Погасил лампады у образов, боясь пожога. Боярин лежа засвистел, заулюлюкал, как на охоте по зайцу, сжал кулаки и, раскинув руки, ноги, потянулся так, что захрустели кости. Сенька, уходя из кельи, подумал: «Все едино, что на дыбу вздет!..» У себя Сенька разделся до гола тела, поправил заскочивший за спину материн серебряный крест и, хотя не верил после Тимошкиных сказок ни в кресты, ни в иконы, крест с ворота не бросал. Раздеваться и мыться на ночь обучил патриарх, когда оглядывал его тело, чтоб в дом патриарший болезнь какая не попала. Патриарх нашел, что Сенька добролик, а телом могуч и чист, но мыться на ночь благословил и тело его в грудях помазал церковным маслом… В углу из медного рукомойника умыл лицо, руки, грудь. Крепко утерся рушником, надел чистую хамовую рубаху, длинную, почти до пят, подошел к иконе, поправил огонь большой лампады, отошел, не крестясь. Крестился он и поклоны отбивал только для виду. Чтоб лучше слышать приход патриарха и помочь ему в ложнице, дверь кельи своей не запирал. Ложась, подумал о Тимошке: «Для ради денег на грабежи пошел… а я вот убивец!» Руки были вымыты, но Сенька оглядел их, ждал шагов, слушал. Уснул неожиданно, будто с горы упал в мягкую тьму. Спал без снов, долго ли, коротко – не знал. Потом приснилось страшное и соблазнительное, из сна объявилось явью.
К постели его в темном армяке, в кике с адамантами пришла женка, двинув грудью, плечами, уронила армяк, сняла кику и опустила туда же на пол. Упали длинные, лисые волосы, засверкали будто огонь… тело нагое до блеска гладкое. Села к нему на постелю, сказала:
– Ты спишь, холоп?
Сенька в удивлении подвинулся и приподнялся вверх на подушках, ответил тихо:
– Сын стрелецкой… не холоп я…
– Едино, кто ты… уснуть не могу – горю вся… боярин хмелен и мертв до утра, употчевала его – хи! не сплю, маюсь, пожар во мне – полюби, усну тогда…
Сенька тронул себя по лицу, потом погладил ее нагое плечо, отдернул руку, подумал: «Не сплю?»
– Патриарх… страшусь его слова…
– Учитель мой? Он-то страшен тебе?
– Да… едино, что отец мой!
– Так знай же. Я… вольна над патриархом! Внимай: если укажу, поклеплю на тебя – любил меня, сильно взял, а ты и не любил вовсе… и я за позор попрошу у него твою голову, святейший сам подаст мне голову, как захочу, – в руках или на блюде – вот!
– Угрожаешь? Я смерти не боюсь…
– Пошто некаешь? Я хочу так! Знаешь – патриарх вверху, палач внизу… чего ты хочешь – смерти или любви?
– Тебя боюсь!
– Я хмельна, но лепа! А ты? Тебя приметила в палате за столом, в послугах…
Она медленно, но упрямо склонилась на его изголовье и легла поверх одеяла.
– Ты боязливой, богобойной?
– Не…
– Чего бояться? Нас двое – боярину мал чет…
– Прельстишь, уйдешь навек, и гнев патриарха… в его палатах блуд…
– Я за тебя… Прельстишь? Хи-хи-хи… бояться не надо!
Сенька хотел говорить, она не дала, целовала его, как огнем жгла губы, глаза, щеки… «Беда ежели, то к Тимошке и заедино с ним!» Ни во сне, ни наяву таких женок Сенька не видал и будто опьянел – забыл себя, патриарха, даже ее всю не видал, видел только большие глаза, слышал ее вздохи, похожие на плач.
Она крепко спала, вытянувшись на его постели… голая рука с пальцами в перстнях висела с подушки. Сенька, положив голову к ее голове, у кровати на коленях стоя, будто в хмельном сне спал, ворот его рубахи распахнулся, оголилось могучее плечо, и рука в белом рукаве лежала на ее груди, другая была глубоко всунута под подушки. Губы их не прикасались, но волосы его спутались с ее волосами.
В сумраке желтеющем и трепетном, в золотой фелони, сияющей яхонтами голубыми и алыми, стоял над кроватью, слегка сгорбившись, патриарх. Желтело лицо, поблескивала пышная борода, под хмурыми бровями глаз не было видно. Он не вздрогнул, не заговорил, только подумал: «Окаянство твое, Ева, от змия древлего…» У лампады нагорел фитиль, нагар упал, лампада слегка вспыхнула – по волосам сонной боярыни засверкали огненные брызги… Тогда патриарх шагнул к образу, на полу ногой толкнул кику: «Брошена! Власы срамно обнажены», – и вскользь подумал о палаче… Взглянул на лик темный черного образа, занес руку перекреститься, но пальцы сжались в кулак. Никон дунул, потушил лампаду.
Патриарх, когда Сенька с дьяконом Иваном облачили его в торжественные одежды, вышел в палату, сел на свое патриаршее место:
– Иди, Иване, в сени, а тот, – указал на Сеньку, – останется для спросу… Уезжаю, надобно малоумного поучить.
Иван дьякон, положив перед патриаршим местом орлец, чтоб, когда встанет для благословения патриарх, то было бы по чину, благословился и вышел, плотно затворив дубовые двери в палату. Патриарх сидел, опустив голову, пока не вышел дьякон, теперь же поднял, погладил привычно бороду сверху вниз, взглянул на Сеньку сурово, тихо, но голосом недобрым заговорил:
– Поп, кой дан был тобой палачу, на дыбе сказал… – Патриарх, держа посох в левой руке, правой из ручки кресла, из ящика, вынул желтый листок, запятнанный кровавыми пальцами, читал негромко: – «А тот парень, что убил распопу нашего вора Калину, с грабежником подьячим, кой вел нас и был в атаманах, – в патриаршей палате в сенях, первых с крыльца, сидел на лавке и ласково говорил с им… и помекнул я, подумал собой, что они с атаманом нашим приятство ведут, и, може, тот патриарший служка наводчик сущий. Пошто тот парень Калину убил и нас не пущал, того не вем. А сказался тот подьячий, кой был у нас в атаманах, – Иверского монастыря беглой чернец… имя свое нам проглаголал на сговоре, кое было на царевом кабаке на Балчуге, а сказал: “Зовусь-де Анкудимом, грамотой-де вострой гораздо и нынче сижу Посольского приказу в дьяках…” Писал сие, снятый с дыбы, без лома костей и ребер, привожженный к огню и допрошенный с пристрастием безместной поп Данило с Ильинского крестца своею рукой. Показую все истинно, положа руку на крест святый». Чернец Анкудим ведом мне – не раз приносил из Святозерского челобитные… Хром, мало горбат и стар – не он был!