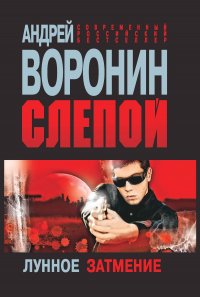Читать онлайн Спецназовец. Взгляд снайпера бесплатно
- Все книги автора: Андрей Воронин
© Подготовка и оформление Харвест, 2011
Глава 1
Майская ночь гремела и щелкала соловьиными трелями, которые волнами наплывали из темных приречных кустов за забором вместе с густым, кружащим голову ароматом цветущей сирени. Где-то далеко, за лесистым северо-западным горизонтом, вспыхивали и гасли, временами сливаясь в дрожащее бледное зарево, голубоватые зарницы. Там бушевала гроза, но здесь мягкий, как темный бархат, ночной воздух оставался спокойным, почти неподвижным, и даже раскаты далекого грома сюда не долетали. Судя по тому, что соловьи и не думали умолкать, гроза обещала пройти стороной, не задев раскинувшийся на приречной круче дачный поселок даже краешком крыла.
Положа руку на сердце, Анатолий Георгиевич Журбин не мог решить, хорошо это или плохо. Он любил ночное буйство стихии; было невыразимо приятно, сидя в удобном кресле с сигаретой в одной руке и рюмкой в другой, при вспышках молний наблюдать, как гнутся и раскачиваются под порывами ураганного ветра деревья, как сверкает, подобно нитям крупных стеклянных бус, рушащаяся с раздираемого бурей неба вода, слышать удары грома, плеск дождя, шум ветра и бравурный гимн бурлящих в водостоках пенных струй.
А с другой стороны, такие вот спокойные, мягкие соловьиные ночи он тоже любил и особенно ценил из-за скоротечности этой волшебной поры. Наслаждаться зрелищем ночной грозы можно и в августе, и даже в октябре, а вот соловьев тогда уже не послушаешь. Так что пусть лучше поют, а зарницы на горизонте послужат приятным дополнением к этому бесплатному концерту…
Окно было открыто настежь, но ни один, даже самый отчаянный, комар в него не проникал. Торчащая из розетки в углу зеленая пластиковая коробочка фумигатора с тлеющим красным глазком контрольной лампочки делала свое дело, отпугивая крылатых кровопийц. Вспомнив о ней, Журбин подумал, как все-таки далеко шагнул научно-технический прогресс всего за пару последних десятилетий. Мобильная связь, компьютеры, Интернет, объемное телевидение плюс великое множество вот таких маленьких, в два счета ставших привычными и практически незаметными удобств, как этот копеечный фумигатор, сделали жизнь намного комфортнее и легче. Конечно, за все на свете приходится платить, в том числе и за прогресс. Экология чем дальше, тем хуже, по телевизору постоянно пугают концом света и тут же пытаются успокоить: ничего, братцы, с учетом качества нынешней жратвы и выпивки дожить до мировой катастрофы – дело практически немыслимое…
В свои тридцать восемь Журбин был не лишен поэтической жилки и любил пофилософствовать – в основном наедине с собой, поскольку хорошо знал цену своей философии и давно уже не надеялся поразить хоть кого-нибудь, пусть даже и собственную жену, глубиной и смелостью суждений. Но было приятно сознавать себя отличным от подавляющего большинства обитателей гигантского, задыхающегося в собственных нечистотах мегаполиса, которых давно уже не интересует ничто, кроме денег и телевизора. Знать, в какое время года поют соловьи (и зачем они это делают), получать удовольствие от созерцания ночной грозы и первого снега, рассуждать о природе вещей, потягивая коньяк сорта экстра-олд и наблюдая за пляской огня в закопченной пасти камина… Все это, конечно, не помогало вести бизнес, но и не мешало. Это было то, что принято называть внутренним содержанием, и Журбин искренне полагал, что без этого самого содержания человек превращается в ходячий труп, в биологическую машину для зарабатывания денег и уплаты налогов. А всепланетная свалка промышленных отходов, населенная многомиллиардными толпами живых калькуляторов, – явно не то, ради чего Господь Бог затевал возню с сотворением мира. И потом, на что роботу деньги?
Постель уже была разобрана, но Анатолий Георгиевич не спешил ложиться. Он плеснул себе коньяка в пузатый низкий бокал и, грея его в ладони, подошел к окну. Отдающее дубовой бочкой жидкое пламя скользнуло вниз по пищеводу и мягко взорвалось в желудке, разлившись по телу приятным теплом. Анатолий Георгиевич Журбин, столичный ресторатор средней руки, знал толк в элитных сортах крепких напитков и редко отказывал себе в удовольствии пропустить пару глотков. Он не изменил своей привычке даже после той неприятной истории, которая скверно началась и обещала привести к еще более скверным последствиям. Но все хорошо, что хорошо кончается, а это происшествие кончилось куда лучше, чем можно было ожидать.
Журбин отвел взгляд от пляшущих на горизонте зарниц и посмотрел во двор. Его машина стояла на выложенной узорчатыми цементными плитками дорожке, поблескивая на свету, что падал на нее из открытого окна. Вмятину на капоте уже заделали, решетку радиатора заменили, помятый бампер привели в порядок, зашпатлевали и перекрасили. Словом, машина опять была как новенькая, но Анатолий Георгиевич твердо решил ее продать, как только уляжется шум и его перестанут узнавать на улицах.
В просторном загородном доме было тихо, темно и пусто. На время судебных слушаний Журбин отправил жену и дочь в круиз по Средиземному морю, подальше от вездесущих журналюг с их идиотскими вопросами и навязчивыми приставаниями. О, эти пронырливые мерзавцы!.. А впрочем, они не так уж и виноваты – точно так же, как шакал не виноват в том, что питается падалью. Таким его создала природа, таковы условия его существования, и даже при самом горячем своем желании питаться сеном он не способен, как не способен в одиночку задрать буйвола или хотя бы антилопу. Средства массовой информации давным-давно превратились в средства массовой дезинформации, сотрудникам которых наплевать и на правду, и на ложь, и на преступников, и на жертвы, и даже на героев – на все на свете, кроме все тех же денег. Но это снова философия. А вот когда твою двенадцатилетнюю дочь во дворе, а то и на пороге школы подстерегает прощелыга с фотоаппаратом и диктофоном (и хорошо, если один, а не целая стая!) и начинает донимать ребенка каверзными вопросами, на которые и взрослый-то не сумеет ответить, не выставив себя полным идиотом, – о, вот тогда вся философия волшебным образом улетучивается из головы и хочется, наконец, сознательно и обдуманно совершить именно то, в чем пытаются обвинить тебя эти скоты – умышленное убийство…
Разумеется, ни о каком умысле не было и не могло быть речи. И вообще, если хорошенько разобраться, если допустить, что в этой трагической случайности кто-то действительно виноват, так это не Анатолий Георгиевич Журбин, а его драгоценная супруга. Есть у нее такая странная манера – выяснять отношения именно тогда, когда супруг, мягко говоря, не вполне трезв. То есть, бесспорно, пьяный человек может вызывать и сплошь и рядом вызывает у окружающих определенное раздражение своим не совсем адекватным поведением и зачастую неуместными высказываниями. Но ведь ясно же, что скандалить по этому поводу бесполезно до тех пор, пока он не протрезвеет. Ничего ты ему не докажешь, только голос сорвешь, а заодно вызовешь у него встречную волну отрицательных эмоций, которые тем сильнее, чем больше он успел в себя влить.
Выпито в тот вечер было немало, обвинения жены, как на грех, звучали особенно нелепо и вздорно, и кончилось тем, что Анатолий Георгиевич хлопнул дверью и ушел из дома куда глаза глядят. То есть не ушел, конечно, а уехал, благо машина стояла под окнами, а ключ, будто по заказу, обнаружился в кармане пальто.
Дальнейшее помнилось смутно, урывками. Косо летел навстречу красиво подсвеченный ксеноновыми фарами снег, гремела музыка, и визгливо смеялись неизвестно где, когда, а главное, зачем подобранные пьяные девки – целых три, а может быть, четыре. Или, наоборот, всего две – в этом вопросе уверенности у Журбина не было. Москва осталась позади; судя по тому, где все случилось, он вез компанию к себе на дачу, назло драгоценной супруге действуя по принципу: если человека все время обзывать свиньей, он рано или поздно захрюкает.
По салону, аппетитно булькая, гуляла пузатая бутылка. Пили по очереди, прямо из горлышка, и Анатолий Георгиевич до сих пор очень живо помнил привкус дешевой губной помады, которой оно было перемазано. В какой-то момент одна из девиц – та, что сидела спереди, справа от него, бесстыдно выставив напоказ обтянутые блестящей лайкрой бедра, – похоже, решила обслужить его прямо на ходу. Журбин во всеуслышание одобрил эту инициативу и призвал присутствующих всячески ее поддержать. Заднее сиденье ответило на этот призыв новым взрывом пьяного смеха и рядом полезных советов, ни один из которых Анатолий Георгиевич не отважился бы повторить вслух в присутствии знакомых. Потом оттуда, сзади, к нему полезли целоваться – обхватили за шею, щекоча искусственным мехом и обдавая запахами помады, духов, коньяка и табачного перегара, мазнули по щеке мокрыми липкими губами, игриво прикрыли ладошкой глаза…
В спорах с женой он неоднократно повторял, что в пьяном виде водит машину не хуже, чем в трезвом, и не раз доказывал свою правоту, в том числе и на этом отрезке загородного шоссе. Возможно, все благополучно обошлось бы и на этот раз, если бы не редкое стечение несчастливых обстоятельств – ночь, скользкая зимняя дорога, пьяная идиотка, решившая поиграть в жмурки на скорости сто сорок километров в час, и еще одна идиотка, не нашедшая лучшего времени и места для прогулки с ребенком, чем пустое загородное шоссе.
Он оттолкнул закрывающую глаза ладонь как раз вовремя, чтобы увидеть и навсегда запомнить освещенную ярким ксеноном картину: знак пешеходного перехода на правой обочине, едва различимый за частой сеткой косо летящего навстречу снега, и две застывшие, словно загипнотизированные светом фар, фигуры в какой-то несчастной паре метров от капота его «БМВ».
На какой-то миг все замерло, как на фотографии, даже летящие в ветровое стекло хлопья снега. Потом мир рывком пришел в движение, раздался глухой двойной удар, что-то большое, темное, похожее на мешок тряпья, мелькнуло в воздухе над капотом, с хрустом ударилось о ветровое стекло, вмяв его внутрь и оставив на нем неровную красную кляксу, отскочило и исчезло в темноте позади машины. Только после этого он, наконец-то спохватившись, ударил по тормозам. Машина пошла юзом под истошный визг и матерные вопли мгновенно протрезвевших проституток, ее занесло, и, взметнув волну снега, «БМВ» завалился носом в кювет…
Такое может случиться с кем угодно; любой может вытянуть несчастливый билет, и разве он виноват, что в этот раз перст судьбы указал на него? Вообще, определение чьей-то вины – вопрос не столько юридический, сколько философский. Ведь сказал же какой-то мудрец, что каждый сам виноват в своей смерти! Беременная женщина с шестилетним ребенком, которой зачем-то понадобилось переходить в третьем часу ночи неосвещенную дорогу, – она что, совсем не виновата в том, что с ней стряслось?
(При столкновении ее отбросило на двенадцать метров, и еще метров пять она катилась по шоссе, оставляя на припорошенном снежком асфальте детали своего гардероба и пятна крови. Ребенка – это оказался мальчик – искали почти час и нашли в сугробе на приличном расстоянии от дороги.)
В ходе расследования выяснилось, что потерпевшая направлялась в соседнюю деревню, где проживала ее мать, – поссорилась с пьяным мужем, трактористом из дышащего на ладан фермерского хозяйства, и бежала, спасаясь от побоев. Вот так это и вышло: одна дура затеяла свару с пьяным мужем, вынудив его уйти из дому и пуститься во все тяжкие, а другая по той же причине ушла из дому сама и шагнула прямиком под колеса. И кто виноват – водитель? А может быть, он – такая же жертва обстоятельств, как и погибшие?
Конечно, Анатолий Журбин вовсе не считал себя ангелом и признавал, что в случившемся есть определенная доля его вины. Но он был в достаточной мере наказан пережитым шоком (не говоря уже о расходах на ремонт автомобиля) и полагал, что не заслуживает такой жестокой кары, как лишение свободы. Он был и оставался приличным, порядочным человеком, полезным членом общества и законопослушным налогоплательщиком. Ну, оступился, так пусть бросит камень, кто без греха! Возможно, провидение знало, что делает, толкая под колеса его машины людей, в прошлом, настоящем и будущем которых не было и не предвиделось ничего, кроме тоскливой нищеты и беспробудного пьянства. Это, конечно, не аргумент для суда, и пить за рулем, спору нет, нехорошо. Но он уже все осознал, он больше так не будет, и можно же, в конце-то концов, чисто по-человечески войти в его положение! Неужели остриженный ступеньками заключенный, строчащий брезентовые рукавицы или какие-нибудь тапочки, для общества полезнее, чем успешный предприниматель?!
Все это и примерно теми же словами он при встрече объяснил Молоканову. Майор даже не дослушал: его, как обычно, интересовали не тонкости душевных переживаний Анатолия Георгиевича и не его философские рассуждения о природе вины и несовершенстве мира, а деньги, только деньги и ничего, кроме денег.
Со старшим оперуполномоченным уголовного розыска майором Молокановым предприниматель Журбин познакомился при весьма неприятных обстоятельствах. Наверное, иначе просто не могло быть: такое событие, как встреча с милиционером, радостным не назовешь. Да и сама личность майора, эта его одутловатая свиная физиономия с заплывшими, тусклыми, как у снулой рыбины, глазами сделала бы знакомство крайне неприятным, даже если бы оно произошло на свадьбе или именинах.
Коротко говоря, года полтора назад на Журбина наехали, причем сделано это было в фирменном стиле лихих девяностых. Сначала был телефонный звонок с требованием ежемесячных отчислений за обеспечение безопасности (на которую, к слову, до сих пор никто не покушался). Журбин вежливо послал звонившего ко всем чертям и направился прямиком в милицию, где и состоялось упомянутое выше знакомство. Сидевший за захламленным письменным столом в тесном прокуренном кабинете человек в потрепанном цивильном костюме с кислым видом поведал Анатолию Георгиевичу, что не видит оснований для каких-либо официальных действий: единичный телефонный звонок – не повод к возбуждению уголовного дела или взятию драгоценной персоны господина Журбина под усиленную милицейскую охрану. И потом, что значит – выделить охрану? Господин Журбин – не президент, не премьер и даже не спикер Государственной думы, а здесь ему не благотворительная организация, чтобы днем и ночью караулить его на общественных началах. Нет, конечно, за определенную сумму… ну, вы же сами все понимаете, верно?
Журбин подтвердил, что действительно все понимает, и обещал подумать. В тот же день за час до открытия в помещение ресторана ворвались двое неизвестных в масках и кожаных куртках, основательно поработали там бейсбольными битами и скрылись, не вступая в переговоры с перепуганным насмерть персоналом. Ресторан пришлось закрыть на целую неделю; Анатолий Георгиевич едва-едва начал подсчитывать убытки, когда в подъезде собственного дома его подстерегли и довольно чувствительно оскорбили действием все те же неизвестные в масках. Состоявшийся по ходу дела разговор опять касался денег; сумма была названа решительно несуразная, и уже наутро Журбин снова сидел в кабинете майора Молоканова, обсуждая условия взаимовыгодного сотрудничества.
Подозрение, возникшее у него уже тогда – что Молоканов лично приложил руку к этому гангстерскому наезду, – со временем превратилось в твердую уверенность. Майор был настоящий упырь, стопроцентный оборотень в погонах, но, беззастенчиво беря деньги, он частенько оказывался весьма и весьма полезным, содействуя Анатолию Георгиевичу в решении самых различных, порой весьма сложных и щекотливых, вопросов.
Но истинную цену этому сотрудничеству Журбин узнал только теперь, после злосчастного происшествия на загородном шоссе. Деньги за решение этой проблемы Молоканов запросил немалые, зато провернул все так, что комар носа не подточит. Ей-богу, было трудно поверить, что какой-то несчастный майоришка способен перекроить и вывернуть наизнанку такое, казалось бы, простое и очевидное с точки зрения закона дело, как наезд в пьяном виде на пешеходов, повлекший смерть двух и более человек.
Так вот: он смог. В результате его стараний дело попало в руки судьи в таком виде, что из его материалов невозможно было понять, кто из участников ДТП на самом деле был пьян, а кто трезв как стекло, кто откуда выскочил, произошло это в зоне обозначенного пешеходного перехода или на скоростном участке трассы… Протокол, составленный на месте происшествия, куда-то волшебным образом исчез, а документ, появившийся вместо него, казалось, был составлен питекантропом, который переел мухоморов. Вообще, Молоканов утверждал (и Журбин ему верил), что никакого судебного разбирательства просто не было бы, если бы в дело с самого начала не вцепились журналисты. Но эти щелкоперы остались с носом: суд вынес оправдательный приговор, а матерные угрозы безутешного вдовца лишь придали событию выгодную для Анатолия Георгиевича эмоциональную окраску. Молоканов, хоть и сволочь, был настоящий волшебник: ему удалось устроить и уладить все, да так ловко и гладко, что даже присутствие в машине проституток осталось тайной для всех, и в первую очередь для мадам Журбиной.
Упомянутая мадам в данный момент наслаждалась средиземноморскими видами, а ее супруг праздновал победу, попутно тоже наслаждаясь – во-первых, самой победой, во-вторых, отсутствием домочадцев, а в-третьих, доносившимися снаружи соловьиными трелями. Закуривая последнюю перед сном сигарету, ресторатор Журбин лениво, как о чем-то далеком и нереальном, думал о возможной мести со стороны безутешного тракториста – вернее, о попытке мести, поскольку причинить обидчику какой-либо реальный вред у этого деревенского алкаша были руки коротки. Что он сделает – выследит Анатолия Георгиевича в чужом огромном городе и попытается убить? Наймет киллера – такого же, как сам, неумытого пьяницу в растянутых спортивных штанах китайского производства и с ржавым кухонным ножом? Нет, Молоканов явно перегнул палку, когда советовал хотя бы на первое время нанять охранника в каком-нибудь частном агентстве. Было бы от кого защищаться!
Совесть Анатолия Георгиевича была спокойна. С момента происшествия минуло уже без малого полгода, первый шок прошел, а теперь, после вынесенного судом оправдательного приговора, было очень легко представить, что события той злосчастной ночи просто привиделись ему в пьяном ночном кошмаре. А почему бы и нет? Газетные публикации, телевизионные репортажи, слезливые вопли овдовевшего тракториста и даже собственные смутные воспоминания – все это трепотня, эмоции, пустой звук, не имеющий законной силы. Законную силу имеет только решение суда, согласно которому он, Анатолий Журбин, ни в чем не виновен. Так с чего б ему, в самом деле, мучиться угрызениями совести?
В темных кустах по ту сторону забора, откуда по-прежнему доносились заливистые, щелкающие соловьиные трели, что-то слабо блеснуло отраженным электрическим светом, как будто один из ночных певунов, наконец-то подыскав себе партнершу, по перенятому у людей обычаю перед началом брачных игр накачивал ее шампанским. Журбин машинально подался вперед, строя ленивые догадки о природе наблюдаемого явления; в кустах опять воровато блеснуло стекло, а затем раздался короткий, неслышный за соловьиным концертом звук, похожий на удар резиновым молоточком по донышку кастрюли. Остроносая винтовочная пуля, просверлив в черном бархате майской ночи прямой, как стрела, тоннель, безошибочно нашла цель. Выстрел пришелся точно в переносицу, и, даже не успев ничего почувствовать, столичный ресторатор Журбин в одно короткое мгновение переместился в весьма отдаленные края, где его с нетерпением дожидались те, о ком он так старался забыть.
* * *
Тщательно убрав излишки масла при помощи мягкой фланели, Юрий Якушев неторопливо, со вкусом собрал винтовку, присоединил шомпол, поставил на место оптический прицел и напоследок еще раз протер линзы чистой фланелью. Десятизарядный магазин с коротким металлическим щелчком вошел в гнездо; плавным движением подняв винтовку к плечу, Юрий прицелился в окно, взял на мушку торчащую на крыше дальней девятиэтажки антенну сотовой связи, легонько толкнул себя в плечо прикладом, имитируя отдачу, и одними губами произнес: «Пах!»
– Детский сад, – добавил он вслух и стал разбирать винтовку, укладывая каждый узел в специальное, обтянутое мягким бархатом гнездо похожего на атташе-кейс плоского футляра.
Винтовка, компактная и эффективная американская игрушка с хорошим боем, отменной оптикой и заводским глушителем, была подарена ему в знак вечной дружбы одним очень уважаемым в Дагестане человеком. Звали упомянутого гражданина Магомедом Расуловым. С некоторых пор уважаемый Магомед считал Юрия Якушева братом; Якушеву такой родственничек был нужен как зайцу стоп-сигнал, но спорить и тем более отказываться от подарка он не стал, поскольку врагов на Кавказе у него хватало и так.
Винтовка представляла собой воплощенную мечту любого киллера, но, с точки зрения Юрия Якушева, это была вот именно и только игрушка – дорогая, шикарная, совершено бесполезная и при этом очень опасная. Стрелять из нее по бутылкам неинтересно, с таким же успехом в мишени можно просто тыкать пальцем. Да и патроны натовского образца в супермаркете не купишь, и стоят они недешево. А уж о том, что начнется, если о винтовке кто-нибудь проведает – участковый, например, – даже думать не хочется. И тем более не хочется думать о том, что будет, если дать себе волю, прислушаться к исходящему от тусклого вороненого железа вкрадчивому шепотку и поддаться на его уговоры. Помнится, в школе, когда надо было посетовать на обстоятельства, они с пацанами со вздохом, сокрушенно изрекали: «Эх, трудно жить без пистолета!» Да, без пистолета трудно, подумал Юрий. Но с пистолетом, как выяснилось, еще труднее. Потому что вокруг столько всякой сволочи, что руки так и чешутся пустить его в ход, а этого делать нельзя: и закон не велит, и на самом верху – не в Кремле, а гораздо выше, – если верить священнослужителям, на подобное самоуправство смотрят косо. Да и вообще, кто мы такие, чтобы судить себе подобных?
Юрий аккуратно закрыл футляр и щелкнул замочками. «Эх, Магомед, Магомед, – далеко не впервые с упреком подумал он. – Неужто нельзя было обойтись кинжалом или какой-нибудь саблей? Повесил бы на стенку рядом со своей старой шпагой, и было бы любо-дорого глянуть… А тут – винтовка, да еще такая!.. Кто же делает такие подарки снайперу, решившему завязать? Что же мне теперь – выправить на этот ствол разрешение и охотиться с ним на зайцев? Или это подарок с намеком? Нет уж, дудки, уважаемый, этот номер у вас не пройдет! Миру мир, войны не нужно, – вот девиз отряда «Дружба»…»
Он затолкал футляр в самый дальний угол шкафа, замаскировал одеждой и стал прибирать со стола, привычно думая о том, что с винтовкой надо что-то решать – либо регистрировать, либо так или иначе сбывать с рук, пока не случилось беды. Себя-то он проконтролирует, все его размышления о том, какой дьявольский искус являет собой хранящееся в доме оружие, – это так, философия для начинающих, обиженное бормотание интеллигентного московского мальчика, навеки замурованного внутри матерого ветерана спецназа. Но что, если в квартиру заберется вор? Такую ценную вещь он точно не пропустит, и по Москве пойдет гулять еще один незарегистрированный ствол. А ствол-то настоящий, не «тэтэшка» китайского производства, так и норовящая развалиться на части после первого же выстрела. И рук, готовых без колебаний пустить его в дело, в этом городе сколько угодно…
За окном становилось все темнее. Якушев включил на кухне свет, убрал на место баночку с оружейным маслом, скомкал промасленную ветошь и газету, на которой чистил винтовку, и сунул этот ком в мусорное ведро. Чтобы он туда поместился, на него пришлось хорошенько надавить, из чего следовало, что Юрию предстоит небольшая прогулка.
Старая пятиэтажка, на третьем этаже которой он с некоторых пор обосновался, давно дожидалась и все никак не могла дождаться обещанного еще пять лет назад сноса. Вокруг нее, постепенно подбираясь все ближе и окружая плотным кольцом, один за другим возносились к небу сверкающие стеклом небоскребы современных жилых комплексов, но тут, на узкой кривой улочке в пяти минутах ходьбы от оживленного шоссе, жизнь текла по старинке, ни шатко ни валко. Тут еще можно было изредка встретить бодрую тетку, спозаранку спешащую в булочную в домашнем халате и шлепанцах на босу ногу, с цветастым платком, для приличия повязанным поверх бигуди, – ну, разве что без свисающей с запястья пустой веревочной авоськи. Здесь, в заросших умирающей от старости замшелой сиренью дворах, еще стучали по вечерам и в выходные дни костяшки домино и в больших количествах обитали пенсионеры, проводящие львиную долю свободного времени под капотами и днищами своих помнящих Брежнева «Волг» и «москвичей». А тезка Якушева, проживающий в соседнем подъезде общительный пьяница по фамилии Березняк, клялся и божился, что совсем недавно видел горбатый «запорожец», который хоть и с явным трудом, но сам, без посторонней помощи, двигался по улице в направлении Ленинградки. Возвращения самоходного раритета Березняк не видел, на основании чего предположил, что «запор» бесследно затерялся в потоке уличного движения, а то и был раздавлен в лепешку сразу же после выезда на шоссе. «К протектору прилип и в Питер уехал», – изрек обожающий блеснуть образностью речи сосед.
Мусоропровода в старой пятиэтажке, естественно, не было, и бытовые отходы отсюда вывозили по старинке, с контейнерных площадок, которые за пару часов до прибытия мусоровоза неизменно приходили в полное соответствие с широко распространенным в народе термином «помойка». Ближайшая такая площадка находилась через два двора от дома, в котором обитал Юрий. Это было немножко неудобно в смысле выноса мусора, но зато избавляло от массы сомнительных удовольствий, выпадающих на долю тех, чьи квартиры расположены окнами на помойку.
Выходя из квартиры с туго набитым черным пакетом, он невольно вспомнил Баклана. Перед тем как отправиться на поиски последнего в своей короткой жизни приключения, сержант запаса Луговой, по прозвищу Баклан, работал охранником в ночном клубе. Профессия диктовала образ жизни: день у Баклана начинался примерно тогда, когда нормальные люди ужинали, а то и ложились спать, и мусор ему тоже приходилось выносить по вечерам, что служило соседям постоянным поводом для замечаний: мол, мусор на ночь глядя выносить – к безденежью. Баклана, который на гражданке, судя по всему, основательно обленился, это безумно раздражало: что же, возмущался он, мне с утра, после работы, специально на помойку бегать?
Из чего, кстати, следовало, что Баклан тоже был не чужд суеверий. Иначе с чего бы ему беситься? Мало ли кто что говорит…
Да, вспомнил Юрий, спускаясь по лестнице, он действительно был суеверным, хотя и старался этого не показывать. Повсюду таскал в кармане бумажный образок святого Сергия Радонежского и искренне верил, что этот обтерханный листок убережет его от пули. И ведь ничего не скажешь: погиб-то он как раз тогда, когда расстался со своей иконкой! Эх, Баклан, Баклан…
Вдоль улицы уже зажглась редкая цепочка тлеющих вполнакала фонарей. Во дворы их свет не проникал, здесь горели только окна, да кое-где – уцелевшие светильники над козырьками подъездов. Выродившиеся, полузасохшие кусты сирени были покрыты редкими, невидимыми в темноте гроздьями чахлых соцветий, от которых исходил едва уловимый, тонкий, памятный с детства аромат. Очень похоже пахли мамины духи; кажется, они так и назывались – «Сирень»…
Контейнерная площадка, в отличие от дворов, была ярко освещена – надо полагать, для удобства роющихся в отбросах бомжей. Впрочем, бомжи уже отправились на покой, и Юрий избавился от своих излишков, никого не повстречав. Освободив руки, он закурил и неторопливо двинулся в обратном направлении. Где-то неподалеку лаяла выведенная хозяевами на прогулку собака – судя по визгливому голосу, мелкая комнатная шавка, испугавшаяся бродячего кота или собственной тени на асфальте. Через соседний двор, выставив перед собой похожие на шарящие в потемках растопыренные пальцы лучи фар, медленно проползла машина – свернула на стоянку, немного поерзала, устраиваясь на ночлег, довольно помурлыкала двигателем, а потом замолчала и погрузилась во тьму. Стукнула дверца, переливчато запищал домофон, и снова наступила тишина – вернее, то отсутствие излишне громкого и назойливого шума, которое в большом городе условно принято считать тишиной.
Юрий был уже недалеко от своего подъезда, когда тишины вдруг не стало. Сначала он услышал звуки, которые просто не мог неверно интерпретировать. В темноте пыхтели, сопели, вскрикивали и сдавленно матерились; слышалось беспорядочное шарканье подошв, треск ломающейся сирени и глухие удары по мягкому. Там, в кустах, явно происходила драка – явление в наши относительно сытые и благополучные времена нередкое, но уже и не такое частое, как когда-то. Дрались, опять же, как-то уж очень долго и ожесточенно; Юрий на слух оценил количество участников данного увеселения и пришел к выводу, что их там не меньше трех, но никак не больше пяти, от силы шести человек. Вмешиваться и портить людям удовольствие у него не было ни малейшего желания – с чего бы вдруг, в его-то годы!
Тут мимо него стремглав пронеслась похожая на привидение фигура в чем-то светлом, развевающемся, при таком освещении и впрямь смахивающем на саван, и женский голос пронзительно, на весь двор закричал:
– Женя! Женечка! Оставьте его, подонки! Помогите!!! Убива…
Крик оборвался на полуслове, завершившись коротким невнятным звуком, природа которого не вызвала у Юрия даже тени сомнения: это был болезненный вскрик человека, получившего увесистую оплеуху, сила которой явно превосходила все, к чему он был морально и физически готов.
– А, чтоб вас, – с тоской произнес Юрий, адресуясь к мутному московскому небу, и поспешил в темноту, откуда по-прежнему доносились звуки драки – вернее сказать, избиения.
Чувствовал он себя при этом довольно глупо и, осознав это, порядком разозлился: да что же это такое! Что же это за времена настали, если человек, спешащий на зов о помощи, чувствует себя дурак дураком?! И ведь что характерно, кое-какие основания у него для этого имеются. В этих пьяных потасовках никогда не разберешь, кто прав, кто виноват, а баба на то и баба, чтобы вопить, защищая свое движимое имущество, официально именуемое мужем. Ведь запросто может оказаться, что она сама спровоцировала это побоище, а теперь голосит – опять же, не затем, чтоб его прекратить, а просто потому, что ей взбрела такая блажь. Сунься помогать, а она тебе же всю фотокарточку ногтями располосует, а после в милиции будет клясться и божиться, что это ты напал на их теплую компанию, когда они после трудового дня мирно нюхали во дворе сирень. В девяноста процентах драк крайним оказывается тот, кто пытался разнять дерущихся, и ему же, как правило, достается больше всех. Вот и геройствуй в таких условиях, вот и не чувствуй себя при этом дураком…
Ему опять подумалось, что в испытываемой им неловкости, вполне возможно, виноват он сам, а вовсе не царящие в современном обществе нравы. Тот же Баклан, к примеру, никогда не терзался сомнениями и не утруждал себя поиском мотиваций собственных поступков. Он просто действовал по обстановке, делал то, что считал нужным: захотел дать кому-то в табло – дал, не захотел – не дал. А о последствиях, братан, подумаем, когда они наступят…
На поверку в кустах оказалось не так уж и темно – во всяком случае, когда глаза привыкли к освещению, Юрий без труда различил четверых мужчин, которые, сбившись в плотную кучку, старательно обрабатывали ногами и какими-то дубинами пятого – надо полагать, того самого Женечку, которого поминала дама в светлом. Упомянутая дама копошилась на земле в сторонке, белея во мраке, как оброненная кем-то охапка полотенец; она рыдала в голос, что свидетельствовало об удовлетворительном состоянии здоровья, и Юрий решил временно о ней забыть.
Вообще, увиденное ему не понравилось – в основном потому, что никто из участников событий не выглядел пьяным. «Скинхеды? – зигзагом пронеслась через сознание нелепая мысль. – К черту, что за бред! На что скинам сдался какой-то Женечка? Это же не Улугбек какой-нибудь!»
– Эй, мужики! – окликнул он присутствующих тем нарочито доброжелательным, молодцеватым тоном, каким в армии, да и на гражданке тоже, разговаривают с теми, кого собираются через минуту поставить навытяжку. – Вы чего тут затеяли, а? Может, подсо…
У кого-то из участников увеселения, как выяснилось, имелась неприятная привычка прерывать собеседников на полуслове. В воздухе мелькнул какой-то светлый продолговатый предмет. Не ожидавший такой стремительной и неадекватной реакции на свое появление с миссией мира Якушев успел лишь закрыться рукой. Удар пришелся по локтю; он был не очень сильный, но предмет, которым его нанесли, оказался бейсбольной битой. Рука онемела, Якушев осатанел, и бита в два счета рассталась со своим владельцем, который со сдавленным воплем изумления и боли спиной вперед скрылся во мраке. Оттуда послышался новый вопль, сопровождаемый гнилым деревянным треском, и Юрий понял, что дворовые доминошники остались без своего любимого стола.
Последовавшая вслед за этим вступительным аккордом контратака противника оказалась вялой и непродолжительной. Якушев успел нанести всего пару ударов, и поле боя очистилось: нападавшие явно не имели к нему существенных претензий и, сделав дело, ради которого сюда явились, почли за благо удалиться. На земле осталось неподвижное тело их жертвы, с которым соседствовала не перестающая истерично рыдать женщина. Перепрыгнув через эту скульптурную группу, Юрий пустился в погоню, которая наверняка увенчалась бы успехом, не окажись у противника под рукой стоящего с работающим на холостом ходу двигателем джипа. Внедорожник стартовал, как гоночный болид. Осознав тщету своих усилий, Якушев метнул вдогонку подобранную с земли биту. Послышался характерный хлопок лопнувшего автомобильного стекла, и джип с зияющей черной дырой на месте заднего окна свернул за угол, оставляя на асфальте россыпь мелких, похожих на ледяные кристаллы стеклянных призм. За мгновение до этого Юрий успел посмотреть на номер машины и убедился, что его нет.
Плюнув с досады, он развернулся на сто восемьдесят градусов и без особой охоты побрел восвояси – разбираться, во что, собственно, встрял.
Глава 2
Майор Молоканов курил, держа сигарету по-солдатски, огоньком в ладонь, и хмуро поглядывая на дом. Дом был одноэтажный, с мансардой и кокетливым пузатым балкончиком, огражденным узорчатой кованой решеткой. Стены были гладко оштукатуренные, кремовой расцветки, а углы и фундамент украшала плитка, имитирующая грубо отесанный камень – гранит или, может, базальт, несведущему в геологии майору это было безразлично.
За спиной у него калился на уже набравшем силу полуденном майском солнышке служебный автомобиль, а поодаль сдержанно шумела оттесненная оцеплением немногочисленная толпа зевак. Тело уже увезли, но того, что осталось на кремовой стене под открытым настежь окном первого этажа, было вполне достаточно, чтобы довести человека со слабыми нервами до настоящей истерики.
В общем-то, ничего особенного, шокирующего и сверхъестественного там, на стене, не наблюдалось. Наблюдалась там всего-навсего подсохшая кровь – правда, в таком количестве, как будто здесь снимали сцену из малобюджетного фильма ужасов, режиссер которого, ярко выраженный халтурщик, не имея желания искать новые художественные ходы, решил давить на психику зрителя обилием кровищи.
Густо заросшая голубыми и фиолетовыми ирисами клумба под окном была варварски истоптана участниками осмотра места происшествия. Следы майора Молоканова там тоже были, хотя он (как, впрочем, и все остальные) и не надеялся обнаружить искомый предмет среди цветочков. С первого взгляда становилось ясно, что здесь побывал Зулус, а этот подонок был не из тех, кто изменяет своим привычкам.
– Кинолог вернулся, – сообщил, подойдя откуда-то сзади, капитан Арсеньев.
Задумавшийся Молоканов слегка вздрогнул от неожиданности.
– Отпускай, – распорядился он, даже не поинтересовавшись, удалось ли служебной собаке отыскать хоть что-нибудь стоящее. – И больше так не подкрадывайся. А то я к тебе тоже подкрадусь.
Тон у него, как обычно при разговоре с людьми, не являющимися старшими по званию и должности, был кислый, равнодушно-неприязненный, словно он с огромным трудом снисходил до абсолютно ненужного и неинтересного ему общения. Уголки вялого рта были недовольно опущены, тусклые, утонувшие в припухлых веках поросячьи глазки, по обыкновению, смотрели куда угодно, только не на собеседника. При этом от их внимания мало что ускользало; бегающий взгляд майора ничего не означал, как и его тон и выражение лица. Молоканов всегда выглядел и вел себя так, словно минуту назад узнал об окружающих что-то потрясающе гадкое и еще не решил, продолжать ему после этого с ними общаться или сразу расплеваться со всеми и уйти в монастырь. Внешний облик и манера поведения майора были данностью, наподобие климата, и к нему, как к климату, надо было просто приспособиться – не выходить в проливной дождь без зонта, не торчать на солнцепеке в сорокаградусную жару и не разгуливать голышом по морозу. Человек, умеющий адаптироваться к условиям окружающей среды, может чувствовать себя достаточно комфортно даже в Антарктиде; курортом это место, конечно, не назовешь, зато там, как и под началом майора Молоканова, можно неплохо заработать. А ради хорошего заработка не грех и потерпеть, тем более что речь идет всего лишь о мелких неудобствах: в Антарктиде холодно, а Гена Молоканов – обыкновенный трамвайный хам.
Оперуполномоченный уголовного розыска Арсеньев все это прекрасно знал. Приспособляемость у него от рождения была неплохая, служба в органах весьма способствовала развитию этого полезного качества, а достаточно толстая шкура позволяла без ущерба для самолюбия переносить общение с майором, даже когда тот действительно бывал не в духе.
– Какие мы нервные, – насмешливо протянул он и отправился отпускать на все четыре стороны кинолога, только что несолоно хлебавши вернувшегося из прилегающего к дачному поселку лесного массива.
– Место, Гром, – скомандовал хмурый сержант своей овчарке, указывая на приспособленный для транспортировки задержанных багажный отсек патрульного «уазика». – И чего нас с тобой битых два часа по лесу гоняли, не пойму! Все равно ведь толку никакого.
– Собаке выгул нужен, – сказал ему Арсеньев. – Да и тебе тоже. Верно, Гром?
Пес промолчал, помигивая умными глазами и часто дыша открытой улыбчивой пастью, из которой длинной розовой тряпкой свисал язык. В отличие от хозяина, Гром ничего не имел против продолжительного выгула, но предпочитал держать свое мнение при себе: как и капитан Арсеньев, он обладал отличной приспособляемостью и никогда не мочился против ветра.
– Вот разве что, – проворчал кинолог, с лязгом закрыл багажный отсек и побрел к передней дверце машины, на ходу через голову сдирая с себя бронежилет.
Во многом этот хмурый унтер был прав. Если не принимать в расчет необходимость выгула, вызывать сюда служебную собаку действительно не имело смысла. Как обычно, когда речь шла о Зулусе, пес быстро взял след и так же быстро потерял его на обочине загородного шоссе – опять же, как обычно, в строгом соответствии с заведенным порядком. Из этого следовало, что преступник, пройдя лесом, уселся в поджидавший его автомобиль или, быть может, поймал попутную машину. Результат, таким образом, получался нулевой, поскольку к этому выводу можно было прийти и без помощи служебно-разыскной собаки. Ведь не пешком же он сюда из Москвы пришел, в самом-то деле! Если бы имело место единичное происшествие, можно было бы рассчитывать, что след приведет к одному из домов этого же или соседнего поселка, в котором и обнаружится преступник – вероятнее всего, до сих пор дрыхнущий тяжелым пьяным сном и даже под страхом смертной казни неспособный вспомнить, где он вчера вечером был, с кем пил и что учудил. Но уже из поступившего в дежурную часть телефонного звонка стало ясно, что речь идет об очередном эпизоде длинной серии, автором которой является Зулус, а надеяться поймать Зулуса, просто придя к нему следом за рвущейся с поводка ищейкой, было бы, по меньшей мере, наивно.
«Уазик» укатил, волоча за собой длинный хвост желтоватой пыли и сердито бибикая на зевак, недостаточно проворно уступавших ему дорогу. Арсеньев вернулся к Молоканову и тоже закурил, щурясь на солнышко, как разлегшийся на пригреве кот. Несмотря на время суток, из-за дома, со стороны заросшего орешником и лещиной приречного склона, доносились несмелые щелчки и трели сексуально озабоченного соловья.
– Соседей опросили? – не поворачивая головы, кисло поинтересовался Молоканов.
– Ребята опрашивают, – попыхивая сигаретой, откликнулся капитан.
– А ты?
– А смысл? Это же Зулус, какие могут быть соседи, какие свидетели!..
Молоканов повернул к нему бледное одутловатое лицо и немного пожевал губами, как верблюд, нацеливающийся харкнуть кому-нибудь в физиономию.
– Он тебе сам об этом сказал?
– Кто?
– Зулус. Он сам тебе сказал, что Журбин – его работа? Тогда другое дело. Но если окажется, что это какой-нибудь продвинутый сосед по дачному поселку свел с ним счеты и обставился под Зулуса, – тогда что?
– Ты сам-то в это веришь? – фыркнул Арсеньев.
– Может, я в инопланетное происхождение разумной жизни на Земле верю, – сказал Молоканов, – или в то, что жена моего соседа негритенка не на курорте нагуляла, а родила путем непорочного зачатия. Кому какое дело, во что я верю и во что не верю? Работать надо, Дима, работать!
– Это называется: соблюдать формальности, – упрямо возразил Арсеньев.
– Соблюдение формальностей – часть нашей работы, на то мы и юристы, – отрезал Молоканов. – В строгом соответствии с действующим законодательством и по возможности без упущений. А то потом нас же этими упущениями так по хребтине огреют, что света белого невзвидишь!
Арсеньев покосился на открытое окно. В комнате невнятно бубнили голоса, изредка сверкали беззвучные голубоватые молнии фотовспышки. Там все еще возилась следственная группа из прокуратуры – криминалист, судмедэксперт и следователь.
– Вот именно, – проследив за направлением его взгляда, сказал Молоканов. – У нас даже личность убитого не установлена, с ним возни – непочатый край. Отпечатки пальцев, медицинская карта, жену его надо на опознание вызвать, а она, чтоб ей пусто было, сейчас где-то в Средиземном море болтается… Вот же угораздило! Как ее теперь оттуда достать? Это ж надо с туристической фирмой созваниваться, узнавать, что за тур, на каком судне, как с ними связаться… Тьфу!
– Насчет курорта – это была твоя идея, – нейтральным тоном напомнил Арсеньев.
– Да кто же мог знать! – вполголоса, но с огромной досадой воскликнул Молоканов.
– Да, – вздохнул Арсеньев. – Знал бы, где упасть… Нет, правда! Если б меня на его место, – он кивнул на окно, – не приведи бог, конечно, но если вдруг, – так я бы предпочел отсидеть за неумышленное, чем вот так-то…
– Каждый сам виноват в своей смерти, – процитировал Молоканов. – Это он сам мне сказал, когда объяснял, что нечего, мол, той бабе было ночью на дорогу выходить, да еще беременной и с ребенком.
– Просто удивительно, какие иногда среди людей попадаются козлы, – восхитился Арсеньев. – Правда, доился этот козел неплохо. Сука все-таки этот Зулус! Такую жирную рыбину с крючка сдернул! Я-то на его бабки по привычке рассчитывал, кредит взял…
Молоканов едва заметно искривил и без того кривой рот, и капитан, давно изучивший все тонкости его мимики, воздержался от дальнейшего развития затронутой темы. Тем более что покойный Журбин (если, как верно подметил майор, это и вправду был он) являлся далеко не единственной и даже не самой упитанной дойной коровой в их стаде. Так что жаловаться капитану Арсеньеву было, по большому счету, не на что, да и беседовать о таких вещах, стоя в нескольких метрах от живого следователя прокуратуры, конечно, не стоило. В отличие от Журбина, Арсеньев не придумывал себе оправданий и не искал компромиссов между тем, что можно, тем, что должно, и тем, чего хочется. То, что он думал и чувствовал, никого не касалось и никому не было интересно; значение имели только поступки – выражаясь юридическим языком, деяния, – и то, как эти деяния трактуются в уголовном законодательстве.
– Надо будет проверить этого тракториста, – вторгся в плавное течение его мыслей привычно тусклый, будто стертый от долгого употребления, голос Молоканова.
– Какого тракториста? – машинально переспросил капитан, но тут же спохватился: – А, безутешного вдовца! Проверим, конечно. Хотя куда ему!.. Да и почерк, согласись, знакомый.
– Любой почерк можно подделать, – напомнил майор.
– Не так-то это просто, как кажется, – возразил Арсеньев. – Ты видал, какой срез? Как бритвой! Везде одно и то же: один, максимум два удара, и дело сделано. Это не нож и не топор, а… я даже не знаю что!
– Меч, – насмешливо подсказал Молоканов. – Помнишь, как в «Трех мушкетерах» миледи казнили?
– Миледи… – Арсеньев в сердцах сплюнул на землю. – Вот же сука!
Он вспомнил тело, лежащее грудью на подоконнике, свесив наружу руки со скрюченными, будто норовящими ухватить прохожих за волосы, пальцами, и его передернуло. Труп обнаружила жительница соседней деревни, ежедневно развозившая по дачам молоко после утренней дойки. Он был отлично виден с улицы, и несчастную тетку едва не обнял кондратий, когда она осознала, что, собственно, видит. Судя по результатам осмотра места преступления, убийство произошло в комнате, а в окошко труп выставили специально, чтобы его поскорее нашли.
Зулус был не просто маньяк, убивающий ради наслаждения самим процессом, а маньяк идейный – из тех, что мнят себя борцами за справедливость, чуть ли не спасителями человечества. Очень многие люди – и таких, пожалуй, подавляющее большинство, – вроде бы все про себя зная, всю жизнь ищут соринки в чужом глазу, не замечая в собственном суковатого бревна. Внешних проявлений этого природного свойства человеческой натуры хоть отбавляй, от ворчливых комментариев в адрес героев телевизионных программ до громких выяснений отношений, плавно переходящих в драки с более или менее тяжелыми последствиями, и от обыкновенных сплетен до написания кляузных посланий в компетентные органы. Но время от времени – к сожалению, не так уж и редко – социум производит на свет деятельных уродов, которые, сами будучи весьма далекими от совершенства, ничтоже сумняшеся берутся переделывать мир в соответствии со своими представлениями об его идеальном устройстве. А поскольку управлять климатом, двигать горы и влиять на мировую политику они не в состоянии, эта переделка неизменно сводится к более или менее жестокому и изощренному физическому устранению лиц, чей моральный облик и образ жизни не соответствуют упомянутым идеальным представлениям.
Как раз таким уродом, судя по всему, и был Зулус. Он не писал вызывающих писем в судебные и следственные органы, не дразнил их сотрудников по телефону, как это делают некоторые маньяки в кино и литературных произведениях, а просто оставлял свои жертвы там, где их было невозможно не обнаружить, – правда, не полностью, за вычетом некоторых деталей.
Жертвами его, независимо от возраста, пола и общественного положения, становились люди, в различное время тем или иным путем избежавшие ответственности за совершенные ими тяжкие преступления – грабежи, убийства, изнасилования, а также воровство и мошенничество в особо крупных размерах – либо понесшие наказание, показавшееся маньяку неоправданно мягким. Покойный ресторатор Журбин идеально подходил под это определение, и, разглядывая жуткое пятно на кремовой штукатурке, капитан Арсеньев подумал: «А хорошо все-таки, что маньяки – люди строгих правил! Не дай бог, Зулусу взбредет в голову идея чуточку расширить диапазон, и он начнет казнить не только оставшихся безнаказанными преступников, но и тех, кто помог им ускользнуть от законного возмездия!»
Он машинально потер ладонью шею. Казнить… Вот именно, казнить! Иначе то, что вытворяет эта сволочь, просто не назовешь. Везде одно и то же: полное отсутствие следов борьбы и плавающий в луже крови труп, с которым поступили в точности так, как палач из Лилля в упомянутом Молокановым романе поступил с небезызвестной миледи. Как будто человеку и впрямь зачитали приговор, а потом поставили на колени и снесли башку одним молодецким ударом. Как будто этот сукин сын, совершенно потеряв страх, и вправду таскает на дело ржавый двуручный меч или даже гильотину…
В принципе, капитан Арсеньев относился к Зулусу вполне нейтрально, как к части своей повседневной работы. Немного раздражало, что его никак не удается поймать; дело тянулось уже полтора года, счет жертв все это время рос, начальство бесновалось, требуя результатов, но Зулус оставался неуловимым. Все предпринимаемые оперативные мероприятия давали отрицательный результат: таинственный охотник за головами, получивший свое прозвище по названию известного африканского племени, практикующего в отношении своих недругов такие же методы, непринужденно обходил все засады и ловушки, расставляемые на него участниками следствия. Головы убитых этот псих забирал с собой прямо как настоящий зулус, и ни одну из них до сих пор не удалось обнаружить. Эта скверная привычка тоже бесила оперативников и следователей, поскольку периодически добавляла им работы, затрудняя опознание жертв.
Правда, как только что сообразил Арсеньев, к данному случаю последнее не относилось.
– Слушай, – поделился он своим открытием с Молокановым, – а на кой ляд нам его жена?
– Чья? – переспросил задумавшийся о чем-то своем майор.
– Да Журбина! Он же прямехонько из-под следствия! Вот же подфартило человеку: только что выслушал оправдательный приговор по делу о двойном непредумышленном, и тем же вечером – кирдык!
Он резко чиркнул ладонью по кадыку, иллюстрируя свои слова.
– На себе не показывай, – буркнул Молоканов. – И что?..
– Так у него ж наверняка пальчики откатали! Так что пусть себе его женушка пока побудет в блаженном неведении. Зачем человеку отдых портить? Оно и нам спокойнее – и хлопот меньше, и вообще…
– Вообще? – изображая непонимание, переспросил Молоканов.
– Ты этого хмыря знаешь, – понизив голос, сказал капитан. Он опять указал подбородком в сторону открытого окна, давая понять, что имеет в виду следователя прокуратуры Терентьева – третьего по счету следователя, который вел неумолимо разбухающее дело Зулуса. – Это не человек, а репей, вцепится – не отдерешь. Связи и контакты Журбина он отработает досконально – и нас заставит, и сам будет копать.
– И?..
– И выяснит, что ты с ним общался.
– Угу. – Молоканов выбросил в придорожную траву коротенький окурок и сразу же закурил снова. – Дважды. У себя в кабинете. Он прибегал с какой-то ерундой насчет рэкета, а я посоветовал обратиться в ЧОП. И все.
– А он возьмет и поинтересуется у его жены, все это или не все. А вдруг она знает?.. Муж и жена – одна сатана, слыхал?
– Судя по тому, что мне о ней известно, она-то как раз и есть настоящая сатана в юбке, – своеобычным кислым тоном заметил Молоканов. – Ладно, может, ты и прав, пусть пока плавает. Только круиз по Средиземному морю – это не межзвездный перелет и даже не кругосветное плаванье. Со дня на день она вернется в Москву и без нашего вызова. И вообще, ты нашел чем мозги засорять! Она скажет, что он нам платил, а мы скажем, что впервые об этом слышим, и что? Геморроя, конечно, прибавится, но нам не впервой, отобьемся. Не мочить же ее теперь, в самом-то деле!
– Ну что ты, – досасывая бычок и щурясь от лезущего в глаза дыма, сказал Арсеньев, – как можно! А знаешь, – продолжил он после короткой паузы, – мне этот Зулус даже чем-то нравится. Сволочь, конечно, маньяк и все такое, но тем не менее… Ведь не на баб в лесопарке, не на детишек охотится, которые сдачи дать не могут, а на совершенно определенный контингент, по которому черти в аду давно все слезы выплакали. Возьми хоть этого Журбина! Тридцать восемь лет, мужик в самом соку, спортивный, крепкий, здоровый, со связями и при деньгах и при этом мразь, каких мало. Укокошил беременную молодуху с шестилетним пацаном и руками разводит: я ни при чем, она сама виновата! Нечего со своими пащенками бродить там, где конкретные люди ездят… Туда ему и дорога, если хочешь знать. Да и всем остальным тоже.
– Ну, ты, положим, тоже не ангел, – заметил майор. – От тюрьмы его отмазывать помогал? Помогал. Бабки за это получил? Получил! Чего ж теперь в моралисты лезешь?
– Я – дело другое, – возразил Арсеньев.
– Ну конечно!
– Конечно. От тюрьмы он бы и без нас с тобой отмазался. Нанял бы хорошего адвоката, и тот за половину суммы, которую мы с него сняли, без проблем вырулил бы на условное. Какой же смысл от денег отказываться, если лох сам, по доброй воле тебе их прямо в руки сует? И получилось, что и мы не в убытке, и этот козел схлопотал по заслугам. Чем плохо? Вот я и говорю: Зулус, хоть и сука, все-таки молодец. Как ни крути, а нашу работу делает и при этом никаких безвинных жертв… Может, он тоже наш, из внутренних органов?
– Это вряд ли, – сухим и оттого еще более неприятным, чем обычно, тоном возразил Молоканов. – Вот не думал, что ты до сих пор носишься с этими бреднями: справедливость, возмездие… Ты подумай, что ты несешь! Какую такую нашу работу он за нас делает? Это, по-твоему, наша обязанность – без суда и следствия головы рубить?! Наше дело – делать свое дело, наша работа – выполнять порученную работу. А если каждый начнет трактовать закон по-своему и на свое усмотрение решать, кого ловить, а кого отпускать, через месяц у нас будут не органы, а скопище маньяков на твердом окладе. Потому что маньяк как раз с таких рассуждений и начинается: вот же он, сволочь, ведь явный же гад, почему же до сих пор на свободе-то? А этому почему восемь лет вместо пожизненного припаяли? И что это еще за новости – мораторий на смертную казнь? Да их, таких-разэдаких, принародно за ноги вешать надо! Надо, а не вешают, потому что одним все равно, а другие продались с потрохами. Ну, а раз так, займусь-ка я этим делом сам. Десяток-другой порешу – авось другим неповадно будет…
Арсеньев сделал озабоченное лицо.
– Ты с товарищем следователем Терентьевым, с Михаилом нашим Васильевичем, сегодня, часом, не целовался? – заботливо спросил он.
– Чего-о? – грозно набычился Молоканов.
– Ну, может, из одного стакана пил или просто стоял близко? Больше-то вроде тебе эту правильность подцепить не от кого было!
Молоканов хмыкнул, расслабляясь.
– Она у меня врожденная. Или, если угодно, хроническая. Без нее мы все знаешь где сейчас были бы? Ты пойми, что я тебе пытаюсь втолковать: разговоры эти твои ни к чему, ты эти мысли из головы выбрось, да поскорее. А уж разглагольствовать на эту тему при ком-то еще я тебе и вовсе не советую. Терентьев услышит – для начала удивится, а потом задумается: странная, скажет, у этого капитана философия, странное видение целей и задач нашего славного уголовного розыска! А страннее всего то, что при таком ярко выраженном сочувствии к небезызвестному Зулусу со стороны товарища капитана Арсеньева этот самый Зулус почему-то располагает всей полнотой оперативной информации. А может, Арсеньев Зулусу эту информацию сливает? А может, Арсеньев-то наш на самом деле и есть Зулус?
– Долго думал? – угрюмо поинтересовался капитан, сверкнув недобрым взглядом из-под нахмуренных бровей.
– Долго, – заверил его Молоканов. – Все мозги сломал, скоро собственный стул начну в сотрудничестве с противником подозревать. И нечего на меня зыркать! Следак наш – сволочь башковитая, и что-нибудь в этом роде в его котелке наверняка уже давненько варится. Поэтому не надо его провоцировать, не надо это варево подогревать! Начнет копать, вынюхивать… Никакого Зулуса он среди нас, конечно, не найдет, но что-нибудь другое нарыть может. Мало, что ли, за каждым из нас числится?
Дверь дома распахнулась, и на крыльцо вышли прокурорские в полном составе. Впереди, привычно сутулясь и держа руки в карманах пиджака, стоял хмурый и озабоченный Терентьев; правее и чуточку позади него, зажав между ног свой чемоданчик, прикуривал сигарету криминалист, а над левым плечом следователя маячила круглая, как луна, осененная мелкими кудряшками толстощекая физиономия медицинского эксперта Михельсона.
– Три богатыря, – громко объявил Арсеньев.
Терентьев без улыбки посмотрел на него и спросил:
– Свидетелей нашли?
– Ага. Опрашивают, – фыркнул капитан. – Ребята просто не справляются, тут этих свидетелей – вагон! И все наперебой рассказывают, как Журбин с Зулусом во дворе полночи на мечах рубились. Сверкнула сабля – раз и два, – и покатилась голова…
Терентьев молча переложил из правой руки в левую портфель, зачем-то поправил узел галстука и спустился с крыльца. Оставшиеся «богатыри» последовали за ним.
– Кого-нибудь подбросить? – спросил следователь перед тем, как влезть в микроавтобус, доставивший его с коллегами из Москвы. Микроавтобус был синий, как прокурорский китель, чем вызывал у капитана Арсеньева инстинктивную неприязнь.
– Спасибо, – за двоих отказался Молоканов. – Мы здесь еще побудем, осмотримся. Может, и впрямь хоть какого-нибудь завалящего свидетеля найдем. Это ж не бог и не дьявол, а обыкновенный маньяк! Не может же он вообще не ошибаться!
– Пока получается, что может, – вздохнул Терентьев, сел в машину и с ненужной силой захлопнул дверцу.
Когда прокурорские укатили, Молоканов отправил недовольно ворчащего Арсеньева помогать остальным оперативникам в поисках свидетелей, а сам, перебросившись парой слов с топчущимся у крыльца сержантом, вошел в опустевший дом. Он немного постоял посреди комнаты над лужей свернувшейся крови, обозначавшей место, где был убит Журбин, а потом принялся зачем-то внимательно осматривать стену напротив открытого окна.
Стена была как стена – ровная, гладкая, пустая, оклеенная светлыми однотонными обоями с тисненым узором. Единственным привлекающим внимание пятном на ней была копия Айвазовского в массивной позолоченной раме. Прищурившись, майор вгляделся в картину, а затем, подойдя вплотную, потрогал пальцем правый нижний угол полотна.
В этом месте в холсте имелся треугольный надрыв, как будто картину прорвали гвоздем или другим острым предметом. Молоканов запустил в дырку палец, пошевелил им, будто и впрямь рассчитывая что-то нащупать, а потом взялся за нижний край рамы, приподнял его и заглянул в образовавшийся просвет между картиной и стеной.
В гипсокартонной плите стены тоже обнаружилось отверстие – аккуратное, круглое, оно располагалось как раз напротив дыры в холсте и очень напоминало пулевую пробоину.
– Сыщики, – презрительно пробормотал майор Молоканов, имея в виду прокурорских, – криминалисты, вашу мать…
Сняв и аккуратно отставив в сторону картину, он вынул складной нож и начал старательно ковырять им гипсокартон, расширяя отверстие.
* * *
Ночной воздух был теплым, как парное молоко, и пах молодой зеленью. Над рекой, целиком затопив луговину, похожим издалека на слегка разбавленное молоко неподвижным озером разлился туман. Из рощи доносилось пение соловьев; со стороны заросшего кувшинками и ряской, понемногу превращающегося в стоячее болото старика соловьям вдохновенно и мощно вторил лягушачий хор. В небе, как осветительный прожектор над театральной сценой, зависла полная луна, в сиянии которой все вокруг казалось отлитым из старинного черненого серебра.
По дороге, что, спускаясь с лесистого косогора, ныряла в туманное озеро, шел какой-то человек. На нем был давно ставший привычным глазу любого россиянина камуфляжный костюм, дополненный широкополой, тоже камуфляжной расцветки, матерчатой шляпой с опущенным накомарником. На руках белели хлопчатобумажные рабочие перчатки, выдававшие в нем горожанина, люто ненавидящего комаров и считающего, что лучше быть смешным, чем покусанным. Голенища резиновых сапог при ходьбе негромко похлопывали его по икрам; в правой руке человек нес брезентовый чехол с рыболовными снастями, а левой придерживал лямки заброшенного за плечо полупустого рюкзака. Вся эта амуниция с первого взгляда выдавала в нем рыбака. Конечно, в два часа пополуночи на реке делать нечего, но рыбаки – народ чудной, и случайный свидетель предпринятой в этот неурочный час прогулки наверняка решил бы, что речь идет о попытке вероломно захватить чужое место лова или, напротив, вернуть свое, столь же вероломно захваченное кем-то другим.
Красоты ночного загородного пейзажа не трогали ночного путника: он их попросту не воспринимал. Для него река оставалась просто рекой, дорога – дорогой, а деревья – единственной деталью окружающего мира, от которой была хоть какая-то польза, поскольку они могли в случае необходимости скрыть его от посторонних глаз. Романтическая жилка в его характере не то чтобы отсутствовала напрочь, но располагалась она не там, где у большинства людей, и потому явления и вещи, которые принято называть романтическими, ее не задевали.
Слева от врезавшейся в глинистый косогор дороги из буйных зарослей крапивы поднимался покосившийся забор из проволочной сетки высотой в полтора человеческих роста, а справа над кронами деревьев виднелись посеребренные луной шиферные крыши дачного поселка. Над головой стремительной бледной тенью с распростертыми крыльями скользнула куда-то в сторону реки ночная птица, и спустя секунду из темноты донесся ее протяжный, тоскливый крик. Дорога, колеи которой смутно белели под луной, разделилась на две; одна, плавно изгибаясь, ныряла в гущу ивняка, которым заросла приречная луговина, а другая почти под прямым углом уходила направо, превращаясь в улицу. Это была самая крайняя и наименее населенная линия поселка, о чем свидетельствовали заросшие колеи и заметные даже при свете луны следы запустения.
Человек в рыбацкой амуниции, как ни странно, двинулся не прямо, к реке, а направо, к дачам. Чтобы попасть на обнесенную проволочной оградой территорию садового товарищества, ему пришлось отпереть ржавый висячий замок и открыть железную калитку. Калитке полагалось быть скрипучей, но она не издала ни звука, поскольку чья-то заботливая рука регулярно смазывала петли солидолом. Рыбак аккуратно, без стука, прикрыл ее за собой, а потом, как истинный российский дачник, просунув руки между прутьями, повесил на место и снова запер замок.
Теперь сторонний наблюдатель, случись таковой поблизости, решил бы, что объект наблюдения направляется не на реку, а с реки, не то передумав дожидаться утренней зорьки у костерка из ивовых сучьев, не то просто закончив установку браконьерских снастей – сетей, «телевизоров», донок и прочих изобретений, превращающих состязание человека и рыбы в хитрости и быстроте реакции в бессмысленный аттракцион невиданной жадности. Но никаких наблюдателей поблизости не было: даже те немногочисленные дачники, что оказались на своих участках посреди рабочей недели, сейчас спали без задних ног, намаявшись за день на полевых работах. Об их присутствии напоминал разве что запах навоза, который то и дело наплывал то справа, то слева, перебивая аромат цветущей сирени и наводя на печальные размышления о косности человеческой натуры. «Весенний день год кормит», – гласит старая поговорка. И настоящий, правильный российский дачник ведет себя в полном соответствии с этим перлом народной мудрости, вкалывая на своих шести сотках так, словно от этого и впрямь зависит продовольственная безопасность его семьи. И нередко доводит себя до инфаркта, падая носом в свежую борозду и превращая свой образцово-показательный огород в очередной памятник бессмысленному труду…
Человек, что шел сейчас, шурша по высокой траве резиновыми сапогами, меж вскопанных грядок и прикрытых целлофаном навозных куч, имел к огородничеству и садоводству такое же отношение, как и к рыбной ловле – то есть ровным счетом никакого. На всех этих ковырятелей земли, забрасывателей удочек, собирателей грибов и ягод, коллекционеров всех мастей, выжигателей по дереву, вышивателей крестиком, пачкателей холста и бумагомарак он взирал с равнодушным презрением: под ногами не путаются, и на том спасибо. Пусть тешат свою никчемность бессмысленными занятиями, призванными хоть как-то заполнить зияющую внутреннюю пустоту, если не смогли найти для себя настоящего, достойного дела! Пусть хвастают друг перед другом своими кабачками и вязаными ковриками, поют в народных ансамблях и фотографируются с убитыми из прихоти животными, тратя на это дни своей короткой жизни. Пока они бессмысленно губят только себя самих или бессловесных тварей, это их личное дело. Но те из них, кому вздумается причинить вред окружающим, должны помнить: хобби бывают разные, и охотиться можно не только на четвероногих, но и на двуногих скотов…
Человек в рыбацкой амуниции остановился перед невысоким, уже заметно покосившимся забором из набитых внахлест, почерневших от старости необрезных досок. Тот, кто строил забор, не потрудился их даже ошкурить, и теперь отставшая кора торчала во все стороны кривыми корявыми полосками, которые отнюдь не добавляли сооружению эстетической привлекательности. Забор почти на половину высоты утопал в мертвой прошлогодней траве, сквозь густые, спутанные космы которой с трудом пробивалась свежая зелень. Старая трава в свете луны казалась серебряной, а новая – черной, как китайская тушь. Она выглядела нехоженой, из чего следовало, что с начала дачного сезона здесь еще ни разу не ступала нога человека.
Побренчав связкой ключей, человек отпер калитку и вошел в заросший травой двор. Перед ним, поблескивая отраженным оконными стеклами лунным светом, стоял небольшой приземистый дом из силикатного кирпича и сосновых бревен, выглядевший, как это часто случается с редко посещаемыми дачами, недостроенным, обжитым и заброшенным одновременно. За домом на фоне подсвеченного луной неба темнели уже одевшиеся в молодую листву кроны старых плодовых деревьев. К дому был пристроен гараж, к которому вела дорожка из двух рядов старых, утонувших в дерне квадратных цементных плит. Стараясь ступать по плитам, чтобы лишний раз не мять траву, человек приблизился к гаражу и после непродолжительной возни одержал победу над заржавевшим механизмом висячего замка. Ржавые дверные петли взвизгнули, казалось, на весь поселок. Человек замер, прислушиваясь, но вокруг по-прежнему не было слышно ничего, кроме соловьиных трелей да оглушительного лягушачьего концерта. Отцепив от пояса солдатскую флягу в брезентовом чехле, человек просунул руку в щель приоткрытой двери и наугад обильно полил петли водой. Подождав несколько секунд, он снова потянул дверь на себя, и на этот раз она открылась без малейшего скрипа.
Закрыв ее за собой и заперев на засов (который тоже пришлось хорошенько смочить, прежде чем его удалось сдвинуть с места), человек снял шляпу с накомарником и надел на голову укрепленный на обруче из эластичной ленты налобный фонарь. Негромко щелкнула кнопка, и луч голубоватого света обежал длинное прямоугольное помещение с косым потолком, три стены которого были кирпичными, а одна, служившая по совместительству стеной дома, бревенчатой. В ней была прорезана дверь, к которой вела сколоченная из обрезков досок временная приставная лесенка, вид которой лишний раз напоминал о том, что на свете нет ничего более постоянного, чем временное.
Судя по интерьеру, этот гараж никогда не использовался по прямому назначению, выполняя функции сарая, куда без порядка и системы годами сваливалось все, чему не нашлось места в доме или на участке, – садово-огородный инвентарь, старая сломанная мебель, какие-то ведра, тазы, мятые баки, обрезки досок, одежда, которой побрезговал бы даже бомж, и прочий ни на что не годный хлам. Прямо у входа, прислоненные к стене, стояли две ржавые лопаты, грабли и сточенная коса на кривом самодельном косовище. Прихватив грабли и одну из лопат и оставив на их месте чехол с удочками, фальшивый рыбак осторожно, стараясь ничего не задеть, прошел в глубину гаража и остановился в метре от его задней стены.
Здесь на земляном полу стоял большой прочный ящик, который правильнее было бы назвать сундуком, если бы не его оливково-зеленая окраска и нанесенная по трафарету маркировка, наводившая на мысль о хищении казенного имущества, совершенном когда-то с территории воинской части. Крышка была откинута, позволяя видеть содержимое ящика, представлявшее собой крупные щепки, мелкие обрезки досок и клочья пакли, которой конопатились щели в бревенчатой стене. По замыслу того, кто все это сюда свалил, данные отходы строительства, видимо, предназначались для растопки печи. Но с тех пор прошли уже годы, если не десятилетия, и, оставаясь на протяжении всего этого времени нетронутым, этот запас горючих материалов автоматически приобрел статус ни на что не годного мусора, распространявшийся почти на все предметы, которые его окружали. Вообще, данная конкретная дача со всем ее содержимым поневоле вызывала из глубин памяти печальную шекспировскую строчку: «И начинанья, взнесшиеся мощно, сворачивая в сторону свой ход, теряют имя действия…»
«Рыбак» прислонил к стене лопату и грабли, аккуратно, без стука, опустил крышку ящика и, взявшись обеими руками за приколоченный к боковой стенке поперечный брусок, игравший роль ручки, с натугой отодвинул ящик от стены. На усеянном опилками и мелким мусором земляном полу остались глубокие борозды. Не обращая на это внимания, «рыбак» оттащил ящик подальше, чтобы не мешал, и взялся за лопату.
Земля под ящиком была достаточно рыхлой, и ржавая от долгого бездействия лопата входила в нее легко, почти без усилий. Рассыпающиеся на лету комья пологой кучкой ложились на пол у стены. Потом лопата наткнулась на что-то, отозвавшееся на прикосновение мягким глухим стуком. Человек отставил ее в сторону и, спустившись в неглубокую, по колено, яму, стал разгребать землю руками в рабочих перчатках, которые уже не были такими незапятнанно белыми, как вначале.
Вскоре на дне ямы стала видна очищенная от земли круглая пластиковая крышка примерно метрового диаметра. Поддев кончиками пальцев края, человек снял ее и положил на край ямы. Под крышкой обнаружился вместительный бак, тоже пластиковый, примерно на треть заполненный одинаковыми черными пакетами вроде тех, что предназначены для сбора мусора. Все они были плотно завязаны и лежали, насколько мог судить «рыбак», в том же порядке, в каком он их оставил в прошлый раз.
Он выбрался из ямы, отряхнул с перчаток приставшую землю и расстегнул лежащий на крышке деревянного ящика рюкзак. Послышался характерный шорох, и в свете налобного фонаря блеснул черным полиэтиленом еще один мусорный пакет, точно такой же, как те, что лежали в баке. Даже сквозь рабочие перчатки чувствовалось, какой он холодный: пролежав почти сутки в морозилке, его содержимое еще не успело до конца оттаять.
Отложив его в сторонку, человек вынул из рюкзака еще один пакет. Он был прозрачный, аккуратно запаянный, чтобы вовнутрь не проникло ни единой молекулы влаги. Сквозь отсвечивающий полиэтилен можно было разглядеть, что внутри лежит белая картонная папка с нанесенной типографским способом надписью «Дело №». Номера не было, а ниже на специальных линейках виднелось написанное от руки печатными буквами «Журбин Анатолий Георгиевич» и даты, последняя из которых была днем смерти фигуранта данного дела.
Человек аккуратно вложил запаянную в полиэтилен папку в черный пакет. При этом налобный фонарь ненадолго осветил лежащий внутри округлый предмет размером со средний кочан капусты. Не удержавшись, «рыбак» запустил руку в пакет и вынул его оттуда, чтобы сказать последнее «прости». Это оказалось нелегко: следуя распространившейся в последнее время моде, ресторатор Журбин стригся по-спортивному коротко, так что поднять его голову за волосы не было никакой возможности. Единственным удобным для захвата выступом на ней оказалось ухо, и, глядя в подернувшиеся мутной пленкой мертвые глаза, человек, прозванный Зулусом за свою страсть к коллекционированию человеческих голов, подумал, что эта сцена исполнена нелепого символизма. Как будто он, не удовлетворившись тем, что уже было сделано, решил наказать покойника еще раз, напоследок хорошенько оттаскав его за ухо: вот тебе, вот, будешь знать, как садиться пьяным за руль!
Это действительно было почти так же нелепо и дико, как и поступок тех неистовых болванов, что столетие назад вырыли из могилы и сожгли труп Распутина. Мертвым все равно, поэтому наказывать их – пустая трата времени. Как, впрочем, и разговаривать с их отсеченными головами, пролежавшими целые сутки в морозильной камере холодильника…
На мертвых щеках поблескивали, медленно стекая вниз, капельки воды, и казалось, что покойник плачет. Передумав произносить напутственную речь, Зулус небрежно засунул голову обратно в пакет, завязал горловину тугим узлом и небрежно бросил получившийся сверток в яму. Сверток с глухим стуком ударился о пластиковый край и с шуршащим шлепком упал на груду таких же свертков на дне бака. Снова спустившись в яму, Зулус плотно закрыл бак крышкой, засыпал обратно и утрамбовал вынутую землю, поставил на место ящик со щепой и разровнял граблями мусор. Затем, отставив грабли, поднял с пола какой-то прутик и уничтожил оставленные граблями параллельные бороздки. Спохватившись, откинул крышку ящика, очистил лопату от приставших комочков суглинка и вместе с граблями отнес на место у входа.
Он действовал спокойно и деловито, без спешки, потому что знал: бояться нечего и некого. Страшно было в самом начале, особенно в первый раз, когда надо было тайком приволочь на себе и зарыть в гараже здоровенный двухсотлитровый бак, а потом еще избавиться от вынутой земли. Теперь же захоронение превратилось в обыденную, рутинную процедуру, и он соблюдал предельную осторожность только потому, что заставлял себя все время помнить о такой необходимости. Расслабляться нельзя, твердил он себе; правосудие – это гигантская бездушная машина, которая затянет тебя в свои чугунные потроха и сотрет в порошок, если только ты по неосторожности позволишь ей вцепиться неторопливо вращающимися ржавыми шестеренками в краешек твоей одежды. Этот лязгающий древний агрегат может выплюнуть целым и невредимым убийцу, насильника, растлителя малолетних, но он беспощаден к тем, кто покушается на его прерогативы, хотя бы частично берет на себя его функции. Дряхлый механический монстр ненавидит, когда кто-то указывает на его ошибки и берется их исправить; его ни в чем не переубедишь, его не исправишь и не разрушишь, и единственный выход состоит в том, чтобы не попадать ему в зубы. А для этого надо быть очень-очень осторожным и осмотрительным…
Петли еще не просохли, и дверь закрылась беззвучно, как по маслу. Ржавый замок, поупрямившись с полминуты, тоже уступил. Зулус вышел со двора, закрыл и запер калитку и все тем же ровным, размеренным шагом, хлопая голенищами резиновых сапог, пустился в обратный путь.
Через полчаса он уже садился за руль оставленной на обочине лесной дороги машины. Не снимая шляпы, даже не подняв скрывающий лицо накомарник, он включил в салоне свет и вынул из внутреннего кармана камуфляжной куртки тощий потертый блокнот, в котором на глаз не хватало доброй трети страниц. Открыв его, Зулус первым делом вырвал еще три или четыре. Наверху одной из них было четко, разборчиво написано: «Журбин»; дальше шла неудобопонятная скоропись, состоявшая сплошь из сокращений вперемежку с какими-то цифрами и представлявшая собой поминутное жизнеописание покойного ресторатора, составленное на основе двухнедельных наблюдений за его передвижениями.
Колесико бензиновой зажигалки высекло сноп оранжевых искр, на кончике фитиля расцвел треугольный язычок пламени. Огонь лизнул краешек бумаги, окрасив его в коричневый цвет, и резво побежал вверх, на глазах разрастаясь, пускаясь в пляс и пожирая строчку за строчкой. Зулус выставил руку с горящей бумагой в окошко; невесомые хлопья пепла, догорая на лету, рассыпались в прах и ложились на землю, чтобы смешаться с ней после первого же дождя. Пальцы в хлопчатобумажной перчатке постепенно пятились, сантиметр за сантиметром уступая бумагу огню, пока в них не остался крошечный уголок, на котором уже не было ни одной буквы. Тогда Зулус выпустил горящий клочок и вернулся к своему блокноту.
Он разгладил блокнот ладонью на ступице рулевого колеса, оставив на бумаге немного насыпавшегося с перчатки песка, и прочел то, что было написано на первой из уцелевших страниц. Почерк у него был куриный, прямо как у терапевта с большим стажем работы, но, когда надо, он умел писать разборчиво. Вверху первой из оставшихся в блокноте страниц было старательно выведено: «Парамонов». Ниже снова шли шифрованные заметки о перемещениях намеченной жертвы. Пока черновые и немногочисленные, они должны были стать куда более полными и точными до того, как голова очередного вора и убийцы бесславно упокоится в закопанном в углу гаража на заброшенной даче пластиковом баке.
Глава 3
Юрий остановил машину и выключил двигатель. Нужное ему заведение располагалось на первом этаже обыкновенного жилого дома, за массивной, неприкрыто железной дверью, к которой вело бетонное крылечко из пяти довольно крутых ступенек. Слева от двери к стене была привинчена стеклянная, красная с золотом табличка с названием компании, справа – такая же, но поменьше, с распорядком работы. На крылечке, привалившись широким задом к железным перилам, покуривал атлетически сложенный субъект примерно одного с Юрием возраста. Вид у субъекта был угрюмый и неприветливый, чему немало способствовал красовавшийся на левой скуле пластырь, из-под которого во все стороны расплывался заметный даже с такого расстояния багрово-фиолетовый кровоподтек. Якушев недобро усмехнулся: похоже, он попал по адресу.
Первым делом он проверил карманы, выложив оттуда все лишнее – свои документы, сигареты, зажигалку, ключи от квартиры, бумажник и перочинный нож. Все это он беспорядочной кучей свалил в бардачок, а потом, подумав секунду, бросил сверху мобильный телефон. Твердо зная, что поступает в высшей степени неразумно (ибо для жителя сегодняшней Москвы нормальное человеческое поведение является верхом неблагоразумия), Юрий вышел из машины, запер центральный замок и, на ходу поправляя выбившуюся из-под ремня рубашку, целеустремленной походкой крайне занятого человека направился к крылечку.
Евгению Сидневу было тридцать три – возраст Христа, как любят выражаться люди, склонные украшать свою речь придуманными кем-то другим расхожими фразами. Прежде чем регулярную армию, в которой он служил в качестве офицера связи, вывели с Кавказа, он успел получить капитанский чин и приличных размеров дыру в легких, оставленную прошедшим навылет осколком. Выписывая его из госпиталя, врач сказал, что он родился в рубашке. Сиднев его, конечно, поблагодарил, но словам его не поверил: сам он себя счастливчиком вовсе не считал. О каком везенье можно говорить, если в неполные тридцать лет ты уже законченный инвалид без надежды на выздоровление?
Через два года после демобилизации он женился на своей однокласснице. Не без помощи родителей молодые приобрели двухкомнатную квартирку в старом пятиэтажном доме на задворках Ленинградского шоссе и зажили там небогато, но в мире и согласии. Сиднев работал дома – как теперь принято выражаться, посредством удаленного доступа, – делая в Интернете что-то такое, во что его супруга даже не пыталась вникнуть ввиду своей полной неспособности к техническим дисциплинам и непростых отношений с электрическими приборами, которые регулярно ломались, казалось, от одного ее взгляда. Сама она была учительницей начальных классов и мечтала только об одном: чтобы их с мужем финансовое положение когда-нибудь улучшилось настолько, что они смогли бы, наконец, позволить себе завести ребенка.
Неудивительно, что при таком положении вещей деньги были для Сиднева больной темой. Скрягой он, конечно, не стал, но случайно подслушанный однажды разговор двух соседок-пенсионерок о том, что коммунальники якобы бесстыдно обирают жильцов их не блещущего повышенной комфортабельностью щелястого панельного курятника, не оставил его равнодушным. Поскольку коммунальные платежи составляли весьма существенную часть семейных расходов, Евгений предпринял кое-какие изыскания – спасибо Интернету, для этого даже не пришлось выходить из дома – и без особого труда выяснил, что старухи правы: их таки обирают, и не по мелочи, а весьма и весьма чувствительно.
Попытки добиться правды в управляющей компании, как водится, ничего не дали. Письменные ответы были невнятными, руководство уклонялось от личных встреч, трубы текли, батареи не грели, а суммы, ежемесячно выставляемые к оплате, неуклонно росли. Потом жильцы многоквартирных домов получили по закону право брать управление домами на себя, для чего следовало всего лишь организовать общественный совет и оформить немногочисленные документы в районной управе. К этому моменту Евгений незаметно для себя оброс целой когортой сочувствующих и готовых поддержать его соседей, которые единогласно избрали его своим полномочным представителем. Сделано это было с немалым облегчением: человек он был волевой, энергичный – как-никак, офицер, хоть и бывший, – грамотный, с математическим складом ума, а главное – не связанный необходимостью ежедневно ходить на работу. Один из главных аргументов в его пользу – то, что вполне вероятные неприятности целиком достанутся ему, – остался неозвученным, но Евгений хорошо знал (или думал, что знает), на что идет. Возможные осложнения его не страшили: он не дрогнул на войне, так неужто побоится засевшего в офисе управляющей компании мелкого ворья?
Дальше события покатились как по маслу: общее собрание жильцов, оформление документов и затянувшаяся без малого на год борьба с компанией за то, чтобы взять управление домом на себя. Закончилась эта борьба известной сценой, имевшей место в кустах сирени во дворе дома, где обитал Евгений Сиднев, а заодно и Юрий Якушев.
Все это поведала Юрию жена Сиднева Марина, когда немного успокоилась и заново обрела способность не только произносить отдельные слова, но и составлять из них связные, осмысленные фразы. К тому времени пострадавший в битве за справедливость отставной капитан уже спал глубоким наркотическим сном в палате интенсивной терапии. Жизни его, по словам хирурга, всерьез ничто не угрожало, делать в пустом приемном покое было нечего, и Юрий по настоянию все того же хирурга почти силой увез Марину Сидневу домой, благо жили они по соседству, более того – в одном подъезде.
Известие о том, что в одном с ним подъезде, оказывается, проживает незнакомый ему ветеран чеченской войны, в общем и целом не произвело на Юрия особенного впечатления. Через Чечню прошли многие – каждый по-своему, кто как сумел, – и это, вопреки широко распространенному мнению, вовсе не повод для того, чтобы с разбега вешаться на шею каждому, кто там побывал. Якушев, во всяком случае, такого желания не испытывал, особенно после нескольких встреч с теми, кого считал когда-то своими боевыми друзьями. А Сиднев и вовсе был ему никем – какой-то офицер связи, перед самым отъездом с Кавказа поймавший в легкие осколок.
Проблема завышенных коммунальных платежей его тоже не слишком беспокоила. Он давно поручил банку, в котором держал свои не шибко завидные сбережения, оплачивать за него счета, и с легким сердцем свалил с плеч долой эту тяжкую повинность. Деньги не являлись для него такой проблемой, как для Сиднева, особенно после получения гонорара за проведенную в конце прошлой осени маленькую спасательную операцию (ту самую, после которой новоявленный дагестанский родственник осчастливил его скорострельным подарком американского производства). Но и он нашел свои финансы не на помойке и не имел ни малейшего желания безропотно отдавать их всякому, у кого появится желание ими завладеть. Однако…
А что, собственно, «однако»? Тут в его рассуждениях снова наличествовал странный пробел, этакий небольшой логический скачок, напоминающий неуклюжий пируэт галантного кавалера, который, прогуливаясь под ручку с дамой (и обязательно на первом свидании, когда так необходимо произвести хорошее впечатление!), за мгновение до того, как закончить начатый шаг и поставить ногу в начищенном до блеска ботинке на землю, замечает в сантиметре от своей подошвы собачью кучку.
Получалось у него примерно следующее: хорошо, пусть ваш Сиднев – ангел во плоти; сам я в этом не уверен, но пусть будет так. Мне на него, если честно, наплевать – как, кстати, и ему на меня. Отстаивая интересы жильцов дома, он, конечно, заботился и обо мне, но ведь я-то его об этом не просил! Если вы запаслись продуктами на год вперед, что-то из ваших запасов, несомненно, перепадет и живущей за плинтусом мыши, но вы же не станете требовать от нее благодарности или, того смешнее, ответной услуги! Короче говоря, вся эта борьба за справедливость меня не касается, и, если кто-то считает, что я кому-то что-то должен, пусть подъедет в институт Склифосовского и спросит у врача, что стало бы с больным Сидневым, если бы мимо места, где его убивали, случайно не проходил я… О! Даже не так, у меня есть формулировка получше: что бы с ним было, если бы я послушался вас, умников, и не пошел выносить вечером мусор, потому что это – к безденежью? А? Молчите? То-то.
В общем, я вашему драгоценному Сидневу уже помог. Дальше начинается уже не помощь, а месть, сведение счетов, находящееся далеко за рамками того, что принято считать нормой поведения в социуме. Сами вы почему-то выходить за эти рамки не торопитесь – прямо скажем, страшновато, – а от меня чего-то хотите… А я, по-вашему, кто – Бэтмен? Робин из Шервуда? Зорро?
«Ну что ты несешь? – с неловкостью подумал Юрий, приближаясь к крыльцу управляющей компании. – Ведь никто же тебя ни о чем ни словечком не попросил! И не просил никто, и необходимости нет никакой, а ты все равно прешься, как «Фердинанд» на русские окопы… Соскучился, захотелось косточки размять? Ничего, сейчас тебе их разомнут. Вон тот красавчик с осветительным прибором под левым глазом начнет, а если один не справится, коллеги помогут…»
Ему опять вспомнился Баклан. Баклан бы в этой ситуации не рассуждал, Баклан сейчас был бы уже в конторе и доламывал там все, что подвернулось под руку – мебель так мебель, морды так морды… Потому что необходимость дать кому-то в рыло он всегда определял не умом, а сердцем. И если бы его заставили эту необходимость обосновать, ответил бы просто: «Да видно же, что козел, чего тут еще обосновывать?! Стариков обворовывал? Женщину (которую, кстати, тоже обворовал) по лицу бил? Мужа ее, инвалида войны, который тебя, ворюгу, за руку схватил, бейсбольными битами до смерти забить пытался? Ну так какие еще тебе нужны обоснования? Получи, фашист, гранату!»
…Однажды, вернувшись на базу из тяжелого рейда, они были вынуждены написать на имя командира части рапорты с объяснениями по поводу частично утраченного вооружения и амуниции. Их никто ни в чем не обвинял (по крайней мере, пока, до рассмотрения), это была стандартная бюрократическая процедура, и Юрий лично процентов на девяносто был уверен, что рапорты их командир читать не станет, а просто подержит на всякий случай в сейфе до первого боя, под который этого утраченного железа можно будет списать хоть вагон.
Его заблуждение было развеяно буквально на следующий день, когда на утреннем построении полковник Логинов вскользь, как бы между прочим, сообщил сержанту Луговому, что слово «гранатомет» пишется с «т» на конце, а не с «д», как написал он. Дружное ржание выспавшейся, отдохнувшей и предвкушающей плотный завтрак десантуры было прервано командой «Отставить!»; тут бы шутке и кончиться, ан не тут-то было. Вечером Баклану выдали новый гранатомет, а уже наутро обнаружилось, что выстрелы к нему аккуратно разрисованы поперечными черно-желтыми полосками и снабжены неровно вырезанными из тетрадного листа бумажными крылышками, а к тубусу при помощи скотча прикреплен еще один листок с надписью: «Гранатомёд. Не влезай – убьёд!»
На этот раз ржали гораздо дольше – кто-то до самой смерти, а те, кому посчастливилось выжить, до дембеля. Авторство исторической записки принадлежало, без сомнения, Жуку, это было ясно всем, даже не слишком сообразительному Баклану. Понять-то он все понял, но вот сделать ничего так и не сумел: Жук бегал намного быстрее. А теперь ни шутника, ни объекта розыгрыша уже не было в живых, и воспоминание о том, как они погибли, не прибавило Юрию ни оптимизма, ни желания сберечь в целости свой драгоценный эпителий.
Легко поднявшись по ступенькам, он благосклонно кивнул курившему на крылечке субъекту с фингалом и вежливо сказал:
– Здравствуйте.
Субъект не ответил на приветствие, ограничившись тем, что угрюмо посветил на Юрия своим фонарем. Помимо фонаря, у него наличествовало кровоизлияние в глазное яблоко, из-за чего белок был ярко-алым. Заметив, куда смотрит Юрий, мордоворот от ЖКХ опустил на место сдвинутые на лоб солнцезащитные очки. Никуда не торопясь, Якушев внимательно ознакомился с висящим на стене расписанием, а затем подчеркнуто сверился с часами. Время было рабочее, и он решительно потянул на себя тяжелую железную дверь.
Внутри присутственное место оказалось чистеньким, заново отделанным и где-то даже уютным. Разумеется, налет официальной скуки сохранился и в этом современном интерьере, но в нем, слава богу, не осталось ничего от той постылой, убогой, бездушной и нищей казенщины, что была свойственна подобным местам в не столь уж отдаленные времена. На стене холла, куда открывалась входная дверь, даже висело зеркало, в котором Юрий без особого удивления увидел своего вчерашнего крестника, который, наполовину просунувшись в приоткрытую дверь и снова сдвинув на лоб очки, пристально смотрел ему в спину. Узнать того, кто подбил ему глаз, детина, конечно, не мог. Скорее всего, его подозрительность объяснялась просто: уверенная манера держаться, высокий рост и широкие плечи посетителя вызывали у этого гамадрила инстинктивный зуд в кулаках. Кроме того, у обитателей этой конторы наверняка имелись веские основания опасаться незнакомцев с военной выправкой.
Юрий не стал оборачиваться: бал еще даже не начался, и время сбрасывать маски пока не наступило. Голова в зеркале убралась обратно на улицу, дверь медленно, будто в сомнении, закрылась. Сдержанно улыбнувшись, Якушев проследовал в выстланный ковровой дорожкой короткий коридор, в торце которого обнаружилась дверь с табличкой «Приемная».
В приемной наличествовало все, чему полагается быть в подобных местах: от матерчатых вертикальных жалюзи на широком окне до миловидной секретарши, отгороженной от внешнего мира замысловато изогнутой стойкой. Из-за стойки выглядывала только голова, которая улыбнулась Юрию ослепительной заученной улыбкой и звонким голоском примерной ученицы осведомилась, что ему угодно.
Юрий огляделся. Помимо входной, в приемной имелись еще две двери. На той, что справа, было написано: «Директор» и ниже: «Парамонов Виктор Тарасович». За дверью налево, если верить табличке, обитал заместитель Виктора Тарасовича. Эта дверь была слегка приоткрыта; изнутри густо тянуло табачным дымом и не доносилось ни звука. Зато за закрытой дверью директорского кабинета слышались бубнящие мужские голоса, и Юрий, отвечая на вопрос секретарши, молча указал пальцем на эту дверь.
– Туда нельзя, там совещание, – все так же бодро прощебетала девица.
– Знаю, я как раз на него опаздываю, – объявил Якушев. – Меня ждут, меня вызывали…
Он устремился к двери. Секретарша вскочила с явным намерением броситься наперехват, и Юрий узнал, что ее зовут Снежаной. Это явствовало из бэджика, прикрепленного к ее блузке в районе левой груди. Якушев остановил ее повелительным жестом.
– Не нужно обо мне докладывать, Снежаночка, – сказал он с улыбкой. – Я же говорю: меня ждут.
– А разве мы знакомы? – изумленно пискнула секретарша.
Ответа не последовало, поскольку дверь директорского кабинета уже закрылась за посетителем.
* * *
Павел Макарович Басалыгин был мужчина крупный, представительный, хотя из-за сильно развитой мускулатуры казался грузноватым, особенно когда впечатляющий рельеф его могучих мышц скрывала одежда. А поскольку начальнику отдела легендарного МУРа не пристало являться на службу с голым торсом, подчиненные за глаза звали его Мамонтом, и не из-за одной только массивной фигуры. Сходство с ископаемым слоном усиливалось из-за не совсем правильного строения черепа: у полковника Басалыгина был высокий, заметно сужающийся кверху лоб, увенчанный шапкой густых, жестких, как проволока, прямых, торчащих в разные стороны волос. Портрет дополняли непропорционально широкая переносица, маленькие, отстоящие непривычно далеко друг от друга недобрые глазки и толстый, загибающийся к верхней губе нос, действительно смахивающий на свернутый слоновий хобот. В сочетании с некоторой сутулостью, тяжелой, обманчиво медлительной походкой и крупными, заметно оттопыренными ушами все это придавало полковнику Басалыгину ярко выраженное сходство с карикатурным изображением мамонта, о чем он превосходно знал и чем беззастенчиво пользовался, когда случалась необходимость припугнуть задержанного или кого-нибудь из подчиненных.
В тот день у Павла Макаровича возникла нужда заглянуть в один из райотделов, на «земле» которых находил свои жертвы маньяк по прозвищу Зулус. Басалыгин, и не он один, денно и нощно ломал голову, придумывая способ вычислить и изловить новоявленного борца с преступностью, который уже успел в одиночку совершить столько убийств, что их хватило бы для вынесения пожизненных приговоров членам крупной преступной группировки. Все его оперативники были заняты, как однорукий расклейщик афиш, и, когда появилась необходимость утрясти кое-какие чисто бумажные вопросы с местными сыскарями, полковник взял это мелкое, но хлопотное дело на себя, благо его путь из точки А в точку Б сегодня по счастливой случайности пролегал как раз мимо упомянутого райотдела.
В том, что случайность была именно счастливая, Басалыгин убедился не сразу. Счастливой случайностью для него сейчас стала бы разве что встреча посреди улицы с Зулусом, несущим под мышкой голову своей последней жертвы, ресторатора Журбина. Визит же в райотдел воспринимался им лишь как мелкая досадная помеха, с которой приходилось мириться, если он не хотел специально посылать сюда кого-то из своих людей, оторвав от куда более важных дел ради этой ерунды.
Местное начальство он предупредил о своем визите заранее, часа за полтора, сделав соответствующий телефонный звонок. Начальство в лице подполковника с фамилией, которую Басалыгин по телефону грешным делом не разобрал, очень удивилось и предложило доставить товарищу полковнику требуемую информацию прямо на Петровку. От предложенной услуги товарищ полковник отказался, объяснив, что, если бы имел охоту дожидаться второго пришествия, сделал бы официальный запрос. В ходе короткой телефонной беседы у него сложилось впечатление, что подполковник с неразборчивой фамилией не очень-то обрадован предстоящим визитом. В этом, конечно, не было ничего личного: все еще очень живо помнили большую нервотрепку, связанную с воцарением на московском престоле нового мэра, и не ждали от посещения представителей главка ничего хорошего. Впрочем, все эти переживания боящегося слететь с насиженного места подполковника Павла Макаровича интересовали лишь постольку, поскольку давали ему повод слегка позлорадствовать по дороге в райотдел, где сейчас, наверное, судорожно наводили порядок.
Прямо на входе к нему сунулся с рапортом дежурный. Отстранив его нетерпеливым жестом, Басалыгин двинулся было дальше, и тут его внимание привлек сидящий в именуемом «обезьянником» помещении для задержанных гражданин высокого роста и довольно крупного телосложения с подозрительно знакомой физиономией. Посмотрев на Басалыгина, как на пустое место, задержанный равнодушно отвел глаза и уставился в угол, где не было ровным счетом ничего интересного, кроме нацарапанной на штукатурке чем-то острым надписи: «МЕНТЫ КАЗ…» Светлая рубашка на нем была разорвана, кремовые брюки забрызганы чем-то темно-бурым, на щеке темнела ссадина. Картину дополняли скованные наручниками запястья, и, следуя по коридору, полковник пытался припомнить, где, в какой ориентировке он видел эту откровенно протокольную рожу. Потом он вспомнил, резко затормозил посреди коридора, поколебался секунду и продолжил путь в прежнем направлении, резонно рассудив, что за пару минут задержанный никуда не денется.
– А что это за тип у вас в обезьяннике? – как бы между прочим спросил он у сержанта, который почтительно крался рядом, указывая дорогу через мрачный, полутемный лабиринт пропахших казенной безнадегой узких коридоров с выкрашенными масляной краской стенами и угрожающе нависшими над головой низкими потолками.
– Полчаса как доставили, товарищ полковник, – браво отрапортовал сержант. – Документов нет, говорить не хочет. Устроил мордобой в офисе управляющей компании.
– Какой компании?
– Ну, одна из этих, знаете, частных, которые по коммунальному хозяйству…
Сержант замолчал. По тому, как красноречиво он подвесил в воздухе конец фразы, чувствовалось, что от комментариев он воздерживается исключительно из уважения к гостю с самой Петровки и что, будь его воля, он с удовольствием заставил бы сидящего в клетке дебошира и тех, кто пострадал от его противоправных действий, поменяться местами.
– Сильно начудил? – все тем же нейтральным тоном осведомился Басалыгин.
– Если потерпевшего послушать, так там убытков на миллион долларов, – уже с откровенной неприязнью сообщил сержант. – Нет, пару столов, конечно, ему придется оплатить. Компьютер там, пятое-десятое… Охрану немножко помял, но, как я понял, без тяжких телесных… Интересно, что это за охрана такая, если он их, четверых здоровенных жлобов, в одиночку уделал? Да и в кабинете, ребята говорили, все правление сидело, а они тоже мужики крепкие. Так и им, говорят, на орехи досталось. Я так думаю: или уж очень крепко допекли, или парень – настоящий спец.
– Спец, – неопределенно хмыкнул полковник.
От этого слова веяло гарью сожженных аулов, запахами горных трав и тротилового дыма, в нем слышалось журчание скачущего с камня на камень ледяного ручья, заунывная песня ветра в древних развалинах и короткий щелчок нашедшей цель снайперской пули. «Да, – подумал полковник, – Спец. Что характерно, с большой буквы… Удивительно, что они так легко отделались. И удивительно, что он вообще полез в драку из-за какой-то там квартплаты или протекающей трубы. Неужели так сильно сдал? А по виду вроде не скажешь…»
– Прямо по коридору, товарищ полковник, – прервал его размышления сержант, – последняя дверь налево. Кстати, там и потерпевший – заявление пишет, качает права… Разрешите идти?
– Идите. И с задержанным там… без излишеств, ладно?
Павлу Макаровичу хотелось добавить: «А то голову оторвет», – но он сдержался. «Не влезай – убьёд», – с невольной улыбкой вспомнил он. Это была одна из любимых, понятных только узкому кругу посвященных шуточек тех ребят из разведбатальона ВДВ, которые отбили тогда еще подполковника Басалыгина у захвативших его в плен боевиков. Они появились на сцене как раз в тот момент, когда подполковнику собирались отрезать голову перед объективом видеокамеры, и сказать, что он был рад их видеть, значило бы вообще ничего не сказать.
Времена, увы, переменились, но долг оставался долгом, и Басалыгин намеревался вернуть его любой ценой. Тем более что цена в данном случае не выглядела непомерной: узнав, что речь идет всего-навсего о легких побоях и сломанной мебели, полковник вздохнул с облегчением, поскольку в глубине души побаивался, что Спец и в самом деле оторвал кому-нибудь голову, – ему, успевшему послужить и в ВДВ, и даже в спецназе ГРУ, это было раз плюнуть, особенно под горячую руку.
В просторном кабинете, осененном державным триколором и портретом действующего президента, навстречу ему поднялся из-за стола, сияя радушной улыбкой, невысокий, крепко сбитый мужчина с тронутыми сединой усами, в кителе с подполковничьими звездами на погонах. Фамилия его была Мацуев (Павел Макарович прочел это на привинченной к двери табличке), и потому улыбка хозяина кабинета не вызвала у гостя ожидаемой реакции: зная, что неправ, и ни с кем не делясь своим персональным мнением по этому щекотливому вопросу, Басалыгин инстинктивно недолюбливал милиционеров кавказского происхождения – все понимал, но все равно недолюбливал. А может быть, как раз потому и недолюбливал, что все про них понимал. Про русских милиционеров он все понял еще раньше, но уже тогда менять профессию было безнадежно поздно.
Здесь же, сидя спиной к двери на отодвинутом от стола для совещаний стуле, сидел и корпел над заявлением потерпевший – крупный темноволосый мужчина с расплывшейся талией, в дорогом пиджаке с оторванным рукавом и в демократичных джинсах, из-под которых виднелись остроносые ковбойские сапоги, выглядевшие так, будто были пошиты из змеиной кожи. Эти сапоги сразу бросались в глаза, и Басалыгин изумленно приподнял бровь: ему не так давно случилось свести знакомство с одним деятелем от ЖКХ, и тот просто обожал именно такую обувь.
«Не многовато ли совпадений на один квадратный метр казенной площади?» – подумал Басалыгин, пожимая сухую крепкую ладошку выбежавшего навстречу гостю подполковника Мацуева. Стоя рядом с громоздким Мамонтом, он выглядел даже миниатюрнее, чем был на самом деле.
– Рад знакомству, товарищ полковник, – нараспев заговорил он. – Очень, очень рад!
– Ну, для радости, принимая во внимание повод, я лично оснований не вижу, – слегка окоротил его Павел Макарович. – Да и знакомиться мы с вами толком еще и не начинали…
Голос у него был глубокий, басистый, какой нечасто услышишь на улице. Говоря, он смотрел не на Мацуева, а на потерпевшего, который по-прежнему сидел к нему спиной. Он так и не обернулся, но перестал писать, прислушиваясь к разговору. При каждом слове, произнесенном Басалыгиным, его голова по сантиметру уходила все глубже в плечи, словно он твердо вознамерился втянуть ее в грудную клетку, как черепаха в панцирь. Сие означало, что Павел Макарович не обознался и что внезапно возникшую перед ним дополнительную проблему можно разрешить легко, буквально в два счета.
– А что это за проходимец у вас в кабинете, подполковник? – брюзгливым начальственным тоном осведомился он.
– Это потерпевший, – слегка растерялся Мацуев.
– Не позволяйте ему водить себя за нос, – громогласно посоветовал Павел Макарович, – никакой это не потерпевший, а самый настоящий проходимец. Девяносто шестой пробы. Если даже ему и закатали в глаз, так, поверьте, за дело… Ну, так и есть! – воскликнул он, когда потерпевший, осознав, что продолжать прикидываться промокашкой бесполезно, повернул к нему потерявшее симметрию, перекошенное на сторону, наполовину залитое чудовищным кровоподтеком лицо. – Что с вами, Парамонов? Лошадь лягнула?
– На меня напали, – всем своим видом и тоном являя оскорбленное достоинство, сообщил Парамонов. – И мне не нравится тон, которым вы, представитель закона…
– А мне не нравится наглость, с которой вы, до сих пор оставаясь на воле исключительно по нашему недосмотру, являетесь сюда и строчите свои кляузы, – перебил его полковник. – И делаете это почему-то не в дежурной части и не в кабинете оперуполномоченного, а тут, за столом начальника райотдела. Вам что, подполковник, нечем заняться?!
– Гражданин настаивал на встрече со мной, – сообщил Мацуев.
Чуйка у подполковника была, как у хорошей охотничьей собаки, смену направления ветра он уловил мгновенно, и теперь в его тоне сквозило холодное неодобрение в адрес жалобщика, попусту отнимающего у него драгоценное время. Взгляд его при этом нехорошо вильнул, из чего Басалыгин сделал вывод, что если подполковник и не находится у Парамонова на жалованье, то наверняка уже получил – если не всю сумму отката, то ее половину или хотя бы гарантии того, что она будет доставлена ему в ближайшее время.
– Если вы случайно не в курсе, – сказал ему Павел Макарович, – спешу сообщить, что данный гражданин недавно проходил по делу об убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений – по предварительному сговору, группой лиц… Проходил в качестве заказчика и организатора; разумеется, собственноручно махать дубиной у него кишка тонка…
– Это клевета, – возмущенно расправил плечи Парамонов. – Вы прекрасно знаете, что дело закрыто за отсутствием состава преступления!
– За отсутствием улик, – поправил Павел Макарович, – а это разные вещи, Парамонов. Ну вот что, скажите на милость, вы там пишете? Нет-нет, уберите, читать этого я не стану, пока начальство не обяжет, да и тогда еще трижды подумаю, прежде чем взять вашу писанину в руки.
– Товарищ полковник, – осторожно, но решительно вмешался в их увлекательную беседу Мацуев. – При всем уважении я хотел бы напомнить…
– Что хозяин здесь вы, – закончил за него Басалыгин. – Да, конечно. Виноват, погорячился. Продолжайте, прошу вас. Я сейчас уйду и не буду вам больше мешать. Все, чего я хотел, это чтобы вы поняли, с кем связываетесь. И с чем. Думаете, это злостное хулиганство и все? Да вы увязнете в этом деле на полгода, если не на полный год! Вы не боитесь, Парамонов, что задержанный напишет на вас встречное заявление? – обратился он к обладателю ковбойских ботинок. – Он или кто-то другой, неважно, – не боитесь?
Разбитая, опухшая физиономия Парамонова приобрела обиженное, угрюмое выражение, взгляд единственного уцелевшего глаза уехал куда-то в нижний угол кабинета.
– То-то и оно, – правильно истолковав эту пантомиму, констатировал Павел Макарович. – Что ж вы тогда сюда приперлись?
– Да не припирался я! – окончательно сдаваясь, огрызнулся Парамонов. – Они меня сюда силой привезли!
– Ай-яй-яй, – сочувственно покачал головой полковник. – Прямо силой? Надо же, какие невоспитанные!
– Секретарша, дура, испугалась и наряд вызвала. Я-то знаю, что с вами лучше не связываться – неважно, прав или виноват, все равно держись подальше. Вы и святому дело сошьете, да так ловко, что он еще и после Страшного суда досиживать будет.
– Э! – демонстрируя знаменитый кавказский темперамент, вскинулся подполковник. – Не надо, уважаемый, нехорошо так говорить, мы при исполнении!
Парамонов сгреб со стола и скомкал в кулаке свое заявление.
– Все ясно, – тоном безвинной жертвы тоскливо констатировал он. – Короче, я пошел.
– Скатертью дорога, – напутствовал его Басалыгин. – Вы не возражаете, подполковник? Да, еще один вопрос. Чего от вас хотел задержанный? Надеюсь, не часы и бумажник?
– Это к делу не относится, – огрызнулся Парамонов.
Павел Макарович повернулся к нему всем корпусом, ссутулился сильнее обычного, грозно сдвинул брови и набычился. У его подчиненных это называлось «включить мамонта» и обычно производило на оппонентов полковника неизгладимое впечатление. Старый трюк не подвел и на этот раз: Парамонов горестно оскалился, с присвистом выдохнул сквозь стиснутые зубы и, глядя мимо полковника, неприязненно процедил:
– Ну, требовал, чтобы я передал жильцам управление домом, ну и что?
– От души советую выполнить требование, – сказал Басалыгин. – Во избежание повторения инцидента. В другом месте и в другое время, заметьте. Где-нибудь, где уже никто не сможет помешать вашей беседе. Жадность – плохой советчик, Парамонов. Так можно лишиться не только шальных денег, но и здоровья. Или, если попытаетесь снова прибегнуть к своим излюбленным методам, свободы.
– Ха, шальных! – опять оскорбился Парамонов.
– Пошел вон, – поворачиваясь к нему спиной, сказал полковник.
Позади него с деликатным стуком закрылась дверь.
– Совсем плохой человек, э? – светским тоном осведомился Мацуев.
– Я видел и похуже, – проворчал Басалыгин. – Но нечасто. Документы приготовили?
– Да, пожалуйста, уважаемый. – Подполковник взял со стола и протянул ему тощую обтерханную папку. – Что слышно о Зулусе?
– Еще одна жертва, – рассеянно сообщил Басалыгин, бегло пролистывая содержимое папки. – Вчера обнаружили… Да, подполковник, у меня к тебе еще одна просьба. Личная.
– Весь внимание, – заверил Мацуев.
– Ты этого… задержанного своего… Ты его отпусти, ладно? Без протокола, без ничего. Под мою ответственность.
– Знакомый? – сообразил Мацуев.
– Жизнь мне спас, – сообщил Басалыгин.
Он хотел уточнить, где это было, но вовремя вспомнил, с кем говорит, и прикусил язык. Однако подполковник все понял без слов.
– Война, война, – вздохнул он. – Что делается, а?! Жили, как братья, теперь друг друга стреляем, как бешеных собак… Нехорошо, э!
– Нехорошо, – согласился Басалыгин, укладывая папку в портфель. – И что с того? Взятки брать тоже нехорошо. Все это знают, и все берут.
Мацуев едва заметно мигнул.
– Зачем «все»? – вступился он за честь прогрессивного человечества. – Не все!
– Но многие, – застегивая портфель, со значением произнес Басалыгин.
– Многие, – кивая в знак согласия, загрустил Мацуев.
– Вообще, большого греха я в этом не вижу, – задушевным тоном продолжал Павел Макарович. – Надо только знать, у кого можно брать, а у кого нельзя. У Парамонова, например, я бы и сигарету взять поостерегся. А уж донимать по его просьбе того парня, что сейчас сидит у тебя в обезьяннике, я бы злейшему врагу не посоветовал.
– Понимаю, уважаемый! Что я, по-твоему, совсем глупый?
– Нет, – вздохнул Басалыгин, – ты не понимаешь. Это не потому, что он мой знакомый. Это потому, что, если припечет, он может не только к Парамонову, но и к тебе на огонек заглянуть. Раньше, по крайней мере, мог. И поверь мне на слово: если этого паренька разозлить, его весь твой личный состав не остановит.
– Такой серьезный, э?
– Срочная в Чечне, спецназ ГРУ, потом – разведка ВДВ. И все время на переднем крае.
– Э-э-э! – с понимающим видом протянул кавказец. – Так они зря кричали: ворвался, избил, зарезал!.. Это он им просто пальчиком погрозил: ай, нехорошо!
– Вот теперь ты действительно все понял, – усмехнулся Басалыгин. – Ну, будь здоров, коллега. Документы я тебе непременно верну, как только хорошенько ознакомлюсь.
– Не торопись, уважаемый, – пожимая протянутую руку, сказал подполковник, – читай сколько хочешь. Пойдем отпустим твоего человека.
– Не возражаю, – пробасил Басалыгин и первым вышел из кабинета.
Глава 4
Черная полковничья «Волга» въехала во двор и остановилась в метре от припаркованной напротив входа в офис управляющей компании машины Якушева. Юрий и Басалыгин выбрались наружу, и полковник первым делом полез за сигаретами. Угостив спутника, сигареты которого вместе с документами и всем остальным до сих пор лежали в бардачке, Павел Макарович закурил сам и с наслаждением потянулся всем своим крупным телом.
– Хорошо, – мечтательно произнес он. – Люблю май! Все кругом такое свежее, зеленое с голубым, чистенькое, как с иголочки… Воздух в Москве, конечно, не тот, что в горах…
– Зато стреляют меньше, – вставил Якушев. – Спасибо, что подбросил. И вообще.
– Не за что, – сказал Басалыгин. – Вы, ребята, на меня такой должок повесили, что я за всю жизнь не расплачусь. Это во-первых. А во-вторых, как говорится, «спасибо» не булькает. Надо бы принять по пять капель за встречу – за вас, за нас и за спецназ.
– Прямо сейчас? – с сомнением переспросил Якушев. – Мне бы хоть переодеться, что ли…
– Это верно. – Сделав вид, что только теперь спохватился, вспомнив о делах, озабоченно сказал Басалыгин. Он посмотрел на часы, хотя и так знал, что до конца рабочего дня еще очень далеко. – Делу время, потехе час. Так созвонимся?
– Пиши номер, – сказал Юрий.
Полковник с готовностью достал мобильный телефон и под диктовку Якушева внес в память номер. Нужно было ехать, работа не ждала, но он все медлил, экономно посасывая сигарету.
– Слушай, – сказал он, – а что это ты там, в «обезьяннике», вздумал от меня нос воротить? Не узнал, что ли?
– Тебя не узнаешь, – усмехнулся Спец. – Просто подумал: а вдруг ты не узнал? Или узнал, но… В общем, сам понимаешь. Раньше было одно, теперь другое, ты по ту сторону решетки, я – по эту, так чего я стану, как мартышка, ладошки сквозь прутья тянуть?
– Гордый, – неодобрительно констатировал Басалыгин.
– Уж какой уродился, – пожал плечами Якушев.
– Чего ж ты, такой гордый, из-за квартплаты в драку полез? Совсем с деньгами туго?
– Ну, во-первых, я не купец на паперти в церковный праздник, чтоб деньгами направо и налево сорить. Да и они, прямо скажем, не нищие. – Юрий кивнул в сторону знакомого крылечка с железной дверью. – Потому и не нищие, что ворье. Деньги ведь можно только двумя способами приобрести: или заработать, или отнять у того, кто уже заработал. А когда на протяжении какого-то времени получаешь бабки прямо из воздуха, организм к этому привыкает. И отвыкать не хочет.
– Не хочет, – вздохнул Басалыгин. – Ты смотри, Юрик, поаккуратнее с ними. Это хорошо, что меня случайно в райотдел занесло. А если б не занесло, одному богу известно, сколько эпизодов они бы на тебя навесили. И каких. Да и на воле ходи с оглядкой. Этот Парамонов – еще тот фрукт. В позапрошлом году его люди вот такого же, как ты, правдолюба, борца за справедливость во дворе подстерегли и насмерть забили. Жена с ним была – выжила, но осталась инвалидом на всю жизнь. И никаких зацепок! Всем понятно, чья это работа, а доказать ничего невозможно. Так что смотри. Ты, конечно, парень крепкий, с подготовкой, какая им и не снилась, но тоже, прямо скажем, не из железа сделан. Проломят череп или ткнут перо под лопатку, и никакая подготовка не поможет.
– Так это, значит, не впервые, – задумчиво пробормотал Юрий, казалось пропустивший мимо ушей прозвучавшие из уст полковника милиции призывы к осторожности. – Слушай, я, как вернулся, не перестаю удивляться: это мир так изменился или я просто раньше многого не замечал?
– Не сталкивался, вот и не замечал, – сказал Басалыгин. – А что значит «не впервые»? Он что, опять за старое взялся?
– А он прекращал?
Мимо них, шурша по асфальту импортной резиной огромных титановых колес, прокатился большой японский внедорожник. Заднего стекла у него не было, на его месте хлопал прихваченный часто наклеенными крест-накрест кусками липкой ленты кусок пыльного полиэтилена. Джип остановился у крыльца офиса, и Юрий не удивился, когда из него вышел Парамонов – уже в другом, целом пиджаке, новой рубашке и больших солнцезащитных очках, частично скрывавших следы утреннего разговора в кабинете.
– Вот скотобаза, – сказал Якушев чуть ли не с восхищением. – Я думал, они эту машину спрячут где-нибудь в другом городе, а он на ней раскатывает, как ни в чем не бывало!
– А что машина? – без особого интереса спросил Басалыгин и снова покосился на часы.
Парамонов запер центральный замок, неприязненно блеснул в их сторону стеклами очков и, торопливо поднявшись по ступенькам, скрылся в офисе.
– Так бы и придушил, – признался Юрий и в двух словах описал позавчерашнее происшествие.
– Вчера был выходной, – закончил он, – так что визит пришлось отложить. А ты говоришь – квартплата…
– Н-да… – Басалыгин заметно помрачнел. – Надо написать заявление. Свидетели есть?
– Я и есть свидетель, – сказал Юрий, – остальные – потерпевшие. А что я напишу? Что по собственной глупости влез в драку, о причинах которой знаю с чужих слов?
– А этот твой активист – он напишет?
Якушев пожал плечами.
– Откуда я знаю? Напишет, наверное. Не он, так жена.
– Надо, чтобы написали, – сказал полковник.
– Сначала им надо до этого дожить, – напомнил Юрий. – Что-то мне не нравится самоуверенность господина Парамонова. Когда человек начал решать вопросы такими методами, он уже не остановится. Это же так просто: нет человека – нет проблемы! Очень большое искушение.
– Может, присмотришь?
– По-твоему, мне больше нечем заняться? Я им кто – нянька? Телохранитель? У нас что, милиции нет?
– Милиция расследует дело по факту, – в свою очередь напомнил Басалыгин. – Мы просто не в состоянии приставить наряд к каждому, кто считает, что ему угрожает опасность. И даже к тем, кому она реально угрожает, не можем.
– Ладно, – буркнул Юрий, которому разговор о возможностях и границах компетенции столичной милиции казался решительно пустопорожним. – Этого вы не можете, того не можете… А что вы вообще можете? Выправить разрешительные документы на винтовку вы можете? Вот вы, полковник Басалыгин, можете?
– А что, есть такая необходимость? Вообще-то, нормальные люди сперва получают разрешение, а уж потом приобретают нарезной ствол…
– Подарок, – сказал Юрий. – Отказаться было нельзя, продать рука не поднимается, а сдать вам – ну, с какой стати? Подарок ведь!
– Ладно, это дельце мы как-нибудь обстряпаем, – подумав секунду, пообещал Павел Макарович. – Я уже и забыл, сколько с тобой проблем! Полчаса, как встретились, а я уже весь в должностных проступках, как новогодняя елка в огоньках.
– Прямо-таки как елка, – начал было Юрий, но тут дверь офиса открылась, и с крыльца, внимательно глядя под ноги и осторожно ступая, чтобы не кувыркнуться с высоких каблуков, спустилась секретарша Снежана.
Издалека секретарша смотрелась не хуже, чем вблизи, и, пока она переходила дорогу, мужчины молчаливо наслаждались этим приятным зрелищем. Девушка направлялась прямо к ним; это было уже не так приятно, поскольку шла она сюда явно не затем, чтобы назначить одному из них свидание.
Так оно и оказалось.
– Виктор Тарасович просил вам передать, – поздоровавшись и одарив их своей заученной кукольной улыбкой, колокольчиком прозвенела секретарша, – что, если вы не оставите его в покое, он позвонит в прокуратуру. Он сказал, что будет жаловаться на вас в любом случае, но за преследование и шантаж придется отвечать отдельно. Извините, – добавила она явно от себя.
– Тьфу, – сказал Басалыгин.
– Передайте Виктору Тарасовичу, что мы сейчас уходим, – сказал Юрий. – И еще передайте, что, если он не успокоится и сделает хотя бы малейшую попытку давить на Сиднева, я его убью. Оторву голову и собакам брошу. Запомнили? Так и передайте.
– Черт, – сказал Басалыгин, когда девушка ушла, – жалко, совсем времени нет!
– Всё-всё, – сказал Юрий, – не задерживаю.
– Да я не о том! – с досадой отмахнулся полковник. – Я – вообще. На работе ад кромешный, ни одного свободного человека, ни минуты спокойной… А было бы небесполезно взять этого слизняка в разработку, размотать на всю катушку и упечь годиков на пятнадцать – двадцать.
– Местным поручи, – предложил Юрий.
– Бесполезно, – вздохнул полковник. – Тут у него явно все схвачено. Я их, считай, на голый понт взял, чтоб тебя вызволить. А чтобы заставить своими руками свернуть шею курице, несущей золотые яйца, с ними придется работать по-настоящему плотно – плотнее даже, чем с самим Парамоновым. Так что, ей-богу, проще обойтись без них.
– Ну, давай, я его и вправду убью, – предложил Юрий.
– Думай, что говоришь, – проворчал полковник. – И кому.
Они разошлись по своим машинам, договорившись созвониться, как только позволят обстоятельства. Полковничья «Волга», водитель которой все это время маялся, сидя за рулем, круто вывернув колеса, объехала машину Юрия и укатила, раздраженно фырча глушителем. Якушев уселся за руль, растолкал по карманам свое имущество, включил двигатель, закурил и, пока машина прогревалась, проверил, не звонил ли кто, пока он прохлаждался в милиции, а аппарат, без которого современный человек уже и не мыслит свое существование, лежал в бардачке.
Пропущенных звонков не было. Мобильник Якушева мог молчать неделями. Давно к этому привыкнув, Юрий лишь изредка вздыхал, привычно отмечая, что окружен какой-то зоной вакуума, в которую другие люди попадают крайне неохотно и очень ненадолго. Сунув аппарат в карман, он включил передачу, плавно отпустил сцепление и поехал домой. Когда он проезжал мимо джипа Парамонова, его так и подмывало посигналить, но он сдержался, решив, что на сегодня приключений достаточно.
* * *
Где-то над дальним микрорайоном опять висела грозовая туча, в лучах полуденного солнца казавшаяся особенно темной, почти черной. Там глухо погромыхивало и изредка сверкали бледные при дневном свете вспышки молний. Порывами налетавший с той стороны ветерок гнал по асфальту пылевые бурунчики или, подхватив какую-нибудь бумажку, гонял ее кругами по тротуару, пока та не застревала в траве газона или не улетала на проезжую часть, где еще долго беспорядочно вилась и порхала в тугих вихрях расталкиваемого мчащимися во весь опор автомобилями воздуха. Пахло молодой зеленью, пылью, выхлопными газами и озоном; со стороны кухни тянуло дымком и вкусным запахом жарящегося на углях мяса, который время от времени перебивал густой, жирный дух чебуреков. Вырезанный полукруглыми фестонами край полотняного тента с рекламой крупной пивоваренной компании то повисал неподвижно, то принимался трепетать, как вымпел на корме идущего навстречу надвигающемуся шторму корабля. С соседнего столика сдуло пустой пластиковый стаканчик, и он, бренча, укатился к холодильнику с напитками.
Виктор Тарасович Парамонов вытряхнул из лежащей на столе пачки сигарету, чиркнул зажигалкой и закурил. Молоканов опаздывал. Проклятый мент всегда вел себя как любовница олигарха, и с этим приходилось мириться, причем сразу по двум причинам: во-первых, он крепко держал Виктора Тарасовича за горло, а во-вторых, был ему, увы, необходим. Когда речь идет о шантажисте и вымогателе, быть нужным и держать за горло – не всегда одно и то же, но майор Молоканов действительно был Виктору Тарасовичу нужен.
На дебошира, который накануне вломился в офис и учинил там настоящий погром, расшвыряв охранников, как слепых котят, Парамонову было, по большому счету, начхать с высокого дерева. Его угроза, переданная секретаршей, у которой не хватило ума ее скрыть или хотя бы перефразировать, оставила Виктора Тарасовича равнодушным: он был не из тех, кто боится, он был тот, кто сам пугает. Ему попался крепкий орешек – не первый и наверняка не последний, и что с того? На каждый орех найдется управа, и там, где бессильны зубы, пригодится молоток. Пуля всегда права, потому что за ней остается последнее слово. Исполнителей искать не придется, они под рукой – как обзавелся в лихих девяностых привычкой держать в заднем кармане несколько личных волкодавов, так до сих пор и не отвык, тем более что это очень часто оказывалось весьма удобно, – а в случае какого-нибудь форс-мажора на сцену выйдет Молоканов со своей стаей оборотней в погонах и в два счета уладит любую проблему. Так уже было в позапрошлом году, когда они только-только познакомились. Оперативники МУРа во главе с Молокановым расследовали убийство, совершенное гориллами Виктора Тарасовича по его поручению. То есть убивать представителя так называемой общественности им никто не поручал, эти кретины просто перестарались, опьянев от крови и криков жертв, но дело было сделано, и Парамонову как организатору этого зверского преступления грозил солидный срок.
Молоканов был опер опытный, прожженный, с отличной интуицией и мог, бегло ознакомившись с материалами дела, сразу же безошибочно угадать, кто виноват, кто сядет и даже на какой срок. Он не стал ходить вокруг да около, поскольку понимал: малейшее промедление может сделать процесс необратимым, и тогда законность восторжествует, оставив его, майора Молоканова, без крупной суммы в европейской валюте. Не стал он также хитрить и прибегать к иносказаниям, а при первой же личной встрече предельно ясно и четко обрисовал Виктору Тарасовичу его перспективы, а также способы избежать отсидки с точным указанием цены каждого из них.
Парамонов, в свою очередь, всегда отличался практичным складом ума. Твердо зная, что скупой платит дважды, он предпочел раскошелиться по максимуму и не прогадал: сразу же после заключения сделки все улики против него волшебным образом испарились, свидетели начали один за другим отказываться от своих показаний и таинственно исчезать из поля зрения следствия. Дело развалилось, не пройдя и полпути до суда, и Виктор Тарасович вышел сухим из воды, хотя и с камнем в лице Молоканова на шее. Он не сетовал на эту обузу: за все на свете приходится платить, да и камень может пригодиться в любой момент – его можно положить под ноги, чтобы перебраться через лужу, или ахнуть им кого-нибудь по затылку. В любом случае, когда делаешь бизнес, свой человек в милиции – как выражаются уголовники, штемп, – не помешает.
Компания испитых мужчин за соседним столиком бурно обсуждала результаты последнего футбольного матча. Виктор Тарасович футболом не увлекался и болельщиков, честно говоря, не понимал. Сколько можно надеяться на чудо, болея за команду, которая умеет только проигрывать, а играть не умеет и учиться не хочет? Это что, какая-то форма мазохизма? Ну, хорошо, допустим, на внутренних чемпионатах кто-то все-таки выигрывает. А что в этом толку, если ты точно знаешь, что лучшие игроки твоей страны в подметки не годятся не то что бразильцам, но даже немцам и французам, а составленная из них сборная не то что выиграть чемпионат мира – даже попасть на него не может?
Официантка в несвежем переднике принесла и поставила перед ним пластиковую тарелку с шашлыком и завернутый в бумажную салфетку столовый прибор – вилку и нож все из того же пластика. Мясо, к счастью, было не пластиковое и очень неплохо пахло. Потушив в пепельнице сигарету, Парамонов осторожно, чтобы не сломать, вонзил в него тупые зубья вилки, глотнул пива и обмакнул мясо в кетчуп, лужица которого расплылась по донышку тарелки. Экспериментировать, пытаясь разрезать свинину так называемым ножом, он не стал: пришел в дешевую тошниловку – веди себя соответственно, а корчить принца крови бесполезно – все равно ничего не получится.
Шашлык, к его некоторому удивлению, оказался недурен. Кривясь от боли в разбитом лице, Парамонов стал жевать, наблюдая за тем, как с запада надвигается гроза. Туча заняла собой уже добрую четверть неба, вспышки молний стали ярче, а гром больше не напоминал глухое урчание в животе у кого-то из алкашей за соседним столиком. Порывы ветра усиливались, заставляя женщин на улице испуганно хвататься за норовящие задраться юбки, а высаженные на газоне деревья – раскачиваться и кланяться, шелестя молодой нежно-зеленой листвой. Над улицей, как воздушный змей невиданной, нелепой конструкции, реял подхваченный ветром полиэтиленовый пакет – то взмывал под облака, то пикировал, как атакующий фронтовой штурмовик, то принимался танцевать в воздухе над головами прохожих медлительный, ныряющий менуэт. Парамонов невольно засмотрелся на этот танец, не подозревая, что среди множества глаз, которые наблюдают за ним в данный момент, есть один, вооруженный мощным оптическим прицелом.
Зулус спохватился, осознав, что попусту тратит время, и снова отыскал стеклянным глазом окуляра сидящего за столиком открытой уличной забегаловки Парамонова. Пакет отвлек его, потому что был точь-в-точь такой, какими он пользовался, когда прятал свои трофеи. Он был как знак свыше, его вид наводил на мысли о том, что справедливость скоро восторжествует в очередной раз, и это было хорошо.
Зулус знал, что безуспешно пытающиеся напасть на его след ищейки между собой называют его маньяком. Они были неправы: пропасть между серийным убийцей и маньяком гораздо шире, чем думает обыватель, зачастую уверенный, что это одно и то же. Он вовсе не был сумасшедшим, приносящим кровавые жертвы своему безумию; он просто выполнял свою работу, и то, что его до сих пор не нашли, означало, что он неплохо с ней справляется.
Через прицел снайперской винтовки Драгунова жертва была видна как на ладони. Парамонов жевал, не забывая то и дело прикладываться к бокалу с пивом. Половина лица у него распухла и почернела, на переносице поблескивали солнцезащитные очки – видимо, кто-то уже пытался если не восстановить регулярно попираемую этим подонком справедливость, то хотя бы отомстить, стравить пар, дав выход душащей его бессильной злобе. Зулус находил такой способ сведения счетов нелепым, годным разве что для слабаков. Ему не раз приходилось пускать в ход кулаки, но делалось это всегда ради достижения определенной цели, не имеющей ничего общего с местью: запугать, подчинить своей воле, предупредить о возможных последствиях. Побои – не цель, а средство, в них нет завершенности, заключенной в старой поговорке, согласно которой горбатого может исправить только могила.
Не переставая жевать, Парамонов посмотрел на часы. Зулус оторвался от прицела, тоже посмотрел на часы и сделал пометку в лежащем на ступице рулевого колеса обтерханном блокноте. Потом аккуратно зачехлил прицел, вложил его в футляр, а футляр спрятал в перчаточное отделение. Снятый с привычного места на казеннике винтовки прицел, как обычно, вызывал желание вернуть его туда, где он должен быть, и использовать по прямому назначению, которое заключается не в том, чтобы подглядывать, а в том, чтобы наводить оружие в цель. И, как обычно, утешало лишь то, что отсрочка временная и что по ее истечении долгожданный миг настанет и пуля ударит точнехонько туда, куда укажет обращенная острием кверху черная галочка визира.
Запустив двигатель, Зулус бросил прощальный взгляд на кафе, где сидел Парамонов. С такого расстояния без оптики тот выглядел просто светлым пятнышком на фоне синего тента; его хотелось стереть мокрой тряпкой, как птичий автограф с капота. Мягко передвинув рычаг коробки передач, Зулус дал газ, и машина плавно тронулась с места, вклинившись в плотный поток уличного движения.
Подхваченный очередным порывом ветра черный мешок для мусора стремительно набрал высоту, а затем вошел в крутое пике, как атакующий противника полиэтиленовый камикадзе. Парамонов видел, как он на несколько мгновений распластался по решетке радиатора мчащейся в сторону Кольцевой иномарки, а затем, соскользнув вниз, угодил прямо под колесо. Виктору Тарасовичу стало интересно, сумеет ли он после этого взлететь, но тут рядом с кафе затормозил черный «фольксваген-туарег», и он мигом забыл о пакете: это была машина Молоканова.
Майор выбрался из-за руля и, косясь на надвигающуюся грозовую тучу, направился к кафе. Он был невысокий, плотный, круглолицый, с невыразительными, будто смазанными чертами лица, к которому словно навек прикипело кислое, недовольное выражение. В одежде майор предпочитал спортивный стиль – разумеется, в понимании современных дизайнеров одежды. Китайские швеи тоже внесли в его облик свою лепту, так что, будучи одетым с иголочки, Молоканов все равно выглядел так, словно неделю спал не раздеваясь. Справа под мышкой майор держал барсетку, которая зрительно уравновешивала вздутие на левом боку под легкой спортивной курткой, означавшее пистолет в наплечной кобуре.
– Да, – поздоровавшись и заказав себе пива с орешками, сказал Молоканов, – теперь вижу, зачем ты меня позвал. Что за наезд?
Парамонов криво усмехнулся (поскольку иначе, с учетом обстоятельств, усмехаться теперь просто не мог) и осторожно потрогал двумя пальцами синяк.
– Дело не в наезде, с наездом я разберусь сам – слава богу, не впервой. Дело, Гена, в твоем начальнике. Придержи его. Этот Мамонт меня, ей-богу, достал!
– Поменьше божись, – посоветовал майор. – А то он услышит и заинтересуется: кто это там, внизу, меня так часто поминает? Может, человеку помощь нужна? Приглядится, а тут – мама моя дорогая!.. А может, уже пригляделся? Может, это, – он показал на приближающуюся грозовую тучу, – по твою душу?
– А может, по твою? – огрызнулся Парамонов.
– С чего это вдруг? Я сижу тихо, как мышка, и ничьих имен всуе не поминаю. Если поминаю, то исключительно по делу, а это не считается.
Он без спроса, прямо пальцами взял с тарелки Виктора Тарасовича кусок мяса, обмакнул его в кетчуп и целиком отправил в рот.
– Мм, недурно!
Парамонов толчком придвинул к нему тарелку с оставшимися двумя кусочками шашлыка. Аппетит пропал: при одной мысли о том, чтобы есть из тарелки, в которой ковырялся своими бледными пальцами этот упырь, к горлу подступала тошнота.
– Заказать тебе еще? – спросил Виктор Тарасович.
Молоканов перестал жевать и некоторое время многозначительно переводил пристальный взгляд своих бесцветных невыразительных глазок с лица Парамонова на тарелку и обратно.
– Спасибо, – сказал он наконец, – проголодаюсь – сам закажу. Я натурой не беру, предпочитаю наличный расчет. И, кстати, времени у меня – кот наплакал. Зачем звал, Парамонов?
Виктор Тарасович отодвинул тарелку в сторону, на край стола. Майору принесли пиво и блюдечко с арахисом. Он бросил в рот пару орешков, хлебнул из бокала и на мгновение зажмурился от удовольствия.
– Ну, – сказал он, – так чем тебе не угодил мой дорогой шеф?
Парамонов коротко объяснил, в чем дело. Молоканов длинно вздохнул и укоризненно покачал лысеющей головой.
– Когда ж ты угомонишься-то, а? Что ж тебя, дурака, все время на уголовщину-то тянет? Сто раз тебе было сказано: не умеешь – не берись! Нынче не девяносто первый и даже не двухтысячный, а ты все быкуешь, как солнцевский браток на вещевом рынке. Вот и добыковался, мозги твои бараньи. И что прикажешь теперь делать? Легко сказать – придержи Мамонта! Он мне, как ты правильно подметил, не подчиненный, а начальник. Как я его придержу? Тем более что наскочил он на тебя сам, лично, и этот тип, который тебе в табло закатал, по твоим же словам, у него в дружках ходит.
Майор хлебнул пива, пожевал орешек, с кислым и неприязненным выражением лица глядя мимо Парамонова.
– Не знаю, – сказал он. – Ну вот не знаю, что теперь с тобой делать! Послать тебя ко всем чертям – выгребайся сам, как умеешь, раз ума не хватило сидеть тихо? Так ты же таких дров наломаешь, что… Э, да что там! Ты их уже наломал, в такой угол себя загнал, что дальше просто некуда. Если так пойдет и дальше, через месяц ты будешь уже за решеткой – хлюпать носом и давать показания, в том числе и против меня. Мамонт, если вцепится по-настоящему, уже не отпустит. И что ты мне предлагаешь – погасить полковника московской милиции? Это, братец, уже теракт, это дело возьмут на контроль на самом верху и, уж будь уверен, размотают в два счета. Тем более что все знают, как мы с Мамонтом друг друга любим. Придержи… Ха! Вот ведь придумал: придержи… Да мне, если хочешь знать, проще тебя грохнуть, чем… А, да что с тобой говорить!
– Гена, я ведь за ценой не постою, – негромко напомнил Парамонов.
– Ясно, что не постоишь, – криво усмехнулся Молоканов. – Стал бы я иначе с тобой разговаривать… А только я тебе уже сто раз говорил и еще раз повторяю: как бы тебе и таким, как ты, ни хотелось обратного, деньги решают не все. Далеко не все!
Он стоял к улице спиной и очень забавно смотрелся на фоне своего «туарега» с этими своими разговорами о низменной сущности презренного металла. Такую машину на майорскую зарплату не купишь, а купив и не отстегнув кому следует, не проедешь на ней и километра – заметут и будут колоть, пока не расскажешь, как, на какие такие шиши ты, майоришка занюханный, приобрел это дорогое заграничное диво. «Цену набивает, сволочь, – с ненавистью подумал Парамонов. – Взять бы тебя за загривок, сунуть башкой в сортир и держать, пока не захлебнешься!»
– Дело не в деньгах, а в их количестве, – ввернул он старую поговорку, которая в данном случае звучала вполне уместно. – Ты не обижайся, но неподкупные менты, по-моему, живут только в телевизоре. Твой Мамонт – он что, не из того же теста, что и все?
– Из того же, из того же, – покивал Молоканов. – Только замешен покруче. И на меня волком глядит – кстати, по твоей же милости. Как взъелся тогда, полтора года назад, так до сих пор успокоиться не может, сука. Хоть ты его и вправду шлепни, пока какую-нибудь подлянку не швырнул…
В небе опять громыхнуло. Парамонов вдруг осознал, что уже некоторое время не слышит доносящихся из-за соседнего столика пьяных голосов, обсуждающих сравнительные качества игроков, фамилии которых ничего ему не говорили, и повернул голову. Троица алкашей, одинаково приоткрыв волосатые пасти, прислушивалась к их разговору.
Молоканов тоже посмотрел в ту сторону и вперил в алкашей тяжелый, обманчиво равнодушный взгляд. Мужички вдруг страшно заторопились и, оставив на столике недопитое пиво, потянулись к выходу.
– Эй, славяне! – окликнул их майор.
Мужики замерли в странных позах, как будто Молоканов не произнес вполне безобидную фразу, а выстрелил поверх голов. Медленно, с огромной неохотой они обернулись, и тогда майор спросил:
– Который час, не подскажете?
Взгляд его непрерывно перебегал с одной испитой физиономии на другую, как будто стараясь ухватить и запомнить как можно больше деталей, чтобы потом, когда придет время, никого ни с кем не перепутать.
– П-половина второго, – посмотрев на дешевые наручные часы, с запинкой сообщил один из алкашей.
– Угу, – вместо благодарности пробурчал Молоканов и отвернулся, утратив к собеседникам видимый интерес.
В небе громыхнуло так, что где-то рядом истошно заголосила автомобильная сигнализация, и сейчас же, без предупреждения, на горячий пыльный асфальт обрушилась стена воды. Ливень хлестал мостовую, от которой столбом валил пар, крупные капли неистово барабанили по капотам и крышам припаркованных автомобилей, разлетаясь в мельчайшую водяную пыль, которая окружала все вокруг туманным ореолом. Заранее ежась и втягивая головы в плечи, любители футбола один за другим нырнули под рушащиеся с грохочущего и сверкающего голубыми вспышками неба потоки и в мгновение ока скрылись из вида за пеленой дождя.
– Вот не было печали, – глядя им вслед, пробормотал Парамонов. – Чего ты разорался, как больной слон?
– Забудь о них, – небрежно отмахнулся майор. – Допускаю, что кто-то из них постукивает какому-нибудь местному оперу. Но нас он не знает, ничего конкретного сказать не может, а стало быть – забудь. У тебя своих забот хватает. Да и у меня тоже. И это очень хорошо, потому что наш дорогой Мамонт сейчас занят не меньше, а больше, чем мы с тобой, вместе взятые. У него столько головной боли с этим Зулусом, что ему просто не до тебя…
– С кем? – не понял Виктор Тарасович.
– Ах да, ты же не в курсе… Есть в нашем славном городе такой маньячила – Зулус. Кто такие зулусы, знаешь? Это такое африканское племя охотников за головами. Так вот, наш псих от них недалеко ушел, за что и прозван Зулусом. Отрезает своим жертвам головы, уносит с собой и где-то прячет. Причем прячет хорошо, тщательно – второй год орудует, больше десятка жертв, и ни одной головы не нашли, даже случайно…
– Бред какой-то, – сказал неприятно впечатленный этим рассказом Парамонов.
– Угу, бред. Я что, похож на распространителя сплетен?
– Непохож, – признал Парамонов. – Но это же отлично! Если это правда, значит, твоему Мамонту действительно не до меня!
– Ишь, обрадовался, – хмыкнул Молоканов. – Рано радуешься! Во-первых, прихлопнуть тебя он может мимоходом, одной левой – возьмет у терпилы заявление, соберет свидетельские показания, сунет тебя в СИЗО и запустит дело в производство. А дальше оно само пойдет как по маслу, считай, без его участия. Какой-нибудь гаденыш из прокуратуры подошьет протоколы допросов, все оформит надлежащим порядком и спокойно пойдет в суд за квартальной премией и благодарностью в личном деле – приговор-то верный, даже к гадалке не ходи! А следом за тобой и меня на цугундер потянут. Ты ж молчать не станешь, верно?
Парамонов криво пожал одним плечом.
– Не станешь, не станешь. – Молоканов сделал большой глоток из бокала. – Даже если б и хотел, все равно не продержишься. Методика допроса – это, брат, наука. Даже если бить не будут – а они, скорее всего, будут, – все равно расколешься. Но этого мы постараемся не допустить, и не в этом, в сущности, дело. Я ведь не зря о Зулусе-то вспомнил. Знаешь, в чем тут главная фишка? Не в головах, головы – это просто внешний эффект, проявление его психического отклонения. Дело, дорогой мой, в том, что клиентов своих этот отморозок выбирает среди таких, как ты, – заподозренных в совершении тяжких преступлений, но отпущенных за отсутствием улик или даже осужденных, но стараниями адвокатов получивших минимальные или условные сроки… Вот, к примеру, последний случай, буквально на днях. Один владелец сети ресторанов по пьяному делу сбил насмерть беременную бабу с шестилетним ребенком – машиной сбил, понятное дело, а не шаром в кегельбане… Отмазался. А если быть до конца честным, то это я его отмазал. Выслушал в суде оправдательный приговор, а наутро нашли его без головы. Сечешь? И так каждый раз: только человек вздохнет с облегчением: уф, пронесло! – а Зулус уже тут как тут. Есть, между прочим, версия, что он из ментов, потому что гасит только тех, кто попадал в поле зрения компетентных органов. Типа устраняет допущенные коллегами недоработки. Ну, вроде супергероя из комиксов. Так и вижу, как он по вечерам перед зеркалом примеряет костюм Бэтмена или Человека-Паука…
– Да ну тебя к чертям! – в сердцах произнес Парамонов, и небо ответило на его слова новым раскатом грома. – Можно подумать, у меня нет других поводов для беспокойства, так тут еще и ты со своими страшилками…
– Ну, правильно, – тыльной стороной ладони утирая с губ пивную пену, согласился майор, – Москва большая, авось пронесет… А если нет? Я-то ничего не потеряю, кроме твоих денег, а вот тебе зимой даже шапку не на что будет надеть.
– Ты что, серьезно? – понемногу начиная осознавать, что майор и впрямь не шутит, с крайне неприятным холодком под ложечкой спросил Парамонов. – И что ты предлагаешь?
– Свалить на время, – быстро ответил Молоканов. – Залечь на дно и не отсвечивать. Только сначала приведи в порядок дела, разберись и со своим терпилой, и с этим его защитником… Хуже нет, когда человек отсутствует, а его дела движутся сами по себе. Закруглись по-быстрому и линяй – лучше всего на машине, чтоб поменьше следов. А я, пока тебя не будет, попробую угомонить нашего Мамонта. Он мне давно жить мешает, пора его сливать. Есть у меня кое-какие наработки в этом направлении, думал подождать чуток, да, вижу, не получится – сам на рожон лезет, ископаемое… Да, и самое главное. Ты алиби себе обеспечь – ну, на то время, пока твои обломы будут здесь дела улаживать… Или взять это на себя? Я могу – сам понимаешь, за отдельную плату.
– Сам разберусь, – буркнул Парамонов. – У меня с этой сволочью свои счеты, так что обойдусь без тебя.
– Ну-ну, – сказал Молоканов. – Если что – ты знаешь, как меня найти. И не тяни, это не в твоих интересах. Имей, пожалуйста, в виду: как только увижу, что ситуация начинает выходить из-под контроля, я тебя просто укокошу. И мордоворотов твоих перестреляю, как бешеных собак, пока они не начали давать показания.
– Да ты сам маньячила, – пытаясь скрыть растерянность за неуклюжей шуткой, сказал Парамонов.
– Ничего подобного, – возразил Молоканов. – Я просто хочу жить – по возможности на свободе и не испытывая нужды в финансовых средствах. И до сих пор мне это неплохо удавалось. А знаешь почему? Потому что я никогда не подставляюсь сам и не позволяю другим подставлять себя. А ты сейчас как раз тем и занимаешься, что пытаешься меня подставить. Да, не спорю, я беру с тебя деньги за решение твоих проблем. Я не отказываюсь, но не забывай, что своя рубашка ближе к телу. На кичу я с тобой не пойду ни за какие деньги, так что постарайся больше меня не подводить.
Он залпом допил пиво, небрежно сунул в карман куртки переданный Парамоновым пухлый незапечатанный конверт и, не прощаясь, направился к выходу. Дождь еще шел, но гроза уже кончилась. Туча уползла, устало погромыхивая где-то вдалеке, сквозь рваные клочья облаков проглянуло солнце, и стекающие с провисшего тента нити дождевой воды весело сверкали в его лучах, как занавес из стеклянных бус. Заранее прикрывая лысую макушку барсеткой, Молоканов нырнул под этот занавес и побежал, неуклюже прыгая через мелкие прозрачные лужи, к своему дорогому не по чину внедорожнику.
– Твою ж мать, – с тоской пробормотал Виктор Тарасович Парамонов, не в силах понять, по воле какого злого волшебника менее чем за сутки из преуспевающего, пускай и нечистого на руку бизнесмена превратился в беззащитную дичь, на которую не охотится только ленивый.
Глава 5
Мысленно утирая со лба несуществующий трудовой пот, Юрий Якушев сунул в бумажник квитанцию и неторопливо, чтобы не привлекать к своей персоне излишнего внимания, отошел от приемного окошка камеры хранения.
На деле окошко представляло собой вовсе не окошко, а снабженную прочной стальной решеткой дверь, за которой находилось просторное сумрачное помещение, разгороженное поднимающимися почти до потолка, загроможденными ручной кладью стеллажами. Там, внутри, недобрым призраком шастала взад-вперед, перетаскивая тяжеленные чемоданы и сумки, толстая неопрятная тетка в грязноватом синем халате. Она была дьявольски неприветлива и смотрела с подозрением. Юрий не осуждал ее за хмурый вид: такой работе не позавидуешь, особенно в наше неспокойное время, когда любая из принятых тобой на хранение сумок может содержать хоть сотню килограммов тротилового эквивалента, который в недобрый час за доли секунды вознесет тебя в верхние слои атмосферы вместе с половиной вокзала. И, словно этого было мало, где-то поблизости расположился туалет, который, судя по заполняющему подвальный этаж зловонию, давно нуждался не только в капитальном ремонте, но и в элементарной уборке. Воняло так, что Якушев со своей специальной подготовкой с трудом выстоял короткую очередь в камеру хранения, и ему стоило немалых трудов взять себя в руки и произвести все необходимые действия, направленные на то, чтобы отвлечь внимание приемщицы от того, что она принимала.
Усилия инструкторов учебного центра спецназа ГРУ не прошли даром. Настоящим гипнотизером, каких не так уж мало среди кадровых офицеров внешней разведки, Юрий, конечно, не стал, но на какое-то время запорошить глаза мог кому угодно. Правда, приемщица оказалась крепким орешком. Чтобы навести на человека морок, надо как минимум обратить на себя его внимание, а это в данном случае было нелегко: для тетки в синем халате все клиенты были на одно лицо, и интересовалась она ими не больше, чем мухами, вьющимися над навозной кучей. Зато на сдаваемый в камеру хранения багаж эта церберша смотрела взглядом профессиональной таможенницы, а пластиковый футляр, который Юрий принес на вокзал, хоть и смахивал на плоский атташе-кейс, но все же не настолько, чтобы не привлечь к себе внимания, уж очень странные для чемодана у него были габариты. Поэтому Юрию пришлось отвлечь тетку парой стандартных приемов, и он вздохнул с облегчением, только когда чреватый массой неприятностей скорострельный подарок Магомеда Расулова благополучно разместился на железной полке между туго набитой, неподъемной на вид черной дорожной сумкой и чьим-то здоровенным, в половину человеческого роста, рюкзаком на алюминиевой раме.
Прятать винтовку на вокзале было довольно глупо: Юрий сильно напоминал себе пресловутого гражданина Корейко с его набитым миллионами чемоданчиком. Но держать оружие дома было еще глупее, особенно теперь, когда он снова попал в поле зрения родной московской милиции. Ничего страшного или хотя бы из ряда вон выходящего пока не случилось, но Юрий давным-давно на горьком опыте убедился, что в его случае поговорка «Пришла беда – отворяй ворота» срабатывает почти в ста процентах случаев. Интуиция уже давно нашептывала ему что-то невнятное, но явно тревожное, а теперь ее шелестящий шепоток решительно заглушил громкий, ясный голос рассудка. Там, в темном дворе, среди кустов чахнущей от старости сирени, Юрий ввязался не в пьяную драку и не в случайную потасовку из-за женщины или невзначай оброненного оскорбления. Здесь речь шла о больших деньгах, получаемых незаконным путем, а в подобных случаях люди обычно не склонны останавливаться на полпути, предоставляя событиям идти своим чередом. Он сделал свой ход, отбив Сиднева у напавших на него людей, а затем явившись в офис Парамонова качать права и ломать мебель. Его появление около офиса в компании знакомого Парамонову полковника милиции подлило масла в огонь, подействовав на господина директора, как красная тряпка на быка. Может быть, Парамонов и струсил, но это не имело значения: в подобных ситуациях и трусость, и тупая самоуверенная наглость диктуют одно и то же единственно верное решение: как можно скорее устранить проблему, избавившись от ее носителя или просто заткнув ему рот.
Дальнейшее вытекало одно из другого так же естественно и неумолимо, как вода из прохудившегося ведра: новая встреча с господином Парамоновым и его клевретами, очередное, более чем вероятное задержание и, вполне возможно, обыск. И – незарегистрированный нарезной ствол в шкафу, да еще и с профессиональной оптикой. Учитывая биографию отставного спецназовца Якушева, менты его поймут. Но церемониться с ним не станут – опять же учитывая биографию и полученную им подготовку – и постараются выжать из своей находки все, что можно. И Басалыгин ему уже не поможет – он всего-навсего полковник, а не Господь Бог, и у него недостаточно сил и влияния, чтобы в открытую бодаться с Его Величеством Законом. Да и вообще, зачем без видимой необходимости ставить в неловкое положение хорошего человека? Куда проще заранее навести в доме порядок и ждать развития событий, не отвлекаясь мыслями на всякую ерунду…
Разыскивая в здании вокзала почтовое отделение, Юрий мысленно сетовал на судьбу. Он знал, что на свете есть люди, и их не так уж мало, которым ни разу в жизни не довелось не то что подраться, но даже и очутиться в ситуации, когда приходится выбирать между дракой и потерей лица. Поверить в существование таких счастливчиков ему было трудно, почти невозможно, поскольку сам он притягивал такие ситуации, как мощный магнит железные опилки. И сейчас, уже в который раз осознав, что мирная жизнь, о которой когда-то так мечтал, не задалась и выбора просто-напросто нет, он снова пожалел, что не остался в армии, где хотя бы теоретически ясно, кто друг, а кто враг, и где всем и каждому известно, как надлежит поступать с врагом. В армии уничтожить врага – доблесть, на гражданке – уголовно наказуемое преступление, которое будет тяжким камнем висеть у тебя на шее до конца твоих дней, даже если повезет избежать наказания. Да и кто ты такой, чтобы решать, кто заслуживает уничтожения, а кто нет? И не надо, не надо опять ссылаться на Баклана, в таких делах сердце – далеко не лучший советчик. Потому что в сердцах дать кому-то в морду – это одно, а убить – совсем другое. В морду Парамонову Юрий уже дал, только вряд ли его это остановит: на кону деньги, и немалые, и битая морда в таком деле – не финал, а всего лишь прелюдия, стимул к новым, более решительным действиям.
Отыскав почту, Юрий купил конверт с маркой, вложил в него квитанцию из камеры хранения, заклеил и написал адрес: Москва, главпочтамт, до востребования, Ю. Якушеву. Узкий безгубый рот почтового ящика беззвучно сглотнул это послание самому себе, и, немного успокоившись по поводу результатов гипотетического обыска, Юрий направился на стоянку, где оставил свою машину.
В небе над Москвой полдня бродила грозовая туча – погромыхивала, посверкивала издалека молниями, растягивала то над одним, то над другим микрорайоном серые косые полотнища дождя. Но перемещения Юрия Якушева по городу так и не совпали с ее сложным зигзагообразным маршрутом – на его долю все время доставались только мелкие лужи на асфальте, которые сердито шипели под колесами, да пригоршни пыли и мелкого мусора, которые время от времени швырял в стекло хулиганствующий ветер. Он видел мокрые машины и троллейбусы, видел людей, которые, стоя на остановках общественного транспорта, встряхивали и складывали сырые зонты, недоверчиво косясь на небо, очистившееся так же внезапно, как и нахмурилось. Один раз он заметил девушку в коротеньком, промокшем до нитки платье, с длинными мокрыми волосами, которая стояла на перекрестке, дожидаясь зеленого сигнала светофора, и держала в руке снятые босоножки. Она была похожа на кадр из старого кинофильма или на кусочек ранней юности, занесенный сюда из давних времен порывом грозы; она показалась Юрию совсем юной и красивой, как сказочная принцесса, и он, засмотревшись, едва не проехал перекресток на красный свет.
Дорога домой провела его мимо спортзала, в котором он когда-то работал инструктором по восточным единоборствам. На крылечке, служа заведению мощной антирекламой, торопливо добивал окурок здоровенный незнакомый амбал с чудовищной мускулатурой, одетый в тренировочные шаровары и облегающую майку, мощно распираемую изнутри рельефными буграми мышц. Раньше Юрий непременно остановился бы и зашел, чтобы поболтать с Дашей. Но Даша здесь уже не работала – она вышла замуж, уехала из Москвы и, если верить двум полученным Юрием за семь месяцев письмам, была вполне счастлива, совершив безумный побег из столицы в захолустный гарнизон. Впрочем, зная Дашу и ее свежеиспеченного супруга, в это было нетрудно поверить, и Юрий не удивился бы, узнав, что эта чокнутая нацепила тельник в голубую полоску и развлекается вовсю, удивляя десантуру своими навыками на занятиях по рукопашному бою. Что ж, подумал он, в добрый час. Для десантника в начале карьеры бывает очень полезно узнать, что рост, вес и умение прошибать стены головой далеко не все решают даже в кулачном бою…
Очень своевременно вспомнив, что в холодильнике у него хоть шаром покати, Юрий заехал в супермаркет и набросал в корзину полуфабрикатов, приготовление которых не требовало особых кулинарных навыков. Поскольку время обеда давно миновало и желудок все настойчивее напоминал о себе, он перекусил здесь же, в кафетерии, после чего, придя к окончательному согласию с окружающим миром, направился домой.
Ему пришлось сделать крюк, чтобы заехать на заправку, и к тому времени, когда он выбрался на свое шоссе, то уже было забито средних размеров пробкой. Чертыхнувшись, он включил радио и экспериментировал с клавишами настройки до тех пор, пока не наткнулся на выпуск новостей. Впрочем, ожидаемого облегчения это не принесло: диктор своеобычной скороговоркой нес какую-то разнузданную чушь об обнаруженном на подмосковной даче обезглавленном трупе столичного ресторатора и об его бесследно исчезнувшей голове.
– Уймись, плагиатор, – проворчал Юрий, адресуясь к диктору, который, увы, не мог его слышать, – «Мастера и Маргариту» все читали. А кто не читал, тот хотя бы по телевизору смотрел…
Диктор, естественно, не внял доброму совету и продолжал трещать. Будто задавшись целью доказать, что он не хуже, а может быть, в чем-то даже и лучше Булгакова, он уснащал свое неправдоподобное повествование все новыми подробностями, с туманными ссылками на какие-то источники в Московском ГУВД рассказывая о кровавом маньяке по кличке Зулус и его многочисленных жертвах, которые все до единой в то или иное время проходили в качестве подозреваемых по уголовным делам о тяжких преступлениях – убийствах, изнасилованиях и хищениях в особо крупных размерах. Зевнув, Юрий выключил радио: с его точки зрения, это была откровенная чушь, и он лично на месте диктора просто постеснялся бы ее озвучивать. Или он просто пропустил начало программы, где было сказано, что это какой-нибудь розыгрыш? Радиостанций нынче развелось, как блох на бродячей собаке, и все постоянно ищут новые способы заинтересовать слушателя, повысить рейтинги – то скабрезные анекдоты в эфире читают, то викторины какие-то дурацкие устраивают…
К тому времени, как он добрался до дома и припарковался у себя под окнами, уже начало смеркаться. Привычно оглядевшись и не заметив ничего подозрительного, Юрий вошел в подъезд. Его подмывало выкурить сигаретку, стоя на крыльце и поглядывая по сторонам, но он преодолел соблазн: смотри не смотри, а ничего заслуживающего внимания все равно не увидишь. Никто не станет прохаживаться перед тобой, демонстративно выставив напоказ пистолет с глушителем, дубину с гвоздями или хотя бы перочинный нож. Из всего, что противник знает о Юрии Якушеве, следует, что пугать его бесполезно, а значит, действовать ребята будут исподтишка, без объявления войны. И машины во дворе разглядывать незачем, это все равно ничего не даст. Половину из них ты видишь впервые в жизни и вряд ли когда-нибудь увидишь снова, это тебе Москва, а не деревня в сорок дворов, так что, будь тут хоть три поста наружного наблюдения, тебе их нипочем не засечь – ну, разве что случайно…
Позвякивая ключами и шурша магазинными пакетами, он подошел к двери своей квартиры и замер, прислушиваясь. Наверху кто-то был, и не просто был, а прятался – дышал через раз и крался вниз по лестнице, чуть слышно переступая обутыми в мягкую обувь на резиновой подошве ногами. Юрий прислушался внимательнее и кивнул: да, точно, крадется, и не вверх, а вниз, прямо сюда…
Он представил себе человека в маске с прорезями для глаз и поднятый стволом кверху пистолет с глушителем так ясно, как если бы видел эту картину воочию. «Правильно, – подумал он, – чего тянуть-то? Как говорится, раньше сядешь – раньше выйдешь. Только как бы тебе, приятель, не лечь…»
Он опустил пакеты на пол, освобождая руки, вставил ключ в замок и качнул свисающую с него на кольце связку. Ключи закачались, как маятник, позвякивая друг о друга. Прикрываясь этим призрачным звуковым барьером, Якушев тенью скользнул вдоль стены, выбирая позицию, которая позволила бы ему первым увидеть и атаковать подкрадывающегося сверху убийцу. «Ай да Парамонов! – подумал он. – До чего же решительная сволочь, даже ночи ждать не стал! А с другой стороны, чего ее ждать? Клиент запрется в квартире, дверь никому открывать, понятное дело, не станет, вот и возьми его тогда голыми руками!»
Наверху охнули, и плачущий женский голос тихонько простонал:
– Ой, мамочка, как больно!
Не исключая того, что это может оказаться ловушкой, Юрий шагнул вперед и, взявшись рукой за перила, посмотрел вверх. В самом начале лестничного марша, стояла, тоже держась одной рукой за перила, а другой растирая подвернутую лодыжку, какая-то женщина в светлом махровом халате. Волосы рассыпались, закрыв лицо, и первым делом Юрий узнал халат – тот самый, в котором эта дуреха давеча выскочила на улицу спасать дорогого муженька. И ведь спасла, что и говорить! Если бы она тогда не раскричалась и если бы ей не закатили оплеуху, чтобы заставить умолкнуть, Юрий, вполне возможно, прошел бы мимо. Сейчас сердобольные соседки – те самые, что сидели, уставившись в свои телевизоры, и делали вид, что не слышат доносящихся с улицы криков, – собирали бы деньги на похороны и Юрий бы послушно раскошелился и вернулся к своим делам, с легкой досадой подумав, что народ постепенно утрачивает человеческий облик, – убивают друг друга уже не за рубль и не за бутылку, а просто так, ни за что, от избытка энергии…