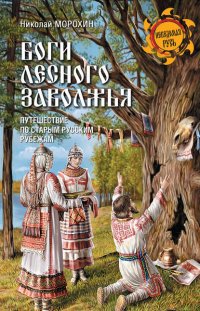
Читать онлайн Боги Лесного Заволжья. Путешествие по старым русским рубежам бесплатно
- Все книги автора: Николай Морохин
© Морохин Н.В., 2017
© ООО «Издательство „Вече“», 2017
© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2017
Что хочет прошлое?
Горномарийская песня
- Приехали мы через семь лесов,
- Освещали нам путь листья берёз.
- Приехали мы через семь оврагов,
- Освещали нам путь листья клёна.
- Приехали мы через семь деревень,
- Освещали нам путь добрые люди.
Начало этой истории поисков и находок было не просто неожиданным. Как оказалось потом, я его даже не заметил сам.
Это был зимний вечер, точнее ранние январские сумерки в середине восьмидесятых годов. Я оказался в северной части тогда ещё Горьковской, а сейчас Нижегородской области и записывал там старинные русские предания и песни.
Из деревни, где я провёл несколько часов, возвращаться в посёлок было не так уж далеко, и я решил не дожидаться автобуса в шесть часов вечера и пойти пешком.
По дороге нагнал пожилую женщину, поздоровался с ней.
Место, мимо которого мы шли, показалось необычным. Словно бы посреди поля возвышался аккуратно обойдённый со всех сторон маленький участок старого леса, судя по всему – квадратный. Может, и вели к нему какие-то дороги по полю, то сейчас их замело. Понято, если были бы видны ограда и кресты – сельское кладбище. Или оно старое, заброшенное?
Об этом я спросил женщину.
– Нет, – ответила она, – это не кладбище.
– А что тогда?
Женщина неопределённо махнула рукой:
– Куст.
– Какой-же это куст? Тут всё больше старые высокие деревья.
– Не надо вам это знать. И не спрашивайте – зачем вам, приезжему человеку.
– Почему?
– Туда нельзя всё равно ходить. И я там не была ни разу. Это марийское. Кереметь. Страшное это дело.
– Что такое Кереметь?
– Это дьявол ихний. Нельзя туда ходить.
Дьявол?… Не слишком ли – на излёте двадцатого века в цивилизованной Европе, в родной области?… А что будет, если зайду?
* * *
В тот вечер мои вопросы так и остались без ответа.
Многие для меня так и остаются без него сегодня. И вообще вопросов оказалось в итоге во много раз больше. Но жизнь с того дня стала сводить меня с людьми, предлагать события, удивительным образом связанные с тем, другим миром, которому, судя по всему и принадлежала роща.
И ничего в этом сверхъестественного. Давно замечено: если тебя начинает интересовать какой-то вопрос, то в руки невольно само начинает попадать то, что с ним связано. Обстоятельства так складываются. К мистике же я был совершенно не склонен. Хотя время наступало такое: после длительного торжества материализма общество вскоре, закусив удила, ударилось именно в неё – в мистику. Женщины с просветлёнными лицами заумно рассуждали об энергиях, аурах и карме (предполагаю, что это куда приятней, чем радовать мужа обедом). Дипломированные экстрасенсы, которым золотили ручку, лечили неизлечимые болезни, вглядываясь мозолистым глазом в фотографии страдальцев. Астрологи сулили в среду рыбам полезные деловые контакты, а скорпионам бытовые травмы. Некие волосатые личности уверяли с телеэкранов, что знают числа, управляющие миром, и могут подсчитать, в какой день произойдут политические кризисы и начнутся новые витки инфляции.
Одна из священных рощ Шарангского района Нижегородской области
* * *
Мне тогда не было ещё тридцати.
Я очень надеялся на то, что в своей жизни буду изучать русскую традиционную культуру в сёлах вокруг своего города, что найду, например, в глухой деревне за Волгой былину или встречу необыкновенно талантливого сказочника, знатока старинных песен об Иване Грозном или Степане Разине. А потом составлю и издам сборник с этими удивительными текстами. Признаюсь, я выкраивал для своих поездок по нескольку дней сам, по своей воле, а работа в университете этого совершенно не предусматривала. И даже наоборот, было бы хорошо, если бы я никуда не ездил, а сидел дома и писал скучную диссертацию по литературоведению.
Заниматься фольклором – это можно было скорее отнести к домашним традициям. Мой отец был замечательным фольклористом, человеком, читавшим в университете блестящие лекции о русском народном творчестве (я их слушал!). Когда мне было четырнадцать, он взял меня в фольклорную экспедицию – на озеро Светлояр. И мы целую неделю записывали от стариков легенды о граде Китеже. Так начиналась работа над книгой моего отца об этой легенде, книгой, которая вышла спустя десятилетие и стала в области настоящим бестселлером. С той самой экспедиции мне стало ясно, чего я хочу в жизни. При таком раскладе мне на роду было написано собирать русские сказки и предания. Я уже немало поездил по области – где-то в районном пазике, где-то в кузове колхозного грузовика, где-то ходил пешком – вроде бы знал её.
Ещё я знал, что существует такая проблема – взаимовлияние фольклора соседних народов.
Об этом немало было написано статей в учёных записках, выходивших в соседних городах. Статей скучнейших. Типичная тема: бытование сходных сюжетов сказок. Всё здесь легко просчитывается, ибо ещё в начале XX века мудрый Антти Аарне дал номера всем широко распространённым сюжетам сказок, всё это приспособил к русской традиции в 20-х годах фольклорист Николай Андреев. Итак, вы собрали гору сказок, определили их сюжеты, установили, что в правой кучке у вас будут лежать карточки со сведениями по русским деревням, в левой – по мордовским. И считаете: какой процент придётся на самые известные сюжеты в одной и в другой стопке. Скорее всего, если территория почти одна, вы получите примерно одинаковые цифры. Дальше вы делаете правильный вывод о том, что в регионе складывается некая единая сказочная традиция, и это безусловный вариант взаимовлияния соседствующих культур. Впрочем, изучать можно и предания. Во многих районах нашей области они начинаются с очень хорошо понятной местным жителям экспозиции: это было давно, когда тут ещё жила мордва, или пришло в наши места татарское войско, или жил тут человек, звали его Сурадей… Рассказчики никого не убеждают в том, что тут раньше жили люди другого рода-племени, «не нашего бога», как писал в одном стихотворении уроженец Лесного Заволжья Борис Корнилов. Это всем понятно. Но об этих людях никто толком ничего не знает: давно было. Потому можно опять-таки фиксировать сюжеты, хоть и не включённые на сей раз в указатель, и констатировать внимание в несказочном эпосе вот к этой коллизии прошлого. Преданий в старых публикациях, в наших записях сотни, многие сотни. Дальше мы разбиваем сюжеты на группы. Как предписывают умные учебники, одни предания рассказывают об исторических событиях, другие объясняют географические названия. Эти группы мы разбиваем дальше – например, по эпохам, по тем народам, о присутствии которых вспоминают старики. И всё – появляется новый ракурс, складывается план работы.
Или ещё проще: записи песен. Смотрим, сколько русских песен в репертуаре исполнителей-соседей. Что интересно, у русских исполнителей мы не обнаруживаем песен чувашских, мордовских и татарских. Дело, наверное, в том, что русские почти не владеют этими языками или даже совсем не владеют?
И мы изучаем это самое взаимовлияние, делаем выводы.
Всегда приятно изучать очевидные вещи. Если у вас солидная методика, то это убедительно, научно и, в сущности, как говорят в таких случаях, диссертабельно. Но, по-моему, очень скучно. И совершенно не приближает к ответам на какие-то очень важные вопросы.
Однако тут столкнуться в нескольких часах пути от дома с чем-то другим, что не вписывалось в привычную для меня картину мира, – было слишком большой неожиданностью. Не дебри Амазонки, в конце концов!
Ну, нет, я постараюсь разобраться, что это за куст, что за Кереметь и чего боится эта женщина.
Правда, не знаю, получится ли.
* * *
Уже в тот вечер для меня было очевидно, что тут не надо спешить. Потому что настоящие ответы придётся искать не в одних только ближайших деревнях. Здешняя округа – только крохотная часть огромного Лесного Заволжья, посреди которого я оказался. Это край южной тайги – с глухими тёмными ельниками, с пихтарниками и лиственничниками, с болотами, с пространными опольями в давно обжитых местах вокруг старых торговых сёл. И тут не просто природа и сёла-деревни: древние дороги, след людей – их языков, возможно, уже забытых, их уклада жизни, традиций, которые повелись с невесть каких дальних времён. Кто-то сюда приходил из других мест, кто-то, наоборот, уходил: марийцы, русские, кто ещё?… Надо слушать людей, – и то, что они будут говорить, и то, как скажут. Надо читать старые книги. Непонятно было, правда, какие именно. Но неужели не хватит разума их найти? Ведь кто-то здесь или в соседстве должен быть изучать подобные вещи.
И всё это хорошо бы видеть в целом. Потому что ничего не дадут отдельные факты: в итоге всё рассыплется. И ответ может появиться только вместе с какой-то общей картиной.
А Лесное Заволжье – только в современной Нижегородской области больше 30 тысяч квадратных километров. Странно, но даже в XX веке были знаменитые географы, хотя вроде бы все главные открытия в этой науке были давно позади, как в арифметике. В их числе – Борис Хорев, который заведовал одной из главных географических кафедр в совершенно точно главном Московском университете. Его докторская диссертация была посвящена Нижегородскому Поволжью. И он обрисовал в нём рубежи Лесного Заволжья. Главный, южный – это сама Волга. С правого берега к ней подступали местами даже участки ковыльной степи. А с левого берега в её воду смотрелась тайга.
Но дальше, если вдуматься, начинаются трудности. Конечно, можно следовать за административным делением и с трёх других сторон ограничить этот край Нижегородской областью. Только ни к чему внятному это не приведёт. Роль оси Лесного Заволжья явно предназначена чему-то, что перпендикулярно Волге. А это здесь Ветлуга – третий по длине приток Волги. Ветлуга бежит к ней с севера и, конечно, половина своего пути проходит по Нижегородской области. Однако начинается она среди болот соседней Кировской, дальше течёт по Костромской, впадает возле Козьмодемьянска в Марий Эл. Словом, вместе с ней Лесное Заволжье плавно переходит в соседние регионы и теряет свои чёткие очертания. Кроме того, его трудно представить себе без Унжи – другого крупного волжского притока. В среднем своём течении две эти реки близко подходят друг к другу – на какие-то сорок километров. Для знающего дорогу человека это дневной переход. К тому же, полтора века, начиная с екатерининских времён, и Унжа, и вся средняя Ветлуга были в одной Костромской губернии – в одной связке. Это уже потом, в XX столетии, большую часть этих территорий отписали к Нижнему Новгороду. Вот и попробуйте пренебречь этими соседними костромскими землями по Унже, рассуждая об этом крае. Не выйдет!
* * *
На самом краю области в Воскресенском районе есть село Большое Поле. Мы жили там с моими товарищами несколько дней в бревенчатом школьном интернате во время экспедиции. Однажды вечером на огонёк туда заглянул молодой человек из местных. Сказать честно, во время экспедиции редко бываешь рад таким гостям. «Знакомиться» – говорят они. И это не обещает ничего хорошего – как минимум, отвлекут от переписывания черновиков, а это не менее важное дело, чем поиск материала. Здесь же молодой человек стоял на пороге с банкой молока:
– Угощаю! А то, наверно, голодные здесь сидите?
Нашему гостю было удивительно, что кто-то приехал из города не убирать картошку, а выспрашивать про старину. Зачем нам это? А что мы с этим будем делать дальше?
– Давайте я вам тоже историю одну расскажу. Но это всё правда, не сказки. Тут у нас село такое… Мы сами русские, а вокруг в нескольких деревнях марийцы живут. Колдуны они самые настоящие. Нам кое-что случается видеть. Вот отец мне рассказывал. Он в лес на Юронгу рыбачить пошёл. Видит – а там на у реки мариец дед Лапшин сидит. И прямо на берегу на деревьях сети повесил. Ну, отец думает – зачем это он?… И тут мариец этот пошептал что-то над водой и отошёл. Через некоторое время рыба сама начала из реки выпрыгивать – и в сеть, в сеть вся! Выпрыгнуло её не больно много – как раз на уху. Мариец рыбу собрал в сетях, поклонился в сторону реки. И всё, пошёл – порыбачил будто.
Я кивал головой и быстро записывал этот странный рассказ.
– Не верите, что такое бывает?
– Верю.
Когда слушаешь человека, когда записываешь с его слов историю, верить – единственный выход. Иначе рассказ немедленно оборвётся.
Прошло немало времени. Я уже почти забыл о том большепольском рыбаке, который подсмотрел случайно, как промышлял на Юронге старый мариец. Но история вспомнилась, когда я изучал в областной библиотеке редкую старую книгу – сочинение помещика графа Николая Сергеевича Толстого, который жил на севере Нижегородской губернии и в 50-х годах XIX века писал очерки о тех местах, которые ему были хорошо знакомы. Это самый первый печатный краеведческий труд на нижегородской земле. Местный граф Толстой приходился троюродным братом великому писателю и тоже, судя по фотографии, имел очень представительную бороду. Но его книга «Заволжская часть Макарьевского уезда Нижегородской губернии», выпущенная в Москве в 1859 году, – трудно назвать простым чтением не потому, что диалектика души – штука сложная. Книга получилась сразу обо всём. Она безо всякого особого порядка то рассказывает о тайге и страшных лесных пожарах, то о раскольниках, которые скрываются где-то в самой глуши в землянках, то об охоте и рыбалке, то о безобразных нравах крепостников прошлого – для автора – XVIII века (он-то сам был помещик просвещённый, гуманный!). Между размышлениями, так ли семёновские мужики рубят для своих поделок берёзы и какие плохие дороги связывают Поволжье с Поветлужьем, обнаружилось в книге любопытное замечание. Оказывается, традиционно полтора века назад на Ветлуге ловили рыбу довольно необычным способом. Вначале собирали в тайге семена одного известного местным жителям растения (Толстой приводит его латинское название, но – для неспециалиста это пустое: номенклатура в ботанике за это время уже поменялась, и разобраться сможет только сведущий в истории этой науки человек). Затем семена закатывали в хлебный мякиш и кидали в воду как приманку. Рыба, отведав её, «дурела» и через десяток минут начинала выпрыгивать «подышать свежим воздухом». Тут-то её, родимую, и прибирали к рукам.
Вот он – секрет «колдовства» того марийского рыбака. Он просто помнил то, что прекрасно знали его предки.
Толстой считал способ, как минимум, варварским по отношению к добыче и опасным: так и всю рыбу в реке можно переловить!
Но судя по рассказу молодого человека из Большого Поля, дед Лапшин не имел такого коварного намерения. И даже наоборот, с самого начала ограничил себя в улове. Необычная приманка давала возможность уже перед рыбалкой «заказать» нужное количество рыбы. А сам способ её ловли не был таким жестоким, как обычный, на удочку. Представьте себе на минуту: вы заглотили что-то вкусное вместе с крючком, он зацепился за внутренности, и теперь железо причиняет невероятную боль и тянет вас куда-то вверх… Да нет же, старик Лапшин не возьмёт ничего лишнего и никого не будет мучить напрасно.
* * *
И ещё одна экспедиция. Зима. Ночь. Старый холодный вокзальчик (его уже давно снесли, и на его месте теперь солидное кирпичное двухэтажное здание) на таёжной станции Пижма. Плохо прикрывается дверь. А там на улице воет ветер, качается единственный фонарь у входа и несёт, несёт снег.
Наша электричка будет в четыре часа утра. Ближе к четырём сюда придут люди. А пока – мы вчетвером.
Во втором часу ночи на пороге вокзальчика отряхивает с себя снег ещё один пассажир, пришедший слишком рано, – не особенно трезвый пожилой мариец:
– Надо же какие люди бывают!.. Печник я. Я тут на Пижме шестнадцать печей сложил. У одного хозяина совсем недавно старую печь разбирал, новую делал. Тяжёлая печь была, не работала, вся забилась. Грязи сколько вытащил, сажей этой дышал… Вот я сегодня пришёл сюда в посёлок, припозднился. К двенадцати дело было. Я к нему стучу, а он не открывает. Я ведь слышу – он там. Он около моей печки. А я на холоде, по колено в снегу… Я обиды не держу. Но ведь нельзя так – стихия накажет.
Снова вспомнилась книга графа Толстого.
Он размышлял о характере черемисов – так в его времена называли марийцев. Честны, трудолюбивы, их бедность – не от недостаточного радения, а от того, что люди эти раз и навсегда поставили себе рамки, пределы: не брать из природы, от других людей лишнего, не роскошествовать. Оказавшись в марийской деревне, ощущаешь «неприхотливое, но всё-таки радушное гостеприимство»: «въезжаешь просто, без спросу, вас накормят, чем сыты сами – редькой и хлебом, брусникой, грибами, сушёным зайцем, вяленой рыбой». И с возмущением писал: именно этим радушием, доверчивостью некоторые пользуются. Ничего нет проще – этих людей обмануть, обсчитать да ещё подсунуть потом какие-нибудь бумажки – читай, дескать. Николай Толстой писал об этом: «Мы, помещики, и все, кому доводится разбирать дела родословные, бездоказательные, никогда не станем входить в подробности представляемых нам жалоб от черемис на крестьян наших, и какие бы крестьянин ни приводил оправдания, увёртки и свидетельства других крестьян, все их можно пропускать мимо ушей без всякого доверия, но решительно слушать одного черемисина: у нас тысячи примеров, в которых черемисин всегда выходил победоносно!.. Разница между тяжущимися заключается в том, что русачки путают, облыгают, крестятся, божатся, заклинаются детьми и всякими другими отвратительными способами, как например: чтобы глаза лопнули, чтобы утробу разорвало, чтобы провалиться на месте (в это время другие поддакивают); окончательно же окажется, что вся божба эта была ложь, самая унизительная и оскорбительная для человечества! Черемисин же с первого слова противника скажет просто: „На него, бачка, всё не правда казыт“, и тут же без околичностей расскажет всё дело своим странным наречием, и потом уже не прибавить ни слова».
Мариец рассчитывает доказать свою правоту: ему кажется, что сделать это проще простого, стоит дойти до большого начальника и всё ему рассказать, ведь правда на чьей стороне? Но большому начальнику иной раз не бывает дела до инородца. Да и сразу видно: облапошен он по его же собственной простоте. Черемисин уходит из присутственных мест удивлённый происшедшим, но ни капли не расстроенный. Он хорошо знает: высшие силы видят всё. И они ему зачтут правду, а обидчику не избежать наказания. Черемисин даже начинает жалеть его в такую минуту: не хочет, чтобы гнев высших сил обрушился на этого лысоватого чиновника и на купца, делающего удивлённое, непонимающее лицо. «Ваша бог виде!.. Нехорошо буде! Пропадил будешь! Умрил будешь!..» Стоило им из-за такой мелочи связываться с высшими силами! Подумали бы о себе!
* * *
Гостеприимство гостеприимством, а вот однажды Толстого, который на закате зимнего дня приехал в марийскую деревню, ждали неприятности.
Его возница из лихости несколько раз хлестнул кнутом и сбил с изб длинные тонкие сосульки.
Из домов выбежали возмущённые люди и чуть не побили приезжих.
– Злуй человек, нехорошо делал! – кричали они. И сбивчиво объясняли: – Мороз будет серчал, приходит в изба и усех помрём делать…
Ну, да, конечно. Толстой понял сразу, что натворил его возница.
Мороз сделал сосульки. А тут приехал чужой человек и сбивает их направо и налево. Не накажет ли этот мороз людей за то, что они вот так обходятся с делом его рук?
И вообще – что можно трогать в природе, чего нельзя и почему?
Совершенно точно: нельзя трогать, портить то, что к человеку отношения не имеет. Не рассчитываешь на явную пользу от того, что сделаешь, – лучше не вмешивайся. Потому что есть риск повредить.
«Снег свисает с веток ели – к хорошему урожаю», «Весной сосульки с желобов длинные – на урожай», «Зимой длинные сосульки – ячмень будет высокий» – это я нашёл в сборнике «Марийские народные приметы», который в 80-х годах XX века составил известный фольклорист Александр Китиков. Судя по примечаниям, он путешествовал и записывал их именно в тех марийских деревнях нижегородского Лесного Заволжья, где мог бывать за век до него граф Толстой.
Когда состоялось наше знакомство, Александр Ефимович рассказывал мне: собранные приметы он сдал на проверку на одну из местных метеостанций. Там вначале поулыбались. Но через пару лет рассказали: в это трудно поверить, но сбывается до 95 процентов примет. Нет, в приметах, конечно, ничего не говорится о конкретных значениях температуры в градусах, а также атмосферного давления и влажности. Ход событий в природе оказывается обозначен только в самом общем виде. И ещё оговорки: это были не «приметы вообще» – Китиков подобрал для проверки только те, которые записаны именно в тех местах, где находится метеостанция.
Вдумайтесь: свисает снег с веток ели. Ветки эти наклонные, и требуется, чтобы никто их не потревожил, иначе снега этого на них просто не будет. Сбили с крыш сосульки, и к весне уже никто не узнает, каким они стали бы – длинными, наклонными (а это уже другие приметы!), толстыми? Это всё равно что прийти в чужой дом и сломать часы или барометр – так просто из озорства.
А может быть, даже ещё хуже. Потому что ясно: связь между сосульками и остальным миром есть. И не исключено, именно от того, целы ли сосульки, будет зависеть всё вокруг? Сбил сосульки – и сломал не прибор, не источник информации, а саму погоду!
Не надо думать, что мы доподлинно знаем, что или кто управляет миром. Он слишком сложен, он прошит многочисленными связями. Их во много раз больше, чем даже самих предметов, вещей, которые нас окружают.
Но если так, стихия может не только наказывать. Она должна оставить за собой право на сюрпризы, на подсказки, на игру, в конце концов.
* * *
Я запомнил раннее утро в середине августа. Шли уже девяностые. В поездку на самый север Нижегородской области мы отправились вместе с моим другом Дмитрием, тогда ещё студентом-историком. В тот год так сложилось, что в наших поисках мы прошли в жару и под дождём сотни и сотни километров Лесного Заволжья. Мы стоически перенесли безденежье, в холод грелись в палатке. Мы вместе удивлялись увиденному и переписывали в тетради рассказы стариков и статьи из альбомов сельских библиотек.
* * *
Уже стояли прозрачные и холодные дни – самый исход лета, когда пахнет прелой листвой, когда ночи безысходно черны и зябки, когда темна вода прудов и рек и уже больше не манит даже просто к ней подойти. Лето кончается. Его жалко. Но с этим уже ничего не поделаешь.
Мы вышли из ночной электрички, как раз когда забрезжил рассвет, в таёжном посёлке.
Идти до деревни, куда мы собрались, было больше часа. И дорога знакомая. Поёжившись от холода, зевнув, мы двинулись вперёд.
Спустя минут сорок тайга расступилась и открылось одно из ополий.
Поднималось солнце. И перед нами на склоне оврага поблёскивали крыши и окна деревенских домов. До деревни оставалось с километр. Людей в деревне видно не было. Да какие собственно люди в половине пятого утра? Все ещё спало. Молчали даже петухи и собаки.
Мы шли к деревне, которая потихонечку приближалась и разворачивалась перед нами справа от дороги. Над её домами шумела желтеющая листва…
– Стоп, – сказал я, остановился и откинул капюшон штормовки. – Я здесь ходил уже несколько раз. И этой деревни не было.
– Серьёзно что ли? – посмотрел на меня Дмитрий и тоже остановился.
Но деревня была. Мы отчётливо видели её. Дома как дома – не хуже и не лучше других. Деревянные. Пристроенные к ним рубленные дворы. Баньки…
– Может быть, мы что-то путаем?
Я махнул рукой, и это означало, что надо идти вперёд, а там будет видно.
Ещё минуты три деревня продолжала маячить на склоне оврага. А потом – словно растаяла. Ветер всё также шевелил там ветви старых деревьев. Но домов, заборов под ними уже не было. Кусты, трава – всё…
– Нет, если бы я видел это один, мне бы никто не поверил. Бред какой-то, – сказал Дмитрий.
Мы подошли к оврагу совсем близко. И убедились ещё раз – никаких признаков деревенской улицы.
Оставалось философски заметить: в жизни бывает всё. А уж в этом краю, куда мы приехали, такое приходилось слышать… Мы свернули вправо. И на холме перед нами обрисовались знакомые контуры рощи.
Мы уже знали, что в эту рощу по определённым, известным для посвящённых дням слетаются, пережившие не одно тысячелетие древние боги. Что в старых корявых берёзах рощи живут души умерших и ещё не родившихся людей.
Несколько дней спустя в посёлке нам подтвердят: не мы первые и явно не мы последние, кто видел эту деревню. Ничего особенного. Она марийская и раньше как раз тут стояла. Только потом люди снялись с места и перевезли дома километра на два к востоку – в Большую Кувербу.
Потом, через пару месяцев, я увижу эту деревню на карте в одной из организаций, где мне придётся работать с документами. Это будет карта километрового масштаба с грифом «Секретно». Увижу и даже не удивлюсь: всё точно – эта деревня! И улица по краю оврага имеет чуть заметный излом к югу, и пруд внизу (он цел!). Та карта была отпечатана в самой середине XX века. Но известно: топографы иной раз запаздывают обновить информацию, так что, может быть, они отразили чуть более раннюю реальную картину.
* * *
Но зачем людям показывается несуществующая деревня? Чего она хочет?
Что хочет прошлое, возвращаясь к нам? Или оно не возвращается, а просто живёт возле нас – но в другом измерении? Как ушедшая под воду океана Атлантида: корабли проходят над её домами и храмами и кажутся единственной реальностью. Но может быть, под водой есть реальность другая?
* * *
Лесное Заволжье живёт в современном, вроде бы, хорошо для нас понятном русском мире. Оно говорит на языке, который ясен каждому. Здесь видишь привычные административные контуры: администрации пишут бумаги и принимают посетителей, потребсоюз торгует, пазики совершают предусмотренные расписанием рейсы, школы учат.
* * *
Я искал в этом краю какую-то архаику. Для этого внимательно вчитывался в строки библиотечных самодельных альбомов о прошлом деревень и сёл, шёл знакомиться со школьными музеями.
Увидел ли, прочитал ли я что-то особенное?
Нет, пожалуй. Дореволюционная история – это несколько строк скороговорки, из которой невозможно понять, сколько лет самым старым марийским деревням и что там раньше было.
А что было дальше?
Ну, вот для примера несколько деревень в Воскресенском районе и то самое Большое Поле, где нам принесли банку молока и рассказали удивительную историю вроде бы не из нашего времени.
Я записал фамилии здешних марийцев: Винокуровы, Лопатины, Лапшины, Опековы, Сергеевы, Щелкуновы, Романовы, Лазаревы, Минутины, Смирновы, Цветковы, Бутылкины… Большинство из них живёт в Большой Юронге: около восьмидесяти человек. Другие деревни меньше. А вот в Нестерине остался один житель, возвращающийся туда на лето.
Советские семьдесят лет, вроде бы, недальние – рукой дотянешься – стали историей.
В 1929 году Большую Юронгу передали из Вятской губернии в Нижегородскую область. В деревне действовало крестьянское общество взаимопомощи, вскоре организовали колхоз «Победа», куда вошло поначалу 19 хозяйств. В Ошараше колхоз «Революционер» был образован раньше – в 1928 году. В Кузнеце (по-марийски деревня называется Апшатнер, что означает «кузнечная речка») название колхозу придумали, можно сказать, в тему: имени Молотова. В Нестерине – «Свобода», в Большой Юронге – имени Будённого.
В начале тридцатых в тайге орудовали бандиты. Ужас наводила своей жестокостью банда Ивана Романова: в тёмное время люди в избах не зажигали свет, запирались. Злодеи поджигали лес, расправлялись с активистами Советской власти, на глазах всей деревни могли запалить их дома и, угрожая оружием, не давали тушить. Преступники врывались в избы, забирали хлеб, продукты. Потребовалась операция по ликвидации банды. В Кузнеце мне рассказали то, что передают из поколения в поколение: как устраивали в деревне засаду чекисты, как ждали бандитов на лесных тропах и прочёсывали тайгу. Когда Романов был убит, чтобы успокоить население и убедить, что с бандой покончено, его труп привозили в деревни на телеге.
Вообще, рассказы про разбойников – это то, что можно услышать очень во многих деревнях. Многое забывается, а такое – нет: это местный вестерн, самые яркие события прошлого. Но жутковато становится, когда слышишь о бандитах от живых свидетелей событий. Обычный вариант: разбойники – добрые, бедных не грабили, и всё это было давным-давно.
Марийские колхозы успешно развивались, но война их привела в упадок: урожайность зерновых и льна резко снизилась. Районная газета в 1942 году накануне сева напечатала о колхозе «Революционер» статью «Вывести на пашню сильного коня». В хозяйстве осталось восемь лошадей, из которых одна «ниже средней упитанности, остальные семь – истощённые», они болели. Но ситуацию удалось улучшить. Вскоре газета писала: «Лошади у наших пахарей Самотехина Ф.В., Смирнова Д.Т., 14-летнего Пупырёва А. и некоторых других чистые, без царапин. Во время полевых работ подкармливаются в борозде. В обеденный перерыв и после работы обмываются холодной водой и чистятся щётками. Хороший уход пахарей за конями обеспечивает высокую выработку на полевых работах». Девушки строили по берегам Волги оборонительные линии. А тётя Зина Бутылкина из Кузнеца рассказывала мне, как много месяцев провела на добыче торфа: «Холодно-то как было, да по пояс в болоте в этом стоишь. Вот я и болела с того». Колхозники собирали деньги из своих скудных заработков на постройку самолётов эскадрильи, названной в честь земляка Валерия Чкалова.
В 1955 году все хозяйства объединились в колхоз имени Хрущёва, потом он стал носить имя Будённого. Только в конце пятидесятых в этих деревнях появилось электричество – стала работать колхозная электростанция.
Колхоза больше нет. За дворами – недалеко от завалившейся деревянной церкви завалившаяся ферма и машинный двор со ржавыми остовами техники.
В Большом Поле есть школа, хоть и говорят, что скоро её закроют: учеников около пятидесяти. За детьми по утрам будет приходить автобус и увозить их за 25 километров в село Воздвиженское. Там школа большая. Областные власти объясняют: так дешевле, чем держать маленькую.
Но пока школа ещё есть. В её двух деревянных зданиях уютный запах тёплых брёвен: такой бывает только в больших, чистых деревенских домах. Один из классов отдан под музей. Его создавала вместе с учениками приезжая учительница математики Лидия Ревотас. Ей передали домотканую вышитую одежду, утварь, старые фотографии. И она сделала альбомы о каждой из деревень.
– Если школу закроют, я договорилась с районным краеведческим музеем, – говорит Лидия Ревотас. – Там всё сохранят.
Туда же она передаст самую дорогую реликвию, которую просто так никому не показывают. Это письмо, его в 1967 году прислал сюда детям Гагарин: «С большим удовольствием прочитал ваше письмо, в котором вы рассказываете о своей учёбе. Большое вам спасибо за внимание и честь, которую вы оказываете мне, называя свой отряд моим именем. Ваше доверие постараюсь оправдать хорошими делами».
* * *
Наверное, о многих деревнях в Центральной России можно написать почти подобную историю XX века. С укрупнениями и разукрупнениями, с переименованиями. И с чем-то непременно удивительным и редкостным.
Но это будет словно бы история плавания на корабле по поверхности моря.
А что внизу?
Предыдущий мир был финно-угорским. Те, кто когда-то населяли Лесное Заволжье и безраздельно им владели, – с их культурой, с их языком, с их верой – исчезли, растворились несколько веков назад. Остались, кажется, осколки – несколько десятков деревень, где живут марийцы. Впрочем, чужие люди, которые не знают, что живут там именно марийцы, об этом сейчас даже не догадаются. С ними, при них там будут говорить только по-русски. Не для того, чтобы ввести их в заблуждение, – скорее, чтобы люди понимали: тайн от них нет. Хотя получиться в итоге может совсем обратное: от них что-то невольно скроют. И оставят для себя.
* * *
Предыдущий мир был не таким, как наш: с другими ценностями, с другой душой.
Если и остаются его следы, то они обречены на то, чтобы служить только для музея, для памяти. А вот осколки ещё сверкают своими гранями, и, наверное, их можно собрать, соединить, радоваться им, жить около них.
Учебник по истории Нижегородской области для школьников, изданный в девяностых годах, авторы, открыли разделом под названием «Изначалие». Как следует из такого заголовка, начинается здешняя история с того, что в этот край, на Волгу, пришли славяне и основали Городец: 1152 год.
А что – тут никто до них не жил?
Да нет, друзья, объяснит учебник. Жил.
Обратите внимание, самая первая глава – археологическая: да, в самом деле, были разные племена, разные первобытные люди, кое-где оставили нам черепки своей посуды и пресловутые орудия труда. На настоящее «изначалие» эти люди, конечно, не тянули. Видимо, были ещё дикие?
Замечено, в большинстве провинциальных музеев археологические отделы – самые скучные и бессвязные. «Орудия труда» очень сложно представить себе в деле, и, наверное, сотрудники музеев это тоже не объяснят и не покажут. И лежат вперемежку на витрине каменные топоры, медные украшения, какие-то похожие на чешуйки монеты рядом с написанной крупными буквами галиматьёй про первобытнообщинный строй. Мы захотим знать, не наши ли прямые предки делали это своими руками? Как они жили? В кого верили? Был ли их язык похож на наш? Нам в ответ начнут сыпать названиями археологических культур и, путая тысячелетия, перечислять «стоянки древнего человека».
Хорошо, про культуры мы услышали. А вот ещё вопрос. Итак, приходят славяне… Так древние люди к тому моменту уже куда-то ушли? Или их прогнали? Если новые и старое население встретилось и решило жить вместе, то возможно ли такое и как это произошло?
Между прочим, это совершенно непраздные вопросы.
И пока мы не ответим на них, понять, кто такой Керемет и можно ли чужому человеку ходить в рощу, просто невозможно.
* * *
Сколько раз я пытался представить себе жизнь этих людей.
Заманчиво придумать героев, принадлежащих другому времени, дать им звучные имена, поселить их в древнем укреплённом городище. Например, городецкой культуры. Они очень хорошо описаны археологами. Ну, и пусть охотятся себе на медведя, на рысь. Пусть любят женщин. Пусть обороняются от коварных соседей, которые, похоже, сами не поймут, что им нужно, а вот лезут и лезут. Заманчиво привести героев в святилище, куда явятся к ним их боги выслушать просьбы, принять подарки. Заманчиво придумать для них песни – похожие на руны «Калевалы». Пусть вспомнят они один из главных дней своей жизни – день инициации, когда род впервые принял их как мужчин, прошедших страхи и испытания, посвящённых в тайны. Представить себе – и дать волю фантазии, придумать сюжет, рассказать его.
Но нет, я не смогу восстановить жизнь людей по черепкам глиняной посуды, не знавшей ещё гончарного круга, по проржавевшим наконечникам стрел, по звонким женским подвескам. Она не откроется мне – ясно и определённо – в древних сказаниях, которые темны, монументальны, полны архаической многозначности во всём. Не смогу… Тогда – зачем?
Надёжней говорить о том, что знаю, что видел, что понял.
* * *
Все гуманитарные науки – это не что иное как память о тех, кто ушёл. Изучая культуру, мы пытаемся понять, чем жили сотни поколений до нас. Язык – это то, в чём отложились напластованные тысячелетия человеческого общения: людей давно нет, но это они дали мысли форму, это их древние понятия об окружающем мире мы пытаемся приспособить для своей, новой жизни. Литературоведы, музыковеды изучают то, что читали и что слушали люди ушедших поколений: без этого бы не состоялось настоящее. Этнографы, осмысляя современный быт, обнаруживают в нём невероятную древность: оказывается обыкновенный резной наличник с весьма абстрактным, на первый взгляд, орнаментом, ведёт свою историю от древних представлений о мире – мастер, сам того не понимая, вырезал контуры тех фантастических существ, которые, как считалось, оберегают дом. Про историю и говорить особо нечего: её предмет – прошлое.
* * *
И вот наталкиваешься на то, как сотни поколений финно-угров Поволжья с их бесконечно длинным прошлым припечатал мэтр исторической науки Сергей Михайлович Соловьёв: «Жили они когда-то – вот и всё, что может сказать о них история».
Всё?…
Мне трудно вспомнить более ярко выраженный учёный снобизм историка. Доходящий, пожалуй, до отрицания тех ценностей, которыми жива его наука, – эфемерных, но от этого не менее значимых.
«Финны могут ли быть почтены народом, входящим в состав гражданского нашего общества? Нимало: это волчцы и дикие травы, растущие по нивам, заселённым животворными хлебными растениями», – рассуждал историк и писатель первой половины XIX века Николай Полевой. Себя он, конечно, считал представителем «животворных растений». А библейское слово «волчцы» не просто означало сорняки – от него веяло ужасом сакрального проклятия, опустошения. Нижегородский учитель словесности и публицист конца XIX века Александр Мартынов в одной из статей желал, чтобы скорее наступило время, когда каждый из нерусских народов Поволжья «совершенно сольётся с великорусским и след его исчезнет». «Жаль следа исторических народов, оставивших памятники письменности и искусств: когда же подобные, упоминаемые нами, народцы, почти полудикие, поглощаются сильнейшим и более образованным племенем – жалеть тут не приходится».
Хорошо, положим, что так.
Но тогда получится, что «сильнейшие» и «образованные» будут ближайшими потомками «полудиких». Это возможно? Это никак не испортит «исторический народ», такое «поглощение» не приведёт к его деградации?
Полагаю, что для автора ответ был понятен. Но тогда пресловутый «исторический народ» совершенно неизбежно усвоит не только то, что учитель словесности связывал с цивилизацией. В его крови обязательно будет опыт его генетических предков, он впитает, хоть и как-то по-своему, их представления о мире, их ценности. И страшным грехом будет рассуждать о высоте культуры собственных предков. И вообще, у кого в арсенале припасены шаблоны для измерения этой высоты? Ведь наша жизнь – это материализованный итог прошлого.
Так какой же была эта встреча, происшедшая несколько веков назад в Лесном Заволжье, – двух разных миров, двух пониманий жизни, двух потоков культур?
Во всех случаях, эта встреча должна была лежать у истоков современной русской культуры и государственности. Потому что новая культура великого народа создавалась, зрела на просторах Северо-Западной Руси, на новгородских и псковских землях, в Нижегородском Поволжье и в Поморье, вбирала в себя то, чем эти края были богаты, чтобы заявить о себе миру в XVIII веке, в канун Пушкина.
Раз прошлое является нам, значит, оно что-то хочет.
А боги Лесного Заволжья никуда не могли деться. И даже если о них помнит не каждый из жителей этого края, это не означает, что они его покинули.
Силы леса
Игорь Чурдалёв
- Уже не помню, почему
- Я полюбил деревья эти.
- Они как дырочки в кларнете:
- Невинны, но ведут во тьму.
Есть простой, но удивительно дельный совет. Если вы чего-то не понимаете и хотите разобраться, идите к людям. Обязательно найдутся такие, от кого вы узнаете что-то новое и важное.
* * *
Идти к людям – означает ехать в Лесное Заволжье. Ещё, конечно же, – идти в библиотеку. Потому что общение с книгами – это тоже общение с людьми.
* * *
Четыре часа езды в электричке – и вы в городе Шахунья, самом большом в Лесном Заволжье.
Конечно, на первый взгляд, искать здесь нечего. Город был построен на совершенно пустом, необжитом месте в 20-х годах XX века. Между Нижним Новгородом и Вяткой требовалась серьёзная опорная станция с депо. Отсчитали нужное число километров и принялись прокладывать пути и строить бараки, засыпая болота. Город этот кажется приезжему человеку не особенно уютным, весной в нём долго бывает сыро, зимой его засыпает снегами, никакой интересной старинной застройки, даже рубленых изб с красивыми наличниками. И если вы занимаетесь этнографией, то в Шахунье должны ценить разве что вокзал: вы приехали сюда, и можете сесть в автобус, который отвезёт вас куда-то дальше, в деревни, вглубь тайги.
Но город – это люди. И они могут принести с собой сюда откуда-то необычные воспоминания.
* * *
Мне посоветовали в Шахунье сходить к очень пожилому человеку – почётному железнодорожнику Ивану Васильевичу Шкаликову. Он бывший машинист, а машинисты – это традиционно самая-самая элита на транспорте, интеллектуалы, люди, которые интересуются очень многим.
Шкаликов писал очерки об истории железнодорожного узла – он, так уже получилось, приехал из Нижнего Новгорода с родителями в Шахунью, когда станция ещё только строилась, и всё прошло у него на глазах. В войну Шкаликов водил здесь поезда с военными грузами – и об этом он тоже мне рассказал. На линии от Кирова до Нижнего Новгорода помнит каждую мелочь, каждый пикет.
Это, конечно, очень хорошо. Но железная дорога вряд ли проходит по таким местам, которые сейчас меня интересуют. Они, скорее всего, скрыты от глаза где-то в глубинах тайги. Может быть, Иван Васильевич о них что-то слышал? Вот о чём я его спрашивал.
Шкаликов, как оказывается, прекрасно понял мой вопрос и просто подводит дело к ответу.
* * *
– Я знаю такое место и видел его много раз. И вы его видели, если ехали на поезде в сторону Кирова и смотрели в окно справа.
Около перегона Тоншаево – Пижма была такая деревушка Ирга. По-другому в народе её ещё называли Раздеря. Сейчас уже всё… А вот лет сорок назад дома стояли, марийцы в них жили. Тогда и услышал легенду о том, что происходило недалеко от этой деревни.
Давно-давно жила в тех местах девушка – статная, скромная, красивая. Звали её Ирга. Жила она вдвоём со старым дедом, сама на охоту ходила. Глухарь, рябчик, барсук – для неё ерунда. На самого хозяина леса хаживала с рогатиной. Метко из лука стреляла, острогой, топором орудовала не хуже всяких мужчин. Лес знала как свои пять пальцев. Лесом и кормилась, деда своего кормила.
Однажды разгорелась в деревне гулянка. Ирга и тут себя показать смогла: плясала, песни пела как никто. В разгар гулянья из лесу прибежал мужик.
– Братцы, солдаты идут близко! К речке подходят! Всем ведомо, зачем идут солдаты – хватать мужиков, кто царского указа ослушался.
«Что будем делать?» – закручинилась деревня.
– Вот что, мужики! – вступила в разговор Ирга, – милости от царёвых солдатов не жди – подите-ка в лес. Да скорее, а мы вас не выдадим.
Послушались мужчины и только успели скрыться в лесу, как показались солдаты, усталые, злые. Потребовали яиц, молока, мяса, а старший к допросу приступил. Выступила вперёд Ирга:
– Не знаем мы, куда мужчины ушли. Лес велик, ищите.
– Вы не знаете – мы знаем. Завтра ваши мужики будут здесь, а мы вас плетьми запорем.
Смекнула Ирга, что видели солдаты, куда мужчины могли уйти.
Стемнело – выбралась в лес. Разыскала своих, велела им подальше уходить. Возвращалась уже под утро. Тут её и схватили часовые. Крепко сопротивлялась Ирга, да силой её одолели. Капрал посадил Иргу под замок, стал голодом морить. Сам – в лес с солдатами своими. Конечно, никого не нашёл. Понял, что Ирга предупредила всех своих, крепко обозлился. Уж и пытал он Иргу, и бил плетьми. Ничего не сказала девушка, тверже железа стояла. Горько плакал, стоя в сторонке, старый дед.
И тогда подвели Иргу к сосне и повесили на ней.
Пошёл дед в лес, долго плутал, да всё же обнаружил земляков, рассказал им об издевательствах над Иргой. Гневом воспылали мужики.
– Это она за нас смертушку лютую приняла – отомстим солдатам!
Схватились мужики за луки, за топоры, устроили засаду. Крепко бились с солдатами – у тех оружие, у них – ярость и гнев. Не ушёл и капрал-издеватель от возмездия. Немногие солдаты сумели спастись. А Иргу бережно сняли с сосны, похоронили всем селением. И сосну, на которой повесили Иргу, поклялись хранить.
Сосна стояла до наших дней. Железную дорогу строили – её пилить должны были, она в полосу отвода попадала. К инженерам пришли местные жители – уговорили сосну сохранить. Вторые пути прокладывали, тоже сосну обошли. И я её помню на 703 километре. Упала она от старости.
Так ли было, нет ли, а народное предание о смелой девушке живёт.
Шкаликов сделал паузу. И завершил рассказ: нет уже того дерева. Но осталась поляна около него, и лесом она не зарастает. Значит, люди приходят туда из соседних деревень косить траву. Конечно, есть у них покосы и поближе. Но этот – особый. Он помогает беречь место. Только не покоси пару лет – над ним сомкнётся тайга. И ещё – как полагается по обычаю – в обед люди помянут добрым словом предков.
* * *
Спустя два года предание об Ирге я нашёл в рукописи краеведа из посёлка Вахтан Павла Севастьяновича Березина. Этот человек, бухгалтер местного канифольно-экстракционного завода, записывал то, что рассказывали в Лесном Заволжье старики, с двадцатых годов.
«Давно это было. Даже наши деды не помнят, когда, а рассказ идёт из поколения в поколение. Один раз с реки Ветлуги по направлению к нынешнему Тоншаеву проходил какой-то отряд, иные говорят, разбойников, а другие – карателей каких-то. Попал он в первое от Ветлуги поселение среди глухого леса в трёх верстах от старинной дороги на Царёвосанчурск. Но ней, говорят, ещё рать Ивана Грозного на Казань шла. Теперь там уж никто не живёт, только поляна сохранилась, на которой стоит старая-старая сосна. Сохранилась поляна потому, что её косят, а иногда даже пашут и сеют здешние мужики…»
История, рассказанная Павлу Березину, была с другими деталями. Упоминался там не дед, а старик-отец девушки. И говорилось про замечательного юношу-охотника Одоша, который любил Иргу, да не оказался в деревне в тот печальный день – был в тайге на промысле.
«Проходило одно столетие за другим. Давно заросла лесом брошенная деревня, осталась только поляна, а посреди неё старая сосна. За поляной так и сохранилось название Ирга в память о девушке. Когда в 1913 году вели железную дорогу, рабочие-марийцы не тронули старую сосну, хотя она входила в полосу отчуждения. Руководитель работ инженер Фойхт настоятельно требовал её срубить, но марийцы рассказали ему старинное предание, говорили, что сосна – памятник девушке, которая погибла от рук разбойников и спасла людей. Её берегут из поколения в поколение. Инженер согласился сместить полотно дороги и оставить сосну. Так она и стояла до 1943 года, пока её не выворотила с корнем буря. Но место, где она была на перегоне Тоншаево – Янгарка, помнят. Берегут имя Ирги. Так народ хранит память о героях, её не сотрут века».
Родственники Павла Березина дали мне почитать его записки. И рассказ стал обрастать деталями.
«Предание о гибели Ирги не давало мне покоя. Я был убеждён, что в его основу было положено какое-то событие, поэтому и приступил к изучению прошлого этого края».
Впервые в 1923 году Павел Березин пришёл на ту самую поляну, когда узнал новость. Рядом был карьер – брали песок, чтобы выравнивать насыпь. И рабочие наткнулись на могильник. Вызванные из Нижнего Новгорода археологи подтвердили догадки – глиняные горшки, медные котелки, железные ножи, кинжалы, женские украшения были типичны для марийского средневековья. Здесь, и правда, находилась деревня.
А в сороковых годах Березин познакомился со старым дорожным мастером Иваном Носковым, который жил на станции Тоншаево. Оказалось, тот в 1913 году рубил в этом месте просеку под будущую железную дорогу. В основном бригада состояла из марийцев окрестных деревень.
«Они оставили несрубленной одну старую сосну, попавшую в полосу отчуждения, – писал в своём дневнике Березин. – Инженер Пётр Акимович Фойхт при осмотре работ на Иргах обратил внимание старшего рабочего Носкова на огромную сосну. Подозвав рабочих-марийцев, рубивших лес, он приказал немедленно срубить дерево. Марийцы же замешкались, о чём-то оживлённо заговорили между собой по-марийски. Затем один из них, по-видимому, старший артели, наотрез отказался выполнить приказ инженера, заявив, что под сосной давно была похоронена марийская девушка, которая сама погибла, но спасла много жителей бывшего здесь поселения. И эта сосна хранится как своего рода памятник погибшей. Фойхт попросил марийца более подробно рассказать о девушке. Тот выполнил его просьбу. Внимательно выслушав рассказ, инженер приказал сосну оставить».
* * *
Сколько лет может отделять нас от события, которое случилось где-то в самой глубине тайги? Ботаники пишут о том, что старые сосны в нашей тайге живут до 400 лет, но известны и такие деревья, возраст которых достиг 580 лет. Значит, это, например, вторая половина XVI века? Это время, когда в Лесном Заволжье шли Черемисские войны. Их было четыре. И историки до самых последних лет обходили их вниманием. Ведь происходили события как бы на периферии России небольшими локальными очагами. Без масштабных битв тянулись войны около 30 лет, а документов о них сохранилось очень немного. Солдаты, разбойники – они могли появиться в этих местах именно тогда. И если это были московские ратники, могли ли они разобраться, кто перед ними – мирные охотники или «повстанцы»? Ведь если люди организованно с оружием ушли из деревни в лес, не замышляют ли они что-то недоброе?
* * *
Чужие люди никогда не узнали бы об этой сосне, не увидели бы её, если бы тайгу здесь не прорезала, не раскрыла в начале XX века просека строящейся железной дороги. И это была величайшая случайность, особенно, если учесть, что проектов дороги предлагалось несколько.
Итак, марийцы берегли дерево, берегли место, когда дерева уже не стало. И они не просто приходили сюда косить траву – они поминали предков. Значит, это место правильно считать священным?
Так, может быть, тот самый «куст» – это такое же священное место?
А что может таить тайга, глубины которой не раскрыла дорога?
* * *
В Тоншаевском районе я познакомился в начале девяностых годов с Вячеславом Тёркиным. Это хорошо известный в тех местах человек. Сейчас он построил себе дом в самом Тоншаеве, а тогда жил в деревне Письменер.
Фамилия его может показаться кому-то русской. И очень знакомой. Какие ассоциации она у всех вызывает, объяснять не надо. Один раз, когда спустя несколько лет мой тоншаевский знакомый приехал в Нижний Новгород вместе с двумя племянницами и должен был петь на концерте, я заманил снимать его фотографа из газеты. Повод объяснил просто: в город приехал сын Василия Тёркина.
– Как? – не поверил фотограф. – Разве Тёркин был на самом деле?
Первым делом он аккуратно спросил у нашего гостя отчество.
– Васильевич!..
Фотографу не стали объяснять, что Василий Тёркин – отец Вячеслава – в войне, в самом деле, не участвовал: он был тогда ещё слишком молод.
Окончательно убедила фотографа гармонь в руках Тёркина. Это был, конечно, он.
Но фамилия у моего гостя была именно марийская и в Тоншаевском районе все её носители – марийцы.
В Йошкар-Оле вышла в 1995 году толстая книга профессора Семёна Черных «Словарь марийских личных имён». Взяты они были не откуда-нибудь – из письменных документов прошлых веков, где перечислялись владельцы имён с указанием их деревень. Имён Черных насобирал больше 23 тысяч. В их числе Терек, от которого и происходит «Тёркин». Означает имя – «опора», «живой» и, судя по всему, взято марийцами из тюркского обихода. Человек с таким именем известен, например, по документам 1722 года, где точно указано, что он «черемисин». А что имя позаимствовано у соседей, так это привычное для любого народа дело. У русских, например, тоже очень немного имён собственно славянских – чаще греческие, еврейские, латинские.
Начинал Вячеслав Тёркин как часовщик. Однако его рукам привычна не только маленькая отвёрточка, но и плотницкий топор. Работу с деревом надо очень любить, иначе так, как у Тёркина, не получится никогда. Украсил он резьбой свой дом, украсил навес на автобусной остановке, украсил сельский клуб. Стал в этом клубе работать – учит молодёжь старому ремеслу плотника, поёт и с детьми, и с ровесниками, и со стариками знакомые ему с ранних лет марийские песни – это чтобы не забылось. У Тёркина дома – целый шкаф книжек и вырезок о марийской культуре. И целый шкаф старинных костюмов. Она изумительно бела, эта одежда из толстого домотканого холста. По ней – чёткий и яркий орнамент вышивок, поблёскивают монеты.
Первые костюмы, которые получил когда-то Тёркин от родственников как ненужные, он восстанавливал неделями. Отстирывал, зашивал дырки, укреплял швы. Вместо пропавших монет на несколько женских костюмов он пришил тогда маленькие блестящие часовые циферблаты – никто и не замечал такой подмены.
А про вышивку он может рассказывать долго и увлечённо. Вышивка – как письмо старательной девушки потомку, только надо уметь его прочитать. В каждом орнаменте обязательно есть значки тамги – родового символа, которым метили и всё в доме, и орудия для работы в поле, и межевые знаки, и даже вырезали их на бревне-памятнике над могилой. Так мы узнаём, какой семье вышивка принадлежит. А дальше особенности узора расскажут, что думала девушка о своей жизни, о женихе. Только внимательней, внимательней…
Однажды весной я попросил Тёркина выбрать день и сходить со мной вместе в тайгу, показать места, которые связаны с марийцами. А я бы подстроился под него и подъехал, хоть и неблизкая дорога. Шёл ещё апрель – комаров и мошкары с лесу не было: самое время туда сходить. И Тёркин назвал день.
* * *
Мы ушли в лес по дороге, по которой, чувствуется, когда-то давно ездили. Но теперь между колеями уже тянулся вверх молодой подрост деревьев.
Заросла кустами и улица в деревне, где мы оказались минут через двадцать. Она называлась Пурнёнки. Стояла на краю тайги, не так уж и далеко от дороги, ведущей из посёлка Тоншаево на край района – в тупик, в село Вякшенер, где всякие твёрдые пути кончаются и дальше только лес. Там уж как повезёт: можно не сбиться с тропы и выйти в Кировскую область.
В Пурнёнках я насчитал 12 домов. Пустые глазницы окон. Островами – мощная, прущая что есть силы из-под земли крапива, лопухи. А крапива растёт не просто так. Она – если по науке – относится к рудеральной растительности и чётко обозначает следы хозяйства, следы человека. Забор. Калитка. Можно открыть, и она не упадёт, удержится ещё на петлях. Но во двор не войти: крапива выше человеческого роста.
Значительная часть собрания старинной одежды, которое хранится у Тёркина, – вот из таких домов.
В Пурнёнках он зашёл в своё время в каждый. Кроме Пурнёнок, были Крутой, Богатыри, Арба. Он и там обследовал покинутые дома, и не дал пропасть тому, что когда-то окружало людей. Вот Землешер, Кугонер, Орехово – это уже всё… Дома там давно упали – крапива, кусты, догнивающие брёвна. Над полянами постепенно смыкает кроны тайга: скоро они потеряются в ней – привычное дело: столько в ней за века всего исчезло.
Одно из воплощений ужаса для меня – покинутый дом. Покинутый совсем, давно, безнадёжно.
Мы с Тёркиными зашли в несколько домов. Раздвинули крапиву, скрипнули тяжёлой дверью… Стол, лавка, посуда, несколько битых горшков на полу, потемневшая печь. Нежилая сырость. Поэт заметил: «Живите в доме – и не рухнет дом». Но не всё так просто. Дом и вещи переживают людей. Боже мой, фигня какая-то незначащая – ложка алюминиевая, галоши, разумеется, порванные – вот они! А людей нет. И никого уже ни о чём не спросишь. Какая-то страшная в этом несправедливость.
Но они же, эти вещи, последняя весточка от тех людей. И ведь их (и вещей, и людей) может не остаться вовсе, если дом сгорит. Ну заночуют в нём какие-нибудь бродяги и разведут огонь погреться…
Тёркин показывает: вот в этом углу лежал женский костюм с красной накладной вышивкой, про который мне говорилось сегодня утром. Он отсырел, он не продержался бы долго. А дома в Пурнёнках стали пустеть уже в конце пятидесятых. Последние люди съехали лет двадцать до этого нашего с ним визита сюда. Наверное, от того, что жутковато жилось одним в этой уже по сути пустой деревне. Ночами прислушивались они к шуму веток, к вою ветра, к стуку чужих калиток. А во всех старых деревянных домах обязательно слышны ночью необъяснимые звуки – шелесты, скрипы. От этого кажется, что дом живёт своей жизнью.
И ещё – в таких домах, в таких деревнях меня неотвязно преследует чувство, что на меня кто-то смотрит. То ли из темноты изб, то ли из-за ворот, из глухих кустов. Я почти ловлю на себе его внимание, оборачиваюсь – и никого не нахожу перед собой. Но душу одолевает в такие минуты робость, говоришь шёпотом, чтобы что-то не потревожить, на разбудить. Это – как встреча двух миров, находящихся в разных измерениях: лишнее движение – и незримая преграда между мирами, между временами пропадёт. А так нельзя, потому что мы принадлежим своему миру.
Мы прошли мимо небольшой постройки примыкавшей к одному из домов. Амбар – не амбар: окна большие, пробив пол, тянутся вверх уже нетощие жердины осин. Дырявят собой потолок и шумят верхними ветвями над крышей. В глубине постройки на срубе стены висит перекосившийся шкафчик с открытыми дверцами. На полках – склянки с чем-то давно высохшим, полуистлевшие свёртки и просто уже непонятно что. Мой друг Дмитрий сделал как-то гениальное наблюдение: постепенно старея, все предметы в доме (как, впрочем, и еда в холодильнике) приобретают одинаковый цвет, запах и вкус.
Я приподнялся, чтобы лучше разглядеть то, что за окнами. И стал сворачивать к постройке. Но Тёркин остановил меня:
– Сюда мы подходить не будем. Здесь жил карт. Знаете, кто это такой?… Это человек, который ведёт службу в священной роще. Такой старик, который знает, какие надо говорить слова, что надо делать. И его просят, чтобы он собрал людей в роще, чтобы рассказал богам, в чём люди нуждаются… Да, вот в этом доме он жил. А сюда приходил. И здесь у него хранились приношения для богов. Это был очень сильный карт: он многое мог – и лечить, и погоду делать, и порчу снимать. Всё тут так и осталось после него. И в доме этом осталась его сила. Она ждёт, кому бы достаться в руки. Вот если войдём туда или полезем в шкафчик, это будем мы. Но он ведь никого не успел научить после себя, всё знание с ним и ушло. Это что будет такое – сила, а умения ею распорядиться нет. Человек с ней не сладит, она одолеет его… Марийская вера – страшная… Простите нас, простите… Мы уж сюда и не ходим, мы уж вас и не помним, мы уж вам ничего и не дарим… Не передали нам вас. Но мы вас и не тревожим… Живите хорошо!.. Тут всё, в Пурнёнках, раньше было – богов, хозяев помнили. А место тут, у дома, было страшное – перекрёсток. Старики мне говорили – нельзя тут ходить, как темно. Всякое бывает. Тут такое видели… Люди в скотину разную оборачивались. Или вот идёшь тут деревней ещё – и вдруг уже не деревня, уже зашёл неведомо куда, как вернуться, не знаешь… Да что тут – об этом и говорить нельзя…
Серый амбарчик зияет почти чёрной глазницей окна: раму перекосило и стёкла уже выпали. В амбарчик – это видно – никто и никогда не заходил с того дня, как карта не стало, а было это в конце пятидесятых годов.
Он знал слово для старых богов. Один знал для них слово. А слово – такая штука: оно управляет миром. Если это правильное слово, оно не отводимо, ему подчиняется всё. И что все эти пузырёчки и свёртки – без слова?
* * *
…Пурнёнки исчезают моментально. Мы отошли от них чуть-чуть, оборачиваемся, а они уже превратились в рощицу с густым подлеском, в который уводит едва ощутимая тропа.