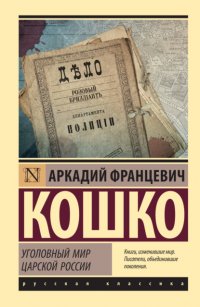
Читать онлайн Уголовный мир царской России бесплатно
- Все книги автора: Аркадий Кошко
© ООО «Издательство АСТ», 2023
* * *
Предисловие
Тяжелая старость мне выпала на долю. Оторванный от Родины, растеряв многих близких, утратив средства, я, после долгих мытарств и странствований, очутился в Париже, где и принялся тянуть серенькую, бесцельную и никому теперь не нужную жизнь.
Я не живу ни настоящим, ни будущим – все в прошлом, и лишь память о нем поддерживает меня и дает некоторое нравственное удовлетворение. Перебирая по этапам пройденный жизненный путь, я говорю себе, что жизнь прожита недаром. Если сверстники мои работали на славном поприще созидания России, то большевистский шторм, уничтоживший мою Родину, уничтожил с нею и те результаты, что были достигнуты ими долгим, упорным и самоотверженным трудом. Погибла Россия, и не осталось им в утешение даже сознания осмысленности их работы.
В этом отношении я счастливее их. Плоды моей деятельности созревали на пользу не будущей России, но непосредственно потреблялись человечеством. С каждым арестом вора, при всякой поимке злодея – убийцы, я сознавал, что результаты от этого получаются немедленно. Я сознавал, что, задерживая и изолируя таких звероподобных типов, как Сашка Семинарист, Гилевич или убийца девяти человек в Ипатьевском переулке, я не только воздаю должное злодеям, но, что много важнее, отвращаю от людей потоки крови, каковые неизбежно были бы пролиты в ближайшем будущем этими опасными преступниками.
Это сознание осталось и поныне и поддерживает меня в тяжелые эмигрантские дни.
Часто теперь, устав за трудовой день, измученный давкой в метро, оглушенный ревом тысячей автомобильных гудков, я, возвратясь домой, усаживаюсь в покойное, глубокое кресло, и с надвигающимися сумерками в воображении моем начинают воскресать образы минувшего.
Мне грезится Россия, мне слышится великопостный перезвон колоколов московских, и, под флером протекших лет в изгнании, минувшее мне представляется отрадным, светлым сном: все в нем мне дорого и мило, и не без снисходительной улыбки я вспоминаю даже и о многих из вас – мои печальные герои…
Для этой книги я выбрал рассказы из той плеяды дел, что прошла передо мной за мою долгую служебную практику. Выбирал я их сознательно так, чтобы, по возможности не повторяясь, дать читателю ряд образцов, иллюстрирующих как изобретательность уголовного мира, так и те приемы, к каковым мне приходилось прибегать для парализования преступных вожделений моих горе-героев.
Конечно, с этической стороны некоторые из применявшихся мною способов покажутся качества сомнительного; но, в оправдание общепринятой тут практики, напомню, что борьба с преступным миром, нередко сопряженная со смертельной опасностью для преследующего, может быть успешной лишь при условии употребления в ней оружия если и не равного, то все же соответствующего «противнику».
Да и вообще, можно ли серьезно говорить о применении требований строгой этики к тем, кто, глубоко похоронив в себе элементарнейшие понятия морали, возвели в культ зло со всеми его гнуснейшими проявлениями?
Писал я свои очерки по памяти, а потому, быть может, в них и вкрались некоторые несущественные неточности.
Спешу, однако, уверить читателя, что сознательного извращения фактов, равно как и уснащения, для живости рассказа, моей книги «пинкертоновщиной», он в ней не встретит. Все, что рассказано мною – голая правда, имевшая место в прошлом и живущая еще, быть может, в памяти многих.
Я описал как умел то, что было, и на ваш суд, мои читатели, представляю я эти хотя и гримасы, но гримасы подлинной русской жизни.
А. Ф. Кошко
Розовый бриллиант
В одно прекрасное утро 1913 года я получил письмо от знатной московской барыни, – княгини Шаховской-Глебовой-Стрешневой, – одной из богатейших женщин в России, в коем княгиня горячо просила меня явиться лично к ней для переговоров по весьма важному делу. Имя отправительницы письма служило порукой тому, что дело действительно серьезно, и я немедленно отправился.
Княгиня в ту пору жила в одном из своих подмосковных имений.
Застал я ее взволнованной и расстроенной. Оказалось, что она стала жертвой дерзкой кражи. В уборной, примыкавшей к ее спальне, находился несгораемый шкаф, довольно примитивной конструкции.
В нем княгиня имела обыкновение хранить свои драгоценности, особенно дорогие ей по фамильным воспоминаниям. И вот из этого шкафа исчезли две нитки крупного жемчуга, кольцо с сердоликом и розовый бриллиант. Сердоликовое кольцо имело лишь историческую ценность, так как под его камнем хранился крохотный локон волос, некогда принадлежавший Евдокии Лопухиной – первой жене императора Петра Великого, кончившей свою жизнь, как известно, в монастыре, по воле ее державного супруга. Один из Стрешневых, влюбленный в царицу Евдокию, выпросил у нее эту дорогую ему память. С тех пор эта реликвия переходила в роду Стрешневых от отца к сыну и, наконец, за прекращением прямого мужского потомства, перешла к вызвавшей меня княгине.
Нитки жемчуга были просто ценностью материальной, что же касается розового бриллианта, то в нем соединялось и то и другое: с одной стороны, он был подарен в свое время царем Алексеем Михайловичем жене своей (в девичестве Стрешневой); с другой – он являлся раритетом в царстве минералогии.
Княгиня была чрезвычайно опечалена утратой этих дорогих ей вещей, но и не менее взволнована мыслью о виновнике этой пропажи. «Горько, бесконечно горько, – говорила она мне, – разочаровываться в людях вообще, а особенно в тех, кому ты привыкла сыздавна доверять. Между тем в этом случае мне приходится, видимо, испить эту чашу, так как и при самом покойном отношении к фактам, при самом беспристрастном анализе происшедшего, подозрения мои не рассеиваются и падают все на то же лицо. Я говорю о моем французском секретаре, живущем уже двадцать лет у меня в доме. Как ни безупречно было до сих пор его поведение, тем не менее согласитесь с тем, что обстоятельства дела резко неблагоприятны для него: он один знал местонахождение пропавших вещей и вообще имел доступ к шкафу. Но этого мало: он вчера весь день пропадал до поздней ночи, что с ним случается чрезвычайно редко, и, более того, он упорно не желает говорить, где находился между семью и одиннадцатью часами вечера. Согласитесь, это более чем странно?!»
Я счел нужным пригласить этого француза к себе в сыскную полицию для допроса. Секретарь оказался чрезвычайно симпатичным человеком, лет сорока пяти, спокойным, уравновешенным, с лицом и манерами, не лишенными благородства, словом, с тем отпечатком во внешности, что так свойственен французам, – этим сынам многовековой культуры.
Он сказал мне, что крайне удивлен и опечален тем, что у княгини могла явиться, хотя бы на одну минуту, мысль об его виновности, но вместе с тем категорически отказался дать и мне объяснение своего времяпрепровождения накануне, между семью и одиннадцатью часами вечера. Как я ни бился, как ни доказывал ему необходимость установления alibi, как ни уверял я, что все им сказанное не выйдет за пределы этих стен, что ни одно имя, особенно женское, им произнесенное, не будет скомпрометировано – все напрасно! Он готов был идти на всякие печальные последствия своего упорства, но решительно отказывался ответить на нужные мне вопросы. Я так упорствовал, ибо чувствовал нервами, всем моим существом, что француз говорит правду и ни в чем не повинен.
Я убежден был, что в этом благородном человеке говорят соображения рыцарской чести, а не страх и желание замести свои преступные следы.
Но, увы! Начальник сыскной полиции не может руководствоваться лишь внутренним своим убеждением, не может он не считаться с конкретными фактами, а потому и в данном случае не в силах моих было немедленно вернуть свободу симпатичному французу, и волей-неволей я передал его в руки следователя, высказав при этом последнему свои соображения. Следователь оказался упрямым ограниченным человеком и, ухватясь за факт скрывания нескольких часов, неизвестно где проведенных накануне французом, порешил арестовать его. И бедный секретарь был препровожден в тюрьму.
Передав это неприятное дело следователю, я тем не менее поручил моему чиновнику Михайлову по возможности выяснить условия и домашний быт служебного персонала княгини. Через несколько дней Михайлову удалось натолкнуться на следующую подробность. Месяца три тому назад княгиней был уволен лакей, Петр Ходунов, прослуживший у нее восемь лет и пользовавшийся ее доверием. Этот лакей не раз путешествовал в штате княгини, следуя за ней за границу на ее собственной комфортабельной яхте.
Был чрезвычайно дисциплинирован, кроток и смирен. Княгиня настолько доверяла ему, что бывали, по ее же признанию, случаи, когда она приказывала Петру открывать заповедный несгораемый шкаф и то приносить, то прятать в него те или иные драгоценности.
Уволен он был по довольно странной причине: оказалось, что этот смирный, трезвый человек принялся вдруг без всякого видимого повода грубить, пьянствовать, манкировать службой, словно нарочно напрашиваясь на увольнение.
Все это показалось мне странным.
Петр Ходунов не числился в штрафных списках сыскной полиции, на всякий случай я навел справку о судимости и по изданию Министерства юстиции, и каково было мое удивление, когда по нему оказалось, что Петр Ходунов, такой-то губернии, уезда, волости и деревни, дважды судился за кражи и отбывал за них тюремное заключение.
Я немедленно кинулся его разыскивать. Это не представило труда, так как адресный стол дал точную о нем справку.
Но здесь на меня напало раздумье: «Арестовать-то я его арестую, но что же из этого выйдет? Он, конечно, от всего отопрется, скажет, что целых три месяца как не служит у княгини и, во всяком случае, вещей не выдаст, а предпочтет терпеливо отсиживать, благо в прошлом он уже натренирован в этом отношении».
Я предпочел установить за ним наблюдение, поручив его двум агентам. Дня два они наблюдали за ним, донося, что Петр Ходунов ведет довольно рассеянную жизнь, видится со многими людьми, пьянствует по трактирам. Как вдруг на третий день агенты прибегают и сконфуженно признаются, что «упустили» Ходунова где-то в Лефортове. По всем данным, заметив за собой наблюдение, он ловко перехитрил их и… бесследно скрылся.
Что оставалось делать?
Разбранив моих неловких людей, я немедленно нагрянул на квартиру Ходунова с целью производства обыска, а при случае и ареста последнего. Хотя на арест я мало надеялся, так как между потерей из вида Петьки моими агентами в Лефортове и моментом нашего прибытия на квартиру прошло часа три, то есть промежуток времени более чем достаточный для того, чтобы заподозривший беду мог вернуться домой, забрать украденное и исчезнуть бесследно.
Ходунов занимал квартиру в две комнаты с кухней; одну из них он сдавал сапожнику, а в другой жил с какой-то Танькой и ее матерью. Петьку мы, конечно, не застали, но бросилось мне в глаза не совсем обычное поведение женщин: при нашем появлении они ничуть не растерялись, словно ждали нас, и перекинулись даже, как показалось мне, насмешливым победоносным взглядом. Держали они себя весьма вызывающе. Тщательный обыск ничего не дал, но, так как женщины, а с ними и сапожник, врали напропалую, утверждая, что Петька вот уже три дня как исчез неизвестно куда, между тем как люди мои, ведя наблюдение, еще сегодня «приняли» Ходунова с квартиры, то я решил арестовать всю троицу, препроводив ее к себе и оставив засаду на квартире на случай, хотя и маловероятный, Петькиного прихода.
Я принялся за допросы. Мать оказалась довольно забитым существом, тупым и неграмотным, решительно все отрицавшим. Роль ее была, очевидно, пассивной; а так как к тому же она оказалась больной, страдая кровотечением, то я счел возможным отпустить ее домой под охраной агента. Дочь была в другом духе: шустрая, разбитная, хорошо грамотная, бывалая. Так же как и мать, все отрицая, она симулировала, и довольно удачно, возмущение по случаю ареста, обещая даже кому-то и куда-то жаловаться. Ее я задержал при сыскной полиции. Сапожник отвечал то же:
– Знать – не знаю, ведать – не ведаю!
Но быстро сдал свои позиции, лишь только я прикрикнул:
– Ах, не знаешь?! Ну и будешь сидеть, пока не разыщем Петьки. Да и за укрывательство вора еще отсидишь особо.
– Ну во‐о-о-т?! Ваше высокоблагородие, стану я сидеть из-за всякого г… Нет, уж вы, пожалуйста, отпустите, а я что знаю, то скажу.
– Где Петька?
– Этого не знаю; но, действительно, за час до вашего прихода на квартиру Петька примчался что шальной, схватил баульчик, попрощался с бабами, что-то сказал про депешу тете Кате (это, стало быть, сестра старухи) да и был таков.
– Где же живет эта тетя Катя?
– Вот этого, ей-богу, не знаю.
– Ты давно снимаешь комнату у Петьки?
– Третий месяц пошел.
– Не замечал ли какой-нибудь разницы в их жизни за последнюю неделю?
– Действительно, прежде они жили беднее, а последнее время загуляли. И гости, и пьянство, и харча стала другой. Третьего дня и меня угостили на славу; опять же и Таньке он золотые сережки вчерась подарил.
Я освободил сапожника и препроводил его домой под засаду.
«Хорошо было бы разыскать эту “тетю Катю”», – думалось мне.
Хотя, с другой стороны, и она не выдаст Петьки, если только заинтересована в деле. Во всяком случае, об этом надо подумать.
На следующий день мне доложили, что мать просит разрешения прислать арестованной дочери пищу и смену белья.
В наших полицейских камерах кормили хорошо и обильно, а посему арестованные, конечно, не нуждались в собственном продовольствии, но я не препятствовал подобным просьбам, требуя лишь внимательного и предварительного осмотра «передач». Так было и в данном случае, с той лишь разницей, что Танькину передачу я пожелал видеть лично. Она оказалась скромной: горшок щей, круглая, дома испеченная булка да чистая сорочка.
Я в раздумье уставился на изрезанную и общипанную булку; как вдруг мне пришла в голову мысль.
Взяв крохотный листочек бумажки, я мелкими каракулями карандашом на одной ее стороне написал:
«Тетей Катей от Петьки получена депеша. Спрашивает, как ему быть?»
Эту записку вместе с огрызком обслюнявленного карандаша я приказал запечь в особо состряпанную для сего булку и передать ее Таньке вместе с домашней ее корзинкой, щами и рубашкой.
На следующий день, при отдаче Танькой пустого горшка и грязной сорочки, в рубце ее подола мои люди нашли зашитый ответ, написанный ею на моей же бумажке. Он был таков:
«Вели тете Кате послать Петьке депешу в Нижний Новгород (следовало название улицы и гостиницы), написав, что я под замком».
Вечером в сопровождении двух агентов я выезжал с курьерским поездом в Нижний.
Остановившись в гостинице «Россия», я вызвал туда начальника местного сыскного отделения. По его словам, Петькино пристанище оказалось скверненькими меблированными комнатами где-то за Окой, но имевшими для нас то преимущество, что содержал их старик, некогда служивший в сыскной полиции и не порвавший и доныне с ней связи. Он не раз оказывал услуги местному начальнику, сообщая о подозрительных типах, посещавших его комнаты.
Я решил поговорить с ним.
– Скажите, проживает у вас Петр Ходунов?
– Как же-с, третий день занимает номер.
– Что он у вас делает?
– Да черт его знает! Уходит с утра, пропадает весь день, а к вечеру возвращается с ярмарки пьяным.
– Послушайте! Вы сами прежде служили по сыскному делу, так, понимаете, вы можете нам помочь.
– С превеликим удовольствием! – отвечал старик, оживляясь, как старый боевой конь при звуках знакомого сигнала.
– Скажите, не имеется ли свободного номера рядом с Ходуновым?
– Как раз сегодня освободился.
– Вот и прекрасно! Мои люди его займут. А как стены между ними, толсты?
– Какое там! Дощатые, можно сказать, перегородки.
– Сейчас Ходунова нет дома?
– Нет, ушел с утра и, наверное, до ночи не вернется.
– Отлично! Вы вот что, голубчик: сейчас же просверлите в стене пару дырочек да замаскируйте их хорошенько, вбейте, что ли, рядом гвоздей, а я отправлю к вам двух «пассажиров».
– Слушаю-с…
Через час двое приезжих, купеческой складки, с чемоданчиками в руках, поторговавшись, заняли соседний с Ходуновым номер. В просверленные в стене отверстия они осмотрели Петькино помещение и видели вечером, как полупьяный Петька, придя к себе, быстро разделся, вынул из карманов два свертка, один маленький, другой побольше, и, спрятав их под подушку, завалился спать.
На следующее утро один из моих агентов докладывал мне по телефону в «Россию»:
– Петька встал, помылся, оделся и, вынув из-под подушки нечто, спрятал один сверток в карман пиджака, а другой, маленький, бережно развернул, повернулся к окну и, вынув двумя пальцами его содержимое и прищурив глаз, поглядел на свет. В пальцах его засверкал розовый камень. После этого Петька, самодовольно улыбнувшись, снова завернул камень в бумажку и спрятал его в нижний правый жилетный карман. Затем, торопливо присев, написал какое-то письмо, заклеил конверт и, видимо, собирается уходить.
– Ни на минуту не спускайте с него глаз и передайте это мое приказание агентам наружной охраны. Помните, что вы лично отвечаете мне за точное исполнение этого поручения.
Я сейчас же помчался за Оку и по дороге встретил моих подчиненных, зорко следящих за каким-то впереди них идущим субъектом.
Незаметно присоединившись к ним, я последовал за Петькой.
Последний быстро шел и привел нас к главному ярмарочному зданию, где во время ярмарки помещался почтамт. Ходунов взошел в него. Мы последовали за ним. Вместе с нами вошло человек десять из местной агентуры. Петька подошел к окошечку, купил марку, наклеил ее и направился к ящику, чтоб опустить письмо. В этот самый момент я подошел к нему и крикнул на весь почтамт:
– Стой! Я начальник Московской сыскной полиции. Подавай бриллиант!
Петька опешил, разинул рот и, наконец, пролепетал:
– Что вам угодно? Какой бриллиант?
– А тот самый, что лежит у тебя в правом жилетном кармане! – и с этими словами я запустил пальцы в его жилет и, быстро освободив камень от бумажки, высоко поднял его над головой. В пальцах моих засверкал бледно-розовый камень, цвета нежной, румяной зари. По оцепеневшему на миг почтамту прошел изумленный гул голосов. Петька окончательно растерялся.
– Господи! Да откуда же вы все это узнали? Вот чудеса-то?! Берите уж и жемчуг, все равно от вас не скроешь! Насквозь видите!
Ну и дела! Вот так штука!
– Где сердоликовое кольцо?
– Вот чего нет – того нет, господин начальник!
– Куда дел?
– Продал вчера здесь, на ярмарке, персу. Да оно ничего не стоит, пять рублей получил…
– Веди сейчас же к персу!
Лавка перса была указана, и кольцо от него отобрано.
Итак, вор был арестован и все вещи найдены. Вечером под конвоем Петька был отправлен в Москву, а я на радостях пожелал со своими двумя московскими служащими отпраздновать удачу. С этой целью мы отправились вечером в ярмарочный кафешантан.
Только русский человек дореволюционной эпохи может иметь понятие о том, что представлял из себя Нижегородский шантан в период ярмарки. Русский безбрежный размах подгулявшего купечества, питаемый и воодушевляемый сказочными барышами, зашибленными в несколько дней; шальные деньги, энергия, накопленная за год и расточаемая в короткий промежуток времени – вот та среда и атмосфера, в каковой я очутился. О моем пребывании в ресторане каким-то образом узнали, и едва успели мы занять столик у эстрады и проглотить по стакану сухого монополя, как стал я замечать, что не только с соседних, но и отдаленных столиков потянулись к нам шеи и головы. Сначала на нас посматривали с осторожным любопытством. Но по мере того как опустошались бутылки, застенчивость пропадала и нам стали улыбаться, подмигивать, поднимать бокалы и пить за наше здоровье, а то и попросту указывать пальцами. Наконец, в зал ввалился из кабинета какой-то сильно подвыпивший купец и с бокалом в руках, обратясь ко всем вообще и ни к кому в частности, заплетающимся языком, но громовым голосом произнес:
– Православные! Знаете ли вы, кто присутствует среди нас? Не знаете? Так я вам скажу… Мой земляк, мы оба из Москвы, господин Кошков! Во-о какие осетры водятся в нашей Белокаменной! Он да я – это не то что ваша нижегородская мелюзга! Слыхали поди, как сегодня он в почтамте подошел к жулику да и говорит прямо: «Скидывай сапог! У тебя промеж пальцев зеленый бриллиант спрятан!» Что бы вы думали? Так и оказалось все в точности! Этакого человека мы должны ублажать. Он охраняет наши капиталы от всякой шантрапы и пользу нам великую приносит!
Слова пьяного москвича послужили сигналом: меня тотчас же окружили, кто жал руки, кто лез целоваться. Какой-то особенно экспансивный и не менее пьяный субъект вывернул огромный бумажник и заорал:
– Может, деньги нужны? Бери без стеснениев, милый человек! Бери, сколько хошь…
Другой ввел в зал оркестр, заигравший туш. Заорали: «Ура!».
На шансонеток, съехавшихся со всех концов Европы, посыпался дождь сторублевых бумажек, и пошел пир горой: неудержимый, дикий, не знающий границ ни в тратах, ни в сумасбродствах, – словом, тот пир, о масштабах и размахе которого не могут иметь и не имеют хотя бы приблизительного понятия все те, кто не родился с русской душой.
Оглушенный, растроганный и в полном изнеможении вернулся я к себе в гостиницу.
На следующее утро я покинул Нижний и возвратился в Москву.
Вызвав к себе Таньку, я сказал ей:
– Ну, полно ломаться! Говори же, где Петька?
– Ой, да что вы, господин начальник, все о том же. Я говорила уже много раз, что ничего о нем не знаю.
– Так-таки ничего не знаешь?
– Разрази меня господь! Не сойти мне с этого места! Лопни мои глаза! Ничего не знаю!
– И глаз своих не жалеешь?
– Да, господин начальник, пусть лопнут, ежели вру!
Я, не торопясь, вынул из кармана бриллиант, развернул бумажку и издали показал его ей.
– А это видела?
Танька вспыхнула и прошептала: «Видела».
Я взял мою записочку с ее надписью на обороте.
– А это видела?
– Я писала, – чуть слышно прошептала Танька.
– То-то и оно!.. А говоришь: «Лопни мои глаза!» Ведь записочку-то я тебе послал, я же и ответ твой из рубашки расшил! Эх ты, Танька, Танька! Сама же своего Петьку выдала!
С Танькой сделалась форменная истерика.
Возвращая похищенные вещи княгине Шаховской-Глебовой-Стрешневой, я заметил в ней не только радость, но и немалое смущение.
– Господи, как это ужасно! А я-то заподозрила этого честнейшего и ни в чем не повинного человека!
Как взгляну я теперь ему в глаза? Как взглянула княгиня в глаза своему верному французу – мне неизвестно. Но образ этого рыцаря надолго запечатлелся в моей памяти.
Васька Смыслов
Ваську Смыслова Московская сыскная полиция знала прекрасно.
Он уже несколько раз нами арестовывался за мелкие кражи; но, отбыв тюремное наказание, снова принимался за свое «ремесло».
Как-то дня через два после довольно значительной кражи в одной из квартир на Поварском, кражи, еще не раскрытой, вдруг раздается звонок по моему служебному телефону. Я подхожу:
– Алло! Кто говорит?
– Это вы, господин начальник?
– Я.
– Желаю вам здоровьица, с вами Васька Смыслов говорит.
– Здравствуй, Васька, что скажешь?
– А ваши-то дураки третьева дня опять меня прозевали!
– Ну-у?! Врешь!..
– Ей-богу! Ведь на Поварском-то – моя работа!
– Ну, что же? Везет тебе, Васька, но только смотри, не попадись!
– Ну уж нет, господин начальник, теперь мы наловчившись, не поймают, шалишь!
– Ох, Васька, смотри не бахвалься!
– Будьте без сумления, не попадусь!
И Васька повесил трубку.
Смыслов был жизнерадостным малым с хитринкой и, как ни странно, с большим добродушием. Он, видимо, не лишен был и юмора и, чувствуя весь комизм моего положения, принялся с этого дня звонить мне всякий раз после удачно совершенной кражи. Стянув благополучно в одном из ювелирных магазинов на Кузнецком мосту несколько часов при помощи выдавленного стекла в витрине.
Васька звонил:
– А это опять я, господин начальник! Что, чисто сработано на Кузнецком?
– Да что и говорить, молодец! Комар носа не подточит…
– То-то и оно, а вы говорите – поймаете, да ни в жисть!
– Поживем, Васька, увидим!
– Да и смотреть нечего! Сказал – не поймаете.
Сделав паузу, Васька продолжал:
– А вот что я вам скажу, господин Кошкин, подготовляю я здесь дельце покрупнее, как сработаю, беспременно вам позвоню.
– Ох, Васька, лучше не звони, дразнишь ты меня!..
Васька хихикнул в трубку от удовольствия:
– Ничего, господин начальник, уж вы потерпите, это вам пользительно!..
И Васька дал отбой.
Создавшееся глупое положение начинало меня изводить. Я был уверен, что Васька сдержит обещание, и решил принять меры.
Мною было отдано следующее распоряжение: лишь только я тремя долгими звонками позвоню из своего кабинета в дежурную комнату, дежурный чиновник немедленно должен броситься к одному из свободных телефонов и тотчас же справиться на центральной станции о номере, разговаривающем в данный момент с начальником сыскной полиции. В это же время на другого чиновника возлагалась задача раскрыть имеющийся при полиции порядковый регистратор телефонных номеров с указаниями против каждого номера адреса абонента. Третий же чиновник с двумя агентами должен будет в это время одеваться и, получив адрес от первых двух, немедленно мчаться на дежурном автомобиле к указанному месту.
Двое суток мы ждали Васькиного звонка. Наконец, на третий день меня кто-то вызвал по телефону, и, подойдя к аппарату, я услышал Васькин голос. Держа трубку в правой руке, левой я нажал электрическую кнопку на письменном столе и дал три долгих звонка.
Теперь вся задача сводилась к тому, чтобы в течение известного времени занять Ваську достаточно интересным для него разговором, не возбуждая при этом его подозрения.
Васька начал как всегда:
– Я обещался позвонить вам, господин начальник, вот и звоню.
– Скажи, Васька, а как ты не боишься мне звонить? Вдруг я узнаю, откуда ты звонишь и по номеру телефона открою твое местожительство.
Васька выразительно свистнул:
– Не на такого напали. Что я за дурак, что стану звонить вам от родных или знакомых. В Москве, слава те господи, телефонов в любом подъезде, а Москва-матушка велика. Подите-ка, ищите!..
– Да ты, я вижу, Васька, башковит!
– Ничего-с, господь головой нас не обидел. А ночью нынче мы опять поработали, на Мясницкой. Чай, слышали? Да только взяли самую малость!
– Нашел чем хвастать! Великое дело, подумаешь! А вот слышал ты, что этой же ночью было на Тверской?
– Нет, не слыхал, а что, господин начальник? – и в голосе Васьки зазвучало любопытство.
– То-то и оно, что ты, Васька, на мелочи размениваешься, а настоящего дела и не видишь!
– Да что же такое? Скажите ж!
– А то, что на Тверской ювелирный магазин дочиста обобрали.
– Да ну-у?!
– Вот тебе и да ну-у…
– И много взяли, господин начальник?
– Да, говорят, тысяч на триста.
– Ишь, черти… – и в голосе Васьки послышалась зависть.
– А как ты полагаешь, Васька, чьих рук дело?
Васька подумал и сказал:
– Не кто другой, как… как Сережка Кривой.
– А кто это Сережка Кривой?
– Неужто не знаете? Да что с Танькой Рябой хороводится.
– Таньку Рябую знаю.
– Ну вот, они вместях и орудуют.
– А давно ты видел Сережку Кривого?
– Да с неделю, пожалуй, будет.
– Послушай, Васька, ты бы узнал мне, где теперь Сережка; зато когда и попадешься, так я тебе твоей услуги не забуду и всякое снисхождение сделаю.
– А и впрямь, не поискать ли? – задумчиво сказал Васька, но потом добавил: – А только не найтить!
– Почему же?
– Да вы, господин начальник, говорите: «триста тысяч» – разве при таких деньгах он останется в Москве? Поди, теперь и след его простыл!..
Васька хотел еще что-то добавить, но вдруг как-то вскрикнул, трубка защелкала у меня в ухе, и я понял, что Васька пойман.
Через четверть часа он уже был у меня в кабинете.
– Ну что, Васька, чья взяла? Кто кого перехитрил?
– Да уж ловко сделано, слова не скажу, господин начальник!
Васька почесал в затылке, помялся и неуверенно сказал:
– А позвольте вас спросить насчет трехсот тысяч, это вы зря, для обману говорили?
– Конечно, для обмана. Нужно было занять тебя интересным разговором.
Васька восхищенно закатил глаза в потолок, ударил себя кулаком в грудь и с чувством промолвил:
– Ну и ловкач же вы, господин Кошкин!!
Коммерческое предприятие
В 1908 или в 1909 году я получил из Главного управления почт и телеграфов извещение, что за последние месяцы многие города России наводнены искусно подчищенными почтовыми марками, семи и десятикопеечного достоинства. Подчистка настолько совершенна, что лишь при сильной лупе может быть обнаружена. Есть основание предполагать, что в этом мошенничестве орудует хорошо сорганизованная шайка, разбросавшая сети чуть ли не по всей России. Ходят смутные слухи, что центр организации находится в Варшаве.
Получив эти сведения, я приказал агентам обойти каждому в своем районе все табачные, мелочные и прочие лавочки, где, по установившемуся издавна обычаю, продавались марки.
Москва велика, а посему операция эта заняла немало времени.
Вместе с тем я обратил внимание на то, что за последнее время появилось множество объявлений в газетах от имени коллекционеров, предлагавших скупать старые марки. Поэтому я порешил произвести обыски и у этих коллекционеров, впрочем не давшие ничего, кроме огромных запасов старых марок.
Во многих табачных и мелочных лавках агенты мои, вооруженные специально для них приобретенными лупами, обнаружили, отобрали и принесли мне марки, казавшиеся им подозрительными, каковые я принялся внимательно разглядывать.
Подчистка была идеальна: не только ни малейших следов старых штемпелей, но полная сохранность по краям зубчиков, неприкосновенность клеевой массы и так далее. Единственно при сравнении двух марок – новой и подчищенной, – в последней краска была чуть-чуть бледнее и казалась слегка выцветшей. Разница была столь ничтожна, что пришлось партию этих марок отправить в Главный почтамт на экспертизу, где лишь и была окончательно установлена их непригодность. Характерно, что марки эти попадались лишь поштучно и никогда целыми листами. Опрошенные лавочники-продавцы в один голос заявляли, что марки ими приобретены в почтовых отделениях и что о недоброкачественности их они и не подозревали. Один лишь из них, человек, видимо, крайне робкий, напуганный вмешательством властей, чистосердечно признал, что получил для своей лавки запасы марок от небезызвестного марочного коллекционера, проживавшего на одном из Козицких переулков, некоего Е. Получал он их от Е. со скидкою в одну копейку со штуки.
Я командировал агентов к Е. При обыске у него подчищенных марок не нашли; но одно обстоятельство обратило на себя внимание моего помощника В. Е. Андреева, который был во главе обыска, это то, что в бумажнике Е. была найдена накладная на товар из Варшавы, причем товар, в ней обозначенный, оказался весьма оригинального свойства – мешок перьев! Зачем коллекционеру марок выписывать из Варшавы перья? Словно гусей, уток и прочей птицы мало в Москве? Этот Е. был арестован и препровожден в сыскную полицию. Сначала он отпирался; но, просидев двое суток в камере и будучи вызванным на очную ставку с табачным лавочником, его прежде назвавшим, а теперь признавшим, он перестал упираться, сознался во всем и широко пошел нам навстречу в деле раскрытия всей этой мошеннической махинации. Он рассказал следующее: месяца три тому назад является к нему какой-то человек, по виду еврей, продает ему несколько экземпляров довольно редких марок, долго болтает на разные темы и заканчивает свою беседу выгодным предложением: поставить ему партию прекрасно подчищенных семи и десятикопеечных марок со скидкой трех копеек со стоимости каждой. Тут же он показал свои образцы.
«После долгих колебаний я соблазнился и изъявил согласие на аферу. Тогда мой искуситель назвал мне фамилию Зильберштейна, каковому и предложил писать в Варшаву до востребования.
Мы списались, и вот время от времени я получаю от Зильберштейна партии марок, упакованные в мешки с перьями, что не дает возможности их прощупать».
– Как вы полагаете, – спросил я, – пришел ли по последней накладной мешок?
– Судя по времени, должно быть – да.
Я отправил человека с накладной на товарную станцию, и мешок был вскоре привезен. Мы высыпали перья, и среди них обнаружили до десяти тысяч. Они были сложены пакетиками по сто штук, и каждый из них был аккуратно перевязан голубой ниткой.
Не представляло труда, конечно, написать Зильберштейну от имени Е. письмо с заказом и арестовать его в Варшаве, в почтамте, в момент получения им корреспонденции до востребования; но марочное предприятие приняло всероссийский масштаб, требовало раскрытия и самого источника производства и полной его ликвидации. Между тем Зильберштейн мог оказаться лишь посредником, а не непосредственным работником и главой предприятия.
Все эти соображения заставили меня отказаться от мысли о немедленном аресте последнего, и я стал изобретать повод к поездке в Варшаву. В этом отношении мне помог все тот же арестованный коллекционер.
– Ничего не может быть проще! – сказал он. – Зильберштейн не раз предлагал мне в письмах приехать в Варшаву для обсуждения какого-то нового и весьма прибыльного дела. Я подозреваю, по его намекам, что речь идет о распространении подчищенных гербовых марок.
– Зильберштейн вас никогда не видел?
– Нет.
– Отлично! Сделайте паузу дня в три, а затем напишите ему, что готовы приехать в Варшаву для переговоров и просите указать вам точно место вашей будущей встречи.
Е. согласился исполнить это требование, но сказал:
– Вы видите, господин начальник, что я не только покаялся в преступлении, но и готов всячески содействовать раскрытию всего дела. Будьте добры, освободите меня, я истосковался по дому!
Я был в затруднительном положении и решил посоветоваться с прокурором суда Арнольди.
– Не знаю, что и посоветовать вам, – сказал он мне. – При освобождении Е. он может бежать или испортить вам дело. Впрочем, делайте как хотите, Аркадий Францевич. Вам виднее.
– Я освобожу вас до суда, – сказал я Е., – но приставлю к вам двух агентов, несущих денно и нощно дежурство при вас.
– Помилуйте! Для чего эти предосторожности?
– Нет, уж вы извините, но они необходимы.
– Ну что же, пусть будет так!
Дня через три Е. написал Зильберштейну до востребования. В этом письме он изъявлял согласие на переговоры о выгодном деле, но заявлял, что сам выехать не может, а готов прислать родного брата, каковому доверяет как самому себе. Вскоре пришел ответ от Зильберштейна с подробным указанием дня, часа и места встречи.
Для свидания Зильберштейн выбрал Саксонский сад и скамейку как раз против входа в летний театр. Для большей точности он просил господина Е. держать в руках местную русскую газету «Варшавский дневник». Е. тотчас же написал о приемлемости времени и места, и я стал собираться в путь. К назначенному сроку я с двумя агентами выехал в Варшаву.
В условленный час я был в Саксонском саду на указанной скамейке и внимательно прочитывал широко развернутый «Варшавский дневник». Кругом меня никого не было, если не считать какой-то толстой еврейки с младенцем, сидящей напротив. Прошло полчаса – никого. Прошел час – никого. Я собрался было сокрушенно уходить, полагая, что нечто совершенно непредвиденное задержало или напугало Зильберштейна. Как вдруг моя еврейка перешла площадку и подсела ко мне. Немного помолчав, она с обворожительной улыбкой спросила меня:
– Скажите, мосье, вы русский?
– Русский.
– Уй! Люблю я русских, хороший, щедрый народ!
Я поклонился.
– Вы живете в Варшаве или приезжий?
– Приезжий, сударыня.
– Я так и думала! Вы не похожи на варшавянина. Вы из Петербурга?
– Нет, я из Москвы.
– Из Москвы?! – как бы удивленно улыбнулась она и, тотчас же прильнув к моему уху, прошептала:
– Ну, так я уже вам покажу сейчас господина Зильберштейна!
Она повела меня на Трембацкую улицу, подвела к какому-то небольшому кафе и указала на столик у самого зеркального окна.
За ним сидел еврей, лет сорока, рыжеватый, довольно прилично одетый.
Он взглянул на нас через окно и улыбнулся моей провожатой.
Я вошел в кафе и направился к Зильберштейну. Он приподнялся навстречу, и мы молча пожали друг другу руки. Сели.
– Мне очень приятно познакомиться с таким хорошим человеком! Мы так хорошо работали вместе, вы всегда так аккуратно платили, словом, делать с вами гешефты – одно удовольствие!
Я улыбнулся:
– Да, собственно, вы работали не со мной, а с моим братом. Но это, конечно, все равно.
– Ну и какая же разница? Ваш брат нам писал, что приедете вы, и я прекрасно знаю, что вы не господин Е., а его брат. Ну не все ли равно?
– Положим, и моя фамилия Е., но, конечно, я лишь брат вашего покупателя, – и для большей достоверности я вытащил паспорт и раскрыл его перед Зильберштейном.
– Зачем мне ваш паспорт? Разве я сразу не вижу, с кем имею дело? – тем не менее он запустил глаза в документ. – Знаете, господин Е., раньше чем разговаривать о делах, выпьем по келишку? Ну?
– Хорошо бы позавтракать сначала, я голоден.
– Можно и позавтракать! Отчего нам не позавтракать?
– Да, но здесь как-то неуютно! Пойдемте в какой-нибудь ресторан почище!
– Видно, господин Е., что вы настоящий аристократ, работаете, так сказать, на широкую ногу! – и Зильберштейн восхищенно на меня взглянул.
– Да, слава богу, пожаловаться не могу, обороты хорошие делаю!
– Ну так знаете, что я вам скажу? Если мы договоримся, вы – миллионер! Поверьте слову Янкеля Зильберштейна!
– Ладно, ладно! Об этом после, господин Зильберштейн, а теперь бы поесть!
– Идемте, идемте, господин Е.! Я тут недалеко такой ресторан знаю, что останетесь довольны: такие фляки, такие зразы, такой Цомбер подают, что сам господин Ротшильд не забракует!
Зильберштейн привел меня в довольно приличный ресторан.
Выпили мы с ним рюмки по три старки, и мой еврей размяк.
– Какой вы симпатичный и компанионный человек! С вами так приятно иметь дело! – восклицал он поминутно.
Мы принялись за завтрак.
– Знаете, господин Е., я такое, такое дело хочу вам предложить, что если до сих пор мы зарабатывали копейки, то на новом гешефте будем зарабатывать рубли!
– Да, вы в одном из ваших писем намекали; я хорошенько не уверен, но мне показалось, что вы имеете в виду гербовые марки?
– Юдишер копф! – восхищенно воскликнул Зильберштейн. – Да, я именно об этом и «намекивал». Вы только подумайте, разница-то какая! Пятирублевые, десятирублевые, наконец, боже ты мой, сорокарублевые марки! Вы понимаете меня?
– Отлично понимаю! Но прежде чем говорить, нужно и на товар посмотреть.
– Пхе, само собой! Кто же заглазно товар покупает? Да еще такой деликатный?
– Вот я про то и говорю. Покажите образцы, а то и самое предприятие, чтобы я мог судить как о качестве, так и о солидности и размахе дела.
– А вы надолго приехали в Варшаву?
– На несколько дней, во всяком случае, в зависимости от того, сколько потребует дело.
– Ну так нечего и торопиться! Я переговорю со своим компаньоном, и завтра мы вам покажем и образцы, и если он только согласится, то и самую выделку. Я хоть сейчас готов вас повезть, да приходится считаться с ним, а он недоверчив и боязлив.
Однако после второй бутылки вина Зильберштейн проникся горячей ко мне любовью и патетически воскликнул:
– Да, что уж вас мучить, – вот вам образцы!
И он достал из бумажника несколько гербовых марок. Я принялся разглядывать эту не менее изумительную работу. Подвыпивший Зильберштейн укоризненно воскликнул:
– Что вы делаете? Неужели вы невооруженным глазом думаете что-нибудь увидеть?! Да возьмите же, господин Е., лупе, лупе возьмите, вот она! – и он протянул мне лупу.
– Благодарю вас, у меня есть лупа. Я сначала желаю получить общее впечатление.
Поглядев со всех сторон марки, я затем принялся их исследовать и через лупу. Наконец, оторвавшись от этого занятия, я солидно промолвил:
– Товар хорош, без изъяна, ничего не скажу, даже удивительно!
Зильберштейн самодовольно улыбнулся.
– Вы, быть может, думаете, что Зильберштейн вам хвастает и показывает настоящие марки?
– Нет, я этого не думаю. Но, разумеется, для крупного заказа мне нужна твердая вера в серьезную техническую постановку. Ведь каждую марку не осмотришь. Быть может, господин Зильберштейн, вы переговорите с вашим компаньоном и как-нибудь устроите это?
– Хорошо, господин Е. Будьте завтра в час дня на Праге: там, на такой-то улице, в доме № 43, имеется маленький ресторанчик, хотя и грязненький, посещаемый больше фурманами, но надежный во всех отношениях. Я познакомлю вас со своим компаньоном, и, быть может, он и согласится вам показать кое-что.
На этом мы и порешили.
Я позвал лакея и потребовал счет.
– Мы с вами будем рассчитываться на немецких началах, – сказал мне Зильберштейн. – Я заплачу за то, что я кушал, а вы за то, что сами скушали.
– Ну, что там считаться! Для такого приятного знакомства заплачу я за все.
– Для чего же это? – слабо запротестовал Зильберштейн. – Лучше бы на немецких началах?
– Ладно! Завтра заплатите вы, вот и выйдут немецкие начала.
Мы вышли. Зильберштейн долго тряс мне руку, объясняясь в любви, превозносил мою щедрость. Но, наконец, мы расстались, и я отправился к себе в гостиницу.
Пробыв в ней часа два, я к вечеру вышел и с наступившими сумерками отправился в местную сыскную полицию. Я обратился к Ковалику, начальнику Варшавского отделения. Рассказав ему кратко, в чем дело, я просил его дать мне назавтра к часу двух агентов, переодетых фурманами (извозчиками), для наблюдения за Зильберштейном и его сообщником. К варшавским агентам я присоединил своих двух, привезенных мною из Москвы.
На следующий день, ровно в час, я входил на Праге в грязненький ресторанчик, где у стойки толпилась уже куча людей крайне пролетарского вида. Вскоре к ним присоединился и один из агентов – извозчик. Не успел я занять в соседней, «чистой», комнате столик, как пожаловали Зильберштейн и его спутник. Зильберштейн радостно меня приветствовал и познакомил с компаньоном, называя его Гриншпаном. Мы заказали какую-то еду.
Гриншпан резко отличался от Зильберштейна. Насколько последний был доверчив и экспансивен, настолько первый казался осторожным и скрытным. Несколько раз в течение завтрака Зильберштейн одергивался и обрывался Гриншпаном. Так было, когда Зильберштейн в порыве восхваления своего товара хватался за бумажник, желая вынуть новые образцы. Так было и тогда, когда Зильберштейн, увлеченный размерами будущих барышей, признавался, что масштаб их работы – всероссийский.
Поговорив с час, я в принципе изъявил согласие принять широкое участие в сбыте гербовых марок в Москве, но при условии хотя бы некоторого введения меня в курс дела и техники производства.
Осторожный Гриншпан не дал окончательного ответа, но просил завтра еще раз явиться в этот же ресторан, где он и обещал окончательно объявить о своем решении. Очевидно, за предстоящие сутки он намеревался навести обо мне справки в гостинице, а может, и понаблюдать за мной и моими прогулками по Варшаве.
Мы вышли из ресторанчика, долго прощались у подъезда; но, убедившись, наконец, что мои люди и оба извозчика тут, я расстался с мошенниками и направился к себе. Опасаясь за собой слежки осторожного Гриншпана и боясь провалить дело, я решил в этот день не выходить больше из гостиницы. Поздно вечером зашел ко мне один их моих агентов и доложил, что все они внимательно весь день следили за обоими субъектами и точно установили, что проживают они на окраине Праги при переплетной мастерской с вывеской: «Переплетная мастерская Я. Гриншпана». В течение дня они несколько раз выходили и приходили обратно, и, наконец, один из них, поменьше ростом (Зильберштейн), вернулся в последний раз в 9 часов, после чего они переплетную закрыли, а в боковых от нее окнах появился свет.
Тут же вечером я получил из Москвы срочную телеграмму от своего помощника, извещавшую меня о кровавом убийстве и ограблении в одной из квартир Поварского переулка, а потому, торопясь вернуться, я решил форсировать события и, не дожидаясь завтрашнего свидания, произвести немедленно обыск в переплетной, тем более что все говорило за то, что производство марок организовано там же: оба сообщника живут вместе, прикрываются вывеской переплетной мастерской, то есть декорацией удобной, так как этого рода мастерство требует и бумаги, и клея, и всяких инструментов для тиснения, быть может, пригодных и для подчистки и вырезывания марок.
Я позвонил Ковалику и сообщил ему о моем решении немедленно произвести обыск. Он пожелал принять в нем участие, и мы, с его и моими агентами, направились на Прагу. Постучавшись в переплетную, мы не получали долго ответа. Мы стали барабанить сильнее, и, наконец, за дверью послышался испуганный мужской голос:
– Кто там?
– Открывайте, полиция!
– Ой, вей! Какая полиция? Что вам угодно, господин обер-полицеймейстер?
– Открывайте немедленно, или мы выломаем дверь!
Угроза подействовала, и трясущийся от страха Зильберштейн в пантуфлях раскрыл двери. Мы быстро вошли в комнату – мастерскую.
Тут был прилавок, верстак, стол и две табуретки; в стороне виднелась кровать, на которой приподнялся навстречу нам всклокоченный Гриншпан. В соседней комнате была столовая, а еще дальше комната супругов Зильберштейн, вернее, – Гриншпан, так как Зильберштейн оказался родным братом Гриншпана, присвоившим себе чужую фамилию, прикрываясь которой он и получал всю корреспонденцию до востребования. При нашем, а в особенности моем появлении первые слова Гриншпана, обращенные к Зильберштейну, были:
– Ну что, Яша? Не говорил я тебе?!
Мы приступили к обыску, но, к тревоге моей, ни в мастерской, ни в столовой мы ровно ничего не обнаружили.
Оставалась третья комната, спальня супругов. Из нее неслись какие-то подвывания, стоны и охи.
– Господа полиция, не входите, пожалуйста, туда! Там моя больная жена, – обратился к нам Зильберштейн.
– Невозможно! Мы обязаны осмотреть все помещение, – отвечали ему.
– Ну, только, пожалуйста, потихоньку и поскорее!
– Ладно, ладно, не беспокойтесь!
Мы вошли в спальню. На широкой кровати корчилась жирная еврейка, оглашая комнату криками.
– Что с ней? – спросил я Зильберштейна.
– Да то, что бывает с женщинами.
– Именно?
– Мадам Зильберштейн «ждет»…
– Чего же она ждет?
– Маленького Гершке или Сарочку!
– Ах, во‐о-от что!
Но корчи мадам Зильберштейн мне показались неестественными, ее и без того преувеличенные вопли аккуратно усиливались по мере того… как мы приближались к ее… к ее кровати.
– Уй, уй! Не трогайте меня! Чтобы ты сдох, Янкель! Ты виноват в моих муках. Ох! Ой!..
Она явно переигрывала роль.
Я предложил послать за акушеркой, прикомандированной к полиции.
– Зачем вам беспокоиться?! – заволновался Зильберштейн. – Тут рядышком живет хорошая акушерка, ну, мы ее и позовем.
– Нет уж, мы лучше свою выпишем.
– Уй! Ведь это так долго будет, а тут бы сразу!
– Ничего, потерпите! Мы на фурмане вмиг слетаем.
Обыск продолжался, а один из агентов поехал за полицейской акушеркой.
Черты стонущей еврейки мне показались как будто знакомыми.
Я вгляделся пристальнее и… ба! – узнал мою вчерашнюю знакомую по Саксонскому саду. Не подав вида, я спросил у Зильберштейна:
– Давно ваша жена так мучается?
– Ух! Уже две недели как не сходит с кровати. Все схватка: то отпустит на минуточку, то опять! Она очень, очень страдает!
Еврейка, услышав мой вопрос и ответ мужа, принялась выть еще громче. А затем, повернув ко мне голову, умирающим голосом промолвила:
– И знаете, я иногда прошу смерти у Бога, до того мне бывает швах. Уй, уй! Вот опять началось! Уй!
– Да, госпожа Зильберштейн, вы сегодня чувствуете себя много хуже, чем вчера в Саксонском саду, – сказал я спокойно.
Госпожа Зильберштейн сразу перестала стонать, быстро повернула голову в мою сторону и впилась в меня своими сирийскими глазами.
– Ну, что вы хотите этим сказать? Ну, да! Сегодня хуже, а вчера лучше. Вот и сейчас лучше, гораздо лучше! Я даже, пожалуй, и встану!.. – и госпожа Зильберштейн опустила свои толстые ноги с кровати на пол.
Когда вернулся агент с акушеркой, она решительно отказалась от медицинского осмотра и, накинув на плечи капот, отошла в сторону.
Мы внимательно осмотрели и ощупали всю кровать, но… ровно ничего не нашли. Не более удачными оказались выстукивания стен, особенно той, что прилегала к отодвинутой теперь кровати.
Вдруг один из агентов, производивший обыск в этой комнате, заявляет, что половицы пола, как раз на месте, где стояла кровать, как-то шатаются при нажиме. Их подняли, и под ними оказалась крутая лесенка, ведущая в глубину подвала. Принесли свечи, спустились вниз. Там оказался коридорчик в виде траншеи, сажени две длиной, а в конце его небольшая комната, эдак в сорок примерно квадратных аршин. Эта «катакомба» и оказалась местом «омолаживания» марок. Мы застали в ней двух спящих мастеров-евреев.
В одном углу стоял особый котел, где отваривались и отклеивались старые марки. Посередине комнаты был стол с чертежными досками, на которых высушивались и заново обмазывались клеем марки.
Но что интереснее всего – это то, что в наши руки попало несколько тысяч марок целыми листами. Тут же лежал один лист в работе, еще не законченный, и по нему мы имели возможность восстановить картину и способ его выделки. Оказывается, брались вычищенные и еще несколько влажные марки, раскладывались на чертежной доске клеевой стороной вниз по десять и двадцать штук в каждой стороне, в зависимости от желаемого размера квадрата.
Укладывались эти марки чрезвычайно тщательно, а именно так, чтобы краевые зубчики одной входили в промежутки зубчиков другой и образовывали этим самым как бы непрерывную общую массу.
После этого бралась узенькая (не шире миллиметра, а может, и менее) ленточка тончайшей папиросной бумаги длиной во весь лист и осторожно наклеивалась по сошедшимся зубчикам между рядами марок. Затем брался особый инструмент (тут же лежавший), напоминающий собой колесико для разрезания сырого теста, но отличавшийся от кухонного инструмента тем, что по краям этого колесика (перпендикулярно периферии) торчали частые и острые иголочки. Если взять этот инструмент за ручку и прокатить колесико по обклеенному междумарочному пространству, то на нем опять пробьются дырочки, но ряды марок, благодаря оставшейся папиросной бумаге, окажутся плотно связанными друг с другом, и разве с помощью чуть ли не микроскопа вы различите эту поистине ювелирную работу.
Братьям Гриншпан ничего не оставалось делать, как сознаться.
Спасая свою шкуру, они выложили все. За шесть месяцев своей работы они успели раскинуть широкую сеть по всей России. В каждом крупном городе имелись и агенты, вербовавшие сбытчиков, и «коллекционеры», снабжавшие их старыми марками. Организация была настолько многолюдна, что перед Варшавской судебной палатой, где слушалось это дело, предстало несколько сот обвиняемых. К чему были приговорены хитроумные «предприниматели», – я не помню; но помню зато, что с чувством глубокого удовлетворения покидал я тогда Варшаву и возвращался в Москву, где жизнь не ждала и продолжала являть миру все новых и новых горе-героев.
Тяжелая командировка
Это случилось в Риге в начале девяностых годов, то есть в бытность мою начальником Рижского сыскного отделения. В местном кафедральном соборе был украден крупный бриллиант с иконы Божьей Матери. Все обстоятельства дела говорили за то, что кража эта совершена церковным сторожем, проживавшим в подвальном помещении собора. Хотя обыск, произведенный у него, и не дал положительных результатов, но справка, наведенная в его прошлом, подтвердила мои подозрения, так как оказалось, что сторож судился уже однажды за кражу и отбывал за нее тюремное заключение.
Получив эти сведения, я порешил арестовать его.
Просидел он в полицейской камере дней пять, в течение которых я трижды его допрашивал. Но сколько я ни бился, как ни старался поймать на противоречиях, – ничего не выходило, он просто умолкал, не желая отвечать на вопросы.
Я попробовал было приняться за его жену, но баба оказалась хитрой, грубой, но не болтливой. Она не только отговаривалась полным неведением, но заявила мне прямо, что муж ее арестован не по закону, а зря.
Из этих допросов у меня окрепла лишь уверенность в их обоюдной виновности. Но что было делать? Как доказать ее? Как найти бриллиант? И вдруг меня осенила мысль!
Вспомнилось мне, что в комнате сторожа стоит большая двуспальная кровать, и я порешил ее использовать. Позвав двух агентов, я объяснил им план действия: завтра, по моему вызову, явится к двенадцати часам на допрос сторожиха; продержу я ее с час, а они в ее отсутствие проникнут в помещение сторожа; один из них (Панкратьев) подлезет под кровать и зароется там в разном хламе и тряпье, замеченном мною еще при обыске, и пролежит под ней до восьми часов вечера, то есть до моего прихода; другой же отмычкой приведет замки в первоначальный вид и удалится.
Сказано – сделано.
На следующий день я подробно допрашивал сторожиху и, не добившись ничего, с мнимой досадой заявил ей:
– Черт вас обоих знает! Может, и правда – вы не виноваты! Ладно, я выпущу сегодня твоего мужа, но помни, что вы оба у меня под подозрением.
Отпустив с допроса жену, я через час освободил и мужа, объявив ему, что освобождаю его по закону, хотя в душе считаю его виновным.
К восьми часам я с агентами явился к собору и постучал в комнату сторожа. Завидя нас, они заметались в панике.
Я громко крикнул:
– Панкратьев, где бриллиант?
И вдруг к неописуемому ужасу их под кроватью что-то зашевелилось, и вылезший из-под нее взъерошенный Панкратьев радостно рявкнул:
– В дровах, господин начальник!
Наступила мертвая тишина.
– Ты слышишь? – обратился я к сторожу. – Подавай бриллиант!
– Да врет он, ваше высокоблагородие! Я ничего не знаю.
– Ну, Панкратьев, рассказывай, как было.
– Да что же, господин начальник, рассказывать. Залез я под кровать, пролежал с час, пришла женщина, за ней часа через два и мужчина. Поставили самовар, сели чай пить, напились, и женщина говорит:
– Ты бы посмотрел, Дмитрич, все ли цело в дровах?
– Куда же ему деваться? – отвечает он.
Однако мужчина вышел наружу и вскоре принес полено. Поковыряли они его, поглядели, – все на месте. Жена и говорит:
– Ты бы оставил его в комнате, оно вернее.
А он отвечает:
– Нет, не ровен час – опять нагрянут. Лучше отнести на прежнее место.
И отнес. Вернувшись, он принялся с женой сначала смеяться и издеваться над вами, а потом пошло такое, что лучше и не рассказывать, господин начальник. Они, сволочи, пружинным матрацем чуть мне всю рожу не расцарапали.
– Ну, что ты на это скажешь? – обратился я опять к сторожу.
– Все это им померещилось! Знать – не знаю, ведать – не ведаю и вас не ругал.
Пришлось искать в дровяных штабелях, что были выложены у задней стены собора. По свежим следам отыскали приблизительно место, и, рассмотрев и расколов сотни полторы полен, мы отыскали, наконец, драгоценный камень…
– Господин начальник, – говорил мне Панкратьев, – ради бога, не давайте мне больше таких командировок, а то я чуть было не подох: восемь часов отлежал под кроватью, да еще укутавшись грязным вонючим бельем и тряпками. Просто сил моих нет! Тьфу! – и он смачно сплюнул.
Дело Гилевича
Многолетний служебный опыт заставил меня выработать в себе привычку терпеливо выслушивать каждого, желающего беседовать лично с начальником сыскной полиции. Хотя эти беседы и отнимали у меня немало времени, хотя часто меня беспокоили по пустякам, но я не только выслушивал каждого, но и конспективно заносил на бумагу все, что казалось мне стоящим малейшего внимания.
Эти записи я складывал в особый ящик и извлекал их оттуда по мере надобности. Надобность же эта представлялась вовсе не так редко, как может подумать читатель. Как ни необъятен, как ни разнообразен преступный мир, но и он имеет свои законы, приемы, обычаи, навыки и, если хотите, – традиции. Преступные элементы человечества связаны более или менее общей психологией, и для успешной борьбы с ними весьма полезно отмечать все яркое, необычное, что поражает внимание. Словом, краткие отметки и записи, собираемые мною, не раз сослуживали мне верную службу.
Это особенно сказалось в деле Гилевича.
Началось оно так.
– Господин начальник, там какой-то студент желает вас видеть по делу, но, смею доложить, он сильно выпивши, – докладывал мне дежурный надзиратель в моем служебном кабинете в Москве, на Малом Гнездниковском переулке.
– Ладно! Зовите!..
Через минуту в комнату вошел студент. Неуверенным шагом он приблизился к письменному столу и тотчас же схватился руками за спинку кожаного кресла. Это был здоровый малый, в довольно потрепанной студенческой форме, с раскрасневшимся лицом и с всклокоченными волосами. Он уставился на меня помутневшими глазами и улыбался пьяной улыбкой.
– Что вам угодно? – спросил я.
– Извините, господин начальник, я пьян, и в этом не может быть ни малейшего сомнения, – отвечал студент, – позвольте по этому случаю сесть?..
И, не ожидая приглашения, он плюхнулся в кресло.
– Что вам от меня нужно? – спросил я.
– И все… и ничего!
– Может быть, вы сначала выспитесь?
– Jamais![1] Я к вам по срочному делу.
– Говорите.
– Видите ли, господин начальник, я просто не знаю, как и приступить к рассказу, до того мое дело странно и необычно.
– Ну, ну, раскачивайтесь скорее: мне время дорого.
Студент икнул и принялся полузаплетающимся языком рассказывать:
– Прочел я как-то в газете, что требуется на два месяца молодой человек для исполнения секретарских обязанностей за хорошее вознаграждение. Прекрасно и даже очень хорошо! Я отправился по указанному адресу. Меня принял господин весьма приличного вида и, поговорив со мной минут десять, нанял меня, предложив сто рублей в месяц. Сначала все шло хорошо, но затем многое в его поведении мне стало казаться странным. Он как-то подолгу всматривался в меня, словно изучая мою внешность. Однажды же, поехав со мной в баню, он особенно внимательно разглядывал мое тело, а затем, самодовольно потерев руки, чуть слышно прошептал: «Прекрасное, чистое тело, никаких родимых пятен и примет…»
– Да-с, господин начальник, никаких пятен и примет, то есть rien[2], не правда ли, удивительно?
Через несколько дней мы поехали с ним в Киев, остановились в приличной гостинице в одном номере.
Весь день мы бегали по городу по разным делам и покупкам, и когда к вечеру вернулись в гостиницу, то я, устав, пожелал отдохнуть.
Разделся и лег. Патрон мой сел было писать письмо, а затем говорит мне вдруг:
«Примерьте, пожалуйста, мой пиджак, и если он вам впору, то я охотно его вам презентую».
Я примерил, и, представьте, пиджак оказался сшит как на меня. Мой патрон остался очень доволен и тут же подарил его мне. Наконец, я заснул. Сколько я спал – не знаю, но вдруг просыпаюсь под тяжестью устремленного на меня взгляда. Приоткрывая глаза, вижу, что патрон мой пристально на меня смотрит.
Я снова зажмурился, но настолько, чтобы иметь все же возможность наблюдать за ним. Прошло минут десять, в течение которых он не отрывал от меня взора. Тогда я принялся нарочно похрапывать, и он решил, видимо, что я сплю, тихонько встал, подошел к чемоданчику, стоявшему у его кровати, и вынул из него пару длинных ножей. Понимаете ли, господин начальник, пару длинных ножей, вот таких (он показал размер руками). Все это он проделал тихо, осторожно, по-прежнему не спуская с меня взгляда.
Меня объял дикий ужас, и я, раскрыв глаза, приподнялся на постели и спустил ноги на пол. Увидя это, он быстро спрятал ножи, а я, схватив брюки, быстро напялив их на себя, не надев даже кальсон и едва застегнув тужурку, и под предлогом расстройства желудка выбежал из номера. Я прямо помчался на вокзал (к счастью, деньги были), да – в поезд. И вот сегодня, прибыв в Москву, я отпраздновал свое избавление от несомненной опасности и явился к вам, чтобы рассказать этот более чем странный случай.
– Чего же вы бежали? Чего вы опасались?
– А ножи?
– Какой же расчет ему было вас убивать?
– Да черт его знает! Но он так глядел на меня, так глядел на меня, господин начальник, что мне все казалось, что он хочет, чтобы я был он, а он – я.
– Ну, голубчик, вы, кажется, зарапортовались. Что за чушь… «Я был он, а он я?» Просто это вам приснилось.
– Какое приснилось, когда я и багаж свой там оставил!
– А какой у вас был багаж?
– Да, например, серебряная мыльница.
– А еще что?
– Опять же полотенце, кальсоны и подаренный пиджак.
Подумав, я спросил:
– Где вы живете здесь?
– Пока нигде, а жил там-то, – и он назвал адрес и свою фамилию.
Я навел справку по телефону, и она подтвердила его слова.
– По какому адресу ходили вы наниматься в секретари?
– Вот этого припомнить я не могу, разве просплюсь и завтра вспомню.
– Хорошо, если вспомните, то приходите. До свиданья!
Студент как-то помялся, а затем проговорил:
– Господин начальник, конечно, мои сообщения малоценны, но а все-таки, может быть, вы одолжите три рубля, а я припомню адрес и сообщу вам.
– Извольте, получите! – и я протянул ему трехрублевку.
Студент схватил ее и рассыпался в благодарностях:
– Вот за это спасибо, ну, и выпью же я сейчас за ваше здоровье. Vivat, господину начальнику! Gaudeamus igitur[3], – сделав неуверенный поклон, он вышел из кабинета.
Я набросал кратко на бумажке сообщенные им данные и спрятал ее, на всякий случай, в заведенный для этого ящик.
На следующий день он не явился, и я вскоре забыл об его существовании.
Дней через пять после этого звонит мне по телефону начальник Петроградской сыскной полиции Владимир Гаврилович Филиппов:
– У нас тут, Аркадий Францевич, на Лештуковом переулке, случилось весьма загадочное убийство. В меблированных комнатах найден труп без головы, одетый в новый пиджак хорошей работы. Голова трупа обнаружена в печке, в сильно обезображенном виде (вырезаны щеки, отрезаны уши, содрана кожа на лбу). Голову пытались, видимо, сжечь, но неудачно. Из осмотра пиджака выяснено, что он работы московского портного Жака. Не откажите, пожалуйста, послать к нему агента с теми данными, которые я вам продиктую сейчас. На всякий случай образчик материи привезет вам сегодня со скорым поездом посланный мною чиновник; он же доложит вам все детали осмотра.
И Филиппов продиктовал мне ряд цифр и терминов, данных ему «экспертизою» портных.
Я обещал ему, конечно, полное содействие и откомандировал немедленно агента к портному Жаку. У него выяснилось, что пиджак этого размера, качества и цвета был сшит недавно некоему инженеру Андрею Гилевичу за девяносто пять рублей.
Услышав имя Гилевича, я сразу встрепенулся, так как тип этот мне был хорошо известен по недавнему ловкому мошенничеству, с дутым мыльным предприятием, в которое Гилевич успел втравить много лиц и немалые капиталы. Фотография этого крупного афериста, равно как и образец его почерка, имелись у нас, при московской полиции. Гилевич в свое время произвел на меня самое отвратительное впечатление и рисовался в моем воображении типичным «героем» Ломброзо.
Я тотчас же позвонил Филиппову и сообщил полученные от Жака сведения. Вместе с тем я добавил, что имею основания полагать, что убит вовсе не Гилевич и что, как мне кажется, дело пахнет инсценировкой.
Принимая во внимание, что у Гилевича было большое родимое пятно на правой щеке, факт обезображения лица усиливал мои подозрения.
В. Г. Филиппову обстоятельства, сопровождавшие убийство, казались тоже странными, и он решил пока тело не хоронить и энергично приняться за расследование.
Человек, приехавший из Петербурга с образчиком материи костюма, был мною расспрошен, и из его рассказа выяснилось, что в комнате убитого при обыске было найдено два длинных ножа и серебряная мыльница с вензелем «А».
Услышав о ножах и мыльнице, я тотчас вспомнил о пьяном студенте. Порылся в ящике и, найдя записку с его показанием и адресом, я полетел к нему. Застав его снова в безнадежно пьяном виде, храпящим в беспробудном сне, я велел привести его в сыскную полицию. Здесь на диване он проспал несколько часов. Когда он пришел в себя, его накормили и напоили, после чего он предстал предо мною.
– Вот что, опишите-ка вы мне вид вашей мыльницы, забытой вами в Киеве.
– Ах, господин начальник, я так виноват перед вами! Честное слово, я все вспоминал адрес этого типа, но никак не мог припомнить.
– Хорошо, об этом после. Как выглядела ваша мыльница?
– Да самая обыкновенная, коробка с крышкой…
– На крышке был какой-нибудь рисунок?
– Нет, имелась лишь буква.
– Какая буква?
– «А».
– Почему же «А»?
– Да это, видите ли, не моя мыльница, а моего приятеля; впрочем, я собирался ее вернуть, да вот не пришлось.
– Теперь извольте припомнить адрес, куда вы ходили наниматься в секретари.
– Да я, ей-богу, и сам бы рад вспомнить, и, как назло, память отшибло.
– В таком случае я вас отсюда не выпущу. Извольте припомнить.
Студент стал напряженно соображать, тер себе лоб, закатывал глаза, и вдруг лицо расплылось в улыбке.
– Да, да, кажется, вспомнил! – сказал он радостно. – Третья Ямская-Тверская, номера дома не знаю, но по виду укажу.
– Ну вот и отлично. Едем сейчас же!
На Третьей Ямской-Тверской студент тотчас же указал на какие-то меблированные комнаты. Их содержала некая Песецкая. Узнав моего спутника и справившись даже об его компаньоне, она рассказала мне подробно, как в ее комнатах проживал некий Павлов, что к нему ходило по объявлениям много молодежи, что, наняв, наконец, «вот их» (она кивнула на студента), он, вместе с секретарем, через несколько дней выехал от нас. Через неделю примерно Павлов вернулся, но уже один. Опять к нему стали ходить разные студенты, и, наняв одного из них, он с неделю как уехал с ним вместе в Петербург. «Впрочем, я по книге точно могу вам сообщить все сроки их отъездов и приездов».
– Посмотрите на эту карточку, не господин ли это Павлов? – сказал я, предъявляя ей фотографию Гилевича, захваченную мной из служебного архива.
– Он, он и есть! – убежденно сказали Песецкая и студент.
Теперь для меня не оставалось сомнения, что убийство на Лештуковом переулке – дело рук Гилевича. Однако мотив убийства оставался для меня неясен. Что могло побудить Гилевича пойти на это страшное дело? Казалось, ни корысть, ни месть не руководили им. Какие же стимулы двигали его преступной волей? Половое извращение, садистические наклонности? Но зачем же тогда это переодевание трупа в собственный пиджак? Для чего же это старательное искажение лица убитого?
В это время мне снова позвонил по телефону В. Г. Филиппов.
– Знаете, – сказал он мне, – ваше предположение относительно Гилевича не оправдалось: я вызвал к трупу мать и брата Гилевича, и они оба признали в убитом сына и брата, Андрея. Мать рыдала над покойным, ни минуты не сомневаясь в личности убитого. Придется, видимо, направить розыск по другому пути.
В ответ на это я сообщил В. Г. Филиппову добытые мною сведения и убеждал его не полагаться на мать и брата Гилевича.
Теперь на очереди стоял вопрос о выяснении личности жертвы.
Я обратился ко всем ректорам московских высших учебных заведений, прося дать мне сведения о студентах, которые за последние две недели брали долгосрочные отпуска. Вместе с этой просьбой я сообщил им некоторые приметы убитого студента, то есть его высокий рост и плотное ширококостное сложение. Вскоре канцелярии учебных заведений прислали мне соответствующие списки, по которым набралось фамилий тридцать. По всем полученным адресам я разослал агентов и лично принялся рассматривать их рапорты.
Из тридцати рапортов лишь два обратили на себя мое внимание. В первом говорилось, что студент Николай Алексеевич Крылов такого то числа выехал в Петроград, а во втором, что студент Александр Прилуцкий, найдя занятия, выехал на два месяца в Петроград, оставив в Москве за собой комнату. Я кинулся по последнему адресу.
Квартирная хозяйка дала о Прилуцком хороший отзыв: смирный, кроткий человек, небогат, но платит аккуратно. Говорил, что нашел место в отъезд на два месяца. Комнату оставил за собой, заплатив за месяц вперед. Вещи свои он запер в комнате, захватив с собой лишь небольшой чемоданчик. Я вызвал агентов и приступил к тщательному обыску. Из хранившейся у Прилуцкого переписки выяснилось, что он сирота и имеет лишь одного близкого родного человека в лице тетки, живущей в небольшом имении Смоленской губернии.
Я немедленно командировал в это имение агента, снабдив его фотографиями трупа и мертвой головы.
Агент по возвращении доложил, что тетушка Прилуцкого получила от последнего около двух недель тому назад письмо из Москвы, в котором он ей радостно сообщал, что нанялся секретарем к некоему Павлову и уезжает с ним в Петроград. Тетушка была глубоко потрясена и опечалена мыслью о возможности гибели племянника.
По предъявленным фотографиям она не могла категорически признать в убитом своего племянника, но по строению и расположению зубов усмотрела в фотографии большое сходство с ним. Тетушка рассказала, что отец покойного, заботясь об образовании сына, положил на его имя пять тысяч франков в один из парижских банков, надеясь, что сын со временем приедет в Париж для усовершенствования в науках.
По получении этих сведений стало ясным, что убит Прилуцкий.
Но меня продолжал мучить все тот же проклятый вопрос: для чего понадобилось Гилевичу это убийство? Не пять тысяч франков соблазнили, конечно, его. Прилуцкого он до этого не знал. Очевидно, Прилуцкий стал жертвой благодаря лишь своему сходству с Гилевичем. И все чаще и чаще мне вспоминались слова пьяного студента: «Он хочет, чтобы я был он, а он – я!»
Сообщив полученные мной дополнительные сведения Филиппову, я узнал, что и у него есть новые, интересные данные по этому делу.
Он запросил все страховые общества, и в результате выяснилось, что жизнь Андрея Гилевича была застрахована в двести пятьдесят тысяч рублей в страховом обществе «Нью-Йорк», и оказалось, что мать Гилевича предъявила уже полис для получения страховой премии.
Филиппов отдал, конечно, приказ арестовать мать и брата Гилевича, но в тюрьме брат повесился, и за решеткой осталась сидеть лишь мать.
Так вот для чего понадобилось это таинственное превращение мертвого Прилуцкого в «убитого Гилевича»!
Теперь оставалось разыскать убийцу. Это являлось, однако, делом нелегким, так как за это время он мог легко скрыться за границу.
Самые тщательные розыски не приводили ни к чему. Я стал уже терять терпение, как вдруг получил из Смоленской губернии от тетки Прилуцкого следующее письмо:
«Милостивый государь, господин начальник!
Считаю своим долгом довести до Вашего сведения нижеследующие обстоятельства, могущие, быть может, помочь Вам разобраться в крайне тревожном для меня деле исчезновения моего племянника, Александра Прилуцкого. Вчера я получила из Парижа письмо, при сем прилагаемое якобы от Саши, где он просит меня выслать нужные документы в Главный парижский почтамт до востребования.
Они необходимы ему для получения из банка вклада, положенного на его имя отцом. Хотя почерк в письме и походит на Сашин, но меня берут все же сомнения в его подлинности.
Кроме того, я не допускаю мысли, чтобы Саша, всегда державший меня в курсе своих дел и предположений, мог уехать в Париж, не предупредив меня о том заранее. Ведь, уезжая из Москвы в Петербург, он тотчас известил меня об этом. Разберитесь, господин начальник, в этом сложном и, может быть, страшном для меня деле, и да поможет Вам в этом Господь!»
По моему приказанию была сейчас же произведена экспертиза почерков пересланного мне письма и автографа Гилевича, хранящегося у нас в архиве, и идентичность их была вполне установлена; особенно сходными оказались заглавные буквы А.
Итак, Гилевич в Париже!
Переговорив с В. Г. Филипповым, мы решили командировать в Париж для задержания Гилевича чрезвычайно способного и дельного чиновника особых поручений М. Н. К-а, каковой, получив мои инструкции, отправился в Париж для задержания Гилевича.
Какова была, однако, моя досада, когда на следующий день после его отъезда в «Новом времени» появилась заметка, сообщающая об отъезде М. К-а в Париж и о цели его командировки. Я немедленно послал срочную шифрованную телеграмму ему вдогонку, сообщая о заметке и предлагая скупить все парижские номера «Нового времени» за такое-то число.
Получив мою телеграмму, М. Н. К. по приезде в Париж успел скупить все номера газеты на Северном вокзале, и лишь две или три из них успели проскочить в продажу. Прежде всего, М. Н. К. кинулся в Главный почтамт, где узнал, что по соответствующему номеру до востребования вчера еще была получена каким-то господином корреспонденция из России. Оставался, следовательно, банк. Тут, к счастью, деньги, положенные на имя Прилуцкого, еще никем не были взяты. К. предупредил кассира, прося тотчас же его известить, как только явятся за ними. На второй день кассир дал ему знать о соответствующем требовании, и К. увидел незнакомого человека, вовсе не похожего на Гилевича. Он дал ему получить деньги и арестовал незнакомца с помощью французской полиции при его выходе из банка. Арестованный был отвезен в полицейский комиссариат, где и оказался искусно перегримированным Гилевичем. Когда с него были сняты приклеенные бородка и парик, когда грим был смыт с его лица – в личности арестованного не оставалось никакого сомнения.
Убийца пытался было уверить французскую полицию, что русские власти преследуют его как преступника политического, но словам его, конечно, не придали значения.
Видя, наконец, что игра проиграна, Гилевич признался во всем.
Из банка он был препровожден в комиссариат вместе с ручным чемоданчиком, с которым он приехал, очевидно, прямо с вокзала.
Теперь, принеся повинную, он попросил разрешения еще раз тщательно помыться, ввиду недавней гримировки. Ему разрешили, и он, в сопровождении полицейского, отправился в уборную, захватив из своего чемоданчика полотенце и мыло. В уборной он незаметно сунул в рот отколотый кусочек мыла и, набрав в руки воды, быстро запил его. Не успел полицейский его отдернуть, как Гилевич уже пал мертвым.
Оказалось, что в мыле он хранил цианистый калий, который и проглотил в критическую минуту.
По распоряжению Филиппова тело Гилевича было набальзамировано и отправлено в Петербург.
Так покончил земные счеты один из тяжких преступников нашего времени.
Умелый адвокат, защищавший мать Гилевича, добился ее оправдания.
Но что значит для этой матери суд людской с его оправданием или карой, когда она, по возмездию небес, лишилась двух взрослых сыновей, вырванных из жизни петлей и ядом?!
Жертвы Пинкертона
В мой служебный кабинет с перепуганным лицом вошел тучный высокий человек в пальто с барашковым воротником, высоких лакированных сапогах и каракулевой шапкой в руках, лет пятидесяти, с проседью, по виду третьеразрядный купец. После нескольких приглашений он решился, наконец, грузно опуститься в кресло, глубоко вздохнул и обтер вспотевший лоб.
– Кто вы и что вам угодно? – спросил я его.
– Мы будем второй гильдии купцом, Иваном Степановым Артамоновым, имеем в Замоскворечье свою бакалейную торговлю, а только, между прочим, все это ни к чему, потому что, можно сказать, перед вами не купец, а труп!
– То есть как это труп?! – удивился я.
– Оченно даже просто, господин начальник! Какой же я живой человек, когда завтра мне смерть!
– Ничего не понимаю. Говорите, ради бога, яснее!
– Да уж все расскажу, господин начальник, на то и пришел. Одна на вас надежда: оградите меня от напасти! Не оставьте своей помощью!
И перепуганный купец рассказал следующее:
– Вчерась мы, как и кажинный день, заперли в девятом часу лавку, отпустили приказчиков, подсчитали выручку и, покончив с делами, поставили самовар и принялись чай пить. Выпили это мы с моей супружницей стаканчика по три. «Дай, – говорит, – Степаныч, я подолью тебе свеженького». А я ей: «Нет, Савишна, что-то не пьется, не по себе мне как-то: не то сердце ноет, не то под ложечкой сосет». – «Это ты окрошки перекушал нынче», – отвечает она. «Нет, окрошки мы съели в плепорцию. Не в ей дело, душа, – говорю, – как-то ноет. Не быть бы беде!» – «Типун тебе на язык, Степаныч!» – и супруга моя даже сплюнула. Вдруг в это время звякнул звонок. Господи, кого это несет в такую пору? Входит в столовую кухарка и подает письмо. «Откудова?» – спрашиваю.
«Да какой-то малец занес, сунул в руку и ушел». Чудно это мне показалось. По коммерции своей я получаю письма, но утром и по почте, а это – на ночь глядя и без марки к тому же.
Забилось мое сердце, ищу очков – найти не могу, а они тут же на столе лежат. Савишна мне говорит: «Давай, отец, я распечатаю и прочту. Глаза мои помоложе будут». – «Сделай одолжение, – говорю я, – а мне что-то боязно!» Супруга раскрыла конверт, вытащила письмо, развернула да как вскрикнет: «С нами крестная сила!» Я всполошился, ажио в пот ударило. «Что, – говорю, – орешь?» – «Смотри, смотри, Степаныч!» – и дрожащей рукой протягивает письмо. Я поглядел: свят! свят! свят! Страсти-то какие! Внизу листочка нарисован страшенный шкилет, тут же черный гроб и три свечи. Да вот: извольте сами посмотреть! – сказал Артамонов, протягивая мне письмо.
Я пробежал его глазами:
«Приказываю вам завтра, 13 декабря, вручить мне на площади у “Болота”, ровно в восемь часов вечера, запечатанный конверт с тысячью рублей. В случае неисполнения этого приказа будете преданы лютой смерти!
Грозный атаман лихой шайки – Черный Ворон».
Купец продолжал:
– Как увидели мы с Савишной шкилет да гроб, сидим ни живы ни мертвы, а читать письмо боимся. Посидели эдак молча, а затем я и говорю: «Ну, Савишна, читай, у тебя глаза вострее!»
А она: «Мое ли это дело? Ты хозяин и мужского пола, ты и читай!»
Поспорили мы эдак, а читать оба боимся. Концы к концам, я кликнул Настю – это, стало быть, дочку мою. Она у нас образованная, в седьмом классе гимназии обучается, да только не в меру горда. Ну ладно! «Настенька, – говорю я, – прочти-ка нам это письмецо и объясни все по порядку, что в нем прописано». Дочка взяла листок, громко прочла, покачала головой да и говорит эдак мудрено: «Папаша, вы стали, – говорит, – объедком экспроприятеров!..» – «Это что же означает? – говорю. – Каким таким объедком? Да мы, слава богу, жизнь прожили и не то что объедками никогда не бывали, а люди еще от нас кормились». И так мне обидно стало за это глупое слово! Дочка пожала плечами, фыркнула и, уходя, сказала: «Какой вы, папаша, необразованный, ничего вы не понимаете!» «Ах, ты, дурища! – крикнул я в сердцах. – Я хошь и необразованный, а вот тебя вырастил, выкормил да и наукам обучил, а ты и помочь родителю не хочешь в смертельных опасностях!» Ну, да что с нее возьмешь, господин начальник!
Известное дело – не уважает она нас. Подумал я эдак, подумал и решился отнести завтра деньги. Хошь оно тысячу целковых отвалить и не по нашим капиталам, да что поделаешь – живот свой дороже. И расстроился я просто во как!
Однако Савишна мне говорит:
– Не дело надумал, Степаныч! Ты человек семейственный и не должен такими деньжищами швыряться зря.
– Какое, – говорю, – зря! У меня и у самого сердце кровью обливается, да что поделаешь – умирать неохота.
А жена в ответ:
– Пользы никакой от этого тебе не будет. Ну, заплатишь ты тыщу, а душегубы с тебя через неделю еще три потребуют. Скажут: «Купец пугливый да покладистый». Ты что же – и три отвалишь?
И раскроила она меня этими самыми разговорами, господин начальник, до того, что хошь плачь! «Нет, – говорит, – Степаныч, послушай моего бабьего совета! Сходи ты в сыскную полицию, разыщи самого главного начальника да и расскажи ему все как есть. Оно вернее будет! И защитит он тебя от мазуриков, да и деньги при тебе останутся». До утра мы с ней судили да рядили, и баба моя на своем настояла. И вот я пришел к вашей милости, не оставьте без внимания, защитите! – И Артамонов, прослезившись, обтер глаза платком.
– Ну и скажите спасибо вашей жене, что на правильный путь вас направила. Нечего мошенников поощрять! А мы вас защитим, но только и вы должны нам помочь.
– За этим дело не станет! – сказал повеселевший Артамонов. – Ежели там расходы какие или, к примеру сказать, благотворительность, то мы с превеликим нашим удовольствием! – и он полез было за бумажником.
– Да вы, никак, рехнулись, голубчик, с перепугу?! Прячьте, прячьте ваши деньги, они нам не нужны. Мы царево жалованье получаем и обязаны защищать от мошенников всех и каждого. Ваша помощь будет не в том. Вы должны будете завтра в назначенный в письме час явиться на место и ждать Черного Ворона, а когда он явится и подойдет к вам, то сунуть ему запечатанный конверт, набитый газетной бумагой. В это время мои люди его схватят.
Артамонов чуть не кувырнулся со стула:
– Ну уж нет, господин начальник! От этого увольте! С чего же это я на рожон полезу? Да этот самый Ворон как пальнет в меня – тут мне и конец! У меня как-никак жена, дочь, торговля! Я не только что встречаться, а за версту не желаю видеть этого душегуба! Нет уж, вы, сделайте милость, как-нибудь без меня управьтесь!
– Чудак вы человек! Как же без вас обойтись? Ведь если вместо вас пойдет другой, то Черный Ворон пройдет мимо него, не останавливаясь, и мы его не обознаем и не словим. Не найдя вас, он обозлится, и вот тогда-то вам, наверное, крышка!
– Мать честная! Святые угодники! Что же мне теперича делать? И так обернешься – плохо, и эдак – ан, еще хуже! Вот истинная напасть, и выхода нет!
– Выход есть: послушайтесь меня – и все хорошо будет.
– Да как же, господин начальник, ведь боязно-то как?!
– Чего же вы боитесь, подумайте сами? Вы все сделаете, как он приказывал, конверт передадите, с чего же ему вас убивать или трогать?
– Так-то оно так! А ежели они спохватятся, что в конверте не деньги, а одна труха?
– Так мы не дадим ему время разглядывать!
Артамонов глубоко задумался, затем нерешительно молвил:
– А все же, может, господин начальник, вы найдете забубенную голову таку, что за вознаграждение согласится пойтить заместо меня.
– Опять начинай сначала! Да ведь Ворон-то вас в глаза знает? Ведь писал-то он вам! Поджидать-то будет вас?
Наконец, после долгих уговариваний, мне удалось уломать и убедить моего купца. Он обещал завтра явиться к «Болоту» ровно в восемь. Я отправил агента для предварительного осмотра места завтрашней встречи. Из его донесения выяснилось, что место Вороном выбрано удачно, так как представляет собой обширную площадь. Ни подъезда, ни лавки, ни подворотни, куда бы можно было спрятать засаду, – поблизости не имеется. Я лично съездил взглянуть на площадь и убедился в точности донесения. Однако мне показалось возможным рассадить моих людей по деревьям, там и сям растущим среди площади. Деревья были старые и ветвистые, и, конечно, в декабрьских сумерках, при крайней отдаленности редких керосиновых фонарей, агенты на них будут незаметны.
На следующий день я так и распорядился. Часа за два до условленного срока мои засадчики заняли свои птичьи позиции. Один из них мне потом докладывал:
– Ровно в восемь часов появилась дрожащая фигура Артамонова, каковая, озираясь и спотыкаясь, начала разгуливать по площади, держась поблизости наших деревьев. Минут через пятнадцать появился со стороны прилегавшего к площади рынка мальчишка лет четырнадцати, подошел к оцепеневшему купцу и деланным басом проревел:
– Конверт!
Артамонов, дрожа всем телом, протянул конверт и в полуобморочном состоянии прислонился к дереву. Мальчишка, не глядя, стал запихивать воображаемые деньги за пазуху рубашки. Ну, мы тут его и схватили. При обыске у него ничего не оказалось, кроме вот этих трех книжонок. И агент положил мне на стол три лубочно раскрашенных экземпляра из «пинкертоновской» серии. Один из них был как раз озаглавлен Черный Ворон, и тут же на обложке виднелись череп, скрещенные кости, черный гроб и три свечи.
– А ну-ка, позовите-ка ко мне Черного Ворона!
Ко мне ввели мальчика, рыдающего в три ручья.
– Ты и есть Черный Ворон?
Мальчик, не отвечая, продолжал реветь.
– Ах ты, паршивец этакий! Вот прикажу сейчас разложить тебя. Да как всыплю тебе полсотни горячих, так ты у меня забудешь, как людей запугивать письмами!
Выбранив его хорошенько, я вызвал к себе его родителей. Он оказался сыном довольно зажиточного и тоже замоскворецкого лавочника. Перепуганные родители явились в полицию и, услыхав о проделке сына, так и ахнули:
– Ах он паскудник! Ах он разбойник эдакий! Да ведь теперь сраму от него не оберешься! То-то мы стали замечать, что из выручки стали деньги пропадать. Ну, уж мы ему и зададим! То есть так взлупим, что всю жизнь будет помнить!
Счастливый и сияющий, Артамонов явился благодарить за чудесное спасение, но, узнав, в чем было дело, сначала обозлился:
– Ишь щенок паршивый! И подумать только, сколько кровушки он мне перепортил!
Но, быстро успокоясь, назидательно промолвил:
– А всему причиной – книги! Я и то, господин начальник, моей Насте говорю: «Не суши ты зря мозгов! Коль родилась дурой, так дурой и помрешь, умней не станешь». Да с ней разве сладишь? Начитается этих самых… как их?.. романов, а там, того и гляди, сбежит из дому с нашим старшим приказчиком, Савельевым!
Сашка Семинарист
Тяжелые месяцы выпали на мою долю в 1913 году!
Москва была терроризирована серией вооруженных грабежей, сопровождавшихся убийствами. Грабежи эти следовали один за другим, с промежутками в неделю-две и носили несомненные общие признаки: жертвы обирались дочиста (часто до белья включительно), убивались всегда каким-нибудь колющим оружием. Из этого цикла убийств мне особенно врезались в память, по дальнейшему ходу дела, следующие.
Убийство флиртующей пары, направлявшейся на Воробьевы горы в ресторан Крынкина. Убиты и ограблены были не только седоки, но и извозчик, на котором они ехали.
Убийство за Драгомиловской заставой богатого коммерсанта Белостоцкого и тяжкое ранение ехавшего с ним родственника и зверское убийство под Москвой, в селе Богородском двух старух.
Картина этого последнего убийства была особенно кошмарна. Жертвы жили в Богородском, в старом церковном домике. Одна из них была вдовой местного священника. Вместе с ней проживала ее сестра старушка. Обе женщины не только были убиты, но подверглись еще перед смертью утонченнейшей пытке. Вид их трупов леденил кровь: поломанные кости, вырезанные груди, обугленные пятки, – говорили о перенесенных ими чудовищных истязаниях.
Все в доме было перевернуто вверх дном. Все, что можно было унести, – унесено. Словом, та же картина ограбления дочиста, столь знакомая мне по ряду других происшедших недавно случаев.
Тут же при доме на дворе валялись трупы двух отравленных собак.
Я перечислил лишь три случая, но, в общей сложности, на протяжении трех-четырех месяцев произошло больше десяти злодеяний, совершенных, очевидно, одной шайкой.
После первых двух однородных и нераскрытых случаев я поставил на ноги всю сыскную полицию. Все, что было в ее силах, было сделано. Были опрошены воры и мошенники, зарегистрированные по нашим спискам, были обысканы все обычные места сбыта краденого, десятки агентов проводили дни и ночи во всевозможных кабаках и притонах, особенно охотно посещаемых преступным миром Москвы, в надежде уловить какую-нибудь нить, могущую навести на след.
Однако все было безрезультатно.
Не лучше обстояло дело с облавами и засадами.
В конце концов я пришел к заключению, что здесь орудует шайка не профессионалов, а наоборот, людей, никогда не проходивших через руки сыскной полиции и вообще стоящих вдалеке от обычных преступных элементов Москвы. Подобное умозаключение мало еще подвигало меня вперед, и с каждым новым проявлением активности наглой шайки я сильно нервничал, сознавая необходимость во что бы то ни стало быстро раскрыть и уничтожить народившуюся преступную организацию.
Но что было делать? Люди мои сбились с ног, я сам измучился в тщетных исканиях ключа к этой головоломной загадке.
И вот уже, медленно крадучись, стало заползать в душу сомнение в своих силах, стала меркнуть вера в себя.
Но, отогнав прочь эту временную слабость, я продолжал напряженно работать.
Наконец, через полтора месяца после разбойного нападения за Драгомиловской заставой, один из коммерсантов, тяжко раненный грабителями, настолько оправился, что, с разрешения врача, я посетил его и произвел допрос.
Он уцелел каким-то чудом. Рана, нанесенная ему в шею у ключицы, оказалась весьма глубокой, и лишь благодаря счастливой случайности сонная артерия не была задета.
– Расскажите мне, пожалуйста, возможно подробнее о нападении, жертвой которого вы стали, – обратился я к раненому.
– Извольте, хотя в сущности я вряд ли смогу быть вам полезным, так как видел и знаю немного.
– Рассказывайте, пожалуйста, все, что вы помните.
– Ехал я с моим покойным родственником вдвоем, в его кабриолете.
Он только что получил из банка деньги для расчета с рабочими и какие-то процентные бумаги. Проехали мы Драгомиловскую заставу, начались пустыри, кругом никого. Едем мы молча, погруженные в свои мысли, как вдруг сбоку, из какой-то канавы выскакивает пять человек. Двое из них схватили лошадь под уздцы, а один, по-видимому главарь, крикнул нам: «Ну, вылезайте скорей». Мой родственник вылез. Стал вылезать и я. Как вдруг вижу, что главарь шайки подскочил вплотную к родственнику и страшным ударом ножа уложил его на месте. Не успел я вскрикнуть, как справа подбежал ко мне один из грабителей, щупленький, небольшого роста, и замахнулся на меня ножом. Однако я успел выхватить револьвер и выстрелил в упор. От неожиданности и испуга он громко вскрикнул: «Ох черти!» – после чего завыл от боли и левой рукой схватил кисть своей правой руки. Я, видимо, поранил ему пальцы. Увидя это, главарь крикнул ему: «Эх ты, пиво! И садануть-то как следует не сумел!»
– Как вы сказали: пиво?
– Да, пиво; очевидно, воровская кличка. Тут разбойник, стоявший слева, ударил меня в шею ножом. Я упал, хотя и не потерял сознания. Однако, видя бесполезность дальнейшего сопротивления, я притворился мертвым. Разбойники ограбили и раздели нас, после чего скрылись.
Через час примерно случайные полученные мною сведения, несмотря на то что они были довольно скудны, видоизменили мои первоначальные предположения.
«Пиво» – несомненная кличка, а раз кличка, следовательно, дело идет о сообществе если и не профессиональных убийц, то, во всяком случае, людей, недалеко стоящих от обычной преступной среды.
Придя к такому выводу, я немедленно запросил петербургскую полицию и все провинциальные сыскные отделения, но отовсюду получил тот же ответ: «Преступника, зарегистрированного под кличкой Пиво, не имеется».
Между тем шайка продолжала безнаказанно орудовать. Вскоре снова произошло дерзкое убийство. Был убит и ограблен богатый тряпичник, вернее – заправила и хозяин целой организации тряпичников.
Вместе с ним был ранен один из его работников, показавший, что разбойников было четверо. Картина и приемы грабежа были все те же. Но почему теперь орудовали четверо, а не пять человек, как раньше? Сама собой напрашивалась мысль, что выбывший из шайки разбойник покинул ее вследствие ранения руки при самозащите родственника Белостоцкого.
Я порешил поместить во всех газетах обращение к врачам, прося сообщить начальнику Московской сыскной полиции, не обращался ли к ним в течение последних двух месяцев за медицинскою помощью низкорослый субъект неинтеллигентного вида, тщедушного телосложения с пораненной кистью правой руки. Многие газеты, поместив это воззвание, описывали тут же и злодеяния, в которых обвинялся разыскиваемый преступник. Одновременно с этим были мною запрошены по тому же поводу все земские и частные больницы, равно как и амбулаторные пункты губернии.
Но все напрасно!..
Московские врачи совсем не отозвались, а больничные пункты дали отрицательные ответы.
Я пришел в полное отчаяние, вылившееся в раздражение, упрекая служебный персонал в ничегонеделании. Я пытался играть на их самолюбии и, наконец, обещал служебную награду тому из них, кто первым откроет хотя бы малейший след в этом, право, заколдованном деле.
Дело это представлялось поистине необычайным: ряд месяцев упорной неослабевающей работы сыскной полиции не дал никаких результатов.
На толкучках и рынках ограбленные вещи не появлялись, и, что удивительнее всего, – молчали банки, конторы и меняльные лавки, получившие от полиции подробные списки похищенных процентных бумаг и купонов. Между тем грабители, продолжая оставаться и орудовать в Москве, должны были время от времени ликвидировать награбленное?
Конечно, для меня не было тайной, что в Белокаменной имеются мошеннические меняльные лавки, скупающие за полцены заведомо краденые ценности; но представлялось невероятным, чтобы ни один купон хотя бы не проскочил в обращение и не был предъявлен к уплате третьими лицами в одно из кредитных учреждений Москвы. Тем более что грабительской шайке удалось завладеть за это время немалым количеством процентных бумаг. Ценные бумаги были похищены и у старушек в Богородском, у убитого Белостоцкого. Жена Белостоцкого показала, что в день убийства муж ее должен был взять из своего вклада в банке на пятьдесят тысяч рублей государственной ренты для внесения этой суммы в виде обеспечения в какое-то дело. В банке это обстоятельство подтвердилось, и было установлено точное количество билетов, взятых покойным Белостоцким в день убийства, и номера серий. Между тем Москва как воды в рот набрала и молчит, сугубо молчит. В отчаянии мне казалось, что не только Москва, но вся Россия, весь мир, все силы земные и небесные против меня.
Между тем жизнь продолжала течь своим порядком, выбрасывая на поверхность всю муть и накипь, столь присущие большим городам с их миллионным разношерстным населением. Передо мной продолжали проходить и мелкие воришки, и дерзкие хищники, и жалкие жулики, и наглые аферисты. В этой скорбной веренице промелькнул между прочими преступниками некий «доктор» Федотов.
Этот «доктор» оказался бывшим ротным фельдшером, присвоившим себе самозвано звание доктора медицины и занимавшимся запрещенными законом абортами. При аресте он принес повинную и пожелал почему-то меня видеть. Я его вызвал к себе.
– Что скажете, Федотов?
– Да я, господин начальник, хотел вас попросить: не откажите, пожалуйста, если можете, облегчить мою дальнейшую тяжелую участь, а я вам сообщу кое-какие сведения.
– Хорошо, Федотов, я прикажу своему агенту указать на ваше полное и чистосердечное признание. Большего я сделать не могу.
– Уж вы, пожалуйста, постарайтесь!
– Хорошо, что могу, – то сделаю. Что же вы хотели сообщить мне?
– Я, видите ли, незадолго до ареста прочел в газете ваше обращение к врачам.
– Ну?
– Так вот… Месяца два тому назад ко мне обращался человек, отвечающий данным вами приметам. У него пальцы были поранены и запущены до того, что начиналась гангрена. Спасти их было нельзя, и я ему их отнял, все пять.
– Где же он живет?
– Этого не знаю.
– Как его фамилия?
– Мне он назвался Французовым. Говорил, что руку поранил на пивоваренном заводе, где будто бы работал.
– Как вы сказали: «на пивоваренном»?
– Да, на пивоваренном.
Мне тотчас же вспомнилась фраза: «Эх ты, пиво! И садануть-то как следует не сумел!..»
А ведь за Драгомиловской-то заставой, как раз недалеко от места убийства Белостоцкого, имеется большой пивоваренный завод.
Очевидно, теперь можно будет сдвинуться с мертвой точки и направить розыск по верному следу.
– Почему же, прочитав мое обращение, вы не сделали тогда же заявления? – спросил я Федотова.
Он конфузливо улыбнулся и промолвил:
– Ведь вы, господин начальник, обращались к докторам. А какой же я доктор?
– Не можете ли еще чего сообщить по этому поводу?
– Да кажется, сказал все, что знал. Разве еще то, что в уплату за мой труд он дал мне купон.
– Сейчас же, с двумя надзирателями, сходите домой и принесите этот купон.
По проверке купон оказался с тысячерублевой ренты, принадлежавшей богородской попадье. Этим фактом еще раз подтверждалось участие одних и тех же преступников в ограблении Белостоцкого и старух в Богородском. Итак, я был на верном пути.
По данным московского адресного стола, Французовых числилось человек двадцать, но все они оказались почтенными людьми, не внушавшими подозрения. Не более успешные сведения получились мною и из провинции.
Отправясь лично на пивоваренный завод, за Драгомиловскую заставу, я справился в конторе у заведующего личным составом о рабочем Французове. Порывшись в списках, заведующий заявил, что рабочего Французова у них нет и не было. Тут же вертевшийся, весьма шустрый конторский мальчишка, слышавший наш разговор, вдруг выпалил:
– А вот на браге у нас работал Колька Француз.
– Что, это его фамилия? – спросил я.
– Нет, – ответил мальчик, – фамилия ему Фортунатов, а это его прозвали французом.
– Почему же его так прозвали?
– Да потому, что у него была французская болезнь.
Я справился у заведующего об Николае Фортунатове и узнал, что последний взял расчет около трех месяцев тому назад и с тех пор на заводе не показывался. Из опроса рабочих выяснилось, что он уехал в деревню.
В конторе же я узнал, что Фортунатов родом из деревни Московского уезда.
В тот же день я с агентами выехал туда. Фортунатова мы там не застали.
Родители его давно не видали и будто бы не знали даже его адреса.
Однако при обыске, произведенном у них в избе, мы нашли элегантное шелковое платье, отделанное дорогим кружевом.
На мой вопрос, откуда оно, старуха принялась рассказывать неправдоподобную историю о какой-то московской барыне, ей якобы его подарившей за долголетнюю и добросовестную доставку молока, сливок, сметаны и прочих молочных продуктов. Старуха путалась, сбивалась и, наконец, созналась, что платье это подарил ей сын, Колька. Я нашел нужным арестовать родителей Фортунатова и, привезя их в Москву, задержал при сыскной полиции.
По наведенным справкам быстро выяснилось, что платье это принадлежало той даме, что была зарезана вместе со своим спутником и с извозчиком по дороге на Воробьевы горы.
Колькины родители оказались хитрыми и осторожными.
Целых две недели добивался я у них адреса Фортунатова, но они упорно отговаривались незнанием.
Наконец, я решил прибегнуть к «подсадке».
Я приказал перевести Колькиных родителей в полицейский дом при Сретенском участке, сделав вид, что отказываюсь добиться от них правды и предоставляю суду разобраться в их деле. Дня за три до их перевода я направил в Сретенский полицейский дом свою агентшу под видом воровки. Об агентше знал лишь смотритель дома, которому мною были даны строгие инструкции не делать никаких послаблений в режиме моей служащей.
Через пару дней для большего правдоподобия я одновременно перевел туда содержавшуюся при сыскной полиции настоящую воровку.
Продержав всю эту компанию вместе с неделю, я освободил и вызвал к себе агентшу.
– Ну что? – спросил я ее.
– Старуха оказалась настоящим кремнем. Я и так, я и сяк, – молчит. Однако за неделю я расположила ее к себе, и хоть о деле она ни словом не обмолвилась, но при моем уходе отвела меня в сторону и дала адрес некоей Таньки, Колькиной любовницы. Старуха просит Таньку сходить к сыну и, буде милость его будет, прислать им, старикам, в тюрьму чайку и сахарку.
Моя агентша отправилась к Таньке и в точности исполнила поручение старухи. В то же время за Танькиной квартирой было установлено строгое наблюдение.
Один из моих агентов, красавец собой, переодетый почтальоном, пристал на улице к Таньке, познакомился, разговорился и вскоре же проводил ее до квартиры Фортунатова.
В тот же вечер мы нагрянули с обыском. Преступник держал себя на первых порах крайне нагло.
– Ты Фортунатов?
– А хотя бы и Фортунатов!
– Вот ты-то нам и нужен.
– А зачем это я вам понадобился?
– Где работаешь?
– Нигде. Разве с такой рукой работать можно? Я с ними, кровопийцами и угнетателями бедняков, судиться еще буду!..
– Ну, ладно, француз, одевайся!
– И это уже знаете!..
Обыск у Кольки решительно ничего не дал. Привезя его в сыскную, я тотчас же приказал привести «доктора» Федотова, фельдшер лишь слегка кивнул утвердительно головой.
– Что, выдали? – со злою улыбкой спросил Колька у фельдшера.
– Ей-богу, нет! Что вы, что вы! Я сам здесь сижу, зацапали меня.
– Вот как? Сидите? А пожалуй, и служите здесь? Много ли получаете?
– Да вот сами увидите, когда в одну камеру посадят.
– Эвона! Нашли дурака! В одну камеру! Знакомое дело: шалишь!
Я прервал этот диалог:
– Успокойтесь, не будете вместе сидеть.
Фельдшера увели.
– Ну, Фортунатов, полно дурака валять! Признавайся, ведь я все знаю.
– А что вы знаете, когда знать-то нечего?!
– Нечего?
– Нечего!
– А купон с убитой старухи в Богородском?
– Какой купон? Какая такая старуха?
– А тот самый, что ты дал доктору за отнятие пальцев.
– Да я его получил сдачей в какой-то лавке.
– В какой?
– Не помню.
– Эх ты, пиво, и садануть-то как следует не сумел!
При этом восклицании Колька побледнел, тяжело вздохнул, и капли пота выступили у него на лбу. Но, оправившись, он продолжал все отрицать. На следующий день я вызвал к себе родственника Белостоцкого, почти оправившегося от ранения, прося его взглянуть на Кольку. Вместе с тем я предупредил его, что, в случае непризнания или неуверенности, он не должен при Кольке этого обнаруживать.
– Посмотрите молча на него и пройдете в следующую комнату.
О результатах же скажете мне потом.
Так и сделали: Фортунатов был вызван ко мне в кабинет. Присутствовавший при этом пострадавший, взглянув на него, простился со мной и вышел из комнаты. Написав какую-то бумажку и сделав надлежащую паузу, я последовал за ним, оставив Кольку с двумя надзирателями. Колька, считавший свою жертву давно убитой, конечно, не обратил на нее никакого внимания.
– Ну что? – спросил я пострадавшего.
Он развел руками:
– По росту и фигуре похож, а бог же его знает!
– Вы постарайтесь точно припомнить.
– Да, как тут припомнишь? Вот если б по испуганному крику – он до сих пор звенит в моих ушах.
Задача была трудная. Однако я решил попытать счастья. Позвав надзирателя, я сказал:
– Когда я буду его допрашивать, то вы, стоя за спиной Фортунатова, незаметно приблизьтесь и двумя пальцами ткните его в бок, в щекотливое место.
Результат превзошел мои ожидания.
Колька, всецело поглощенный допросом, напряженно следящий за каждым своим словом, не заметил приблизившегося к нему надзирателя и, получив вдруг шенкель, от неожиданности и испуга дико вскрикнул:
– Ох, черти!!
При этом крике раненый, находившийся в соседней комнате, бомбой влетел в кабинет со словами: «Он! Он! Сомнений никаких: тот же голос, те же слова, та же интонация! Ах, он негодяй! Ах, он мерзавец! Ах, он убийца проклятый!» – и с поднятыми кулаками он кинулся было на Кольку. Его оттащили. Не желая терять благоприятный психологический момент и пользуясь полной обалделостью Кольки, я стукнул кулаком по столу и крикнул ему:
– Ну, живо, признавайся! Видишь, сами мертвые встают из гроба и уличают тебя!
Колька заметался, с ужасом поглядел на свою жертву, видимо, признал ее и, с трясущейся челюстью, бессвязно залепетал:
– Да я что? Я ничего. Они же меня ранили…
– Ах, «они же меня ранили»? Довольно!
Колька, поняв, что проговорился, бухнулся на колени и принес полную повинную.
Оказалось, что шайка, так долго терроризировавшая Москву, состоит из пяти человек. Атаманом ее является Сашка Самышкин, по прозванию Семинарист, а членами состоят: слесарь пивоваренного завода, какой-то мясницкий ученик, как назвал его Колька, Колькин брат да он сам. Адреса их были указаны Колькой, кроме адреса главаря, ему неизвестного. В этот же день грабители были арестованы, причем были найдены многие вещи и ценности, похищенные ими за последние месяцы. Все они рассказывали ужасы про своего атамана. По их словам, это был не человек, а зверь: в убийствах людей он находил какое-то наслаждение, пролитие человеческой крови давало ему какую-то своеобразную сладострастную отраду. По их словам, при убийстве в Богородском, Сашка Семинарист мучил свои жертвы в течение нескольких часов. Дисциплина в шайке была строжайшая. Так, слесарь однажды, исполнивши неточно приказание Сашки, получил от него немедленно пулю в грудь и был ею довольно тяжело ранен. Сашку все остальные преступники, видимо, ненавидели, но еще больше боялись.
При дележе добычи они собирались где-либо на пустырях, и тут же Сашка назначал место, день и час их будущей встречи. В промежутках между этими сборищами Сашка самолично намечал очередную жертву и, придя на свидание, отдавал лишь соответствующие распоряжения. Об ослушании, отказе или споре не могло быть и речи. Адреса Самышкина никто не знал.
Арестованные убийцы представляли собой полное ничтожество.
Особенно отвратное впечатление производил «мясницкий ученик»: среднего роста, с неимоверно широким туловищем, с руками, висящими чуть ли не ниже колен, он внешностью своей напоминал орангутанга.
Впрочем, нам эта горилла дала довольно ценное указание.
Так как часть процентных бумаг от последнего грабежа, ввиду их разной стоимости, не могла быть немедленно поделена, то Сашка намеревался разменять бумаги на деньги и назначил расчет через пять дней. «Мясницкий ученик» знал при этом, что финансовые операции свои Сашка всегда производил в одной и той же меняльной лавке, на Ильинке, каковую и указал, предполагая, что, ввиду предстоящего расчета, Сашка за эти дни непременно ее посетит.
Внешность Семинариста преступники описали самым подробным образом: высокий рост, смуглое красивое лицо, черные, небольшие, колечком закрученные усы, сверлящий взгляд, походка с развальцем. Они предупредили при этом, что Сашка живым не сдастся и непременно окажет всяческое сопротивление.
Я установил немедленно тщательное наблюдение за меняльной лавкой, поставив во главе его опытнейшего надзирателя Евдокимова, по прозванию «Хитровый батька», дав ему на подмогу надзирателя Белкина, отличающегося огромной силой, и десять агентов. Агенты, переодетые дворниками, посыльными, извозчиками, дежурили три дня, как вдруг, на четвертый день, появился Сашка.
Ему дали войти в лавку. Не желая понапрасну рисковать людьми, Евдокимов порешил отказаться от лобовой атаки, дав Сашке выйти от менялы и пропустив его мимо себя, быстро, вместе с Белкиным, подошел сзади и крепко схватил его под левую, а Белкин под правую руку. Сашка рванулся было, но не тут-то было!
Тогда Сашка прибег к хитрости. Он громко обратился к прохожим за помощью, разыгрывая из себя жертву не то какого-то насилия, не то нападения. И в самом деле, картина была странная: мирный на вид человек, просящий помощи и отбивающийся от почтальона и посыльного, висящих по его бокам.
Когда, извещенный по телефону, я примчался в автомобиле на Ильинку, то застал Евдокимова и Белкина в довольно затруднительном положении: толпа, явно сочувствующая Сашке, сильно напирала на них. Став во весь рост в автомобиле, я громко крикнул:
– Я – начальник сыскной полиции, Кошко, и приказываю немедленно задержать этого величайшего преступника и убийцу!
Эффект получился огромный: народ сразу отхлынул. Усадив Сашку в автомобиль, мы повезли его на Гнездниковский. Описанные приметы Самышкина были довольно точны. Меня поразило в его лице выражение неуклонной воли и властности с примесью презрения.
– Как твоя фамилия? – спросил я.
Он посмотрел на меня сверлящим взглядом и с расстановкой промолвил:
– Вы меня, пожалуйста, не «тыкайте»; не забывайте, что я такой же интеллигент, как и вы.
– Хорош интеллигент, что и говорить! Ты не интеллигент, а убийца и изверг рода человеческого!
Сашка пожал плечами и замолчал. Вызвав предварительно к себе в кабинет всю «честную компанию», то есть слесаря, «мясницкого ученика» и француза с братом, я потребовал и Самышкина. Встреча атамана с шайкой была довольно любопытна. Сашка с величайшим презрением окинул взглядом всех членов шайки и злобно прошептал:
– Что, сволочи, выдали?
Разбойники пришли в неописуемое волнение, смертельно, видимо, боясь даже скованного по рукам атамана. Сашка не счел нужным что-либо скрывать и с невероятным цинизмом подробно рассказал о всех своих злодеяниях. Он оказался сыном городского головы одного из уездных городов Пензенской губернии. Дошел в свое время до третьего класса Духовной семинарии, вследствие чего, очевидно, и приобрел свою кличку. Отца и мачеху свою он ненавидел и заявил мне прямо, что намеревался в недалеком будущем отправить их на тот свет. Смелости Сашка был невероятной.
Вскоре же после ареста он пытался бежать. Допрашивался он моим чиновником Михайловым, в кабинете последнего. Кабинет этот был расположен на первом этаже. Ввиду жары, окна были открыты настежь.
Перед Михайловым на столе лежал маузер, и в тот момент, когда он нагнулся поднять что-то с полу, скованный по рукам Сашка быстро подскочил к столу, обеими руками схватил револьвер, оглушил им по голове Михайлова, после чего быстро прыгнул в окно и… очутился в объятиях стоящего под окном городового.
Сашка был приговорен судом к повешению, но по амнистии, последовавшей к Романовскому юбилею, наказание ему было смягчено до двадцати лет каторжных работ.
Февральская революция освободила Сашку, пожелавшего якобы отправиться на фронт. На самом деле Сашка явился в Москву, где и принялся за прежнее. Он не забыл свести счеты со слесарем и «мясницким учеником», убив их обоих. Большевикам Сашка чем-то не угодил и был ими расстрелян в 1920 году, в Москве.
Психопатка
В приемной при Московской сыскной полиции был вывешен, по моему распоряжению, плакат, в котором говорилось, что начальник сыскной полиции принимает по делам службы от такого и до такого-то часа, но в случаях, не терпящих отлагательства, – в любой час дня и ночи.
Однажды, как-то ранней весной я засиделся в служебном кабинете до позднего вечера, разбираясь в ряде срочных дел, как вдруг около полуночи слышу: подкатывается к управлению автомобиль, и вскоре дежурный чиновник докладывает:
– Господин начальник, там какая-то дама в трауре желает непременно вас видеть.
– Меня? В такую пору?
– Да, я ей предлагал в общем порядке сделать заявление, но она, указывая на плакат, говорит, что дело не терпит отлагательств, и непременно желает обратиться к вам лично.
Я с досадою пожал плечами:
– Ну что же, зовите.
Ко мне в кабинет вошла еще не старая женщина, довольно миловидная, вся в черном, с крепом на голове и, подойдя к столу, упала в кресло. Закрыв лицо платочком, она, слова не говоря, принялась рыдать.
– Бога ради, сударыня, успокойтесь, не волнуйтесь и расскажите, в чем дело?
Барыня продолжала рыдать, и вскоре у нее началась икота, нервный смех, словом, все признаки истерики. Я поспешно предложил стакан воды и, дав время успокоиться, снова спросил:
– Скажите, что случилось?
– Ах, мое горе безгранично, я так потрясена.
– Я вас слушаю, сударыня, говорите.
– Господин начальник, у меня пропал кот Альфред!..
Я от неожиданности разинул рот, вытаращил глаза, а в душе поднялась волна негодования.
«Ах ты, дурища этакая!..» – подумал я, но не успел произнести слова, как моя странная посетительница затрещала безудержно, безнадежно, не переводя дыхания:
– Да, господин начальник, чудный, дивный, несравненный сибирский кот, с этакими зелеными глазищами и огромными, пушистыми усами, – и дама, вытаращив глаза и надув щеки, постаралась изобразить всю красоту пропавшего кота.
– Послушайте, сударыня, неужели вы думаете, что у меня есть время заниматься подобными пустяками? Сделайте ваше заявление в моей канцелярии, и меры к розыску вашего животного будут приняты.
– Ах, как вы можете, господин начальник, называть постигшее меня горе пустяками!.. Хороши пустяки, когда я не ем, не сплю и лишилась покоя. Да знаете ли вы, что Альфреда моего я любила больше мужа, больше жизни (тут дама истерично взвизгнула), да и как можно было не обожать его? Ведь это был не только красавец, но и удивительный ум. Ах, господин начальник, до чего он был умен! Скажешь ему, бывало: «Альфред, прыг мне на плечо». И он тотчас же, изогнув грациозно спину и взмахнув хвостом, делал тигровый прыжок и оказывался моментально на плече!..
– Послушайте, сударыня, – начал было я, но она перебила:
– И заботилась же я, господин начальник, о моем милом котике! Я не только внимательно следила за его желудком, но и стремилась предугадывать все его желания.
Дама опять заплакала.
– Так, может, его никто и не крал? – сказал я, сдерживая улыбку. – А он просто покинул вас и бродит сейчас где-нибудь по крышам. Не забывайте, сударыня, ведь март месяц!
Моя собеседница презрительно на меня поглядела и, пожав плечами, сухо, но с достоинством промолвила:
– Мой Альфред никогда подобной подлости не сделал бы.
Я нажал кнопку и вызвал в кабинет агента Никифорова.
При Московской сыскной полиции имелся так называемый летучий отряд из сорока примерно человек. В него входили специалисты по разным отраслям розыска. В нем имелись: лошадники, коровники, собачники и кошатники, магазинщики и театралы, – названия, происходящие от сферы их деятельности. Для читателя такое подразделение покажется, быть может, и странным, между тем оно необходимо, так как, во‐первых, кражи резко отличаются друг от друга способами их выполнения, а во‐вторых, места сбыта ворованного различны. Следовательно, весьма важно иметь постоянных агентов, специализирующихся каждый в своей области.
Вызванный мною Никифоров был кошатником и собачником и проявлял недюжинные способности в своем деле. Словно сама природа создала его для этого амплуа. Даже в его внешности было что-то собачье: сильно вывернутые ноги, как у таксы, манера склонять голову набок, прислушиваясь, и способность при волнении заметно шевелить ушами.
Описав приметы пропавшего кота, я приказал Никифорову, особенно на этот раз, постараться.
После долгих слез, заклинаний и мольбы дама, наконец, отпустила мою душу на покаяние, и, вернувшись домой, я, утомленный, крепко заснул.
Во сне я видел Альфреда. На следующее утро, едва усевшись в своем кабинете, я был отревожен Никифоровым, вошедшим ко мне с большим узлом.
Альфред был найден!
Когда я на письменном столе развязал узел, то в нем оказался действительно очаровательный сибирский кот, каковой, изогнув колесом затекшую спину, принялся разевать розовый ротик и беззвучно мяукать.
– Куда прикажете его деть? – спросил Никифоров.
– Да посадите пока в свободную камеру, но не забудьте закрыть окно.
– Слушаю, господин начальник.
Я позвонил даме по телефону, прося явиться за найденным Альфредом. В трубку я услышал лишь задушевный крик.
Через четверть часа она примчалась на автомобиле и, сияющая, ворвалась ко мне в кабинет.
– О, благодарю, благодарю вас, господин начальник!.. Недаром же я обратилась именно к вам! Я знала, что нет для вас невозможного. Неужели, неужели же мой Альфред найден?! – и она крепко потрясла мне руку. – Но где же он?
– Сейчас вам его принесут. Он посажен в камеру.
– О!.. В камеру!.. Господин начальник!.. – укоризненно протянула она.
– Не мог же я его хранить на сердце, сударыня?!
– Конечно, ну, а все-таки!..
Трудно описать дикую радость ее, когда появился Никифоров, любовно неся в руках Альфреда. Слезы умиления, безумные поцелуи, тискание, прижимание к сердцу. Альфред тут же проявил свой недюжинный ум и явно признал хозяйку.
– Господин начальник, разрешите мне поблагодарить вашего дорогого, милого, симпатичного Никифорова?
– Пожалуйста, сударыня, я ничего не имею…
Каково было мое удивление, когда она вынула пятисотрублевую бумажку, прося передать ее Никифорову.
– Нет, нет, сударыня, такой суммы я принять ему не позволю: вы избалуете мне людей. Да, наконец, что же вы хотите, чтобы завтра же Альфред ваш опять исчез? Нет, не вводите людей в искушение.
Наконец, уговорились на ста рублях, и обрадованный Никифоров, получив столь неожиданную награду, долго и упорно шевелил в этот день ушами.
Несколько портретов
Должность начальника сыскной полиции имеет ту своеобразную особенность, что по характеру своих обязанностей она привлекает к себе людей не только различных социальных положений, но и обращающихся к ней по разнообразным, и часто весьма курьезным, поводам. Начальник сыскной полиции является нередко своего рода духовником и поверенным душ людских, но еще чаще выслушивает ряд вздорных претензий и жалоб. И какие только типы просителей не проходят перед ним! Я в одном из предыдущих рассказов описал уже психопатку с пропавшим котом. Но вот еще несколько курьезных портретов моих нередких посетителей.
Разиня
– Господин начальник, там какой-то человек желает вас видеть.
– Что ему нужно?
– Не говорит.
– Ну просите.
В кабинет степенно входит человек купеческой складки. Ищет глазами образ; найдя, – не торопясь крестится и, отвесив мне чуть ли не поясной поклон, нерешительно приближается к столу.
Я указываю ему на кресло.
– Присаживайтесь!
– Ничего-с, мы и постоим-с.
– Да уж что ж стоять! Разговаривать-то сидя ловче. Садись! Садитесь же!
Мой посетитель садится на край кресла и, оглаживая свою рыжеватую лопатообразную бороду, глядит на меня умиленно кроткими, голубоватыми глазками.
В комнате распространяется своеобразный и довольно сложный запах: какая-то смесь дегтя, пота, чая и черного хлеба.
– Ну, что же вы мне скажете?
Он откашливается и высоким тенором начинает свой рассказ:
– Мы сами будем ярославские. Работаем по торговой части. Барышей огромадных не зашибаем, но, между прочим, Бога гневить не будем: кормимся. Вот и нынче пригнал я в Москву-матушку вагон телятинки, продал его без убытку-с. Хорошо-с!
Захотелось это мне побаловаться чайком. Ну, что же, была бы охота! Захожу это я в трактир, что «Якорем» зовется. А мы про здешние трактиры московские наслышавшись: не только оберут тебя, как липку, а и самого украдут и цыганам спустят, коль смотреть в оба не будешь. Ну-с, хорошо-с! Вхожу это я, а сам думаю: «Смотри, Митрич, не зевай! Не ровен час!» Слуга в раздевальне мне говорит:
– Купец, снял бы шубу, а то сопреешь!
«Шалишь! – думаю, – не на дурака напал! Так я тебе и поверил!»
– Ничего, милый, мы привыкши, – говорю я.
А шубу я себе справил степенную, с широким бобровым воротником – ну, словом, первый сорт. Да нашему брату иначе в Москву носа не показывай, коммерция того требует, опять же и для кредита. Ну, так вот-с, вхожу я в зал и усаживаюсь за столик, а шубы не скидываю. Выпил чайник-другой и взопрел.
Давай, думаю, скидану-ка я шубу здесь же, на спинку стула, и для верности сяду на нее, куда же ей в таком разе деваться? При мне и останется. Так и сделал.
И в такое это я, ваше высокородие, пришел благодушное равновесие, что и сказать нельзя. Без шубы стало вольготно, теляток хорошо продал, на сердцах легко и весело. Выпил это я не торопясь еще парочку чайников, рассчитался со слугою, даже гривенник ему, мошеннику, отвалил да и встаю, чтобы облечься в шубу: глядь! Мать честная?! А воротника на шубе как не бывало! Я и сюды, я и туды, спрашиваю я половых, а они только смеются:
– Надо было, купец, шубу-то у швейцара оставить, все бы было цело!
Они, поди же, мошенники, сами же и обкорнали ее. Ну ж и жулье московское! Век буду жить – не забуду и внукам прикажу помнить! Явите Божескую милость, господин начальник, прикажите разыскать воротник! Ведь двести целковых заплачено, не сойтить мне с этого места!
Нахал
Сыскной полиции стало известно, что вновь вернулся в Москву, отбыв свой срок высылки, некий ловкий шулер Прутянский. По дошедшим сведениям Прутянский принялся за старое, и я приказал произвести в номере его, в гостинице, обыск. Обыск ничего не дал.
И я, конечно, забыл об этом ничтожном случае.
На следующее утро мне докладывают, что какой-то чиновник в форме желает меня видеть.
– Просите.
С шумом раскрывается дверь моего кабинета, и высокий, осанистый господин, с гордо поднятой головой, в форменном кителе ведомства учреждений Императрицы Марии и с форменной фуражкой в руках, быстро подходит к столу, небрежно бросает на него фуражку и, не дожидаясь приглашения, плюхается в кресло.
– Что вам угодно?
– Да помилуйте! Это черт знает что такое! Вчера ваши люди ворвались ко мне в гостиницу, перерыли все вверх дном и, не извинясь даже, ушли. Да ведь это что же такое? Житья нет, если каждый будет безнаказанно врываться в твое жилище! Да я, наконец, буду жаловаться на вас в Петербург, если вы только не обуздаете ваших олухов!
– Как ваша фамилия?
– Коллежский советник Прутянский, – бросил он небрежно.
Будучи уже взбешенным необычайно наглым тоном моего посетителя да услышав еще фамилию известного, зарегистрированного шулера, я потерял всякое самообладание и, стукнув изо всей силы кулаком по столу, крикнул:
– Вон! Сию минуту вон, нахал этакий! Да я тебя, шулера, не только из кабинета, но и из Москвы немедленно выставлю! Вон, говорят тебе!
И, встав из-за стола, я стал наступать на него. Нахалы обычно бывают не менее трусливы, чем наглы. Это вполне подтвердилось на Прутянском. Забыв на столе фуражку, он кинулся к выходу и пугливо на меня оборачиваясь, стал царапаться и ломиться в шкаф, стоящий у стены, рядом с дверью.
– Куда в шкаф лезешь? Казенное имущество ломаешь! – крикнул я, притопнув.
Наконец, коллежский советник выбрался из кабинета, оставив на паркете следы своего необычайного волнения.
Гуляка
Ночью вдруг меня будит телефон.
– Алло, я вас слушаю, – проговорил я хрипло.
В трубке послышался полупьяный голос:
– Позвать ко мне главного начальника всей сыскной полиции Москвы и… и ее уездов!
– Он самый у телефона. Что вам угодно?
– С вами говорит коллежский регистратор Семечкин.
– Очень приятно!
– Мне то-о-же!..
– Что вам от меня нужно?
– Да как же? Помилуйте! Это Бог знает что?! Я говорю чеку, чело-о-веку: «Подай еще графинчик водки». А он заявляет: «Поздний час, господин, из буфета не отпускают». И что значит «поздний час», когда, строго говоря, ранний… Да, наконец, опять же Лелечка… он меня компер… коммер… компрометирует в ее глазах. Это же не порядок… Как вы находите?
– Конечно, конечно! Вы правы. А где же это вас так компрометируют?
– Как?.. Неужели вы не знаете, а еще главный начальник всех сыскных уездов?! Странно!!
– Представьте, знал, да забыл!
– В «Слоне», в «Слоне», стыдитесь!
– Где же вы там: в общем зале или в кабинете?
– Что за вопрос?! Конечно, в зале! Моя Лелечка не станет шляться по кабинетам. Сидим справа от входа: я, Лелечка да приятель, Ладонов… Только он напрасно думает… Ничего у него с Лелечкой не выйдет!..
– Хорошо! Вы погодите немного, а я прикажу сейчас хозяину отпустить вам графинчик.
– Хорошо. Я этой услуги вам не забуду! Мерси!
По моему приказанию один из агентов тотчас же направился в ресторан «Слон» и, арестовав Семечкина, водворил его на остаток ночи в полицейскую камеру. На следующее утро мы встретились.
Семечкин оказался консисторским служащим, вспрыскивавшим вчера в «Слоне» свой первый, только что полученный чин. Это был добродушнейший и безобиднейший человек, лет двадцати пяти, скромный, конфузливый.
– Ради самого господа, господин начальник, не оглашайте моего глупого проступка: и со службы-то меня выгонят, и жена съест живьем! А как же это вы, господин коллежский регистратор, решились столь бесцеремонно беспокоить меня, да еще среди ночи. Видит бог, был пьян, пьян, как стелька!.. Да разве трезвый я бы посмел?!
Пожурив его еще немного, я отпустил Семечкина на все четыре стороны и, конечно, не возбудил о нем дела.
Радость Семечкина была безбрежна.
Недостойный иерей
Как-то в 1907 году в Петроградскую сыскную полицию обратился сенатор X. Начальник полиции В. Г. Филиппов отсутствовал, и я, в качестве помощника, заменяя его, принял сенатора.
Ко мне вошел старик лет шестидесяти, весьма почтенного и благообразного вида и, сев в предложенное кресло, с опаской огляделся и негромким голосом заговорил:
– Я обращаюсь к вам по весьма щекотливому и, разумеется, совершенно секретному делу. В моей семье произошло несчастье, и, быть может, вы сможете если и не ликвидировать его совсем, то, по крайней мере, ослабить его печальные последствия.
– Я к вашим услугам, ваше превосходительство.
Сенатор, беспокойно взглянув на меня, продолжал:
– Видите ли, у меня сбежала дочь, – и он сделал паузу. Затем: – Это бы еще куда ни шло! Мало ли бывает: молодость, романы, любовь и подобные бредни. Но несчастие в том, что выбор моей дочери пал черт знает на кого. Ну, будь там какой-нибудь корнет, гусар, адвокат, артист, наконец, готов примириться на длинноволосом студенте, а то, подумайте, – кучер! Грязный, неопрятный мужик, с дегтем, кислятиной и вшами!
Какая муха ее укусила, – ума не приложу.
Во всяком случае, ни воспитание, ею полученное, ни среда, ее окружающая, не могли привить подобного вкуса. Я просто теряюсь в догадках, что это: эротическое помешательство или желание опроститься по рецепту Толстого? Быть может, я выжил из ума, отстал от века, впал в детство, но решительно отказываюсь понимать поведение моей Наточки.
Лошадиный Ромео умчал ее куда-то, и вот уже несколько дней, как об ней ни слуху ни духу. Я очень, очень прошу вас: помогите мне разыскать мою девочку. Но, ради бога, никакой огласки, никакого скандала – это так важно и для ее чести, и для моей репутации.
Я успокоил как умел старика, обещав немедленно приняться за поиски.
Отыскать Тимофея Цыганова не представляло труда, так как имя его нам дал сенатор, а улицу, дом и квартиру – адресный стол. Я решил вызвать его в сыскную полицию и поговорить сначала по-хорошему.
Ко мне в кабинет вошел здоровенный малый, краснощекий, с длинной черной бородой лопатой и волосами, обильно смазанными деревянным маслом и подстриженными в скобку.
– Здравствуй, Тимофей!
– Здравия желаю, господин начальник!
– Послушай, братец, что ты там затеял?
– Это вы насчет чего же изволите?
– Полно, Тимофей, притворяться! Сам знаешь, что насчет сенаторской дочки говорю.
– Ах, эвона про что!
– Ну, так как же?
– Так что? Счастье мое, линия, стало быть, такая подошла!
– Счастье-то счастьем! Но подумай, что же ты делать с нею станешь? Разве она тебе пара?
– Известно: делать буду то, что обыкновенно делают. А пара она мне али нет, – это уж дело мое.
– Что же ты воображаешь, что сенатор на это и согласится?
– А, пущай они не соглашаются! Нам это безразлично!
– Как безразлично? Прикажет – и разъединят вас.
– Ну, уж этому не бывать! Где это видано, чтобы мужа с женой без их воли разъединяли? Такого и закону нет.
– Да вы разве женаты?
– Как же-с! Поженившись законным браком.
– Кто же вас венчал?
– Известное дело – поп, кому же другому?
– Какого же прихода?
– А вот память отшибло – не помню! – сказал с иронией Тимофей.
– Полно вздор городить! В какой церкви венчались?
– Не желаем говорить – да и все тут! Хотите, узнавайте сами.
Делать с ним было нечего, и, отпустив его, я приказал агентам проверить во всех церквах брачные записи по метрическим книгам.
На что ушло дня три.
В конце этого срока заехал ко мне опять сенатор X. – справиться о ходе дела. Я передал ему мой разговор с Тимофеем, и старик, узнав о вновь приобретенном «бофисе», схватился лишь за голову и упал в кресло. Несколько отдышавшись и обдумав положение, он с грустью сказал:
– Ну, раз дело дошло до свадьбы, то тут не поможешь. Одно осталось – это пообтесать как-нибудь этого болвана да пристроить куда-нибудь в глухую провинцию на службу. Другого выхода у меня нет. Будьте добры, забудьте всю эту грустную историю и прекратите производство по этому делу.
Между тем из ревизии церковных книг выяснилось, что Тимофей Цыганов и девица X. такого-то числа были повенчаны настоятелем церкви Литовского тюремного замка отцом Владимиром Воздвиженским, причем запись эта в книге была вычеркнута и сбоку на полях имелась приписка отца Владимира: «Записано по ошибке».
Надо думать, что отец Владимир пронюхал за эти дни о поднятой тревоге и, узнав, что повенчанная им девица – дочь сенатора, струсил и вычеркнул запись. Будучи опрошенным, он заявил, что действительно собирался свершить обряд венчания и заранее заготовил запись в книгу, но, ввиду недоставления молодыми нужных документов, – венчать отказался и запись вычеркнул.
Подробные справки, собранные об отце Владимире, оказались ужасающими. Он принадлежал, очевидно, к тому редкому типу православных пастырей, не верующих ни в Бога ни в черта и видящих в своем священстве лишь доходную статью, стремясь извлечь из всего максимальную выгоду, не брезгуя при этом никакими средствами. Вместе с тем и частная жизнь отца Владимира была порочна: вечные кутежи, иногда даже оргии, карты и женщины – вот его обычное времяпрепровождение. В числе собутыльников его значился и пономарь церкви Литовского замка, приятель его, некий Афонов.
Добытые сведения об отце Владимире усилили, конечно, наши подозрения, и дело о нем продолжалось.
Запись в метрической книге почерком своим отличалась от приписки на полях, сделанной отцом Владимиром. Мы раздобыли, прежде всего, образец почерка пономаря Афонова, и авторство его было немедленно установлено. Афонов оказался невероятным трусом и, будучи припугнут предстоящей тяжелой карой в случае упорства, быстро сознался во всем и рассказал, как было дело. Оказалось, что венчание свершилось за три тысячи рублей, причем невеста предъявила в виде документа всего какую-то визитную карточку с рекомендательной надписью. Свидетелями были: он, пономарь Афонов и тюремный сторож Иванов. Мы арестовали обоих, после чего был приглашен в полицию и отец Владимир.
В кабинет вернувшегося В. Г. Филиппова, где находился и я, был приглашен обвиняемый священник: откормленный человек с рыжей бородой, волнистыми кудрями, в шелковой рясе. Держать себя он пытался приветливо, независимо и боголепно.
– С хорошей погодой вас! – сказал он, подавая руку и взмахивая ею как-то сверху вниз.
– Садитесь, батюшка.
– Отчего-с, с превеликим удовольствием!
– Так как же, батюшка, стало быть, не венчали и свадьбы не было?
– Господи ты боже мой! Да разве бы я посмел без документов! Нет, господа! Свадьба – дело не шуточное. В таинстве этом, освященном Церковью Апостольской, не только духовно соединяются две жизни, но и преподается им обязанность к интимному сближению полов с целью продления рода человеческого…
В. Г. Филиппов прервал его:
– А знаете ли, батюшка, что на Голгофе, рядом со Спасителем, висел и вор на кресте, а вот здесь – крест висит на воре! – и он указал на наперсный крест батюшки.
– Однако! – изумленно сказал священник, но, оправившись и приняв прежний елейный тон, он продолжал: – Оно, конечно, оскорблять меня вы здесь можете, я – беззащитен; ну а все-таки почту своим долгом довести ваши слова до сведения Преосвященнейшего.
– Итак, батюшка, решительно: не венчали?
– Да лишусь я своего иерейства, ежели лгу! – и отец Владимир, встав и повернувшись к иконе, широко перекрестился.
– Семенов! – крикнул я. – Введите-ка Афонова.
Дверь раскрылась, и на пороге появилась сконфуженная фигура пономаря.
Он как-то по-идиотски осклабился и, обращаясь к отцу Владимиру, неожиданно радостно объявил:
– Володя, а я сознался!
– Ну и прохвост! – сказал сухо, но убедительно батюшка.
За свои свадебные спекуляции отец Владимир был лишен сана и приговорен к полутора годам арестантских работ.
Кража в Успенском соборе
Эта дерзкая кража произошла весной, в 1910 году. Среди сладкого сна, часа этак в четыре утра, я был разбужен телефоном.
Дежурный чиновник мне сообщил об известии, только что переданном ему квартальным надзирателем из Кремля. Сообщение было весьма тревожное, а именно: часовой, дежуривший у кремлевской стены, близ Успенского собора, услышал звон разбиваемого стекла и в одном из окон собора заметил силуэт человека, по которому и выстрелил, но, видимо, безрезультатно. Духовные власти уже оповещены и сейчас приступят к открытию и осмотру собора.
Я в минуту оделся и на автомобиле помчался в Кремль. К собору я успел как раз к открытию дверей. С несколькими чинами полиции вошел я в храм и, приступив сначала к беглому, поверхностному осмотру, обнаружил сразу кощунственное злодеяние: слева от царских врат на солее, вплотную к иконостасу, находилась икона Владимирской Божьей Матери в огромном киоте, вернее божнице. Божница эта была в сажень высотой, аршина полтора шириной, с дверцей, и видом своим походила несколько на шкаф. Икона Владимирской Божьей Матери была древней святыней Руси и любимейшей царской семьи, так как иконой этой был благословен на царство первый из дома Романовых – царь Михаил Федорович. Золотая риза образа была богато изукрашена драгоценными камнями, но особую стоимость представлял собою огромный квадратный изумруд, величиной чуть ли не со спичечную коробку, зеленевший среди сверкающих бриллиантов.
При осмотре иконы оказалось, что камни эти вместе с кусками золотой ризы были грубо вырезаны каким-то острым инструментом и исчезли бесследно. Живопись самой иконы не была повреждена. На дне киота виднелись золотые обрезки и пыль, тут же валялся окурок.
Вор, видимо, свершал свое дело в самой божнице, прикрыв за собой дверцу для уменьшения шума.
Едва я кончил этот осмотр, как храм стал наполняться представителями властей предержащих. Кого-кого тут только не было: и градоначальник, и прокурор, и митрополит Владимир, и представитель дворцового ведомства, и прочее, и прочее. Такой необычайный интерес к случившемуся объяснялся, конечно, не только размером и дерзостью кражи, но также и живой заинтересованностью в происшедшем государя императора и всей царской семьи.
Я решил приступить к тщательному осмотру собора, дабы точно установить, не скрылся ли преступник или не скрыл ли он награбленного в самом храме. Так как Успенский собор велик, то мне пришлось вытребовать до пятидесяти агентов и, во главе со следователем по особо важным делам К., приступить к обследованию.
Осмотр этот оказался нелегким и занял весь день. Трон Бориса Годунова, гробницы патриархов, купол, крыша, равно как и самые потаенные уголки собора, были нами обследованы, но, увы, безрезультатно.
Особенно много времени занял иконостас, строго говоря, не иконостас, а та сплошная масса икон, что тянется во много рядов вдоль южных и северных стен собора. Иконы эти прочно скреплены друг с другом и стоят сплошными щитами, причем между задними сторонами икон и стенами храма находится пустое пространство, с пол-аршина шириною. Пространство это внизу шире, так как перед нижними иконами проходит сплошная полка, или, скорее, широкая и высокая ступень, высотою примерно, в аршин и шириною – вершков в десять. Все это пустое пространство сверху донизу и вдоль всех стен было тщательно обшарено нами с помощью длинных шестов, но тщетно.
На правом подоконнике узкого окна, расположенного над иконами, а следовательно, на значительной высоте от пола, были обнаружены следы потревоженной вековой пыли, но весьма неясные и мало говорящие.
Стекло левого окна было разбито, несмотря на полувершковую толщину. Окно это, впрочем, как и все окна собора, было до того длинно, но узко, что напоминало собой скорее бойницу, и вряд ли человек мог из него вылезти. Однако для большей достоверности, я отправил самого тощего и маленького агента, с чисто детским телосложением, для осмотра его, и оказалось, что и его комплекция вдвое шире окна.
Вечером, к концу осмотра, в храм приехал опять митрополит Владимир и, обратясь к следователю К., спросил, кончен ли осмотр и может ли храм быть открыт для обычных богослужений? К., не спрося моего мнения, ответил Владыке утвердительно, заявив, что грабитель, конечно, выбрался из храма. Я был решительно обратного мнения.
Ведь раз из окон вылезти нельзя, двери же храма с момента выстрела часового по силуэту в окно и до нашего прибытия не расставались со своими пудовыми замками и засовами, следовательно, вор должен находиться в храме, и надлежит поставить засаду. Эти соображения я высказал Высокопреосвященнейшему и категорически просил на время отменить богослужения, в противном случае я снимал с себя ответственность за исход дела. Мои настояния возымели действие, и митрополит хотя и неохотно, но согласился их уважить.
В Петербург были посланы тотчас же телеграммы о случившейся краже, и вскоре был получен ответ от министра внутренних дел, что государь император приказывает приложить все силы и средства как к разысканию похищенного, так и к обнаружению виновного.
Итак, я оставил в соборе засаду из двух надзирателей и двух городовых.
Прошла ночь – ничего. Прошел день – тоже. Прошла еще бесплодная ночь, и митрополит Владимир прислал мне сказать, что храм необходимо открыть. Я воспротивился, и он уступил. Прошли еще сутки безрезультатно, и Высокопреосвященнейший возобновил свои настояния. С огромным трудом мне удалось выпросить у Владыки еще сутки, по прошествии которых он решительно потребовал снятия засады, причем мне вежливо было дано понять, что, в сущности, не я, а следователь К. руководит следствием и находит со своей стороны засаду излишней. Кое-как мне удалось выпросить у Владыки еще несколько часов.
Тяжелые минуты настали для меня. Неужели же дело, волнующее самого императора, приковавшее к себе внимание обеих столиц, будет мною провалено? Обыски, организованные на Хитровке, Сухаревке и прочих обычных местах сбыта краденого, не дали также ничего. Допрос профессиональных, зарегистрированных воров не был успешнее. А тут как на грех случилось за эти же дни два крупных происшествия: это убийство девяти человек на Ипатьевском переулке и получение трехсот тысяч рублей рублей по подложной ассигновке из Губернского казначейства, что, конечно, дробило силы сыскной полиции.
Мрачно сидел я в своем кабинете. Служебное самолюбие страдало.
Встревоженное воображение рисовало самые безотрадные перспективы.
Вяло зазвонил телефон, и я неохотно взял трубку:
– Кто говорит?
– Это вы, господин начальник?
– Я, конечно, я, боже мой!.. – был мой раздраженный ответ.
Это звонил надзиратель, стоявший на наружной охране собора, и сообщал, что в соборе слышна стрельба. Я пулей полетел в Кремль, пригласив с собою и своего помощника В. Е. Андреева. В дверях храма нас встретил один из дежуривших в нем надзирателей, Михайлов, расторопный и довольно интеллигентный малый.
– Ну, что у вас, Михайлов?
– Да все слава богу, вор пойман.
– А что означает ваша стрельба, неужели оказал сопротивление.
– Какое там, господин начальник, он с голодухи чуть жив.
– Почему же вы стреляли?
Михайлов конфузливо помялся и спросил:
– Прикажете рассказать подробно?
– Говорите.
– Видите ли, господин начальник, сменили мы наших ночных товарищей, и те тут же, под троном царя Бориса, завалились спать.
Они спят, а мы с Дементьевым караулим. Как приказано, сидим смирно, не разговариваем. Кругом мертвая тишина. Спокойно смотрят на нас лики святых угодников, да где-то вдалеке мерцает синий огонек неугасимой лампады. Лишь изредка нарушит тишину треск сухого дерева, да заскребет иной раз мышь у свечного ящика.
Сидим мы и молчим, а в голове проносится былая жизнь на Руси, протекшая в этом храме. Сидишь под троном Годунова да думаешь: неужели было время, что царь Борис восседал именно здесь, на этом самом месте, над твоей головой? Или представишь себе те десятки тысяч отпеваний, что пропеты были здесь за минувшие столетия. Смотришь на царское и патриаршее место, и мерещатся тебе то Грозный-царь, то Никон-патриарх, и жутко становится как-то на душе. Сижу я это да поглядываю на своего соседа, а у того на лице те же чувства написаны.
В таком напряжении прошел час-другой, как вдруг ясно послышался стук; и еще, и еще. Мы встрепенулись, растолкали спящих товарищей и вчетвером принялись слушать. Непонятный шум продолжался: не то кто-то скребет, не то бьет в стену. Смотрим кругом, а никого не видно, и понять не можем, откуда эти звуки. А они все сильнее и сильнее. Я перекрестился, Дементьев стал шептать молитву. Мы прижались друг к другу и впились в иконостас глазами. Но вдруг случилось нечто ужасное: с самого верхнего ряда икон сорвался образ и с грохотом упал на плиты каменного пола.
От этого грохота пошел гул по всему собору и замер где-то в куполе. Шум временно затих, и наступила гробовая тишина. Наши сердца стучат, горло сжимается, во рту пересохло. Как вдруг на том месте, откуда упала икона, появилось нечто. Что это было – разобрать мы не могли, но нечто ужасное: какой-то серый ком, по форме вроде человека, но без глаз, носа, рта и ушей. Мы дико вскрикнули и, не целясь, открыли беспорядочную стрельбу из маузеров по страшному призраку. При первом же выстреле он, цепляясь и хватаясь за иконы, соскользнул на пол и на нем растянулся. Тут мы только разглядели, что перед нами человек.
Наши пули его не задели, да только грех большой приключился: одна пуля пробила икону святителя Пантелеймона. Но тут мы упавшего схватили, а вы и подъехали.
Войдя в самый храм, я отправился к вору. Вид его меня поразил: поистине, он походил скорее на призрака, чем на живого человека. Его голова, лицо, руки, платье были окутаны толстым, пушистым слоем вековой пыли. Этот «некто в сером» едва держался на ногах и производил самое жалкое впечатление.
Весть о поимке вора-святотатца быстро разнеслась по Москве, и толпы народа, горя жаждой мщения, хлынули к собору, желая самосудно разделаться с дерзким осквернителем святыни. Об этом донесли мне мои люди, уверяя, что вывести вора из собора главным выходом, через гудящую толпу, немыслимо, он неизбежно будет разорван негодующим народом. Поколебавшись, я решил вместе с В. Е. Андреевым вывести вора из храма задним ходом, через Тайницкие ворота и увезти его на извозчике, а не на автомобиле, что дожидался нас со стороны Кремлевской площади. Этот маневр удался, и преступник благополучно был нами доставлен на Малый Гнездниковский переулок.
Здесь я тотчас же велел принести белье и платье моего старшего сына. Вора вымыли и переодели. Он назвался Сергеем Семиным, по ремеслу – ювелирным учеником.
– Что, Сережка, есть хочешь?
Он вместо ответа задрожал от одного представления об еде и принялся глотать слюни.
Из ближайшего ресторана ему были принесены две порции щей, две отбивные котлеты и огромная булка.
Мне впервые в жизни пришлось воочию наблюдать процесс насыщения поистине голодного человека. Он с жадностью глотал щи, запихивал в рот невероятные куски мяса, рвал хлеб и минут через пять уничтожил все без остатка.
– Хочешь еще?
– Да, если будет ваша милость!
– А не помрешь ли с голодухи-то сразу?
– Ничего-с, в лучшем виде-с съедим-с!
Ему принесли еще котлету и хлеба.
– Ну, а теперь, Сережка, попьем чайку?
– С превеликим удовольствием, господин начальник!
Нам принесли чаю, и я с ним выпил стаканчик.
Между тем за это время ко мне в управление пожаловали московские власти, желающие взглянуть на редкую птицу. Каждый из них подавал мне советы, какие меры и способы применить при допросе. Через градоначальника, генерала Андреянова, мне удалось, наконец, их вежливо сплавить. Но лишь представитель прокуратуры, товарищ прокурор В. В. Ш., настоял на своем присутствии при допросе.
– Ну, Сережка, поел-попил, а теперь поговорим о деле. Где камни?
– Да я передал их Мишке, с Хитрова рынка.
– Ну и дрянь же ты, Сережка. Вот ваш брат про сыскную полицию брешет небылицы: и пытают, и бьют будто бы вас. А ты видишь, как тебя приняли в сыскной полиции? Одели, накормили, напоили, а ты за это в благодарность врешь, как дурак. Ну и свинья же ты!
Сережка потупил голову, подумал, посмотрел исподлобья на В. В. Ш. и, обратясь ко мне, спросил:
– А кто они будут? – и он кивнул в сторону Ш.
– Это товарищ прокурор.
– Господин начальник, – неуверенно сказал Сережка, – позвольте им выйти вон.
Я смущенно повернулся к Ш. Он поспешно и утвердительно закивал головой и, с натянутой улыбкой, подобрав портфель, вышел из кабинета. Сережка облегченно вздохнул и принялся рассказывать. Оказалось, что все эти трое с лишним суток Семин скрывался за иконами.
Когда мы обшаривали шестами пустое пространство, то его не нащупали лишь потому, что ему удалось забиться в нижнюю выступающую часть сплошной иконной стены, так сказать, под ступеньку или полку, о которой я уже говорил. Шест, опускаемый сверху, доходил до пола но, конечно, не мог проникнуть круто в сторону и зацепить укрывавшегося.
Семин в своей засаде пережил муки голода и жажды, так как за все время он съел лишь одну просфору и выпил бутылку кагора, найденные им в алтаре. Пытаясь выбраться, он полез наверх по иконной стене и случайно выдавил икону, падением своим столь напугавшую моих агентов.
План действий у Семина был заранее выработан и состоял в том, чтобы, по совершении кражи, спрятать в надежном, заранее облюбованном месте драгоценности и выбраться, разбив окно, наружу.
За похищенным же он намеревался явиться через месяц другой, словом, тогда, когда горячка уляжется. Все, очевидно, так бы и произошло, если бы законы перспективы не обманули Семина.
Вырабатывая план и осматривая будущее поле действия, он ошибся в размерах окна и, глядя снизу, нашел его достаточно широким, выполняя же преступление и разбив стекло, он тщетно пытался просунуть в окно голову и пролезть: окно оказалось чересчур узким.
Просвистевшая над головой пуля часового оповестила его о тревоге, и он кинулся искать убежища. Спустившись с разбитого левого окна, Семин принялся бегать по собору, и, увидав толстый шнур вентилятора, висящий у правого окна, он быстро поднялся по нему, влез на окно, а затем порешил, наконец, спуститься за иконную стену на пол. Отсюда и следы потревоженной пыли на правом окне.
– Куда же ты спрятал вещи?
– Да там же, в соборе, в одной из гробниц.
– Что ты врешь! Мы все гробницы осмотрели.
– Да вам не найти: так ловко запрятано! Видали вы две гробницы рядом под общим мраморным чехлом? Промеж них в мраморе у самого пола большая как бы отдушина, так, с пол-аршина шириной.
Вот ежели на животе в нее залезть, то очутишься между двумя металлическими гробами; затем, перевернувшись на спину и подняв правую руку, нужно запустить ее на правый же гроб: там, между ним и мраморным чехлом, – пустота. Тут-то и положены мною снятые драгоценности, завернутые в пиджак. Разве вы не приметили, господин начальник, что меня взяли без пиджака?
– А не врешь ли ты, Сережка? Как же это мои люди не достали их?
– Да окромя меня, никому и не достать! Нужно умеючи.
– Ну, вот что, Сережка! Едем в собор, ты и достанешь.
Хотя я и боялся использовать его услуги, так как мало ли что, он мог еще там удавиться, но решил рискнуть. Однако все обошлось благополучно, и Сережка добыл вещи.
Я обратился к прокурору, прося вместо К. назначить другого следователя для избежания каких-либо трений со мной в дальнейшем течение следствия. Просьбу мою прокурор уважил, и был назначен следователь Головня. Лишь только вещи были найдены, начались поздравления и приветствия со всех сторон. Митрополит Владимир, лично приезжавший благодарить меня, чувствовал себя сконфуженным и горячо извинялся за свои сомнения в моих розыскных способностях. Из кусков стекла разбитого соборного окна я приказал сделать овальные стеклышки, прикрывающие крошечные фотографии Успенского собора, и в виде брелков подарил их на память каждому участвовавшему в раскрытии этого дела, причем и следователь К. не был мною забыт.
Вскоре ко мне явилась делегация от церковных властей и поднесла благословенную митрополитом Владимиром копию иконы Владимирской Божьей Матери, в кованой, серебряной ризе, с соответствующей надписью. Эта икона была передана мною моему сыну-стрелку и погибла в Царском Селе при разгроме большевиками его квартиры.
На суде, приговорившем Семина к восьми годам каторжных работ, защитник его пел долгие дифирамбы по адресу Московской сыскной полиции, указывая на вздорность слухов о жестоком якобы обращении в ней с преступниками, ставя ее на один уровень с европейскими полициями (чем я, впрочем, был не особенно польщен).
Сам подсудимый в последнем слове, ему предоставленном, кратко заявил:
– Одно могу сказать, господа правосудие, что ежели бы не господин Кошкин, то не видать бы вам бруллиантов!..
И эти слова были для меня, конечно, лучшей наградой.
Убийство в Ипатьевском переулке
В дни нашумевшего дела о краже в Успенском соборе в Москве произошло другое событие, глубоко взволновавшее население Первопрестольной.
Сыскная полиция была извещена об убийстве девяти человек в Ипатьевском переулке.
Переулок этот представляет собой узкий, вымощенный крупным булыжником проезд, с лепящимися друг к другу домами и домишками, и ничем особым не отличается.
В одном из полуразрушившихся от ветхости домов, давно предназначенном на слом, в единственной относительно уцелевшей в нем квартире ютилась рабочая семья, состоящая из девяти человек. Четыре взрослых приказчика и пять мальчиков составляли эту семейную артель. Все они были родом из одной деревни Рязанской губернии и работали в Москве все сообща на мануфактурной фабрике.
Злодейство было обнаружено после того, как жертвы не явились на работу. Встревоженная администрация предприятия в то же утро послала одного из своих служащих справиться о причине этой массовой неявки, и последний, войдя в злополучную квартиру, был потрясен видом крови, просочившейся из-под дверей ее комнат и застывшей бурыми змейками в прихожей. На его зов никто не откликнулся. В доме царила могильная тишина. Администрация нас тотчас же известила, и я лично немедленно направился в Ипатьевский переулок.
Старый, облезлый дом, с побитыми окнами, с покоробленной крышей, с покосившимися дверями и покривившимися лестницами, напоминал заброшенный улей. Никто, разумеется, не охранял этой руины. Ни дворников, ни швейцара в нем, конечно, не было. Поднявшись во второй этаж, я приоткрыл дверь единственной квартиры, еще недавно населенной людьми, а ныне ставшей кладбищем. Спертый, тяжелый дух ударил мне в нос: какой-то сложный запах бойни, мертвецкой и трактира. Волна воздуха, ворвавшаяся со мной, уныло заколебала густую паутину, фестонами висящую по углам комнаты. Это была, видимо, прихожая.
Открыв правую дверь и осторожно шагая по липкому, сплошь залитому застывшей кровью полу, я увидел две убогие кроватки, составлявшие единственную обстановку этой комнаты.
На них лежало два мальчика: один – лет двенадцати, другой – лет четырнадцати на вид. Дети казались мирно спящими, и, если бы не восковая бледность их лиц да не огромные, зияющие раны на их темени, – ничто бы не говорило об отнятой у них жизни. Та же картина была в левой от прихожей комнате, с той лишь разницей, что вместо двух там спали вечным сном три мальчика, того же примерно возраста. В соседней с нею комнате, с той же раной, лежал на постели взрослый человек, очевидно, приказчик.
Из прихожей прямо вел коридор в две смежные комнаты: первую – большую, а за ней – маленькую. В большой лежало два взрослых трупа. Из маленькой до моего приезда был увезен в больницу пострадавший, подававший еще некоторые признаки жизни. Посреди задней большой комнаты стоял круглый стол, на нем – недопитые бутылки водки и пива, а рядом с ними – вырванный листок из записной книжки, и на нем ломаным почерком было нацарапано карандашом:
«Ванька и Колька, мы вас любили, мы вас и убили».
Поражало обилие крови, буквально наводнившей всю квартиру.
Не только пол был ею залит, но подтеки и следы ее виднелись повсюду: и на стенах, и на окнах, и на дверях, и на печках. Осмотр помещения привел к обнаружению в печке кучи золы, в которой оказался полуистлевший воротник от сгоревшей мужской рубашки, а из самых глубин печки была извлечена десятифунтовая штанга с отпиленным вместе с шаром концом. Этой своего рода булавой, видимо, и орудовали преступники, проламывая черепа своих жертв.
Имевшиеся в квартире сундучки – обычная принадлежность простого рабочего человека, хранящая обыкновенно его незатейливый скарб – были взломаны и говорили о грабеже.
Чувствовалось, что записка с дикой надписью не есть тот конец, ухватясь за который удастся распутать кровавый клубок. Несомненно, это была лишь наивная попытка направить розыск по ложному пути. Я говорю, – наивная, так как для чего же было убийцам оповещать уже мертвых любовников о своем авторстве?
Для чего было рисковать и оставлять чуть ли не визитные карточки?
Наконец, представлялось маловероятным, чтобы две женщины могли запросто осилить и убить девять человек.
Как я говорил уже выше, дом был необитаем, следовательно, не у кого было справиться ни о жизни, ни о привычках убитых.
Не представлялось возможным выяснить, хотя бы даже приблизительно, обстановку не только в день убийства, но и за неделю, за месяц до него.
Прежде всего я обратился в лечебницу, куда был перевезен оставшийся в живых приказчик. Но он оказался при смерти, в полном забытьи, и лишь бессвязно бредил. Я просил медицинский персонал внимательно следить за его бредом. Но результат от этого получился ничтожный и довольно странный: мне сообщили, что среди бессвязного лепета раненый часто и отчетливо повторяет слово: «Европа».
Почему Европа? Почему эта часть света так полюбилась вдруг этому несчастному, в лучшем случае только грамотному человеку? Но через неделю и он умер, а с его смертью еще больше потускнела и надежда добиться истины.
Одновременно я обратился и в мануфактурное предприятие, где навел подробные справки о покойных служащих. Там я получил хотя и туманные, но все же кой-какие указания, а именно: некоторые из товарищей скончавшегося в лечебнице приказчика мельком слышали, что покойный намеревался открыть в сообществе с каким-то земляком какое-то торговое предприятие.
Так как земляка этого никто никогда не видел, то разыскать его представлялось далеко не легким делом. Между тем земляк этот представлялся мне если не ключом к загадке, то, во всяком случае, единственным имеющимся шансом к ее растолкованию.
Следовательно, он должен был быть разыскан. Я послал агента в Рязанскую губернию, чтобы составить в волостном правлении точный список всех крестьян волости, к которой принадлежал покойный, проживавших за последний год в Москве. Их набралось до трехсот. Я разбил Москву на участки, и десятки моих агентов принялись порайонно допрашивать всех помещенных в списке рязанцев. Их подробно расспрашивали о жизни и работе в Москве, будто ненароком справляясь и об убитом земляке. Конечно, предпринятая работа могла оказаться стрельбой по воробьям из пушки, но иного способа у меня не было, и волей-неволей я остановился на этом.
Неделя прошла, не дав ничего. Как вдруг на второй неделе, при опросе рязанцев, проживавших в Марьиной роще, выяснилось, что одна из чайных этой части города была недавно продана старым владельцем (рязанским крестьянином Михаилом Лягушкиным) новому, причем чайная эта носила громкое название «Европа».
Европа – это было уже ценное указание, принимая во внимание бред умершего приказчика.
Я принялся за поиски Михаила Лягушкина. В районе Марьиной рощи его знали почти все и в один голос говорили, что, продав чайную, он уехал на родину, в деревню. Но агент, снова посланный в Рязанскую губернию, выяснил, что Лягушкин туда не появлялся.
Однако недели через две по Марьиной роще, где продолжали дежурить мои люди, пронесся слух, что Лягушкин приобрел трактир в Филях и, отремонтировав его, открыл под той же вывеской – «Европа». Это подтвердилось, и Лягушкин в Филях был немедленно арестован и привезен в сыскную полицию. Он оказался крошечным человечком с птичьей физиономией и с черными, бегающими глазками.
Конечно, вину свою он упорно отрицал. Обыск в Филях ничего не дал, но детальный осмотр его белья, платья и обуви лишь усилил мои подозрения, так как в рубце между заготовкой и подошвой сапога были обнаружены следы старой, запекшейся крови. Присутствие ее Лягушкин объяснил своими нередкими посещениями бойни. Между тем химический и микроскопический анализы показали, что кровь человеческая. Полуистлевший воротник рубашки, найденный в печке, несмотря на свой крохотный, чисто детский размер, приходился Лягушкину впору.
Наконец, сравнение почерков хитроумной записки и торговых книг трактира «Европа» подтвердило их тождество. Но, несмотря на эти улики, Лягушкин продолжал все отрицать.
Потребовав точного отчета об его местожительстве со дня убийства до дня открытия трактира в Филях, мы получили адреса трех углов, последовательно им перемененных за этот промежуток времени.
Сделав в них обыски, мы ничего не нашли. Однако в первой квартире хозяйка указала, что, до того как поселиться у нее, Лягушкин жил месяца три напротив, у сапожника, снимая там комнатку.
Сделали обыск и у сапожника.
Здесь мы обрели ценную находку.
В чуланчике, примыкавшем к комнатушке, некогда занимаемой Лягушкиным, была найдена отпиленная короткая часть штанги с шаром, которой недоставало у орудия преступника, обнаруженного в печке, на месте убийства.
Под тяжестью этой новой неопровержимой улики преступник, наконец, сознался.
Оказалось, что убитый приказчик давно уже решил купить у него чайную «Европа» в Марьиной роще и в день смерти взял пять тысяч рублей, накопленные за долгую службу, намереваясь на следующий же день свершить купчую. Вечером к нему зашел Лягушкин, не раз навещавший его за эти месяцы.
Сделку заблаговременно «вспрыснули», и Лягушкин угостил, кстати, и проживавших в той же комнате двух других приказчиков.
В этот вечер он не раз бегал в соседний трактир за «подкреплением».
Наконец, когда хозяева отяжелели от вина, он распрощался и ушел, но… через час вернулся, прошел по коридору опять в большую комнату и, подкравшись к спящим приказчикам, уложил их обоих на месте; затем в следующей комнате покончил (вернее, смертельно ранил) и покупателя. Со дна его сундука он извлек злополучные пять тысяч и намеревался скрыться, как вдруг его взяло сомнение. Я привожу дословно его дальнейшие показания:
«Нет, Мишка, – сказал я себе, – не валяй дурака, покончи и с остальными. Ведь все они мне земляки, стало быть, и по деревне молва пойдет, да и полиции расскажут, что вот, мол, такой-то вчерась водку вместях с ними пил, и будет мне крышка.
Тогда я взял свою культяпку и прошел обратно в прихожую, а из нее сначала в одну, а потом и в другие две комнаты. Жалко было пробивать детские черепочки, да что же поделаешь? Своя рубашка ближе к телу. Расходилась рука, и пошел я пощелкивать головами, что орехами, опять же вид крови распалил меня: течет она алыми, теплыми струйками по пальцам моим, и на сердце как-то щекотно и забористо стало.
Прикончив всех, я заодно перерыл сундуки, да одна дрянь оказалась.
Кстати, переодел чистую рубаху, а свою, кровавую, пожег в печке для верности; туда же и гирьку запрятал».
Жутко было слушать исповедь этого человека-зверя, с таким спокойствием излагавшего историю своего кошмарного преступления.
Суд приговорил Лягушкина к бессрочной каторге.
Мариенбургские поджоги
В самом начале девяностых годов, в бытность мою начальником Рижской сыскной полиции, лифляндский губернатор М. А. Пашков предложил мне заняться так называемым Мариенбургским делом.
Мариенбург – это большое, густо заселенное местечко Валкского уезда, принадлежавшее некоему барону Вольфу. Барон сдавал эту землю в долгосрочную аренду, и люди, снимая ее, строились, обзаводились хозяйством, плодились и умирали. Ничто не нарушало мирного своеобразного уклада жизни этого уголка, уклада, не лишенного, впрочем, некоторого феодального оттенка. Барон Вольф являлся не только собственником земли, но и обладал, по отношению людей, ее населяющих, некоторыми обломками суверенных прав. По праву так называемого патронатства от него зависел выбор местного пастора. И вот на этой-то почве разыгралось дело, о котором я хочу рассказать.
Вновь назначенный бароном пастор был не угоден населению, и последнее, не добившись от барона его увольнения, перешло в виде протеста к насилию. Начался ряд поджогов сначала хозяйственных построек, принадлежавших владельцу, затем строений, отведенных под жилье пастора, потом обширных запасов сена, хлеба и прочих сельских продуктов, получаемых пастором с довольно значительного участка, наконец, войдя во вкус, поджигатели принялись и за рядовых жителей. Пожары сопровождались кражами, иногда довольно значительными; были случаи и с человеческими жертвами. Так, при одном пожаре сгорели старуха с внуком.
Местная полиция, с ее малочисленным штатом и скромным бюджетом, была бессильна что-либо поделать. Барон Вольф жаловался в Петербург на бездействие властей, результатом чего и было предложение губернатора мобилизовать мне силы Рижской сыскной полиции вместе с широким ассигнованием средств, потребных на ведение этого дела. Одновременно со мной был привлечен к этой работе и прокурор рижского суда А. Н. Гессе.
Выслав вперед нескольких агентов, я с прокурором выехал в Мариенбург, где А. Н. Гессе, кстати, хотел ознакомиться с делопроизводством местного судебного следователя – милого, но малоопытного человека. Остановились мы в своем вагоне, а вечер провели у судебного следователя. Возвращаясь к ночи на вокзал, мы были свидетелями очередной «иллюминации». Как уверяли потом, обнаглевшие поджигатели в честь нашего приезда подожгли два огромные стога сена. На следующий день, произведя всестороннее расследование случившихся за последний месяц пожаров, мне без труда удалось установить факт поджогов. Где находили остатки порохового шнура, где обгорелый трут, а то и просто следы керосина.
Мои агенты, проводившие время по трактирам, пивным и рынку, не уловили ни малейшего намека на имена возможных виновников, услышав лишь общее подтверждение наличия именно поджогов. Вместе с тем они вынесли впечатление, что благодаря шуму, поднятому вокруг этого дела, и безрезультатным усилиям уездной полиции, продолжающимся вот уже с месяц, все местные жители крайне осторожны и сдержанны со всяким новым, незнакомым лицом. Тщетно мои два старших надзирателя уверяли всех и каждого, что они рабочие с недальнего завода, выигравшие пять тысяч рублей в германскую лотерею, запрещенную нашим правительством, но тем не менее весьма распространенную по Лифляндской губернии, и подыскивающие небольшое, но свое, торговое дело, – им плохо верили, относясь с опаской, исключающей, конечно, всякую откровенность.
Получив вещественные доказательства поджогов и малообещающие сведения о возможности поимки виновных, я в довольно кислом настроении вернулся в Ригу.
Представлялось очевидным, что лишь коренной житель Мариенбурга, пользующийся доверием своих земляков, мог бы пролить хотя бы некоторый свет на это не дававшееся в руки дело. Но, к сожалению, таким «языком» мы не располагали, и оставалось лишь одно – искусственно его создать. Конечно, такая комбинация требовала времени, что мало меня устраивало, так как поджоги все продолжались, но, за неимением другого, пришлось прибегнуть к этому затяжному способу.
Призвав к себе одного из ездивших со мной агентов, я предложил ему вновь прозондировать почву в Мариенбурге с целью определения того вида торговли, каковым они могли бы там заняться, не внушая подозрения.
По возвращении из командировки агент доложил, что лучше всего было бы открыть пивную, так как в местечке их всего две, да и по характеру торговли пивные всегда служат местом многолюдных сборищ, что опять-таки облегчает возможность получения нужных нам сведений.
Сказано – сделано!..
Снабдив моих двух агентов подложными паспортами со штемпелями и пропиской того завода, на коем, по их словам, они работали до лотерейного выигрыша, я отправил их в Мариенбург торговать пивом.
Прошло недели две, и один из агентов, приехав в Ригу, сообщает, что дела идут плохо, пивная пустует, публика, по старой памяти, идет в прежние лавки, а их обходит.
Что тут делать?
Поломав голову, я изобрел следующий аттракцион. Вспомнив, как в дни юности захаживал я иногда на Измайловском проспекте в «Bier-Halle», где к кружке пива непременно подавалась соленая сушка, я предложил и моим людям завести такой обычай. На возражение агента, что подобный расход даст убыток предприятию, я ответил согласием на убыток, и он уехал обратно в Мариенбург, увозя с собой из Риги несколько пудов соленых сушек.
Сушка оказала магическое действие, и через неделю примерно, агенты сообщали, что от публики отбою нет.
Прошло так месяца полтора, и стал приближаться Новый год.
Агенты мне пишут: «Как нам быть, господин начальник? К Новому году торговые патенты должны быть обменены, и, по установившемуся обычаю, принято, при получении нового, передавать младшему помощнику начальника уезда конверт с десятью – пятнадцатью рублями, принося ему вместе с тем новогодние поздравления».
Я ответил: «Передавайте конверт и поздравляйте».
Они так и сделали. Один из агентов отправился в нужный день к начальству и, получив новый патент и передав красненькую, поздравил его с Новым годом. Он был высокомилостиво принят начальством, и все обошлось гладко.
Между тем поджоги продолжались. Я нервничал и торопил моих «купцов».
Наконец, в начале февраля они доносят, что имеют сильное подозрение против ряда лиц, посещающих их лавку. Во главе этой дружной и вечно пьяной компании, состоящей из кузнеца и двух сыновей сторожа кирки, стоит некий Залит – местный брандмейстер, он же и фотограф. Подозрения свои агенты строят, во‐первых, на том, что все эти люди, особенно сыновья сторожа, были по общему отзыву доселе бедняками. Между тем за последние месяцы они швыряют деньгами и целыми днями торчат в пивной, выпивая бесконечное количество пива. Во-вторых, был такого рода случай: пьяный кузнец как-то проговорился и предсказал на ночь пожар, намекнув при этом и на обреченный дом. Предсказанье в точности сбылось, и дом сгорел. Агенты тут же сообщали подробные адреса этих четырех заподозренных лиц.
Получив столь серьезные сведения, я опять в обществе прокурора, милейшего А. Н. Гессе, выехал в Мариенбург, захватив с собой нескольких своих людей.
На место мы прибыли к вечеру и, дождавшись ночи, вышли из своего вагона и, разбившись на три группы, одновременно нагрянули с обысками к брандмейстеру, кузнецу и сыновьям сторожа.
Победа оказалась полной.
Как у Залита, так и его сообщников мы обнаружили значительные суммы денег, о происхождении коих они не могли дать объяснений. У каждого из них мы нашли восковые конверты с пороховым шнуром, по несколько десятков аршин трута, большие запасы керосина и т. д., и т. д.
Все они были, конечно, арестованы и препровождены в Ригу.
Я лично присутствовал на громком процессе этих поджигателей, имевшем место в Риге, причем у меня с защитником обвиняемых, известным петроградским адвокатом Г., произошел довольно странный конфликт. В качестве свидетеля я рассказал подробно и откровенно суду о пивном трюке, к каковому мне пришлось прибегнуть для уловления виновных. На обычное предложение председателя суда, обращенное сначала к прокурору, а затем и к защитнику: «Не имеете ли предложить вопросы свидетелю?» прокурор ответил отрицательно, а присяжный поверенный Г. с запальчивостью:
– О, да!.. Имею!.. – после чего, повернувшись ко мне, наглым и ироническим тоном спросил:
– Расскажите, любопытный свидетель, какими еще происками занимались вы в Мариенбурге?
Я обратился к председателю:
– Господин председатель, я покорнейше прошу вас оградить меня от выпадов этого развязного господина!
Председатель принял мою сторону и заявил Г.:
– Господин защитник! Призываю вас к порядку и прошу задавать вопросы свидетелю через меня и в более приличной форме!
Г. возразил:
– Я требую занесения слов свидетеля, обращенных ко мне, в протокол.
Я потребовал того же.
– Не имеете ли еще вопросов? – спросил председатель адвоката Г.
– Нет, не имею.
На этом инцидент был исчерпан.
Брандмейстера Залита приговорили к восьми годам каторжных работ.
Его сообщники отделались, кажется, меньшими сроками.
По окончании дела я, в присутствии моего агента, вызвал к себе помощника начальника уезда.
– Послушайте, а красненькую-то отдать нужно! Деньги ведь казенные.
Он, в сильном смущении, ответил:
– Слушаю-с, господин начальник! – и торопливо полез в бумажник.
Вспотевший, красный как рак, он долго упрашивал меня не докладывать губернатору об его зазорном поступке, и я, на радостях, каюсь: махнул на него рукой.
Дактилоскопия
В борьбе с преступным миром дактилоскопия не раз оказывала мне существенные услуги. В этом отношении мне особенно врезался в память следующий случай.
Но прежде чем рассказать о нем, я принужден сделать маленькое отступление и, хотя бы в самых кратких и общих чертах, напомнить читателю, что такое дактилоскопия. Дело в том, что нет в мире двух людей, у коих рисунок кожи на пальцах был бы одинаков. Разница либо в спиралях кожи, либо в узелках, либо в морщинках, – но всегда и непременно имеется. Эта особенность кожи чрезвычайно прочна. Так никакие ожоги и ранения кожных покровов не в силах видоизменить первоначального рисунка. Пройдет ожог, затянется поранение, и снова на молодой, вновь народившейся коже проступит тот же рисунок, что был ей свойственен с момента появления данного человека на Божий свет. На этом причудливом свойстве природы, известном, впрочем, еще в глубокой древности, основаны ныне и дактилоскопические системы. Способ относительно быстрого нахождения в многочисленных, прежде снятых отпечатках снимка, тождественного с только что снятым, был разработан и применен мною впервые в Москве. Он, очевидно, оказался удачным, так как был вскоре же принят и в Англии, где и поныне английская полиция продолжает им пользоваться.
Итак, в 1910 году меня как-то известили по телефону, что в только что прибывшем ростовском поезде, в купе первого класса, обнаружен труп мужчины, лет сорока пяти, убитого ударом кинжала в грудь.
В сопровождении судебного следователя Ч. и полицейского врача М. я немедленно отправился на Курский вокзал. Вагон с убитым оказался отцепленным и стоящим на одном из запасных путей.
Отодвинув дверцу купе, нам представилась следующая картина: на нижнем диване, головой к окну, лежал на спине человек лет сорока пяти на вид, одетый в пиджак, без воротника (последний тут же виднелся в сеточке на стенке); правая рука у трупа свесилась и пальцами касалась пола. С левой стороны груди у убитого торчала белая ручка слоновой кости глубоко воткнутого в тело кинжала.
Лицо трупа было покойно, он походил на мирно спящего человека, из чего возникло предположение, что смерть последовала мгновенно и, надо думать, во сне. Во всяком случае, ни малейших следов борьбы не имелось. Все в купе было в порядке: два запертых чемоданчика лежало на верхней сетке, на столе виднелась раскрытая коробка тульских пряников, что как будто бы давало основание думать, что убийство, вероятно, совершено между Тулой и Москвой.
При обыске трупа мы обнаружили в боковом кармане пиджака совершенно новенький бумажник с двумястами семьюдесятью пятью рублями, с монограммой «К». В левом кармане брюк находился хотя и смятый, но не бывший в употреблении носовой платок, с большой, красной меткой (тоже «К») и в правом – серебряный, гладкий портсигар, с большой золотой монограммой, все с тем же «К» и двумя золотыми украшениями: фигурки обнаженной женщины и кошечки с крохотными изумрудами вместо глаз. Этот портсигар сразу обратил на себя мое внимание, и я бережно, не касаясь гладкой поверхности и держа его осторожно пальцами за ребра, принялся его осматривать.
Мне бросились в глаза два небольших кровяных пятнышка и следы захватов от пальцев. Я тотчас же осмотрел руки убитого, но они оказались чистыми, без малейших следов крови. Невольно напрашивалась мысль, что портсигар этот подсунут убитому убийцей уже после совершения преступления. Ввиду целости вещей: часов (они оказались на убитом), бумажника с двумястами семьюдесятью пятью рублями и прочим, похоже было, что преступление совершено не с целью грабежа.
Никаких документов, устанавливающих личность, на покойном не оказалось. Из расспросов проводника вагона, заступившего в Орле, мы узнали, что он видел покойного в последний раз в Туле, возвращавшимся в вагон с коробкой пряников в руках. Убийство было обнаружено лишь по прибытии поезда в Москву при обычном обходе вагонов жандармским унтер-офицером. Я велел перенести труп в приемный покой при Курском вокзале и, забрав с собой копию протокола осмотра и отобранные вещи, вернулся на службу к себе. Особенно бережно я вез портсигар.
Приехав в сыскную полицию, я тотчас же вызвал чиновника, специалиста по дактилоскопии, и предложил ему расшифровать следы пальцев на портсигаре убитого. Насыпав осторожно специального, особо тонкого и сухого порошку на захватанную поверхность, он осторожно его сдунул, в результате чего тонкий слои порошка остался прилипшим лишь к слегка жирной поверхности металла, не оставив следа на тех местах, где обрисовывались спиральные завитки кожи. Получилось черное поле, как бы изрытое спиралеобразными траншеями. Рисунок этот был немедленно сфотографирован и подведен под соответствующую формулу, после чего мы приобщили его к группе карточек надлежащих регистров.
Он оказался новым, то есть в коллекции нашей подобного не имелось; из этого следовало, что убийца – не профессионал, не рецидивист.
Дело это не захватило меня, так как вначале представлялось мне довольно банальным. Раз нет следов наличия грабежа, стало быть, месть на какой-либо почве руководила рукой преступника.
Стоит, думалось мне, установить личность убитого, и без особого труда картина преступления раскроется. Смущал меня несколько портсигар, как будто подсунутый убийцей; но подобного рода трюки с целью сбить розыск с правильного пути встречались уже не раз в моей практике.
Во всех московских газетах я сделал сообщение о найденном трупе в ростовском поезде, его приметах и об оказавшемся при нем портсигаре с монограммой «К», фигурой женщины и кошки с изумрудными глазами. Я был уверен, что завтра же явятся ко мне родные или друзья убитого за справками. И, в самом деле, на следующий же день, часов в двенадцать мне доложили о какой-то даме, желающей меня видеть по этому делу.
– Проси, – сказал я курьеру.
В мой кабинет вошла молодая еще дама с взволнованным лицом и заплаканными глазами.
– Я пришла к вам, прочтя в газетах о найденном трупе. Увы! Думается мне, моего несчастного мужа! – и дама разрыдалась.
Я успокаивал ее как мог.
– Почему же, сударыня, вы думаете, что убитый именно ваш муж?
– Видите ли, с неделю тому назад муж выехал в Ростов по делам и должен был именно вчера вернуться. Он не приехал и не известил меня о причине задержки, что вовсе на него не похоже; затем приметы схожи, а главное, – этот портсигар. Относительно портсигара я не знаю, что и думать. По описанию – это точно портсигар мужа, но, с другой стороны, за неделю до своего отъезда муж его потерял и был этим весьма опечален, так как дорожил этой памятью, моим подарком. Каким образом он снова очутился в его кармане – я себе не представляю. Но, во всяком случае, я крайне, крайне встревожена.
Я достал из ящика злополучный портсигар и протянул его ей.
Едва увидя его, дама вскрикнула:
– Он, он! Это портсигар Мити! Я даже знаю, что внутри на вызолоченной поверхности в уголке нацарапано мое имя «Вера».
Действительно, указание было точно и сомнений не оставалось.
– Скажите, сударыня, не украл ли кто-либо этот портсигар у вашего мужа с неделю назад? Не имели ли вы на кого-нибудь подозрений?
– Нет, муж тогда определенно заявил, что потерял его где-либо на улице, положив в прорванный карман пальто.
– Между тем, вы видите: он не потерян.
– Не знаю просто, что и думать! Вы разрешите мне отправиться и осмотреть покойника?
– Конечно, сударыня! Я дам вам в сопровождение одного из агентов, поезжайте немедленно!
Мы расстались. «Бедная женщина! – думалось мне. – Вряд ли минует тебя горькая чаша вдовства!» Но каково было мое удивление, когда часа через полтора она вошла вновь в мой служебный кабинет, но сияющая, счастливая и довольная!
– Представьте, какое счастье! Убитый – вовсе не мой муж! О, Господи, Ты милосерден ко мне! Я теперь ожила, словно возродилась. Я счастлива, господин начальник, как давно не была!
– Ну поздравляю! Очень, очень рад за вас! Но прошу все же немедленно прислать ко мне вашего супруга, как только он вернется из Ростова.
– Конечно, я непременно его пришлю.
– До свидания, сударыня. Что касается портсигара, то пока мне необходимо оставить его, но по ликвидации дела я, надеюсь, смогу вам его вернуть.
На этом мы, распрощавшись, расстались.
К вечеру в этот же день явился ко мне некто Штриндман, совладелец ювелирного магазина близ Кузнецкого моста, и заявил о своей тревоге. Его компаньон, Озолин, должен был, согласно телеграмме, вернуться вчера из Ростова, куда он ездил для покупки у одной знакомой дамы бриллиантового колье. Это колье хорошо было знакомо обоим совладельцам магазина, так как еще в прошлом году поднимался вопрос об его приобретении, но тогда не сошлись в цене. Ныне же владелица его снова предложила купить, и, списавшись с нею, Озолин выехал лично в Ростов для совершения сделки. Хотя Штриндман и прочел в газетах о том, что на вещах трупа имелась монограмма «К», но тем не менее просил меня разрешить ему взглянуть на мертвое тело. Я, конечно, разрешил, и… убитый оказался именно Озолиным.
Итак, дело неожиданно получало новое освещение. Не месть, а корысть руководила преступником. У меня еще при осмотре трупа на месте мелькнуло предположение, что портсигар убийцей подсунут для отвода глаз; теперь же предположение это перешло в уверенность и, более того: по всей вероятности, новенький бумажник с двумястами семьюдесятью пятью рублями и носовой платок положены для той же цели.
– Скажите, – спросил я Штриндмана, – в какую сумму оцениваете вы колье?
– Мы заплатили за него пятьдесят восемь тысяч.
– Кроме вас, знал ли еще кто-нибудь о цели поездки убитого?
– Никто, кроме нашего приказчика Ааронова.
– Он не мог совершить этого убийства?
– О нет, господин начальник! Яшу мы знаем давно, он и вырос у нас, он честный мальчик. Да, кроме того, все это время он безотлучно находился при работе, а посему самому, хотя бы, не мог совершить это преступление.
– Скажите, не подозреваете ли вы кого-нибудь вообще?
– Решительно никого! Я просто ума не приложу ко всему этому!
Подумав, я сказал:
– Видите ли, для пользы дела я не должен пренебрегать ничем, а поэтому, вы меня извините, для очистки совести прошу и вас приложить палец.
– То есть это как же приложить палец?
– А вот, сейчас.
Я позвал чиновника, и тот проделал дактилоскопическую операцию над Штриндманом. Полученный отпечаток нам ничего не дал.
– Не видали ли вы у покойного этот портсигар? – и я ему его протянул.
Он внимательно оглядел вещь и отрицательно покачал головой:
– Нет, никогда! Впрочем, покойный и не курил.
– Отлично! Я дам вам агента, который отправится с вами в ваш магазин и приведет мне вашего Ааронова.
Часа через два я допрашивал Ааронова, оказавшегося евреем, лет двадцати, весьма скромным и сильно напуганным. Он ничего нового не сообщил мне, сказав, что знает о цели поездки Озолина в Ростов.
На мой вопрос, не говорил ли он о ней кому-либо, Ааронов отвечал отрицательно. Снятый отпечаток и с его пальцев не соответствовал отпечатку пальцев на портсигаре. Я отпустил его.
Дело не разъяснялось, а главное, – не виделось конца, за который можно было бы ухватиться для ведения дальнейшего розыска с некоторым вероятием на успех.
Все ювелиры, московские и петроградские, все известные нам скупщики драгоценностей были, конечно, оповещены об украденном колье, которое было подробно им описано, согласно данным Штриндмана; но я не придавал этому обстоятельству большого значения, так как, во‐первых, убийца и похититель мог вынуть камни из гнезд и продавать их поштучно, а во‐вторых, и что вернее, мог до поры до времени воздержаться вовсе от ликвидации похищенного или сплавить его в знакомые, ничем не брезгающие руки.
Таким образом, прошло безрезультатно дня три-четыре. За это время успел вернуться и побывать у меня «пропавший» было супруг счастливой Веры. Но его показания не внесли ничего нового, а снимок с пальцев подтвердил лишь, конечно, его невиновность.
Я не раз замечал в своей розыскной практике, что не следует пренебрегать способами уловления преступников даже в тех случаях, когда способы эти имеют за собой самые ничтожные шансы на успех. Часто бывало, что самые невероятные комбинации приносили неожиданно пользу. В данном темном случае выбора у меня не было, и я прибег к маловероятной, но сыгравшей, как оказалось впоследствии, капитальную роль уловке. Во всех московских газетах я поместил объявление на видном месте следующего содержания:
«1000 рублей тому, кто вернет или укажет точно местонахождение утерянного мною серебряного портсигара с золотой монограммой «К» и золотыми украшениями: обнаженной женщины и кошки с изумрудными глазами. При указании требуются для достоверности точнейшее описание вещи и тайных примет. Вещь крайне дорога как память. Николо-Песковский переулок, дом № 4, кв. 2, спросить артистку Веру Александровну Незнамову».
Само собой понятно, что как артистка Незнамова, так и вечно находящийся при ней концертмейстер, проходящий с ней репертуар, равно как и обтрепанный довольно лакей, – были моими агентами; квартира же на Николо-Песковском принадлежала одному из моих служащих.
Конечно, я не рассчитывал, что на подобную грубую удочку попадется сам убийца, но мне думалось, не соблазнит ли тысяча рублей кого-либо из второстепенных соучастников, если таковые имеются.
На второй же день после этого объявления вбегает ко мне моя агентша и радостно докладывает:
– Мы привезли, кажется, убийцу!
– Ну, ну! Уж и убийцу?! Не горячитесь, не увлекайтесь, рассказывайте, как было дело!
– Так вот, господин начальник, сидим мы в квартире и ждем у моря погоды. Чуть послышится шум на лестнице – я сейчас же кидаюсь к роялю неистово вопить гаммы, а концертмейстер мой мне подтягивает.
В этакой тоске и прошел весь вчерашний день. Сегодня с утра начали с того же. И вот с час тому назад вдруг кто-то позвонил. Силантьев, взяв салфетку под мышку, пошел открывать дверь, а мы с Ивановым затянули не то «Да исправится молитва моя», не то «Не искушай меня без нужды». К нам в комнату вошел молодой человек, лет восемнадцати, еврейского типа и вопросительно на меня уставился. Я, обратясь к Иванову, томно промолвила:
– Вы извините меня, маэстро.
– Пожалуйста, пожалуйста! – сказал он и вышел из комнаты.
Тогда я обратилась к пришедшему:
– Что вам угодно, мосье?
– Скажите, пожалуйста, вы госпожа Незнамова?
– Да.
– Вы дали в газетах объявление о портсигаре?
– Да, я. А что, вы принесли его? – сказала я, симулируя радость.
– Положим, я не принес его, но могу вам указать точно его местонахождение.
Я разочарованно надула губки:
– Да, это прекрасно, конечно! Но, но… почему я должна буду вам верить.
– Уй, да потому, что я точнейшим образом вам опишу его и вы увидите, что я, несомненно, говорю о вашем дорогом сувенире.
И он самым подробным образом описал мне портсигар, не забыв, конечно, упомянуть о нацарапанном имени «Вера» на внутренней стороне крышки.
– Да, несомненно, вы говорите о моем портсигаре. Где же он находится?
– Уф, нет, мадаменьке, разве можно?! Сначала деньги.
– Маэстро! – крикнула я.
И мой концертмейстер и лакей вошли немедленно в комнату с браунингами в руках. Я, указав пальцем на перепуганного еврея, сказала:
– Берите его, господа!..
Его забрали, надели наручники да и привезли сюда. Назвался он Семеном Шмулевичем, православным, учеником часовых дел мастера Федорова, лавочка коего на Воздвиженке.
– Благодарю вас за хорошо исполненное поручение. А теперь пришлите-ка ко мне этого Шмулевича.
В кабинет вошел трясущийся от страха юноша и растерянно остановился среди комнаты.
– Ну что, Семен, влип, брат, в грязную историю?!
Шмулевич подпрыгнул, как на пружинах, и быстро-быстро затараторил:
– Уй, господин начальник, ваше высокопревосходительство, ради бога, отпустите меня, я не виноват вот нистолечки. Я смирный, бедный еврей (православный), никому горя не делаю. Ну, конечно, хотел сделать маленький гешефт (и Шмулевич прищурил глаз и, округлив пальчики, изобразил величину гешефта). Но что же здесь такого? Мадам в газете обещала тысячу рублей. Я и хотел честно заработать.
– Все это прекрасно, но портсигар, который ты почему-то так точно описываешь, был найден на убитом человеке. Откуда же ты знал даже о нацарапанном имени «Вера» на внутренней стороне крышки? Выходит, что ты, пожалуй, и убил этого человека?
Шмулевич, подпрыгнув, как ужаленный, истерично завизжал:
– И не говорите мне даже этого, господин граф! Да разве я могу?! Что вы, что вы! Убить человека?! Фуй, фэ! Семен в Бога верит и на это не способен. Я расскажу все, все как было, не совру ни капельки!
– Ну, рассказывай.
Шмулевич, захлебываясь от поспешности, с невероятной жестикуляцией принялся говорить:
– Прочел я как-то утречком, господин начальник, в газете об убитом в ростовском поезде, и когда дочитал до портсигара, то сразу почувствовал от страха боль в животе. Как раз такой портсигар, за неделю до этого, был куплен моим хозяином за двадцать четыре рубля у какого-то зашедшего к нам в лавку солдата. Портсигар этот мне очень понравился, и я долго его рассматривал. Через пару дней он исчез, хозяин его куда-то отнес. Как вдруг вчера я прочитал объявление дамочки и сразу подумал: «Не зевай, Семен, можешь хорошо заработать. А деньги немалые – тысяча рублей!» Уй, у меня даже голова закружилась. «Конечно, портсигар найден на убитом человеке, но я же в этом не виноват! Я честно укажу дамочке, что он находится в полиции, а она мне заплатит тысячу целковых». Вот и все. Я честный еврей, господин начальник!
Рассказ походил на правду. Однако я приказал снять отпечаток и с пальцев Шмулевича, и хотя он ничего не дал, я счел нужным временно задержать еврея.
Два агента были немедленно командированы за часовщиком Федоровым, и через час он предстал передо мной. Это был рослый малый, типичного русского вида, с широким, довольно симпатичным лицом, но несколько неприятным выражением бегающих глаз.
Держал он себя довольно спокойно и рассказал, что, действительно, означенный портсигар купил у какого-то солдата неделю с лишним тому назад, а через день его продал случайному, ему неизвестному покупателю. Большего выудить от него не удалось, и, собираясь его отпустить, я, для очистки совести, велел сделать дактилоскопический снимок и с его пальцев. Угрюмо сидел я у себя в кабинете, измышляя какой-либо новый подход к недававшемуся мне в руки делу, как вдруг входит чиновник с двумя снимками (убийцы и Федорова) и взволнованно сообщает об их тожестве. Я внимательно разглядел оба отпечатка. Сомнений не было: убийца Озолина был найден.
Новый двухчасовой допрос Федорова с уговариванием и доказательствами не заставили его признаться и указать местонахождение похищенного. Очевидно, он плохо верит в дактилоскопический метод и не понимает тяжести этой неопровержимой улики.
Я снова вызвал Шмулевича.
– Вот что, Семен, хозяин твой оказался убийцей, и дело его кончено. От каторги ему не отвертеться. В этом деле он может запутать и тебя, так как портсигар-то ты видел и тысячу рублей ходил получать и так далее. Для тебя лучше всего ничего не скрывать и отвечать чистосердечно на мои вопросы, иначе, повторяю, упечет он и тебя в тюрьму.
– Спрашивайте, спрашивайте, господин начальник, я ничего скрывать не стану. И зачем мне скрывать? Я не виноват, а укрывать убийцу Семен не станет. Я готов на все, на все, господин начальник!
– Отлично! Скажи, пожалуйста, ты давно служишь у Федорова?
– Четвертый год, господин начальник.
– С кем Федоров вел знакомство, бывал?
– Жил он очень небогато, дела шли плохо, никто у него из приятелей не бывал, и он никуда не ходил, разве только к маменьке.
– Где же живет его маменька?
– В слободе, за Драгомиловской заставой.
– И часто он ходил к ней?
– Не очень чтобы, так, разок в неделю.
– А ты почем знаешь? Разве он сообщал тебе, куда ходит?
– Да, хозяин и говорил часто, да и не раз брал меня с собой к ней.
– Скажи, за эти две недели хозяин никуда надолго не отлучался из лавки?
Шмулевич как-то замялся, а потом решительно:
– Нет, господин начальник, отлучался и даже очень отлучался.
– Когда же именно? – спросил я живо.
– Да вот дней шесть или семь тому назад.
– Куда чаще ходил, кто у него? Постарайся точно припомнить день.
Шмулевич закатил глаза, потер лоб и, припомнив, сказал:
– Да, да! Это было в тот вторник (день нахождения трупа).
В понедельник, после закрытия лавки, он ушел, а вернулся во вторник, часам к трем дня. Отдохнув часика четыре, он к вечеру опять ушел и к ночи вернулся.
– Куда же это он исчезал?
– Первый раз, – сказать не могу, ну, а во второй, наверное, был у маменьки.
– Почему ты так думаешь?
– Потому, что за заставой грязь непролазная и хозяин возвращается оттуда, всегда ругаясь, весь выпачканный. Так было и во вторник к ночи.
– Вот что, Семен: хозяин твой уйдет на каторгу, лавка его закроется, и ты останешься без работы, если вообще не будешь привлечен по этому делу. Предлагаю тебе следующее: ты получишь от меня сто рублей награды, и если исполнишь в точности мое поручение, то я пристрою тебя в другой часовой магазин. Но, разумеется, ты должен для этого нам помочь.
– Отчего же не заработать сто рублей?
– То-то и оно! Твой хозяин, убив человека, похитил у него бриллиантовое колье и, по всему видно, припрятал его у маменьки, за Драгомиловской заставой. Нам нужно его разыскать. Я, конечно, прикажу произвести обыск в лавке, но почти наверное его там нет.
– Конечно, нет! Бриллианты непременно у маменьки, – с убеждением сказал Шмулевич.
– Производить обыска теперь у маменьки я не хочу, так как при доме, в слободе, наверное, имеется и двор, и огород, а стало быть, маменька с сыном могли камни где-нибудь и зарыть, а ведь всей усадьбы не перероешь!..
– Это так, господин начальник.
– Так вот-с, я придумал следующее: ведь тебя-то они знают хорошо.
– Еще бы, чуть ли не за родного считают!
– Прекрасно! Ты сегодня же, к вечеру, прибежишь к ней, запыхавшись, и, передав узелочек с фальшивыми драгоценностями, шепнешь ей испуганно: «Хозяин велел мне передать этот узелок с вещами и приказали вам спрятать его скорее туда же, где во вторник он спрятал бриллианты. За ним следит полиция, и он не хотел прийти сам, а прислал меня». После чего ты сунешь ей узелок и без оглядки пустишься бежать обратно сюда. Сумеешь ли ты выполнить все это?
– Ну и почему же нет? Все выполню, господин начальник.
Посланные мною агенты через час примерно раздобыли по лавкам десятка два «драгоценностей», в виде серег, колец с цветными, фальшивыми камнями, толстых цепочек нового золота и так далее.
Шмулевич завязал их в свой грязный носовой платок и помчался за Драгомиловскую заставу в сопровождении (на приличном расстоянии) моего дельного и опытного агента Муратова. Я занялся делами и не заметил, как прошло время. Часам к 9 вечера явился сияющий Шмулевич и сообщил:
– Уф, господин начальник! Все исполнил, как было велено.
– Расскажи подробнее.
– Да что рассказывать? Маменька ихняя переполошилась, заахала и обещала в точности все исполнить, как велел сын; поспешно спрятала мой узелок к себе в карман, а я побежал назад.
– Ну молодец, Семен! Получай обещанное! – и я протянул сияющему Шмулевичу сторублевку.
Утром в кабинет мой явился Муратов и торжественно выложил на письменный стол нитку крупных бриллиантов, с красивым, старинной работы, фермуаром.
– Ну, Муратов, как было дело?
– Все обошлось чрезвычайно просто, господин начальник. Чуть только Шмулевич вышел от маменьки и удалился, как я тотчас же занял наблюдательную позицию, спрятавшись за плетнем, окружающим двор и домишко. Сидеть пришлось довольно долго, и я стал уже подумывать, что вещи будут спрятаны где-либо в доме. Как вдруг в одиннадцатом часу маменька вышла на крыльцо, оглядываясь кругом, а затем направилась через двор в сарайчик, взяла там лопату и поплелась в самый конец двора, к колодцу. Ночь нынче лунная, и я видел все, как днем. За колодцем она принялась рыть, вырыла вскоре жестяную коробку из-под печенья, вложила в нее узелочек Шмулевича и снова все закопала на прежнем месте, сравняла землю, набросила всякого хлама и, поставив лопату обратно в сарайчик, вернулась домой. Рано утром, чуть стало светать, я явился к маменьке с понятыми и потребовал от нее выдачи колье.
Та упорно стояла на своем: «знать – не знаю, ведать – не ведаю».
Тогда мы отправились к колодцу и по моему указанию вырыли спрятанное и составили обо всем протокол. Маменька притворилась крайне удивленной и продолжала упорно запираться.
– Вы прекрасно исполнили поручение, Муратов. Благодарю вас очень!
Мой агент поклонился.
Я приказал привести арестованного Федорова.
– Вот что, милый друг, – сказал я строго, – если ты вздумаешь и теперь еще запираться и не расскажешь, как было дело, то не только тебя, но и мамашу твою, зарывшую за Драгомиловской заставой, на дворе у колодца вот эти бриллианты (и указал ему на камни, тут же разложенные), я упеку в Сибирь. Рассказывай лучше все по-совести. Впрочем, можешь и не рассказывать, как знаешь, это дело твое, – и я, лениво зевнув, поглядел на часы. – Ну, так как же? – спросил я, сделав паузу.
Федоров попыхтел, подумал, переступил несколько раз с ноги на ногу и, наконец, решительно тряхнув головой, быстро заговорил:
– Что же, раз уже камни у вас, то, стало быть, шабаш!.. Пропащее дело.
– Рассказывай, как убивал и кто помогал?
– Никто не помогал, сам все проделал. Думал выйти в люди, да вот сорвалось! Мое часовое дело не шло, едва-едва концы с концами сводил, жил бедно, а хотелось зажить по-людски, ну вот дьявол и попутал. Встретил я на Тверском бульваре знакомого своего Ааронова, он в мастерах служит у ювелиров Штриндмана и Озолина, что у Кузнецкого моста. Разговорились. И стал мне Ааронов хвастаться, что во, мол, у его хозяев какое большое дело, чуть ли не миллионное. Я ему сказал, что «врешь ты все, лавчонка как лавчонка – одна ерунда». А он мне: «Вот так ерунда, когда наш Озолин прислал телеграмму, что приезжает завтра из Ростова и везет покупку! А знаешь ли, покупка-то какая? Бриллиантовое ожерелье в пятьдесят восемь тысяч! Вот тебе и лавчонка!» И запал мне в душу этот разговор. Вот ведь случай разбогатеть, лишь бы обмозговать все да обделать чисто дело. Я тут же, на бульваре, стал обдумывать план. Если не брать у Озолина ничего из ценных вещей, кроме ожерелья, то не подумают, что тут грабеж, а чтобы не узнали убитого, я собью полицию с толку, подложив убитому фальшивые метки. Я выбрал букву «К», так как под рукой у меня имелся только что купленный серебряный портсигар с таким вензелем, белый платок с этой меткой, да я тут же купил бумажник с той же монограммой. Бумажник мне нужен был, кстати, и для обмена с убитым, так как у последнего могли быть при себе и большие деньги; оставить же его совсем без бумажника невозможно – уж больно будет походить на убийство с целью грабежа. Помню, что я спросил еще Ааронова, будто невзначай, как это, мол, Озолин не боится возить при себе такие ценности. А он ответил: «Чего же бояться? Озолин возьмет в ростовском поезде маленькое купе и будет ехать в нем один, кто же может украсть у него вещи?»
В эту же ночь я выехал в Тулу, где порешил дождаться ростовского поезда на Москву. Озолина я хорошо знал в лицо. Он действительно ехал в этом поезде и в Туле, выйдя из вагона первого класса, купил в буфете коробку пряников, погулял по платформе и сел обратно к себе. Я устроился в том же вагоне. Купе Озолина было третье. Отъехав от Тулы верст пятьдесят, я улучил время и, подойдя к озолинскому купе, запасенным железнодорожным ключом тихонько повернул замок и приотодвинул дверь. Озолин лежал на спине, крепко спал и похрапывал. Я тихонько вошел и страшным ударом кинжала в сердце уложил его на месте. Он не вскрикнул, не пошевелился даже. После этого я быстро задвинул дверь, запер ее на ключ и принялся искать ожерелье. Оно оказалось во внутреннем жилетном кармане. Выхватив его бумажник, я подложил ему свой, заранее подготовленный, с двумястами семьюдесятью пятью рублями. В один карман брюк сунул платок, а в другой – портсигар и, выйдя в коридорчик, снова закрыл его дверь на ключ и быстро прошел в уборную. В его бумажнике оказалось немного, – только четыреста с чем-то рублей. Я переложил их в карман, а бумажник спустил в клозет.
После чего я старательно помылся и прошел к себе в купе. На станции «Москва-II» я вышел из поезда и поплелся домой пешком. Что было дальше – не знаю. Рассказал вам всю чистую правду.
Суд приговорил Федорова к восьми годам каторжных работ за предумышленное убийство.
Желая исполнить свое обещание, я намеревался было пристроить «православного» Семена в какой-либо часовой магазин, но Шмулевич, неожиданно войдя во вкус розыскного дела, упросил меня оставить его при сыскной полиции. Впоследствии из него выработался хотя и небольшой, но довольно толковый агентик, специализировавшийся по розыску пропавших собак и кошек.
Начальник Охранного Отделения
Мой надзиратель сокольнического участка Швабо мне как-то докладывает:
– Сегодня, господин начальник, я получил в Сокольниках довольно странные сведения. Зашел это я в трактир «Вену» поболтать с хозяином, что я делаю часто, так как трактирщик поговорить любит и нередко снабжает меня сведениями. Как раз сегодня он рассказал мне любопытную историю. К нему в трактир частенько захаживает некий Иван Прохоров Бородин, человек лет пятидесяти, местный богатей, владелец кирпичного завода. Иван Прохоров пользуется в Сокольниках большим весом. Знакомством с ним трактирщик дорожит и, видимо, гордится. Так вот, с этим Иваном Прохоровым третьего дня приключилось неприятное и странное происшествие. Сидел он в «Вене» и мирно пил с трактирщиком чай. Вдруг подъезжает автомобиль, из которого вылезает жандармский офицер с двумя нижними чинами и каким-то штатским.
Войдя в трактир, они без всяких объяснений арестовывают Бородина и увозят его неизвестно куда. Однако через сутки, то есть вчера, Бородин в сильно подавленном настроении опять появился в «Вене» и по секрету рассказал трактирщику, что его жандармы отвезли в охранное отделение, обыскали, припугнули высылкой из Москвы, отобрали находившийся при нем пятитысячный билет ренты и выпустили до завтра, под условием доставления в управление еще пять тысяч рублей; в противном случае – арест и высылка в Нарымский край неминуемы. Иван Прохоров очень напуган и собирается завтра внести требуемые пять тысяч, лишь бы уцелеть. Такой испуг и покорность трактирщик объясняет тем, что прошлое Ивана Прохорова, согласно молве, не совсем чисто. Как уверяют, богатство его пошло от «гуслицких денег».
Выражение «гуслицкие деньги» давно стало нарицательным. Дело в том, что лет двадцать пять – тридцать тому назад нашумело на всю Россию дело шайки фальшивомонетчиков, занимавшихся выделкой фальшивых кредитных билетов в селе Гуслицы Московского уезда.
Я приказал Швабо сейчас же отправиться к Бородину и в самой мягкой форме пригласить его для переговоров к начальнику сыскной полиции.
Как выполнил мое поручение Швабо, мне точно не известно; но, надо думать, – не очень дипломатично. Сужу я об этом по словам Швабо, который, привезя часа через три Бородина в сыскную полицию, зашел доложить о выполнении поручения.
– Сообщив Бородину о вашем, господин начальник, предложении немедленно явиться, я поверг его в ужас.
– Господи! – воскликнул он. – Да что же это такое? Вчера начальник охранного отделения, сегодня начальник сыскной полиции! Да ведь этак никаких денег не хватит!..
Но, видимо, спохватившись, он быстро оделся и, не сказав ни слова больше, приехал со мной.
– Позовите, пожалуйста, его!
Ко мне вошел высокий, плотный человек, с красивым, умным и симпатичным лицом, с седоватой бородой и висками. На лице его я прочел какую-то окаменелость, отражавшую не то горе, не то старательно скрываемую тревогу.
– Садитесь, пожалуйста! – сказал я возможно приветливее.
– Благодарим покорно! – и он, не торопясь, сел.
– Расскажите, пожалуйста, что за странная история произошла с вами? Почему отобрали у вас пять тысяч, да и намереваются отобрать еще столько же?
– Какие пять тысяч? – спросил Бородин, делая изумленное лицо. – Я даже в толк не возьму, про что это вы изволите говорить! Никаких пяти тысяч у меня не брали, да и вообще я ни на что не жалуюсь и всем премного доволен.
– Да полно, Иван Прохорович, говорить-то зря! Я вызвал вас для вашей же пользы. Ясно, что вы налетели на мошенников, они чем-то запугали вас – вы и отпираетесь от всего. Если бы вас в «Вене» арестовали настоящие жандармы, то так скоро не выпустили бы, да и денег не потребовали бы. Раскиньте-ка умом хорошенько и расскажите откровенно и подробно, как было дело. Я же добра вам желаю!
Пока я говорил все это, лицо моего собеседника из бледно-желтого постепенно превратилось в багрово-малиновое и пот мелкими каплями выступил у него на лбу. Он стал дышать тяжело и, хрустнув вдруг пальцами, взволнованно и торопливо заговорил:
– Ваша правда, господин начальник! Что я буду в самом деле скрывать? Мне и самому показалось, что тут дело не совсем чисто. Ежели можете – защитите; но Христом Богом молю – не выдавайте, а я все, все по совести расскажу. Вчерашний день меня арестовали в «Вене» какой-то жандармский офицер с двумя солдатами и одним вольным человеком. Посадили в машину и отвезли в Скатертный переулок, как сказали мне, в охранное отделение.
Номера дома не помню, но на вид признаю. Поднялись мы на третий этаж. Там меня сейчас же обыскали и отобрали бумажник; в нем была пятитысячная рента, на триста рублей денег. Бумажник с деньгами обвязали шнурками и запечатали печатями. Затем посадили меня в прихожую и говорят: «Подождите здесь! Начальник сейчас занят». Сижу я так полчаса, сижу час. Мимо меня провели какого-то человека в наручниках, потом прошло два жандармских унтер-офицера. Наконец, пришел жандарм и повел меня к начальнику.
Вхожу: большая комната, посередине письменный стол, заваленный бумагами, а за ним господин в штатском платье. Я остановился. Он даже не взглянул на меня, а продолжал что-то быстро писать. Прошло этак минут десять. В кабинет вошел жандармский офицер и положил на стол огромный портфель, и передал какую-то бумагу. Начальник пробежал ее глазами и говорит: «Я сейчас распоряжусь». Затем взял телефонную трубку, назвал какой-то номер. «Это вы, Савельев? – говорит начальник охранного отделения. – Немедленно берите людей и арестуйте Петровского и, пожалуйста, поживее!» Наконец, он поднял голову и обратился ко мне: «Так вот ты какой гусь! Давно мы за тобой следим да в старом твоем разбираемся. Ну, теперь полно! Погулял – и будет! Давно пора под замок».
– Помилуйте, господин начальник, – взмолился я. – Да за что же это? Я живу, слава богу, смирно, по-хорошему, зла никому не делаю. За что же меня под замок?
– Ну, брось дурака валять да невинность разыгрывать! – крикнул он мне. – А «гуслицкие дела» забыл?
Я так и обмер.
– А что это за «гуслицкие дела»? – спросил я у Бородина самым невинным тоном.
– Да что уж тут таить, господин начальник! Случилось это лет двадцать пять тому назад. Был я тогда еще мальчишкой, и сбили меня с толку фальшивомонетчики, выделывавшие деньги в селе Гуслицы. За это я отбыл наказание и с той поры живу по-честному. Как вспомнили мне про гуслицкие деньги, вижу: дело плохо! Начальник приказал принести мой бумажник, сорвал с него печати, вынул билет и деньги и говорит: «Много к твоим рукам прилипло гуслицких денег, да черт с тобой! Тут у нас завелось благотворительное дело, и деньги нужны, а их нет. Предлагаю тебе следующее: я под эти пять тысяч освобождаю тебя до послезавтра с тем, чтобы к двум часам дня ты доставил сюда же пять тысяч рублей. Принесешь – я отпущу тебя на все четыре стороны; не принесешь – пеняй на себя! Ты будешь немедленно арестован и выслан в двадцать четыре часа из Москвы в Нарымский край доить тюленей».
С этими словами начальник отпустил меня, оставив, однако, у себя ренту и три сотенных билета.
– Вот что! – сказал я Бородину. – Идите с моим агентом и укажите в Скатертном переулке дом, куда вас возили, а завтра в одиннадцать часов утра приходите опять ко мне.
Бородин указал дом, и мы навели у дворников справку о жильцах третьего этажа. Они оказались людьми смирными, не внушающими подозрений. Узнали мы и номер телефона квартиры. Но что же было делать дальше? Нагрянуть с неожиданным обыском мне не хотелось, так как мошенников могло случайно и не оказаться дома.
Взятая у Бородина рента могла быть тоже унесена, да, наконец, Бородин и не помнил номера своего билета, следовательно, даже при захвате аферистов последние смогут от всего отпереться, тем более что свидетелей не имелось. Поэтому я остановился на ином плане. За домом и особенно за квартирой третьего этажа было установлено наблюдение. Я же стал ждать завтрашнего ко мне визита Бородина.
Через несколько часов по установлению наблюдения прибегает один из агентов и докладывает, что из квартиры третьего этажа вышел Василий Гилевич, хорошо известный нам по ряду мелких мошенничеств.
Василий был родным братом Андрея Гилевича, убийцы студента Прилуцкого, громкое дело которого я уже описал в одном из предыдущих очерков. Очевидно, Бородина шантажировал этот «достойный» представитель не менее «достойной» семейки.
Я пригласил к себе в кабинет стенографа и дворника в качестве будущих свидетелей и усадил их к отводным трубкам моего телефона. Когда явился Бородин, я побеседовал с ним минут десять, стараясь уловить его манеру говорить, его язык, интонации голоса и тому подобное. После чего заявил ему: «Сидите смирно и слушайте!»
Агент-стенограф, сидевший у одной из отводных трубок, приготовил лист бумаги и карандаши; дворник деликатно взял свою отводную трубку двумя «пальчиками». Когда все было готово, я подошел к аппарату.
– Барышня, дайте номер такой-то!
– Готово!
В трубке послышался женский голос:
– Я вас слушаю…
– Нельзя ли попросить к телефону господина начальника?
– Хорошо, сейчас!
Вскоре раздался мужской голос:
– Алло, я вас слушаю!
– Это вы, господин начальник?
– Гм… Кто говорит?
– Это я, Иван Прохоров Бородин, которому вы сегодня приказали явиться.
– Ну что, мошенник, деньги готовы?
– Не серчайте на меня, господин начальник! Ей-богу, к двум часам не достать, обещаны они мне в четыре. Вот я и звоню. Уж вы позвольте мне опоздать на два часа, ранее никак не справиться! Ведь пять тысяч – капитал, его сразу не соберешь!
– Ах ты, растяпа! Ах ты, сонная тетеря! Ну черт с тобой! Но помни, что если в четыре не явишься – в двадцать четыре часа вылетишь из Москвы. А откуда ты телефон мой узнал? Разве на станции сообщают номер охранного отделения? – и в голосе его послышалась тревога.
– Никак нет, господин начальник! Я третьего дня, стоя у вашего стола, покуда вы писали, приметил номер вашего телефона, стоящего на столе.
– Ну ладно, проваливай! И помни: в двадцать четыре часа!
Затем послышалось глухо: «Ротмистр, установите опять немедленно наблюдение за Бородиным!» После чего трубка была повешена.
– Вы успели все записать? – спросил я своего агента-стенографа.
– Так точно, все.
– А ты все слышал? – спросил я у дворника.
– Известное дело, – все! А только, господин начальник, я понимаю, что тут без убивства не обойтиться! – отвечал глубокомысленно дворник.
– Ну и понимай на здоровье! – сказал я смеясь.
Бородин, наблюдавший всю эту сцену, сидел ни жив ни мертв.
В нем, видимо, боролись разнородные чувства. С одной стороны, еще прочно сидел страх перед грозным начальником охранного отделения, с другой, – он видел, что во мне нет и тени сомнения в наличности мошенничества; вместе с тем ему думалось: «А что, если начальник сыскной полиции ошибается?» Всю эту сложную гамму переживаний я прочел на его взволнованном красном лице.
К четырем часам я откомандировал моего помощника В. Е. Андреева с четырьмя агентами в Скатертный переулок для ареста всех людей, находящихся в «охранном отделении». Я рекомендовал ему пригласить с собой и участкового пристава с нарядом городовых, но В. Е. Андреев нашел, очевидно, это лишним и, понадеясь на собственные силы, отправился один исполнять поручение.




