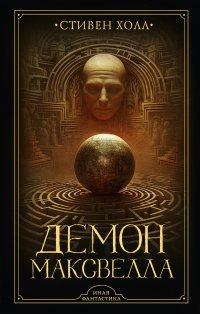
Читать онлайн Демон Максвелла бесплатно
- Все книги автора: Стивен Холл
Steven Hall
Maxwell’s Demon
This edition is published by arrangement with Canongate Books Ltd, 14 High Street, Edinburgh EH1 1TE and The Van Lear Agency LLC
Copyright © Steven Hall, 2021
© Анастасия Колесова, перевод, 2024
© Василий Половцев, иллюстрация, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Часть I. Я не верю в Бога, но скучаю по нему
Мир словно исчезает. Разве мы все в глубине души этого не знаем? Этот идеально сбалансированный механизм криков и эха маскируется под вращающиеся шестерни, волшебные часы, тикающие под загадочным стеклом, именуемым нами жизнью.
Стивен Кинг
1. Розы
Когда я был ребенком, мой отец был знаменит. Доктор Стэнли Куинн был писателем; человеком твердого слова и убеждений, который при помощи щелкающих клавиш пишущей машинки и мотков красящей ленты – а также непоколебимой решительности и упорству – стал величайшим журналистом, поэтом и военным корреспондентом своего поколения.
В реальности это означало, что отец редко бывал дома, но я, так или иначе, всегда ощущал его присутствие. Он постоянно находился рядом: фотографиями в прессе, мыслями на тонкой бумаге газет, что пачкали мои пальцы типографскими чернилами, бестелесным голосом из кухонного радиоприемника.
Мне, ребенку трех-четырех лет, тогда казалось, что отец уезжал из дома только частично. Его имя, голос, фото всегда были со мной, они присматривали за нами. Даже сейчас, почти тридцать лет спустя, мой отец иногда возвращается, хоть уже и гораздо реже. Его голос можно услышать в телевизионных документальных фильмах о былых войнах. Бейрут, Суэц, Маскат.
На экране появляется: «Архивный репортаж» – и вот он словно оказывается в комнате, снова рядом, и рассказывает о происходящем сквозь шум и помехи старой записи.
А ведь детское восприятие – очень сильное. Мы знакомимся с миром через призму восприятия родителей: как витражи, они пропускают через себя свет и раз и навсегда окрашивают нас своими цветами. Доктор Стэнли Куинн всегда казался мне фрагментарным, а Александра Куинн, моя мать… Она медленно увядала.
Лишь позже я осознал, что она никогда не вставала с постели. Когда я был ребенком, мне это совсем не казалось странным. Я считал, что так и должно быть, и, честно говоря, мне все нравилось. Первые годы моей жизни мы устраивали посиделки в ее комнате на втором этаже: проводили вечера за разговорами, или же я слушал, как она читает одну из многочисленных книг, которыми был заполнен каждый уголок загородного дома.
Мама была настоящей красавицей, бледной, хрупкой, а ее волосы сияли на солнце, как нимб. Сейчас-то я знаю, что с ней происходило, и понимаю, что с каждым днем ей становилось все хуже, но никак не могу сопоставить это знание с изменениями, которые наблюдал в прошлом. С каждым днем она была все тише, бледнее, прозрачней. Словно становилась иной, ускользала из реального мира. Не помню ни особенно тяжелых дней, ни приступов кашля, ни малоприятных внешних проявлений – только ощущение, что она перестает быть собой и постепенно превращается в нечто иное. Она каждый день читала мне тихим, нежным голосом, и когда все детские книги в доме закончились, мы перешли к доверху забитым полкам с коллекцией родителей. Я познакомился с греческими трагедиями, дарвиновской борьбой за существование и тигром, светло горящим. Мама читала мне слова великих мыслителей, писателей и художников разных веков, а я все это жадно впитывал.
Но поверьте: особенным я от этого не стал. Я часто представляю себя маленьким садовым сараем – шаткой коробкой из старых досок, снятых с великих домов Диккенса и Дарвина, и покрытой потрескавшейся черепицей, осыпавшейся с крыши особняка Германа Мелвилла. Щеколда моя сломана, окна не открываются, а когда идет дождь, все внутри заливает водой менее чем за полчаса. И в этом нет ничего плохого. Тут уж как есть, и меня это, знаете ли, совершенно не беспокоит, хотя вроде как должно. Ведь когда я поднимался на второй этаж по скрипучим ступенькам, прижимая к груди очередную тяжелую книгу в твердом переплете, мною двигала не жажда знаний и развития. Все, чего я хотел – провести с мамой несколько спокойных часов, устроившись на кровати и слушая ее тихое чтение. Лишь потом я осознал, что прочитанные ею истории стали частью меня, проникли под кожу, в кровь – и все благодаря ее голосу и светлой любви, которыми и запомнились мне те годы.
* * *
Я помню два отрезка раннего периода моей жизни: лето и зиму, – хотя, естественно, между ними была и осень. То лето было исключительным, потому что доктор Стэнли Куинн вернулся домой на продолжительное время. То была большая редкость.
Помню, его физическое присутствие казалось мне чудом. Я-то привык ассоциировать его только с фото, голосом, запахом одежды в шкафу и сотней других одномерных проявлений. Но тем летом он собрался воедино, словно по воле некой силы, словно на короткое время все разрозненные элементы воссоединились и создали человека, и этот человек мог взаимодействовать с миром. Например, он реагировал на произносимые слова, перемещался по дому, срезал розы; его можно было коснуться и понять, что рука, которой он держал мою, – настоящая, и для меня все это было чудесно, волшебно и удивительно до невозможности.
Один из разговоров с отцом мне запомнился особенно ярко.
Воспоминание начинается с корзины роз.
– Зачем ты их срезаешь?
Доктор Стэнли Куинн опустил на меня взгляд. В одной руке он держал розу, в другой – серебристые садовые ножницы.
– Чтобы мы могли отнести их маме. Она любит розы.
– Красные – ее любимые.
– Верно, – отец срезал еще один цветок. – Самые любимые.
– Но если их срезать, они погибнут.
Должно быть, я сказал это очень серьезным тоном, поскольку отец остановился и опустился передо мной на колени.
– А как еще мама сможет их увидеть?
Я задумался.
– Можно принести ей фотографию.
– Разве эффект будет тот же?
Я снова задумался.
– Нет.
– Именно, – сказал он. – Розы яркие и красивые, но быстро увядают. И это нормально. В этом их суть.
Мы занесли розы в дом.
* * *
Другое воспоминание – о следующей зиме, о том, как меня привели в спальню родителей, чтобы я попрощался с мамой и взглянул на нее в последний раз.
Помню занесенное снегом окно, вой бушующей снаружи метели. Помню, что в комнате было тихо и спокойно. Пылинки звездами застыли в воздухе. Мамина голова на подушке казалась почти невесомой, словно мамы там и не было.
Я без страха подошел к постели.
Но не чувствовал резкой боли разлуки. Как и отец, мама исчезала из жизни по частям – правда, немного в другом смысле.
Не было ощущения, что ее жизнь оборвалась; скорее, я считал, что она подошла к закономерному завершению материнского процесса. Сколько себя помню, ее голос становился все тише, а движения все медленнее. В последние недели она читала мне книги едва слышным шепотом, а в самом конце – уже беззвучно: ее губы произносили слова, но я не мог их расслышать. Движений она совершала все меньше, потом они стали едва различимыми, а потом прекратились. Она переходила из одного состояния в другое – так было всегда, и, в сущности, только это в итоге и произошло.
Я тихо стоял у кровати, взяв маму за руку, и смотрел, как кружатся и оседают на оконном стекле снежинки. И чувствовал, как внутри меня тоже идет снег; как мысли укрывает белым покрывалом, отчего они становились тише, мягче, затуманивались, а разум охватывало уютное оцепенение.
Через несколько мгновений мой взгляд скользнул к большой книге, «Энциклопедии растений и деревьев Британии» Бротона, лежащей на краю прикроватной тумбочки. Мы вместе читали эту книгу. Я наизусть знал сотни описаний, гравюр и цветных иллюстраций. Я забрался на матрас рядом с мамой, положил энциклопедию себе на колени, открыл ее.
Книга раскрылась, и меж страниц я увидел то, чего раньше там не было.
Настоящую, красную, спрессованную розу – настолько плоскую, что она казалась прозрачной.
Я потянулся, чтобы дотронуться до нее пальцем, и вдруг осознал, что не в силах это сделать.
С большой осторожностью я высвободил цветок из строчек печатного текста.
И долго сидел, молча держа его в руках.
2. Тридцать лет спустя
«Энциклопедия растений и деревьев Британии» Бротона стоит первой на моей книжной полке, но если бы вы ее увидели, то вряд ли бы узнали. Она замотана в кокон из пузырчатой пленки и устойчивого к ультрафиолетовому излучению пакета, которые обычно используют, чтобы сохранить в надлежащем виде старые комиксы о Супермене.
Тридцатилетняя роза внутри потрепана только самую малость. Она лишилась лепестка – спасибо шестнадцатилетнему мне. Идиота кусок. Этот подросток с растрепанными волосами решил, что надо везде носить с собой лепесток и показывать его девушкам на вечеринках – таких, где всегда включают группу The Cure. В конце концов он отдал лепесток той, с которой просидел всю летнюю ночь в закрытом парке.
Есть и другие, менее серьезные повреждения. Один из листиков случайно согнулся, и по сгибу пошла трещина; кроме того, на стебле висит полуоторванный шип, что все время цепляется за переплет. Чем чаще я открывал книгу – тем больше причинял цветку ущерба. Вот почему сейчас мамина роза все время находится под защитой страниц – она плотно зажата между статьями «Гладиолус» и «Глоксиния», – пузырчатой пленки и специальной обложки для Супермена.
Следующая книга на полке – при условии, что я иду на восток, как и все начинающие читатели в моей части света,[1] – большое, серьезное издание собрания сочинений отца.
Надпись на титульном листе гласит: «Том, я всегда буду рядом» – и я могу воспроизвести каждую линию и соединение букв этой фразы по памяти. Книга солидная и сильно потрепанная: много загнутых уголков, подчеркнутых абзацев и замусоленных страниц.
В букинистическом магазине ее качество оценили бы как «приемлемое», но будь она плюшевым мишкой, то вы бы описали его скорее как «затисканный до дыр».
Оставим собрание сочинений и перейдем к трем книгам моего раннего подросткового возраста: «Дон Кихот» в красивом твердом переплете, «Оно» в мягкой обложке и потрепанный экземпляр «Колдуна огненной горы».
Эти книги особенные: они выжили. В возрасте тринадцати лет, в один давно забытый июльский день, я снял их с полки в загородном доме и положил в чемодан (вместе с «Собранием сочинений» и «Энциклопедией», которые повсюду брал с собой), чтобы читать во время летних каникул в доме тети у моря. Поэтому их не было в доме, когда вторая жена отца, поэтесса Марджери Мартин, устроила пожар и уничтожила все наше имущество.
Но идем дальше.
После выживших переходим к еще одной книге отца – «Новому собранию сочинений». Небольшая черная книга, разделяющая полку надвое подобно мел-палеогеновой границе или линии сажи и разрушения. Надпись в ней следующая: «Моему сыну Томасу». Доктор Стэнли Куинн оставил еще немного места для других слов, но, должно быть, передумал или же так и не удосужился их дописать. Больше на странице ничего нет. Книга эта знаменует собой конец – этакая неровная и зарубцованная линия Мажино, что пролегла меж мной и отцом. За долгие годы ни один из нас так и не решился ее пересечь.
Далее на полке стоят книги, отсчитывая десятилетие, и вот мы подходим к маленькому роману в твердом переплете «Qwerty-автомат» за авторством Томаса Куинна. Мой первый роман. Этот самый экземпляр я отправил отцу в день публикации и получил обратно неделю спустя вместе с краткой запиской от незнакомца, гласившей: «Слишком поздно».
Слишком поздно. Через пару дней начали появляться некрологи. Никогда не умел выбирать правильный момент. Мой отец – говорящий, двигающийся, дышащий, держащий меня за руку отец – расщепился навсегда.
* * *
Сразу за «Qwerty-автоматом», моим первым романом, высится, словно Эмпайр стейт билдинг над небольшой церквушкой, еще один первый роман под названием «Двигатель Купидона».
Подобно огромному черному краеугольному камню, книга находится в самом центре полки, и каждый дюйм помятой и потрепанной обложки испещрен похвалами: «Величайший детективный роман десятилетия», «Запутанная головоломка, небывалый фурор», «Поражает воображение», «Настоящий подарок для поклонников детективов», «Непревзойденно», «Великолепно» – и где-то среди всех этих фраз: «Невероятно талантливый писатель» – Стэнли Куинн. Не помню, чтобы отец высказывал поддержку книгам других авторов, но это не единственное, что делает книгу «Двигатель Купидона» уникальной. Имя автора, Эндрю Блэка, едва втиснулось на конкретно эту обложку, но это не помешало ему захватить умы литературной прессы и читателей на долгие девять лет с того момента, как «Двигатель» впервые появился в печати. «Таинственный и неуловимый гений», – гласит цитата от «Индепендент». Вот уж точно. Как и все остальные СМИ, у них не вышло взять интервью или заполучить даже фото, чтобы напечатать его вместе с восторженной рецензией на пять звезд. На момент публикации книги об Эндрю Блэке было ровным счетом ничего не известно; никто не мог с ним связаться или встретиться – и не может по сей день. То и дело появлялись теории заговора, мистификации, размытые фотографии и подделанные документы – но со временем они опровергались. На все вопросы представители издательства разводили руками и застенчиво улыбались, ведь понимали, что тайна никак не уменьшит продажи книг, а агент Блэка, Софи Алмондс, из года в год в ответ на все запросы повторяет одно и то же: «Эндрю Блэк не дает интервью и комментарии, но благодарен за интерес к его работе».
Ярым фанатам Блэка удалось раскопать и подтвердить лишь несколько фактов о нем – среди которых как раз была необычная цитата моего отца. Удивила эта цитата не только меня, и стоило тем, кто жаждал подробностей о таинственном авторе, углубиться в вопрос ее происхождения, как результаты не заставили себя ждать.
Эндрю Блэк был помощником, а позже – и тайным протеже отца.
Избранным. Вероятным преемником. Учеником. Выбирайте, какое из этих описаний прессы вам больше нравится. Пара изданий даже окрестила Блэка названым духовным сыном, что, естественно, уязвило меня еще больше. Отец ужасно гордился Блэком, а Блэк – по свидетельствам нескольких источников – боготворил отца. Они стали командой, единым целым, породнились через писательство. И как бы ни старались люди выпытать у доктора Куинна хоть какую-нибудь новую деталь о личности Блэка, он оставался непреклонен и лишь благодушно подтверждал уже известную информацию: «Помощник и протеже. Очень горжусь».
И ведь понимаете, основания для такой гордости были. Каждый раз, как я думаю об этом, чувствую в груди легкую боль, но это неважно. Потому что отец гордился не зря.
«Двигатель Купидона» стал явлением мирового масштаба и продолжает из года в год печататься огромными тиражами. И заслуженно. Явно заслуженно. Эта книга – бесспорно настоящий шедевр.
Конкретно этот экземпляр зачитан до дыр: корешок представляет собой массу белых линий излома, клей растрескался и десятки пожелтевших страниц с загнутыми уголками торчат из переплета под странными углами. Огромный, потрепанный монолит так сильно бросается в глаза, что можно совсем не заметить стоящую рядом книгу.
В глубине полки, в тени «Двигателя Купидона», прячется второй экземпляр моего романа «Qwerty-автомат». Довольно потрепанный: корешок сильно промялся от мощного столкновения с чем-то твердым.
Если бы вы сняли этот экземпляр с полки и открыли его, то увидели бы, что каждая страница почти до отказа забита правками, зачеркиваниями и сотнями аккуратных заметок от руки, сделанных тонкой черной ручкой. А если откроете титульный лист, то обнаружите короткую, столь же аккуратную надпись:
Томас,
ты хотел знать, что я думаю о твоем романе.
Эндрю Блэк
3. Откуда в Вифлееме?..
Книги стоят безмолвными пыльными рядами.
Все стоят, и стоят, и стоят.
Ничего не происходит. Ничего не меняется.
С таким описанием сложно понять, что за день.
Книги – это книги. А пыль – это просто… пыль.
Вы знаете, что такое пыль? Когда-нибудь по-настоящему задумывались над этим?
Пыль – это все, и в то же время ничего.
Пыль есть дым и выхлопные газы дышащего города; Великий лондонский пожар и «Блиц», Елизаветинская линия метро и печи в Лондонском Митреуме. Пыль – это жизнь и эпоха Томаса и Имоджен Куинн, волокна ткани их одежды, штанов и рождественских свитеров, это частички кожи, летящие во все стороны от чесания голов, трения глаз и резких объятий, от хлопков ладоней, от рукоделия, глупых танцев и мастурбации, от спущенных трусов и натянутых носков, от размахивания руками, криков, плача и зуда, которых все больше, и больше, и больше. Пыль – смешение всего, событий и людей, которыми мы были, когда вместе существовали в пространстве; все смешивается, чтобы создать ничто.
Обычную пыль.
«Представь, о скольком она может нам поведать», – сказала мне как-то тетя, сбивая с ковра огромные облака пыли ударами, от которых натягивалась бельевая веревка. Я много думал об этом, и мой ответ таков – не может пыль ничего поведать. Ведь пыль не знает где, как и что. Для нее не существует «итак», «следовательно» или «потому что». Даже если бы она и могла говорить, в ее историях не было бы ни начала, ни конца, ни последовательности событий – только середина, сплошная бессмысленная, односложная какофония.
Пыль – всего лишь носитель информации.
Иногда видя, как она собирается на книжной полке, я думаю о первых млекопитающих, крошечных доисторических протомышах, которые, должно быть, глядели на динозавров, ожидая, когда придет их время.
– Черт.
А вот теперь день можно вполне конкретно определить.
Теперь это сейчас.
«Черт» вырвалось у меня в коридоре, когда я увидел, что айпад, как и – приготовьтесь…
– Твою мать.
…как и айфон, начали обновляться, когда мне очень захотелось в туалет, и я искал, что мне взять с собой, чтобы не заскучать.
Я толкнул дверь спальни и быстро прошагал через комнату, схватил большой, потрепанный экземпляр «Двигателя Купидона» с середины полки и направился в уборную.
Две минуты спустя я сидел в крошечной уборной со спущенными штанами и впервые за много лет просматривал информацию об издательстве и пожелтевший титульный лист.
Как тут затрезвонил городской телефон.
Я беспомощно посмотрел в сторону гостиной в конце коридора. Я никак не мог встать и взять трубку.
«А если это Имоджен? – подумал я. – Что же, сейчас включится автоответчик. А через несколько минут ты спокойно ей перезвонишь. Не велика беда».
Вернувшись к книге, я почти не заметил, как звон прекратился и автоответчик издал громкий сигнал.
После этого я постепенно начал прислушиваться к голосу из динамика.
Думаю, я узнал его сразу, бессознательно понял, что слишком уж он мне знаком, потому и отвлекся от чтения. Слова доносились приглушенно, и сначала я отстраненно подумал, что по радио снова крутят одну из его старых записей – интервью или старый репортаж с мест сражений. Я не особо старался разобрать, что он говорил, и в результате не уловил ничего, кроме последних слов.
– …откуда в Вифлееме полый ангел?
Последовала короткая пауза, а затем голос сказал:
– Том, ты тут?
Я резко поднял голову. Что?
Я отбросил «Двигатель Купидона», оторванные страницы рассыпались по полу.
Что?
Щелк. Жжжж.
Не утруждаясь натянуть штаны обратно, я помчался по коридору в гостиную.
Абонент отсоединился.
Абонент отсоединился.
Абонент отсоединился.
Я толкнул дверь и с колотящимся сердцем остановился в дверном проеме, уставившись на телефон.
Абонент отсоединился.
Мой отец умер почти семь лет назад.
4. Аналоговый телефон
У вас нет новых сообщений.
У вас нет новых сообщений.
У вас нет новы…
У вас не…
У вас. Одно. Новое сообщение. Получено. Одиннадцатого. Мая…
«Привет, это я. Имоджен. Твоя жена. Ты дома?.. Ты тут?.. Нет? Ладно, ничего. Надеюсь, ты не забыл поесть и не умер от голода. Люблю тебя. Позвоню позже. Любл…»
Сообщение сохранено.
Вам звонили вчера в. Два. Часа. Тридца…
– Здравствуйте, оператор на связи.
– Да, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, когда в последний раз звонили по этому номеру?
– Секунду. Последний звонок по этой линии был сделан вчера в четырнадцать тридцать шесть. Вам нужен номер звонившего?
– Нет, спасибо. Наверное, какой-то мошенник. После него никто больше не звонил?
– Никто.
– Но я только что слышал, как звонил телефон.
– Эм… В системе ничего нет.
– Ладно. Тогда…
– Вероятно, провода скрестились.
– Скрестились?
– Да. Иногда такое случается. Могу перевести вас на службу поддержки. Они протестируют ваше соеди…
– Нет, спасибо, не нужно.
– Хорошо. До свидания.
Щелк.
У вас нет новых сообщений.
У вас нет новых сообщений.
* * *
Виски покачивалось в бокале, а я смотрел на шпиль старой церкви, высившейся над оранжевыми и желтыми кронами деревьев на дальней стороне парка.
Странно вот так резко погрузиться в себя, на краткий миг достать на свет все упрятанное в дальний ящик из-за какого-то внезапного события.
Несколько часов назад я услышал приглушенный голос, доносившийся из автоответчика в другой комнате, и не только сразу осознал, что тот принадлежал покойному отцу, но и понял, что он пытался мне что-то сказать. Такой вывод я сделал из одного-единственного слова. «Том». Полууслышанное через две стены и дверь гостиной слово, которое, скорее всего, я вовсе расслышал неверно. И все же в тот самый момент я не чувствовал ни тени сомнения и помчался за голосом через всю квартиру со спущенными до лодыжек штанами.
Если так подумать, что мы на самом деле о себе знаем? Я столько лет не общался с отцом, провел годы в молчании, обидах и отчуждении, пропустил похороны в Испании и ни разу не навестил могилу, но продолжал уверять себя, что однажды все-таки съезжу, хоть и знал, что никогда не соберусь. Много с той поры воды утекло, и прошлое уплывает только дальше, прочь, и его никак не вернуть, но далекая, темная часть разума ждала, надеялась, что однажды отец провернет свой старый фокус: соберет себя из россыпи слов и аудиозаписей и вернется домой – точно так же, как тогда, когда я был ребенком.
Гугл подтвердил слова оператора: старые аналоговые кабели, которые еще не заменили на новые, действительно иногда провисают и скрещиваются друг с другом. Они истончаются от сильного ветра, или трескаются от солнечного света, или загнивают из-за негерметичных кабельных коробок. Вот и получается: сидишь дома, звонит телефон, поднимаешь трубку, и вдруг слышишь, как два незнакомца болтают про гаражные двери, ремонт машины или о новом парне какой-то Элисон. Такие звонки – на самом деле псевдозвонки, и они здорово путают автоответчики и системы, записывающие данные о входящих вызовах. Да, феномен странный, необычный, но ничего поразительного в нем нет. В каждой системе неизбежно происходят сбои, потому что все системы разлагаются в той или иной мере. Как выразился Макс Кливер, герой детектива «Двигатель Купидона»: «Для торжества хаоса достаточно бездействия ремонтников».
Забавно, что все началась с ошибки аналогового аппарата, ведь и отца в каком-то смысле можно было назвать убежденным аналоговым существом. Аналоговый призрак из аналогового провода. Правда, никакого призрака не было. У доктора Стэнли Куинна не было времени на нули и единицы. Он доверял только чернилам и бумаге. Он всегда носил с собой ручку и так и не перешел с пишущей машинки на компьютер или ультралегкий ноутбук, которые к тому времени были у всех. Помню, он сказал журналисту «Пэрис Ревью», что ему «никогда не нравилась чертова техника» и он «не собирается менять своего мнения на закате лет». (Временами я читал интервью отца: они проникали в дом с газетами и журналами по подписке. Еще один печатный фрагмент человека, который никогда, никогда не был только в одном месте.)
Я протер глаза, допил виски и направился на кухню, чтобы налить еще.
* * *
К вечеру, лежа в постели, я чувствовал себя намного лучше.
Будь кто рядом в тот момент, я бы, скорее всего, рассказал про звонок, пытаясь сильно не краснеть, а потом бы отшутился. Если, конечно, вообще бы решился рассказать. С Имоджен произошедшим я решил не делиться, поскольку не хотел слышать песенку про синдром продолжительного нахождения в четырех стенах из «Маппетов» вместо стандартного «Алло».
Но все ведь закономерно, не так ли? Когда маятник сильно уходит в одну сторону, его по инерции относит так же высоко в другую. Любовь превращается в ненависть, стыд – в гнев, потрясение и шок перерастают в стыдливое, ироничное недоверие.
В итоге я решил обо всем забыть.
Завтра будет новый день.
Натянув одеяло до подбородка, я вернулся к чтению «Двигателя Купидона», и вскоре водоворот сюжетных событий полностью меня затянул. А я был только рад отвлечься и отдаться течению, растворяясь в тексте, словно лодка за горизонтом.
* * *
В самом начале «Двигателя Купидона» мы встречаемся с высоким, взъерошенным мужчиной в белой фетровой шляпе и мятом льняном костюме. Он стоит, прислонившись к дверному проему, весь в крови. Его зовут Морис Амбер, но мы пока этого не знаем. В правой руке он держит окровавленный нож, а к левому уху прижимает телефонную трубку.
– Полиция, – бормочет он. – Вам лучше кого-нибудь сюда прислать.
Как только я дошел до конца первого абзаца, меня захлестнуло волной эмоций от внезапной, всепоглощающей силы слов и знакомого текстового мира, вернувших меня в былые времена. Испытать чувства столь глубокие и яркие было сродни тому, что и оказаться в крепких объятиях человека, которого, как думал, никогда больше не увидишь, или натянуть изношенную старую толстовку с капюшоном, которую находишь в закромах шкафа спустя годы, хотя был уверен в том, что она безвозвратно потеряна. В этом и заключается сила книг, согласитесь? И об этом легко забыть, особенно в нынешней реальности.
Но я отвлекся. Я лежал в постели, чувствуя себя немного странно и глупо из-за всей ситуации со звонком, и постепенно погружался в глубокую ностальгию, как вдруг мне в голову пришла идея для сценария, над которым я бился несколько месяцев.
Вот как я зарабатывал себе на жизнь. Писал рассказы и сценарии. Знаю, о чем вы подумали, – но нет, я сейчас не о фильмах и не о романах. Рукописи моих последних двух романов хранились в папках из плотной бумаги в холщовых коробках в изножье кровати. Моему агенту не удалось пристроить их ни в одно издательство после не самых выдающихся продаж «Qwerty-автомата», и поэтому – после многих лет упорного труда и отказа сдаваться – в один прекрасный день я встал из-за стола в самый разгар борьбы с особенно сложным отрывком и просто выключил компьютер.
Щелк – и все.
Так что когда я говорю, что зарабатывал на жизнь написанием рассказов и сценариев, то имею в виду, что зарабатывал мало, писал короткие рассказы для электронных книг и веб-сайтов, а также аудиосценарии для существующих объектов интеллектуальной собственности. Я создавал то, что в индустрии называют медиапродуктами или официально лицензированными текстовыми продуктами, но простой человек назовет мои работы попросту навязанным сопутствующим товаром.
Для поклонников доктора Стэнли Куинна такая деятельность казалась немыслимой. Подобное возмущение у них мог вызвать, например, глухонемой ребенок пианистов, который выскакивал на сцену после виртуозного концерта, чтобы исполнить детские песенки. Стоило таким людям услышать, чем я зарабатываю на жизнь, как я получал в ответ один и то же выразительный взгляд. «Господи, если не можешь писать нормально, то лучше не пиши вообще. Ты что, не знаешь, кем был твой отец?» – примерно так можно его расшифровать. Конечно, меня это ранило. Каждый раз. И ранит до сих пор, но уже не так сильно, а, скорее, как заживший рубец – так, зудит. Теперь я понимаю, что мне не стоило так высоко ценить мнения тех людей; они – не судьи, не законодатели вкусов, а типичные представители эпохи отца, кучка Брюсов Уиллисов из «Шестого чувства», которые не осознают, что их миру пришел конец, и не имеют ни малейшего понятия о мире, в котором мы сейчас живем.
Вопрос: как думаете, сколько писателей постоянно работают над новыми историями, новыми персонажами и новыми сюжетами? Мое предположение – ничтожно мало по сравнению с тем, сколько писателей работает с уже существующими. И это касается не только самых низов пищевой цепочки, где я зарабатываю на жизнь; то же самое происходит и в высших эшелонах. Вспомните крупных писателей, которые создают сиквелы известных книжных серий – очередной Джеймс Бонд, еще больше «Автостопов по Галактике». А в киноиндустрии и того хлеще: работа над новыми «Звездными войнами», «Капитаном Америкой» и «Бэтменом» ведется целыми поколениями кинематографистов. Многие из нас – на всех уровнях, которые можно только представить, – используют писательский талант для создания продолжений историй, которые были в новинку во времена нашего детства, вместо того чтобы создавать собственные миры. И вы заметили, что все эти истории, как правило, для детей? Не поймите превратно: я не сноб. Мне нравится Мелвилл и Б.С. Джонсон, но я также люблю «Звездные войны» и «Гарри Поттера». И это понятно, все ведь их любят, так что писателям ничего не остается, как закатать рукава и служить интеллектуальной собственности. Я, конечно, не жалуюсь, а даже если бы и жаловался, все равно нет смысла надеяться, что все изменится, потому что – смею вас уверить – этого абсолютно точно не произойдет. Так устроен поздний капитализм: на рынке доминируют крупные, зарекомендовавшие себя бренды, а стартапам все труднее и труднее закрепиться.
Ничего не изменить. Таков наш мир – мир сиквелов, приквелов, ремейков, римейквелов. Таков наш век – век гиперссылок и метавселенной, где все истории взаимосвязаны и каждый по очереди становится автором всего.
Но я стараюсь об этом не задумываться, а то так и сна можно лишиться.
Да и предложений писать для «Звездных войн» мне не поступало.
На момент получения голосового сообщения мне шел тридцать первый год, я был женат, но временно жил один в маленькой квартирке в Восточном Лондоне, а еще совсем не брился и почти не выходил на улицу. Семью годами ранее я опубликовал книгу, написал еще две, которые никому не сдались, и таким образом к двадцати с хвостиком имел за плечами неудачную литературную карьеру.
Но что есть, то есть.
Зато я писал новые приключения для «Тандербердсов», «Стингрея», «Доктора Кто», «Сапфира и Стали», «Хи-Мена», «Триподов», «Громокошек»… Я серьезно относился к проектам; пусть я не был лучшим сценаристом и, конечно, далеко не самым быстрым, но очень гордился парочкой аудиопьес, в создании которых принимал участие. В общем и целом, мне нравилась моя работа, а поклонники старых шоу скорее любили, чем ненавидели мои истории, – а это, я вам скажу, уже что-то.
И вот у меня появилась идея для сценария «Капитана Скарлетт», с которым я мучился несколько месяцев; действительно хорошая идея. Считай, первая хорошая идея за бог знает сколько времени. Вскочив, я резво набросал со страницу заметок, вернулся в постель и выключил свет
Я лежал, прислушиваясь к отдаленному шуму машин и гулу города. «Откуда в Вифлееме полый ангел? Что это вообще значит? – подумал я. – Что за полый ангел? Бред какой-то. Точно бред, и голос наверняка сказал совсем другое».
Оказавшись в одинокой темноте, я переполз на сторону Имоджен.
«Хватит об этом думать. Просто забудь уже. Завтра будет новый день».
Подушка Имоджен была прохладной и давным-давно перестала пахнуть ею, но я все равно уткнулся в мягкую ткань, крепко зажмурив глаза, и ждал, когда, наконец, утону в темных водах беспамятства.
5. Зеленая Имоджен
На следующее утро – десять часов спустя – я стал одним из девятисот двадцати восьми зрителей, наблюдавших за тем, как моя жена спит.
Вы, наверное, подумаете, почему это я назвал такую конкретную цифру, но дело в том, что на веб-сайте висел счетчик просмотров для каждой камеры, так что я всегда знал, сколько людей смотрит трансляцию. Если людей было много – а девятьсот с лишним – это довольно много, – я записывал число на листочек.
Я все утро наблюдал за спящей Имоджен на размытом зеленом изображении, идущем с камеры в режиме ночного видения под названием «Общежитие 2». Все это время она лежала на боку, лицом к камере, натянув одеяло до подбородка. Так она всегда и спала, только вот дома обычно ложилась спиной ко мне и лицом к стенке. Получается, что, наблюдая за своей женой, находящейся за тринадцать тысяч километров от меня, на экране компьютера, я узнал больше о том, как она выглядит во время сна, чем за все годы, что провел рядом с ней в постели. Отчего-то эта мысль заставила меня задуматься, как же сложно ученым изучать очень маленькие объекты в лабораториях.
Я сделал последний глоток из кружки с надписью «Я ♥ Кофе» и взглянул на телефон.
Он тихо стоял на столе – простой, непримечательный аппарат.
Я поставил кружку на стол и провел пальцами по волосам.
Если бы не легкое подрагивание цифровой картинки и поднимающееся и опускающееся в такт дыханию жены пуховое одеяло, можно было подумать, что смотришь на плоскую, статичную картинку, а не прямую трансляцию. И поскольку ни одна из веб-камер не поддерживала аудиопередачу, видео было совершенно беззвучным.
На экране во всех смыслах ничего не происходило. Счетчик увеличился до девятисот сорока пяти зрителей.
Я зачеркнул старый номер на листике, добавил новый и прикрепил его обратно на доску.
Наблюдать за чужой жизнью в режиме реального времени одновременно увлекает и успокаивает. Долгие паузы. Неподвижность. Сон, взгляды в никуда, задумчивость, чтение книг – любой процесс разворачивается на глазах в полном объеме, целостно. Знакомые островки – разговоры, споры, смех и все то, что обычно делают люди, – обрастают огромным, пустым океаном контекста. А на другом конце, противоположном безмятежности, – все редкое, яркое, личное, искреннее, откровенное, сексуальное. Уникальные моменты, которые вряд ли получится заметить, но вот-вот, почти, возможно, сейчас…
Тишину квартиры нарушил громкий телефонный звонок.
Я подскочил и схватил трубку прежде, чем она успела зазвонить второй раз.
– Алло?
– Прием, Юстон, – сказала Имоджен. – Это Орел-1.
На экране моя зеленая жена крепко спала.
– Привет, незнакомка.
Я ждал, что от скачка адреналина голос будет дрожать, но он, на удивление, прозвучал твердо и ровно.
– Давай не будем, у меня мало времени.
– Да нет, я же не в упрек.
– Я предупредила, что не знаю, когда могу звонить.
– Да, я помню, все нормально. Я не… Я просто так сказал.
– Точно?
– Точно. Это вообще мои первые слова за день. Чувствую себя… странно.
– А, ну тогда ясно, – сказала Имоджен из телефона. – Я правда хотела позвонить по возвращении, но мы задержались и в итоге вернулись позже, чем я думала, где-то около трех часов ночи.
Имоджен на экране не подавала никаких признаков пробуждения. Она просто продолжала медленно и глубоко вдыхать и выдыхать… вдыхать… выдыхать…
– Все нормально, я просто чувствую себя немного странно, немного… – Я хотел было сказать «неживым», но не стал. – …абстрактно. Ты тут?
– Алло. Да, тут. Алло?
– Алло. Все, слышу тебя.
– Что ты говорил? Абстрактно?
– Ну да, я будто не совсем здесь. – Я опустил голову. – Похоже, давно на улицу не выходил. Попозже немного прогуляюсь.
– Хорошая идея. Обязательно сходи прогуляйся. Подыши свежим воздухом, купи фруктов.
– Так и сделаю.
– Свежий воздух и фрукты помогают побороть абстрактность – это хорошо известный факт.
– Не слышал такого.
– Серьезно, лучшее средство.
– Тогда надо попробовать.
– Попробуй. А, кстати. Как там с «Тандербердами»?
– Ты про «Капитана Скарлетт»?
– Ага.
– Все отлично. Отправил сценарий, гонорар должны прислать на следующей неделе.
Ложь. Ничего я не отправлял. Никакого гонорара мне не выслали. Я не написал ни единого годного слова. Однако это только моя проблема, так что и разбираться с ней я должен сам, а Имоджен знать об истинном положении дел вовсе не обязательно
– Молодец, Куинн. И что сейчас делаешь?
«Молодец, Куинн». Чувство вины скрутило живот, но я его проигнорировал.
– Алло?
– Прости. Задумался на секунду. Что ты сказала?
– Чем теперь занимаешься?
– Смотрю, как ты спишь.
– О нет. Ты серьезно? Я ворочаюсь? В последнее время мне снятся странные сны.
– Нет, просто лежишь. Спокойно и безмятежно.
– Необычно.
– Ты очень спокойна. И минуту назад набрала девятьсот сорок пять.
– Господи. Сколько?
– Девятьсот сорок пять.
– Погоди, я запишу. Девять, четыре, пять. И я ничего не делаю?
– Совсем. Абсолютно ничего. Ну, дышишь, конечно, а так – ничего.
Имоджен из телефона на мгновение замолчала.
– Забавно. Знаешь, я начинаю беспокоиться, только когда ты называешь мне цифры, а в остальное время кажется, что камера эта… В общем, не особо меня беспокоит, ну, ты понимаешь.
– Ага.
– Хотя нет, знаешь, все-таки беспокоит. Я помашу зрителям рукой.
– Правильно.
– Прямо сейчас машу.
Имоджен на экране крепко спала. Вдох… Выдох… Вдох… Выдох…
– Я помашу в ответ, когда увижу, – сказал я.
– Ты просто милашка.
– Спасибо.
– Я правда сильно по тебе скучаю.
– Я тоже. Как прогресс?
– Уф. Туго.
Уже полгода Имоджен находилась на другом конце света. Она работала в составе исследовательской группы, которая искала какое-то маленькое местечко на очень отдаленном острове, где, по их мнению, произошло, как она считала, самое важное событие за всю историю человечества. А поскольку на дворе стоял двадцать первый век, в исследовательском центре установили веб-камеры.
– Но с направлением хотя бы определились?
– Частично. Но они не по прямой шли, так что с траекторией все сложно.
– Ну, если бы было легко, то… Ой, погоди.
– Что?
Имоджен на экране завертела зеленой головой, как будто хотела что-то стряхнуть.
– Тебе что-то снится.
– Вот видишь, я же говорила. Очень странные сны.
– Думаю, ты через пару минут проснешься.
– Ага. Слушай, мне пора. Я постараюсь позвонить завтра, но, если не получится, тогда в среду утром.
– Ладно.
– По моему времени.
– Ладно. Попроси настроить видеозвонки.
– Хорошо. Но Джонни говорит, что мой ноутбук уже не спасти.
– Класс.
– Знаю. Хреново. Но мне правда…
– Я понял. Люблю тебя.
– Я тоже тебя люблю. И не забудь погулять.
– Обязательно.
– Ну, ладно, пока.
– Пока.
– Пока-пока-пока…
Связь прервал ровный гудок.
Еще несколько секунд я держал трубку у уха, затем вернул ее обратно на базу.
Имоджен на экране нахмурилась и потянула одеяло. Счетчик просмотров неуклонно падал, но как только она начала ворочаться во сне, он стабилизировался. Теперь цифра снова поднялась до девяти сотен.
Я наблюдал, сложив руки на груди.
Имоджен резко проснулась, в панике оглядываясь по сторонам, пока не поняла, где находится. Расслабилась, пришла в себя, потерла лицо руками, приподнялась на локте и оглядела общежитие. Увидев, что никого нет, села на кровати и включила свет.
Зеленый свет мгновенно сменился белым, а потом общежитие заиграло красками. Восемь кроватей, шкафов, столов, ламп, беспорядков – куча признаков человеческого поселения, группы людей, делящих одно пространство.
Моя жена встала в пижаме с кровати и вышла из кадра.
Я ждал.
Почти четыре минуты спустя она вернулась со стаканом воды и громоздким телефоном, за которым тянулся длинный кабель. Она уселась на дальний край кровати, отвернувшись от камеры, набрала номер и приложила к уху трубку.
Я видел только заднюю часть шеи и линию подбородка Имоджен, но этого было достаточно, чтобы понять, что она с кем-то разговаривала: сначала говорила в телефон, а затем слушала.
Через какое-то время она обернулась, удивленно посмотрела прямо в камеру и беззвучно произнесла: «Господи. Сколько?»
Замолчала на мгновение. Затем ее губы зашевелились. «Вау. Погоди, я запишу». Прижимая трубку к шее, она потянулась и сделала пометку на листе. «Девять, четыре, пять», – произносили ее губы, затем она снова отвернулась от камеры, и я не видел, что она сказала дальше. Через секунду она повернулась, и я успел уловить «…все-таки беспокоит».
Я поднял ладонь.
Имоджен помахала в камеру. Ее губы сказали: «Я машу им всем рукой». Она услышала ответ, все еще махая рукой, и сказала: «Прямо сейчас машу».
Я помахал в ответ. Имоджен улыбнулась.
«Ты просто милашка», – артикулировала она, затем отвернулась и продолжила говорить в трубку.
– Стараюсь, – сказал я вслух.
Вскоре после этого Имоджен на экране закончила звонок. Она отняла трубку от уха, нажала кнопку сброса и, бросив последний взгляд в камеру, вышла из кадра.
Я уже вставал из-за стола, как вдруг она вернулась.
На этот раз она подошла очень близко к камере, наклонилась и одними губами произнесла: «Гулять».
И ушла.
6. Легко дается только энтропия
Я подождал еще несколько секунд, но Имоджен больше не появлялась в камере «Общежитие 2». А вот ее слова остались со мной. «Гулять». Хороший совет.
Пройдя на кухню, я поставил кружку на гору грязной посуды в раковине, затем пошарил в стиральной машинке в поисках какой-нибудь не сильно грязной одежды.
Я оглядел кухню: груда тарелок в раковине, остатки еды, горшочки для карри, корки хлеба с джемом, обертки от фиш-энд-чипс, банки фасоли, пустые стаканчики лапши быстрого приготовления. «Телефонные кабели могут местами прохудиться, подумал я, – но у тебя, мой друг, полный коллапс».
Для торжества хаоса достаточно бездействия ремонтников.
В отличие от меня, Имоджен всегда была организованной, аккуратной и планировала все заранее. Как правило, без нее дома все быстро шло наперекосяк. На дверце холодильника она оставила написанное разноцветными магнитными пластиковыми буквами сообщение:
Будь н чеку: энтропия хоч т захватить кухн.
Однажды вечером, как раз перед тем, как мы легли спать, я передвинул буквы «а», «е» и «ю» ниже, чтобы все выглядело так, будто они выпали из слов и свалились в кучу.
Помню, как на следующее утро, лежа в постели, услышал, как она крикнула: «Смешно!», когда полезла в холодильник за молоком для чая.
Вопрос: вы знаете, почему время идет так, как оно идет? Все дело в энтропии.
Чтобы вы лучше понимали: представьте, что моя кухня – это вселенная. Или же представьте, что ваша собственная кухня – это вселенная, если вам так больше нравится. Не суть важно. Выберите какую вам угодно кухню.
Итак. Существует относительно мало способов привести данную кухню в порядок. Поскольку есть ограниченное количество способов вместить все коробки в шкафчики, ограниченное количество мисок, которые можно поставить на тарелки, ограниченное количество бутылок и баночек, которые могут влезть на дверцу холодильника, и так далее. Я говорю «относительно мало», потому что навести в этой же самой кухне беспорядок можно миллиардами различных способов. Если батончики из воздушного риса лежат где-то, а не в своей коробке, – на кухне беспорядок. Если бутылка с молоком не стоит вертикально в холодильнике – на кухне беспорядок. Если одна или несколько мисок стоят на столешнице, на полу, на столе, в раковине – в общем, где угодно, но не в шкафу для посуды, где аккуратно сложены все миски, – значит, на кухне беспорядок.
Надеюсь, это понятно. Беспорядок более вероятен, чем порядок. Но чтобы иметь полное представление, нужно понять, насколько на самом деле более вероятен беспорядок.
Дабы доказать мизерную вероятность порядка по сравнению с беспорядком, давайте я уберу с кухни все тарелки, чашки, миски, еду, напитки, столовые приборы, тряпки, губки, полотенца, порошки и чистящие средства, а затем верну на место только один предмет – сливочное масло. Итак. Масло может находиться примерно, скажем, в пятистах разных местах кухни, где оно наведет беспорядок, и, возможно, в пяти местах, где не нарушит порядок. То есть у масла есть лишь один шанс из ста пребывать в виде, который мы бы назвали аккуратным, опрятным, чистым. Давайте я добавлю еще один предмет – сливочное масло и нож для масла. При условии, что нож для масла имеет ровно точно такое же соотношение состояний порядка и беспорядка, как и масло, то вероятность того, что оба предмета окажутся в местах, которые мы могли бы назвать аккуратными и прибранными, возрастает от одного к ста до одного к десяти тысячам. Для трех предметов – сливочного масла, ножа для масла и ломтика хлеба – вероятность того, что все три окажутся в местах, которые мы бы назвали аккуратными и прибранными, теперь составляет один к миллиону.
Уже видно, что вероятность беспорядка в миллион раз выше порядка – и это только для трех предметов. Трех. А сейчас давайте я верну обратно сотни предметов на нашу кухню. Понимаете, насколько маловероятен порядок по сравнению с беспорядком, да?
Конечно, вселенная намного больше, чем кухня, и состоит из гораздо большего количества вещей. Все эти вещи состоят из более простых вещей, которые состоят из более простых вещей, и так далее – вплоть до атомного уровня. Есть еще такой нюанс: вселенную никто не прибирает. И в итоге получается, что, если какая-то вещь или предмет во вселенной – масло, нож для масла, кирпич, камень, винтик, атом – случайно перемещается в новое положение, вероятность того, что это движение приведет к беспорядку, в бесчисленные миллиарды раз выше, чем вероятность того, что оно приведет к порядку.
Если никто не наводит порядок на вашей кухне и в вашем доме, они постепенно скатятся во все больший беспорядок и в итоге развалятся на части. Мы знаем, что такое случается со старыми домами, потому что каждый из нас видел, как неухоженные строения приходят в негодность и разрушаются. Все логично. Причина, по которой это происходит, проста: существуют бесчисленные миллиарды беспорядочных положений для вещей и предметов, из которых состоит дом – кирпичей, балок, гвоздей, косяков, балочных перекрытий и всех их атомов, – которые приводят к его разрушению, и только несколько положений порядка, при которых дом продолжает стоять.
Именно это постоянно увеличивающееся стремление к беспорядку называется энтропией.
Но погодите. Мы ведь не говорим: дом рухнул, потому что его составляющие перешли из состояния низкой энтропии в состояние высокой энтропии. (По крайней мере, большинство людей так не говорят.) Мы бы сказали: дом со временем разрушился.
Энтропия движет время вперед, и только вперед. Потому-то мы не можем отделить молоко от кофе после того, как смешаем их. Не можем восстановить вазу после того, как ее разбили; даже если вы разбили стеклянную вазу, а затем склеили ее, люди все равно скажут: «Ух ты, выглядит как новенькая». Люди со временем стареют и умирают, вещи со временем теряются, вещи со временем ломаются. Энтропия – это неизбежное постепенное движение всех вещей от состояния порядка к состоянию беспорядка и хаоса. Кубики льда тают, чай остывает, крыши проваливаются, стеклянные вазы разбиваются, люди стареют – сюда входит все, что хоть как-то может быть связано с течением времени.
Все приходит в беспорядок и упадок, все больше вещей оказывается не на своих местах, пока, в конце концов, этих неправильных мест больше не остается, потому что более крупные предметы, которые состояли из более мелких упорядоченных составляющих, тоже полностью разрушились. Чем больше наша вселенная движется к состоянию максимальной энтропии – от нагромождения сломанных вещей, находящихся не на своих местах, к куче едва узнаваемых кусочков, к куче взаимозаменяемых частиц, – тем меньше всего может произойти и тем медленнее стрелка времени движется вперед. Приведу вам еще один пример: представьте, что вы перемешали кучу песка палкой. Как бы долго вы эту кучу ни мешали, она не станет от этого еще более беспорядочной, потому что в песчинках изначально не было порядка; неважно, как меняется положение песчинок: перед вами все та же куча песка. И поскольку куча песка не может прийти в еще больший беспорядок, ее энтропия не может увеличиться, потому не получится различить «до» и «после»; ничего не может произойти, она не может измениться, или, другими словами, для кучи песка время остановилось.[2]
«Избегай Мира, – говорил Керуак, – это просто куча праха и тоски и в конце концов ничего не значит». Думаю, диагноз немного преждевременный, но нельзя винить науку. Когда энтропия достигает универсального максимума, ничто не может быть чем-то, или делать что-то, или означать что-либо. Наша вселенная не закончится сильным, кульминационным финалом, дарующим откровение, нет. Скорее, она медленно проползет по бессмысленной мешанине рассеивающихся частиц к самой невыразительной, однообразной, совершенно посредственной размытости, которую только можно вообразить, и там перестанет существовать.
Понимаю, звучит мрачновато, но важно сразу это проговорить. Однако добавлю – надеюсь, вас это приободрит, – что среди всего этого мрака и разрухи есть немного научного волшебства. Видите ли, энтропия и время определяются не константами – как, скажем, скорость света, – а вероятностью, и только вероятностью. Что я имею в виду: нет правила, которое прямо говорит, что предметы на кухне не могут упасть, свалиться или каким-то образом перейти из состояния беспорядка в состояние порядка по чистой случайности. Просто шансы, что такое случится, исключительно, невероятно, чрезвычайно, невообразимо малы по сравнению с шансом обычного движения «от порядка к беспорядку», поэтому в целях удобства мы говорим, что этого никогда не происходит.
Но это возможно.
Придется, конечно, понаблюдать за бесчисленными миллиардами кухонь в течение бесчисленных миллиардов лет, чтобы увидеть хотя бы зачатки чего-то подобного, но! Теоретически это возможно.
Каково будет испытать подобное?
Ощущения будут наверняка невероятными – словно на наших глазах произошло нечто волшебное и невозможное, как явление фей. И разве у нас не возникнет ощущения, что кухня каким-то образом перенеслась в прошлое?
7. Письмо
Уборка на кухне – это своего рода медитация; полностью погрузившись в процесс, я испытывал глубокое удовлетворение, раскладывая тарелки, чашки, сковородки и приборы в шкафы и выдвижные ящики. Когда я сливал грязную воду после мытья полов в унитаз, в дверь постучали.
В дверном проеме стояла Дэнни Грейсон из квартиры сверху и держала в руках кипу писем – адресованных мне и Имоджен, – которые доставляли в ее квартиру по ошибке последние три недели. В выражении женщины так и читалось: «Чтоб этого почтальона. У него всего одна задача»; а в моем – «И не говорите. Извините еще раз». Ситуация стала настолько привычной, что и слова были не нужны.
Я отнес всю кипу на кухню и начал ее перебирать. Реклама, уведомление о задолженности, реклама, реклама, уведомление о задолженности, уведомление о задолженности, реклама, банковская выписка, уведомление о задолженности, уведомление о задолженности, уведомление о задолженности. А еще…
– Ох.
От удивления что-то сжалось в груди, и звук вырвался непроизвольно.
Я стоял как вкопанный, все еще держа в руке предыдущее уведомление о задолженности.
Из кучи массово напечатанных бумажек всплыл небольшой простой конверт с написанным от руки адресом. Мое имя и адрес были выведены маленькими, аккуратными, черными заглавными буквами, а рядом – идеально наклеенная марка. Стоило мне увидеть письмо, как я сразу понял: оно от Эндрю Блэка.
– Ох! – снова выпалил я.
Не думал, что снова когда-нибудь увижу его аккуратный почерк.
Всем известна эта история. А я знаю о случившемся не понаслышке.
Шесть лет назад Эндрю Блэк отказался от писательской карьеры, «Двигателя Купидона» и вообще всего. Он выпустил мировой бестселлер, а затем исчез. Даже те немногие, кто знал его и кто работал с ним над романом, больше никогда о нем не слышали. Пристань вы ко мне с расспросами, почему же он так поступил, я бы, возможно, сдался и ответил бы, что оборвать все связи с миром, особенно в писательской сфере, вынудили его определенные обстоятельства. Но со мной эти обстоятельства никак не связаны. Одно время после смерти отца мы вроде как даже сблизились – назвать нас друзьями у меня язык не повернется, – и я считал… Я надеялся, что он напишет, как только все уляжется. Если не мне, то хотя бы кому-нибудь другому. Но, насколько мне известно, никто так и не получил от него вестей.
До этого дня.
Я повертел письмо в руках.
Судя по почтовому штемпелю, его отправили несколько недель назад. Конверт я распорол с клокочущим внутри беспокойством. Светские беседы, обмен любезностями, вопросы вроде «как дела» – все это не про Эндрю Блэка. Что-то с ним происходит, или что-то случилось, а я узнаю об этом только сейчас.
Внутри лежал только полароидный снимок и маленькая сложенная записка.
На фотографии была черная сфера, лежавшая, видимо, на столе Эндрю. Рядом с ней он поместил линейку, и, хотя снимок был нечетким, было видно, что диаметр объекта составляет около десяти сантиметров. Больше ничего рассмотреть я не смог: снимок был слегка размытым, а сфера – совершенно черной. Единственное, что выдавало ее трехмерность, – это легкий полумесяц блика на левой стороне и столь же слабое отражение стула, стоящего где-то справа.
Объект – чем бы он ни являлся – был черным, как дыра в пространстве. Меня это нервировало.
Пишу я это не просто так. Я очень долго думал, стоит ли вообще включать мою реакцию, но факт остается фактом. Мне сразу же не понравился этот снимок. Что касается того, важно ли это и нужно ли придавать этому значение, – уже совсем другой вопрос.
Я отложил кадр и развернул записку Эндрю.
Всего семь слов, написанных все тем же четким почерком:
Томас,
Как думаешь, что это?
Эндрю Блэк
8. Ситуация с Марией Магдалиной
– Нет, – сказала Софи Алмондс, едва я выложил на стол между нами письмо и фотографию черной сферы Блэка. Ей хватило одного взгляда, чтобы узнать почерк, затем она подняла ярко-голубые глаза и посмотрела на меня, спокойная, как лодка на ровной глади моря.
– Но что это такое? – спросил я, имея в виду объект на фото.
– Не знаю. Бильярдный шар? Зачем он тебе это прислал?
– С какой целью Эндрю Блэк вообще что-то делает?
Она не ответила.
– Может, потому что… Отец ведь умер, и ему теперь не к кому…
Софи скрестила руки на груди.
– Я не хочу это обсуждать.
Софи Алмондс работала в издательстве «Хэйс и Хит» литературным агентом. Она помогала клиентам – включая меня – искать заказы, заключать контракты и получать авансы за романы и любые другие произведения. Я брался за все, что мне предлагали, а предлагали, честно говоря, немного, но Софи Алмондс никогда не сдавалась. К сожалению, формально она все еще являлась литературным агентом Эндрю Блэка, из-за чего говорить с ней о его письме было весьма… проблематично.
Софи имела железное правило никогда не обсуждать клиентов с другим клиентами – особенно Эндрю Блэка, – а еще я как-то заметил, что от одного упоминания имени этого человека ее челюсть слегка напрягалась. Чуть больше шести лет назад Софи Алмондс заключила сделку десятилетия, а потом эта сделка провалилась из-за причуд Блэка (он бы сказал не причуд, а принципов). В общем, если бы я мог в тот день поговорить о письме Блэка с кем-нибудь еще, я бы так и сделал.
– Я волнуюсь за него. Вдруг у него проблемы? – продолжил я, поставив локти на стол. – Думаю, это… не то чтобы крик о помощи, но… Похоже, он старается меня заинтриговать, чтобы я ему ответил.
Я ждал, но Софи молчала.
– Я все размышлял, почему так мало информации. Почему не написал подробностей? Мы с ним столько лет не общались… Думаю, он хочет вынудить меня ответить. Вот это, – я указал рукой на фото и записку, – приманка. Очень хорошая приманка.
Я перевернул конверт, чтобы показать адрес на обратной стороне.
– Он даже оставил информацию о своем местоположении. Чтобы удостовериться, что я отвечу.
– А ты собираешься отвечать?
– Да. Ну, планирую.
Большие голубые глаза Софи ярко блестели, как твердое полированное стекло. Казалось, меня распарывают по стежку зараз.
– Но пока что ответа ты не дал, я правильно понимаю?
– Пока нет.
– Хорошо. – Ее взгляд переключился на Темзу, виднеющуюся из окна паба. – И не отвечай. Так будет лучше.
Ростом Софи Алмондс была где-то метр шестьдесят, ее темно-каштановые волосы, в которых проглядывало все больше седых волосинок, доходили до плеч, и она часто завязывала их простой черной лентой. Она была спокойной, внимательной женщиной с большими выразительными глазами и телосложением бегуньи на длинные дистанции. Софи напоминала мне маленькую, жилистую хищную птичку, что живет на выжженных вересковых пустошах и никогда не теряет бдительности, поскольку от этого зависит ее жизнь. Однажды мне пришла мысль – навеянная или тем, как она себя держит, или холодным, непоколебимым взглядом, или, может быть, ее маленькой черной записной книжкой, в которой, как мне казалось, содержатся многие секреты мира, – в общем, однажды мне пришла мысль, что птичка-Софи раньше была сфинксом, но потом ее победил некий великий герой, обрекая на двуногое существование. Ее явно не стоило недооценивать.
«Софи Алмондс за тридцать, – думал я, – и, скорее всего, у нее скандинавские корни». Но это только предположение, поскольку личную информацию она держала в тайне – как и дела клиентов. И как я уже говорил, давить на нее очень неразумно; делать это стоит только в крайних случаях.
– Я волнуюсь за него, – повторил я.
– Мой тебе совет, – отозвалась Софи через мгновение, медленно переплетя пальцы. – Положи фотографию и записку обратно в конверт, а затем отдай конверт мне.
– Зачем?
– Чтобы я отнесла его домой и сожгла.
Я посмотрел на нее.
– Как-то радикально.
– Да нет. Во-первых, я считаю, стоит уничтожить адрес Эндрю Блэка, а то вдруг его кто заполучит. Мы по-прежнему представляем его интересы, а значит, обязаны защищать его анонимность.
Я выгнул бровь.
Софи вздохнула.
– Ладно, послушай. Не стоит ему отвечать. Хочешь моего совета? Это он и есть. Другого не жди. Не отвечай ему.
– Хорошо.
– Отлично.
– Нет, я понял тебя, только вот…
– Только что?
– Я знаю, ты не испытываешь к нему теплых чувств.
Софи молчала.
– И я не виню тебя за это. Ты заключила с ним потрясающую сделку на серию книг, а он взял и…
Софи посмотрела на меня.
– Сделал то, что сделал, – закончил я.
Сквозь профессиональное самообладание прорвалась слабая улыбка, в которой не было ни капли теплоты.
– Серия книг, – тихо повторила она и издала то ли смущенный смешок, то ли горький вздох. Что бы это ни был за звук, меня он прорезал, как битое стекло.
Я выждал несколько мгновений.
Часы отсчитывали секунды, река неслась вдаль.
– Послушай. Я понимаю, что грузить тебя этим не стоит, но, как уже сказал, я боюсь, что у него проблемы.
– Нет у него проблем.
– Ты точно в этом уверена?
Софи не ответила.
– Вот видишь! Он никогда не попросит прямо, никогда не скажет, что у него на уме, как нормальные люди. И что-то срочное, какая-то острая проблема заставила его вот так… – Я придвинул записку к ней. – Я волнуюсь за него. Сильно волнуюсь.
– С чего бы?
– Что значит «с чего бы»?
– Том, ты же и сам его недолюбливаешь.
– Я… Нет, это не так…
– Именно так.
Я одарил Софи взглядом.
– Именно так, – продолжила она. – И это нормально. С какой стати он тебе должен нравиться? Том, почему тебя так заботит Эндрю и его чертова книга? Может, лучше об этом поразмышляешь, вместо того чтобы… – она махнула рукой на записку.
Я не отводил взгляда.
– Я волнуюсь за него, – повторил я. – А вот это, – я придвинул к записке фотографию, – чем бы эта штука ни была, меня она тоже беспокоит.
Софи уставилась на меня. Затем сложила руки на груди, пытаясь прочесть мое выражение, проникнуть в мысли.
– Это как-то связано с его бреднями? – наконец, произнесла она. – С его этой энтропией и концом света?
– Просто взгляни на снимок.
Софи не сразу, но перевела взгляд на лежавшее рядом фото и, казалось, впервые по-настоящему на него посмотрела. Она свела брови, и над ними появилось несколько аккуратных, маленьких морщинок. Подняв снимок, она долго рассматривала его, словно ювелир, оценивающий камень. Вертела его так и сяк, подносила к свету, осматривала оборотную сторону и наконец положила на стол и подтолкнула обратно к записке указательным пальцем – тук-тук-тук, – пока оба предмета не встали в одну линию, а после долго молча их разглядывала. В конце концов она заговорила тихим, ровным голосом, не поднимая глаз:
– Том, знаешь, как устроена ловушка для енотов?
– Я… Нет, не сказал бы.
– Очень умное приспособление, – она не отрывала глаз от фото и записки. – Берешь маленькую клетку, очень маленькую – размером с чайник. Крепишь ее к земле и внутрь кладешь что-нибудь блестящее.
– Что, например?
– Неважно, главное, чтобы сверкало – страз или бриллиант. Что хочешь. Главное, чтобы этот блестящий предмет нельзя было достать через прутья клетки.
Софи бросила на меня быстрый взгляд.
– Ага, – отозвался я.
– После этого ловушка готова. Оставляешь ее и идешь домой. А потом появляется енот. Он видит блестяшку и пытается вытащить ее из клетки. И так пытается, и этак – еноты ведь любят блестящие вещи, – и ничего у него не получается. Но и сдаться енот не может; не может даже представить, что ему придется расстаться с найденным сокровищем, поэтому он остается на месте, сжимая в лапах находку. На следующее утро, когда ты вернешься с мешком и ему захочется спрятаться, – он не сможет, потому что слишком уж блестящая, чудная и интригующая штука ему попалась.
– Тогда его и надо ловить.
– Именно. Открепляешь клетку, поднимаешь ее вместе с енотом и бросаешь в мешок.
– Так ты думаешь, это ловушка от Эндрю?
– Как знать, – сказала Софи, все еще разглядывая оба предмета.
Прошло несколько секунд. Софи погрузилась в свои мысли и не двигалась.
– Софи?
– После этого завязываешь мешок и бросаешь его в реку.
– Что, прости? – спросил я, а когда она не ответила, добавил: – Ты шутишь, да?
Она подняла глаза; на лице ее было серьезное выражение.
– Могу я тебе кое-что показать?
– Э-э, да. Конечно.
Софи на секунду отвернулась, а потом положила на стол маленькую черную сумочку. Оттуда она достала кошелек, открыла его и вытащила из кармашка крошечный квадрат сероватой бумаги.
– Прочти, пожалуйста, – сказала она, передав его мне.
Квадратик оказался аккуратно сложенным куском газеты. Он раскрылся в длинную, узкую колонку текста. Старая газетная рецензия на «Двигатель Купидона».
Я принялся читать. «Непревзойденная игра с ожиданиями читателя, бесчисленные, безупречно реализованные сюжетные повороты» – и все в таком духе. Слова «шедевр» и «гений», встречались чуть ли не через каждое слово, похвала и восхищение возрастали в геометрической прогрессии, исключая всякую возможность беспристрастной критической оценки того, что, в конце концов, являлось всего лишь детективным романом.
– Вау, – я сложил вырезку и протянул ее обратно Софи.
– И не говори.
– Что-то мне подсказывает, книга ей понравилась.
– Ага. Я тогда вырезала эту статью и сохранила только потому, что раньше никогда не видела ничего подобного. И еще мне было приятно: я почувствовала себя причастной к чему-то особенному. Понимаешь? Теперь я храню эту рецензию как напоминание.
– О чем?
– О том, что если роман вроде «Двигателя Купидона» однажды снова попадет мне на стол, надо держаться от него подальше. Это невозможно, – она подняла рецензию. – Не может человек, выпустивший подобную книгу, быть хоть сколько-нибудь вменяемым и нормальным. Ты хоть представляешь, сколько в нее вложено работы, сколько ради нее пожертвовано?
– Представляю.
– Тогда ты знаешь, что любой, кто способен достичь того, чего добился Блэк, – потенциально очень опасный человек.
– Что? Нет, не думаю…
– Да ладно тебе, Томас, – сказала она. – Ты же читал его книгу. Сколько там – тысяча страниц? И ни единого лишнего слова. Он достиг небывалого уровня манипуляции. Заставляет читателя верить, что верх – это низ, а черное – это белое. – Она подвинула фотографию черной сферы ко мне. – Несомненно, это приманка. Но не просто хорошая. А гениальная. И, уверяю тебя, очень хорошо продуманная. Только сумасшедший решится на нее клюнуть.
Я откинулся на спинку стула, не зная, что ответить.
– Такое вот мое мнение, – сказала Софи. – Советую тебе держаться подальше от Эндрю. Человек с такими мозгами способен на все. Он заставит тебя делать и думать что угодно, заставит тебя быть кем угодно.
– Да ладно тебе, – сказал я, поднимаясь на ноги. – Не отрицаю, со словами он обращается мастерски, но…
– Что есть мир, Томас? Не отвечай сразу. Я хочу, чтобы ты сначала хорошенько подумал. Из чего состоит мир, в котором ты живешь? Из камней, травы и деревьев или из статей, сертификатов, записей, файлов и писем? Из почвы, рек и песка или из мыслей, идей, верований и мнений? Позволь задать еще один вопрос: что это за мир, в котором всего семь слов, – она постучала костяшками пальцев по записке Эндрю, – семь слов, сложенных в определенной последовательности, могут заставить уравновешенного человека слепо броситься в неизвестность; туда, где он ни разу в жизни не бывал?
– Я не говорил, что собираюсь к нему ехать.
– Кого ты обманываешь? Это я и пытаюсь до тебя донести: ты считаешь Блэка своим другом, коллегой, а он все это время играл с тобой, как с чертовой марионеткой, подводя все ближе к краю обрыва.
– …
– Вот только не надо на меня так смотреть. – Щеки Софи вспыхнули. – Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Иначе уже бы ответил ему, а не пришел бы ко мне как к мамочке за разрешением.
Я хотел ей ответить, но слова не шли с языка. Повисла неловкая тишина.
– Про край обрыва ты это загнула, – неубедительно выдал я.
– Что?
– Он только сказал мне, что я ужасный писатель. Думаю, край обрыва – это про тебя.
Софи уставилась на меня большими голубыми птичьими глазами, пытаясь отыскать смысл сказанного, словно тот был мышью, убегающей через вереск. А затем… Она расхохоталась. Усталым смехом, после которого говорят: «Твою мать» – и облегченно обмякают в кресле.
– Извини.
– О, Том. Слушай, давай больше не будем об этом. Пожалуйста. Мне будет намного спокойнее, если он так и останется… пропавшим.
Я посмотрел на фото и записку. Кивнул.
– Это значит «да»?
– Это значит «я постараюсь».
Софи Алмондс испустила долгий, глубокий вздох. Взяла записку.
– Не удивлюсь, если это единственное, что он написал после «Купидона». Ты ведь понимаешь, что формально, согласно контракту, эта записка принадлежит издательству?
– Конечно.
– Отлично, – сказала она, затем подняла листок бумаги, словно взвешивая его. – Что думаешь? Долгожданное продолжение романа Эндрю Блэка?
Я уставился на маленький листок бумаги с семью словами, который она зажала между указательным и большим пальцами.
– Для черновика сиквела маловат.
– Отчего-то мне кажется, что издательство и на такое согласится. – Она сложила записку и положила ее обратно в конверт. – Так что давай убережем их от лишних хлопот.
– Да, думаю, так будет лучше.
Следом она сунула фото в конверт, закрыла его и толкнула ко мне.
– Тебе тоже лишние хлопоты не нужны. Я серьезно.
Я поднял конверт и сунул его в карман куртки.
В голове всплыли старые воспоминания. Они выпорхнули из глубины сознания, спровоцированные этой встречей с Софи, и после многих лет свелись к кружащемуся калейдоскопу статичных картинок: раскрытая кожаная сумка для книг, капли воды, стекающие по глянцевой краске, осколки стекла на коврике у двери – они трепыхались и бились о стенки разума, словно стремились к свету разговора.
Я поднял стакан и сделал большой глоток, мысленно прогоняя их прочь.
– Будь их больше, что-то бы изменилось? – сказал я, опуская стакан. – Твое мнение о нем, имею в виду.
– Если бы он написал больше книг? Нет, – сказала Софи без раздумий. – Но я смогла бы закрыть ипотеку. А это было бы неплохо.
– Отец был о нем высокого мнения.
Софи поймала мой взгляд.
– Твой отец, про которого мы не будем сейчас говорить, был высокого мнения о таланте Блэка.
Она взяла кошелек, открыла его, убрала газетную вырезку и уже собралась сунуть кошелек обратно в сумку, как тут заметила мой опустевший стакан.
– Выпьем еще?
* * *
– Том, ты когда-нибудь слышал о Фредерике Клэбере?
Софи вернулась c новой порцией напитков. Я глядел в окно, наблюдая за рекой, погрузившись в свои мысли.
– Что? О ком, прости?
– Фредерик Клэбер, – сказала она, передала мне кружку пива и села за стол. – Великий ученый. Первый перевел «Беовульфа».
– Я мало что знаю про «Беовульфа».
Это было правдой. По какой-то причине у родителей не было ни одного издания «Беовульфа», а я никогда особо не желал купить его и прочесть.
Софи явно удивилась.
– Правда?
– Ну, я знаю содержание, а про переводы не особо.
– А хотел бы?
– Давай.
– Тогда слушай. Проблемы с переводом «Беовульфа» мистера Клэбера, – начала Софи, – начинаются со староанглийского слова aglæca.
– Что означает а… – язык свело и он отказался работать, как упрямая лошадь перед препятствием.
– Aglæca.
– Да, вот это слово, что оно означает?
– В этом-то и дело. Никто не знает. Значение его утеряно, поэтому мы можем только предполагать, основываясь на том, как оно используется в тексте. Предположение Клэбера еще в 1922 году было немного… странным.
– В каком смысле?
– Это слово встречается в «Беовульфе» несколько раз. Например, как описание Гренделя, матери Гренделя и дракона.
– Ага, то есть что-то вроде «монстра»?
– А-ха! Мистер Клэбер так и решил. В своей книге, которая, кстати, считается эталонным исследованием «Беовульфа», он переводит слово aglæca как… Секунду. – Софи достала из сумки маленький черный блокнот и листала его, пока не нашла нужную страницу. – «Монстр, демон, исчадие ада». С матерью Гренделя это слово используется немного в другой форме: aglæc-wif.
– Злая женщина?
– Клэбер выбрал миленькое… «тварь» и «женщина-монстр». Все, кто был после Клэбера, тоже недалеко ушли. – Софи перевернула страницу. – Кеннеди называл ее «чудовищной ведьмой», у Траска она «уродливая троллиха», Чикеринг решил, что она «женщина-монстр», а Дональдсон называл ее «женщиной, женой-монстром». Даже Шеймас перевел aglæc-wif как «чудовищная дева ада», можешь поверить?
– Могу, – сказал я. – Не понимаю, в чем проблема.
– В том, что этим словом в поэме также описывают самого Беовульфа. – Софи нарочито громко захлопнула книжку. – Что теперь скажешь?
Я задумался.
– Беовульф ведь не был монстром?
– Нет. И когда этим словом описывается Беовульф, – этим же самым словом, важно заметить, – мистер Фредерик Дж. Клэбер переводит его как «воин, герой».
– Хм.
– Именно.
– Похоже, мистер Клэбер придумывал переводы на ходу.
– Понимаешь, да? Один ученый по имени… – записная книжка снова открылась, – Шерман Кун вполне разумно предположил, что aglæca стоит переводить как «боец, доблестный воин, опасный противник, тот, кто отчаянно борется».
– И ты сейчас будешь мне доказывать, что он прав.
– Буду. Понимаешь, Грендель и дракон явно прописаны как монстры, но в тексте «Беовульфа» нет ничего, что указывало бы на то, что мать Гренделя – «чудовищная дева ада» или «троллиха», – а наоборот. Она – женщина-воин, опытная, сильная женщина, которая во всем равна Беовульфу. Но наш мистер Клэбер, сидя в одиночестве за письменным столом, всего несколькими взмахами пера и парой чернильных букв изменил ее. Превратил данного персонажа в совершенно иного. Низвел ее до твари. Твари! И на следующую сотню лет лишил ее образа всех школьниц, всех молодых девушек в этом мире, которые ищут пример для подражания. Возможно, не на сотню лет, а уже навсегда, ведь что написано пером…
– Как и в ситуации с Марией Магдалиной.
Софи кивнула.
– Как и в ситуации с Марией Магдалиной.
Я уставился в стакан, не зная, что еще добавить. В голове всплыла строчка из Пола Остера: «Одно слово становится другим, одна вещь – другой», – но я промолчал. Секундная стрелка на часах над баром продолжала свой ход, за окном текла Темза, а энтропия вселенной неуклонно возрастала.
– Зачем тебе эта информация про Беовульфа? Книга будет?
Я не стал говорить «кто-то из клиентов пишет про Беовульфа», но, по сути, задал именно этот вопрос, и стоило словам слететь с моих губ, как я уже знал, что Софи не даст ответа.
– Кто-то должен отслеживать такие случаи, – пожала она плечами. – Кстати, Фредерик Дж. Клэбер на самом деле не Фредерик, а Фридрих.
– Ты вроде упомянула тысяча девятьсот двадцать второй. Думаю, это все объясняет.
– Думаю, да. – Софи твердо посмотрела на меня. – Но одно мы можем сказать точно: он, не задумываясь, переписал историю по своему усмотрению.
Я отхлебнул пива, поставил кружку на стол. Пена к тому времени почти опала, оставив на поверхности пару белых пузырьков, но и те исчезали с мягким шипением.
– Софи?
– Что?
– Мы ведь сейчас все еще говорим об Эндрю Блэке?
Софи наклонилась вперед, опираясь на локти, и тихо ответила:
– Отнеси конверт домой и сожги.
9. Осенние листья
Я вышел из паба около девяти вечера и следующие десять минут стоял у автобусной остановки напротив, уткнув подбородок за воротник пальто, и, несмотря на холод, был рад немного побыть на улице. Сильный зимний порыв ветра подул с реки, влетел в меня и рассеялся, наполнив воздух ароматом дождя.
Осень в этом году наступила рано, листья быстро опали от морозов. Как и всегда, смена сезонов застала меня врасплох. Я проводил слишком много времени в четырех стенах квартиры и в своей голове, так что заметил, что выдохлось лето, только когда вышел в тот день из дома и понял, что придется вернуться за курткой.
Приятно было снова оказаться в мире, чувствовать, как меня подгоняет порывистый ветер. Приятно было чувствовать себя безымянным, маленькой пылинкой среди бесчисленных уличных фонарей, фар, машин, прохожих, зданий, дорог и шума ночного города. Приятно было ни с кем не разговаривать и ни о чем не думать.
Из чего состоит мир, в котором ты живешь? Из камней, травы и деревьев или из банковских выписок, статей, сертификатов, записей, файлов и писем?
Я отмахнулся от вопроса Софи, сосредоточив внимание на вещах – сотне вещей, сделанных из материи, химических элементов, звуковых и световых волн, движущихся и недвижимых, едущих, прогуливающихся или летающих вокруг меня. К счастью, ничто из этого города, полного миллионов жизней, кирпичей и огней, – ничто из этого не проявляло ко мне ни малейшего интереса. Ничто не зависело от моих мыслей или идей. Зданиям и уличному движению было совершенно плевать, написал ли я ответ Эндрю Блэку, закончил ли сценарий, получил ли звонок от Имоджен, принял ли сбой на линии за голос покойного отца, несущего чушь. Все это было неважно. По большому счету, все это не имело никакого значения. Я закрыл глаза, ощутил прикосновение холодного ветра к лицу и широко улыбнулся в воротник куртки.
Шли минуты.
К ветру присоединился слабый ледяной дождь, обжигающий щеки и лоб. Я был совсем не против. Мимо прошла группа подростков. Я наблюдал, как они шумно и кокетливо болтают, удаляясь все дальше по улице. Счастливые и пьяные, они смеялись и шутили, несмотря на плохую погоду, все время как бы невзначай касались друг друга – пихались, спотыкались, притворялись, что выталкивают друг друга на дорогу. Я вспомнил смех Имоджен, о том, как она внезапно запрыгивала на меня, стоило зазвенеть будильнику, и кричала во весь голос: «Готовсь!». Вспомнил, как ее душил смех, как она вырывалась, когда я с боем прижимал ее к постели и щекотал, как она истерически хихикала над видео с Ютуба про собаку по кличке Фентон, преследующую стадо оленей. Представил, как блестят ее глаза, когда от смеха она не может говорить и даже перевести дыхание. А затем перед внутренним взором явился – словно незваный гость – яркий взгляд Софи, ее серьезное выражение лица и костяшки ее пальцев, постукивающих по письму Эндрю Блэка.
Тук.
Тук.
Тук.
В воспоминании постукивание стало медленнее и громче, словно действие происходило в истории Викторианской эпохи и в дверь стучался гребаный Призрак Грядущего Рождества.
Боже. Мой мозг просто не дает мне продыху.
В отдалении один из парней схватил девчонку и рванул с ней вперед, сквозь дождь. «Отвали, Крейг! Крейг, ты – конченый придурок, тупица…» – закричала она, ударив его, но только для вида, в то время как остальные, смеясь, плелись позади.
Я улыбнулся и засунул руки в карманы.
«Думаю, край обрыва – это про тебя», – вот что я сказал Софи.
Черт.
Я почувствовал знакомое трепетание в глубине сознания – старые воспоминания снова зашевелились. «Расскажи ей», – заголосили толстые мохнатые тельца, и я услышал – хлоп-хлоп-хлоп – сухой шорох крыльев в темноте. – «Расскажи ей, расскажи ей, расскажи ей, расскажи ей».
Столько лет прошло, а они все еще не теряют надежду вырваться на волю.
Я запустил пальцы в мокрые волосы, чтобы заставить голоса замолчать.
До встречи с Софи я ходил по книжным магазинам. В каждом выбирал книгу с полки, где стоял «Двигатель Купидона», вытаскивал ее и пихал поверх других, пока она со стуком не падала в темное пространство у задней стенки. Я занимался этим несколько лет и обычно жертвой выбирал Борхеса, если он был в наличии. Всегда считал, что уж он-то возражать не будет. Так вот, если спрятать таким образом одну книгу, на полке будет больше места. Тогда я создавал пустоту шириной с книгу между «Двигателем Купидона» и следующим произведением. Со временем это стало ритуалом. Неважно, в какой книжный я захожу, – всегда оставляю пустое место размером с книгу для второго романа Эндрю Блэка. Не знаю зачем. Может, считал, что кто-то из нас – Эндрю, я или отец – должен хоть что-то опубликовать. Стрелка времени отсчитывала наше прошлое, настоящее и будущее, и поскольку отец уже вряд ли что-то выпустит… В общем, не знаю я. Долгие годы создавал эти пустоты в книжных магазинах по всему Лондону, хотя знал, что второй книге Эндрю Блэка никогда не бывать. В последнее время начинаю думать, что создавал пустоты, чтобы не столько освободить место для надежды, сколько продемонстрировать отсутствие.
Я переминался с ноги на ногу, чтобы чуть-чуть согреться, наблюдая, как подростки исчезают в дверях бара. Я испустил долгий вздох, отчего из воротника куртки повалил пар. Шесть лет назад Эндрю Блэк столкнул Софи Алмондс с пика успеха, и было ясно, что она никогда ему этого не простит. Однако ее реакция застала меня врасплох. И слов о разрешении я тоже не ожидал. Неужели я и правда искал разрешения написать Эндрю? Не знаю. Всякий раз, когда задавал себе этот вопрос, не получал в ответ ничего, кроме смутной картины – как я пробираюсь через заросли ежевики. Заросли не имели злого умысла – не было и намека на ловушку для енотов, о которой говорила Софи, – это были просто заросли ежевики, но все же густые и колючие. «Зайти легко, – казалось, говорила эта картина, – а вот выбраться…»
Я втянул воздух через воротник и сосредоточил внимание на завораживающем, бесконечном свечении фар, движущихся по дороге. Вскоре из-за угла улицы показался автобус, и я присоединился к зашевелившейся, блестящей от дождя очереди, выстраивающейся к его прибытию.
* * *
Может, я не хотел возвращаться в нашу пустую маленькую квартирку, может, хотел еще немного побыть в реальном мире или, может, так и планировал с самого начала – как бы там ни было, я решил сойти на пару остановок раньше и преодолеть остаток пути домой пешком.
Мой маршрут пролегал по краю парка Виктории, в котором ветер волнами поднимал с земли огромные ворохи опавших листьев и вертел, кружил их, бросал мне под ноги со свистом и шорохом, вздымал их в смерчи, все выше и выше, под самые лампы уличных фонарей, создавая невероятный шум на тихой и пустой улочке.
Я опустил голову и часто заморгал, чтобы пробраться сквозь бурю листьев, и вдруг поймал себя на том, что думаю об истории, которую Софи рассказала мне несколькими месяцами ранее. Почти в каждую нашу встречу я видел маленькую черную записную книжку, на страницах которой содержались подробности какой-нибудь новой истории, набор имен, дат и терминов, на которые она постоянно ссылалась, рассказывая что-нибудь интересное. Однажды она рассказывала мне об Иоганне Фусте, нечистом на руку деловом партнере Иоганна Гутенберга, изобретателя книгопечатного станка. Судя по всему, Фуст предал Гутенберга, еще его арестовали по подозрению в колдовстве, а впоследствии он стал – по мнению некоторых историков – прообразом «Доктора Фаустуса». В другой раз она рассказала мне о человеке по имени Томас Харви. Он украл мозг Альберта Эйнштейна, тридцать лет хранил его в холодильнике для пива и в свободное время изучал его, разрезая на кусочки. Харви часто пил с Уильямом Берроузом, и Берроуз любил хвастаться друзьям, что в любой момент может раздобыть кусочек мозга Эйнштейна. Были и другие истории, например о том, как ошибка в алгоритмах книжных онлайн-магазинов привела к тому, что книга о ДНК мух получила цену в 23 698 655,93 доллара в интернет-магазине Amazon; о том, как появилось слово «амперсанд», и почему на короткое время в алфавит добавили знак &. Однако в тот вечер, когда я пробирался через груду кружащих ворохом листьев, мне вспомнилась история о математике по имени Барбара Шипман.
Шипман работала исследователем в Университете Рочестера в штате Нью-Йорк и изучала математические многообразия – необычные, теоретические конструкции, описываемые сложной математикой.
Как ни странно, многообразия могут существовать более чем в трех измерениях. В частности, Шипман работала с шестимерными конструкциями, известными как «флаговое многообразие». Как ей, трехмерному человеку, удалось постичь теоретическую шестимерную конструкцию? Никак. Она нашла способ визуализировать эту конструкцию в форме, доступной для человеческого разума, после детального изучения теней, отбрасываемых на плоскую поверхность, такую как стена («к радости поклонников Платона», – добавила Софи). Трехмерный куб отбрасывает тень в виде двухмерного квадрата, а флаговое многообразие отбрасывает сложную двухмерную тень, которую человеческий мозг способен понять и обработать. Полагаю, изрядное количество математиков пыталось рассчитать и спроецировать тень флагового многообразия, но когда за дело взялась Барбара Шипман, в своей работе она задействовала не только математический талант. Она была дочерью пчеловода. А потому увидела в тени флагового многообразия то, чего никто другой никогда раньше не замечал.
Понимаете, пока математики изучали многообразия, пчеловоды тоже ломали головы над загадками своего ремесла. На протяжении тысячелетий они не могли понять поведение пчел-разведчиков по возвращении в улей. Пчелы всегда исполняют «виляющий» танец: потрясывая задней частью, они выписывают телом серию петель и восьмерок. Судя по всему, так они с поразительной точностью передают другим пчелам маршруты к лучшим источникам пыльцы, но вот каким образом пчела-разведчик способна передавать такие сложные данные с помощью обычного танца, всегда оставалось загадкой. То есть оставалось до тех пор, пока Барбара Шипман не увидела в тени, отбрасываемой флаговым многообразием, не сложную геометрическую форму или теоретическую шестимерную конструкцию, а танец пчел с пасеки отца.
Легко забыть в суете повседневной жизни, что логические выводы не всегда скучные и обыденные. Иногда они настолько неправдоподобные, настолько удивительные и причудливые, что не всякий здравомыслящий человек сможет сразу их осознать и принять. Логический вывод, сделанный из наблюдений Барбары Шипман, состоит в следующем: мы, люди, проживаем жизнь в привычных трех измерениях, а вот пчелы – нет. Пчелы живут и общаются в шестимерном. Как это выглядит на практике? Как видят мир пчелы? Как они видят нас и наши трехмерные занятия? Ответить на эти вопросы не получится, поскольку человеческий разум совершенно не в силах постичь эти ответы. Существуют вещи, которые нам не дано понять.
Я шел по вечерней улице сквозь ворох листьев, скользя пальцами по холодной ограде парка, и представлял, как Барбара Шипман просыпается в день своего открытия, чистит зубы, одевается и завтракает и готовится встретить, как ей тогда казалось, очередной обычный день. Простая истина: мы не имеем ни малейшего представления о том, что несет грядущий день. Раздастся звонок, на стене промелькнет тень, самолет упадет с неба, ни с того ни с сего придет письмо – и в мгновение ока мир перевернется с ног на голову.
Я остановился на ветреном перекрестке одинокой дороги к дому, и вокруг меня кружились листья. Поверни я налево, меньше чем через пять минут оказался бы дома. Продолжи идти по дороге рядом с парком – достиг бы ярко-красного почтового ящика напротив старой, заколоченной церкви в конце улицы.
Я расстегнул молнию кармана и вытащил письмо Эндрю Блэка. Голодный ветер тянул и выдирал его из рук, но моя хватка была крепкой.
«Отнеси конверт домой и сожги», – сказала Софи.
Я разглядывал свое имя и адрес на конверте, пока тот бешено трепыхался между пальцами, пытаясь освободиться. Я чувствовал края снимка внутри.
«Как думаешь, что это?»
«Несомненно, это приманка. Только сумасшедший решится на нее клюнуть».
Я сунул руку в карман и вытащил второе письмо, адресованное Эндрю. Мой ответ – написанный, проштампованный и готовый к отправке.
«Не отвечай ему. Хочешь моего совета? Это он и есть. Другого не жди. Не отвечай ему».
Ветер с ревом пронес мимо ворох листьев, и они, шурша, унеслись к почтовому ящику у старой церкви. Засунув обе руки – и оба письма – поглубже в карманы куртки, я склонил голову и зашагал следом.
* * *
Я стоял перед почтовым ящиком две, три, четыре минуты.
Сказал себе: «Суй уже в щель. Это просто письмо».
Но рука оставалась неподвижной.
– Чтоб тебя.
Не хотелось стоять и выставлять себя идиотом, поэтому я перешел дорогу, перелез через старый забор и сел на ступеньки заколоченной церкви, держа письмо Блэка в одной руке, а свой ответ в другой.
– Чтоб тебя, Софи.
Стоит добавить еще кое-что про Софи Алмондс – любой ее совет оказывается крайне полезен. Чем дольше я с ней работал, тем больше в этом убеждался.
– Черт.
Кроны деревьев у церкви были гуще, да и самих деревьев – больше, и лиственные торнадо мотались и ревели вокруг, пока ледяной ветер обрушивался на плиты маленького кладбища.
Я вытянул руки, подставляя оба конверта ветру, и они дико затрепетали, пытаясь освободиться. Проще всего было их отпустить. Они затеряются в плотном ковре листьев и обветренных надгробий, а затем размокнут и растворятся в зимних снегах и весенних оттепелях. И тогда нить этой истории попросту оборвется и исчезнет. Не будет ни продолжения, ни ответов, ни проблем, ни решений – совершенно ничего. Словно кто-то выключит компьютер – щелк, и все.
Я поднял руки чуть выше. Софи настойчиво убеждала меня бросить эту затею, – и для этого мне всего-то надо будет совершить одно небольшое движение.
«В изолированной системе энтропия стремится к максимуму», – подумал я, представляя цветные пластиковые буквы на холодильнике дома. Я думал об Имоджен, давно покинувшей дом, и о том, что станет – или не станет – с нашим браком, когда она вернется. Я думал об изношенных кабелях над пустыми полями и сбоях на линии, о тишине и шуме, которые заполняли пространство между мной и отцом. Держал конверты в руке и думал: слово clue – подсказка – происходит от слова, обозначающего клубок ниток, который помогает выйти из лабиринта. Фото Блэка – это подсказка? Я думал: «Несомненно, это приманка»; и: «Остерегайся ловушек для енотов, что обещают дать ответы на все вопросы». Думал: «Нет ни лабиринтов, ни великого замысла. Только хаос и крах. Все гибнет». Думал: «Я обращаюсь к Богу, но небеса пусты».
Закрыв глаза, я сосредоточился на шуме листьев вокруг.
В изолированной системе энтропия стремится к максимуму.
10. Еще одно имя Бога
Второй закон термодинамики гласит: в изолированной системе энтропия стремится к максимуму. Эйнштейн считал, что второй закон термодинамики – единственный закон во всей науке, который никогда не будет изменен или дополнен, а астрофизик Артур Эддингтон высказался еще более решительно: «Если ваша теория противоречит второму закону термодинамики, мне нечем вас утешить; она неминуемо потерпит унизительный крах».
Иронично, как по мне, что закон энтропии – закон неизбежного разрушения – воспринимается учеными настолько уникальным и незыблемым. Эйнштейн был уверен, что ни одному ученому будущего не только не удастся разрушить его фундамент, но и нацарапать свое имя на штукатурке. Великий гений считал, что конструкция второго закона никогда не разрушится, его внешняя отделка никогда не осыплется, а фасадным скульптурам будут не страшны непогода и время – они останутся неизменными. Пока всё вокруг рушится и гибнет, второй закон стоит несокрушимым особняком. В царстве научных теорий второй закон термодинамики являет собой нечто невероятное – совершенный, вечный рай.
А рай, как известно, привлекает змиев.
Прежде чем мы продолжим, отмечу, что энтропия применима не только к беспорядку материального мира. Энтропия также связана со способностью выполнять то, что ученые называют «полезной работой». Что это значит? А вот что: заряженная батарейка или заведенные часы находятся в том же состоянии низкой энтропии, что и прибранная кухня. Когда часы замедляют ход или кухня становится все грязнее, их энтропия увеличивается. Процессы идентичны; неважно, о чем мы говорим – о натянутой пружине или прибранном шкафу, – правила не меняются. Викторианцы, кстати, не стремились постичь фундаментальные законы времени и вселенной, когда столкнулись с оными, а использовали их в более практических целях. Намерения наших предков вполне очевидны и по сей день – они сохранились в названиях законов, подобно ископаемым папоротникам. Вдумайтесь: термодинамика. Тепло, движение, энергия. Викторианцы стремились сделать машины более эффективными.
Первый закон термодинамики гласит, что энергию невозможно создать или уничтожить, а только преобразовать. Викторианцы открыли второй закон, пытаясь понять, почему эти преобразования никогда не эффективны на сто процентов, почему каждая трансформация – уголь в тепло, тепло в пар, пар в движение – происходит с потерей части энергии.
Суть в чем: все упорядоченные сосредоточения подвержены воздействию энтропии. Кубики льда тают, батарейки садятся, звезды гаснут, а чашка чая остывает.
Согласно теории вероятности, чай в кружке был теплым в прошлом, а в будущем будет только холоднее, поскольку его тепло переходит из состояния порядка (полностью концентрируется в чашке) во все более беспорядочное (уходит в воздух в виде пара, просачивается в стол и держащие чашку руки и, в конечном итоге, рассеивается по всей вселенной).
Согласно второму закону термодинамики, невозможно снова разогреть чашку чая, не затратив на это дополнительную, «упорядоченную» энергию из других источников (например, электричество в микроволновой печи). Представьте, как чашка чая самопроизвольно втягивает пар обратно и становится теплее – очень похоже на то, как видео проигрывается в обратном порядке, не находите? Чай словно движется назад во времени. Понятно, что в жизни так не бывает. Время не меняет ход, когда ему заблагорассудится, потому что наша старая добрая неисчислимо огромная вероятность ведет вселенную от порядка к беспорядку, а стрелку времени – от прошлого к будущему. Шанс победить второй закон термодинамики, вооруженный огромным количеством вероятностей, и начать движение от беспорядка к порядку или от будущего к прошлому – чрезвычайно, чудовищно, предельно мал. Потому формально такое развитие событий и считают невозможным. Его никогда не удастся воссоздать в лаборатории или в ходе эксперимента. Энтропия только возрастает. Чай, предоставленный самому себе, только остывает. Если хотите, чтобы он снова стал горячим (пришел в порядок), придется заплатить, но по итогу получите меньший объем.
Тут нет никаких исключений, никак не сжульничать. Правила научного рая абсолютны и неизменны. Так сказал Эйнштейн, а учитывая, что Эйнштейн немного похож на Бога, взявшего выходной, легко можно представить, как мы с ним прогуливаемся по идеальным лужайкам второго закона, пока он в очередной раз объясняет, что любые попытки нарушить закон могут плохо для нас закончиться. «И вы потерпите унизительный крах», – скажет он, предупреждающе погрозив пальцем, прежде чем неторопливо удалиться под яблони. Как только он уйдет, мы услышим, как нечто ползет в нашу сторону по траве, – и забеспокоимся, но совсем не удивимся…[3]
Чуть более десяти лет спустя, после того, как Рудольф Клаузиус в 1854 году написал первую формулировку того, что впоследствии станет известно как второй закон термодинамики, шотландский физик и математик по имени Джон Клерк Максвелл поставит простой мысленный эксперимент в рамках публичной лекции. Этот эксперимент в дальнейшем станет настоящей занозой для физиков почти на восемьдесят лет, потому что продемонстрирует, что при определенных условиях второй закон можно с легкостью нарушать снова и снова, что можно снова разогреть чашку чая, не затрачивая ни единого джоуля энергии. Максвелл предложил процесс, который без каких-либо ощутимых затрат может обратить вспять энтропию, а значит, по сути, обратить вспять течение времени.
Этот змий впоследствии стал известен как демон Максвелла.
Рассмотрим суть этого мысленного эксперимента. Представьте коробку с двумя отделениями.
Коробка наполнена обычным воздухом комнатной температуры, и каждое отделение полностью герметично. Ни одна молекула не может проникнуть внутрь или выйти наружу.
Остановимся на секунду. Давайте немного поговорим о воздухе, прежде чем продолжим.
Воздух – это смесь газов. То есть, по сути, это пустое пространство, населенное молекулами, и все эти молекулы носятся туда-сюда, занимаясь своими делами.
Некоторые молекулы обладают большей энергией и носятся туда-сюда с большой скоростью. Общая температура воздуха определяется соотношением быстро движущихся и медленно движущихся молекул. Если в воздухе больше быстро движущихся молекул, он будет теплым. Если больше медленно движущихся молекул, то холодным. Из-за энтропии молекулам воздуха не нравится аккуратно кучковаться в горячие или холодные области: они хотят смешиваться, перемещаться, рассеиваться, чтобы достигнуть максимальной энтропии – средней температуры. Вы можете сами в этом убедиться: оставьте на пару часов дверцу морозильной камеры открытой или распахните окна в гостиной в морозный день. Беспорядок начнет расти, и в случае с температурой воздуха это проявится в виде смешивания быстрых и медленных молекул до тех пор, пока температура не станет ровной, однородной.
А теперь вернемся к нашей запечатанной коробке:
б ((( – быстрая молекула с высокой энергией.
м… – медленная молекула с низкой энергией.
В коробке содержится равномерно перемешанный воздух комнатной температуры, но разделенный на два герметичных отсека. Температура в этих двух отсеках одинакова.
Энтропия максимальна и там и там – дальнейшие изменения невозможны, потому что любое дальнейшее перемешивание не может сделать воздух более беспорядочным.
Теперь представьте, что в перегородке между отсеками есть отверстие и опускная дверка:
Отверстие крошечное, а дверка открывается и закрывается так быстро, что за один раз может пройти только одна молекула.
В нашем первом эксперименте дверка будет открываться и закрываться случайным образом. Иногда одна из молекул будет проскальзывать из правого отсека в левый, или наоборот. В одном случае это будет быстрая молекула с высокой энергией, в другом – медленная молекула с низкой энергией.
Как вы понимаете, на температуру внутри отсеков это не влияет, поскольку переходить из правого отсека в левый молекулы будут с такой же вероятностью, как и из левого в правый; энергия на изменение энтропии нашего ящика тратиться не будет (важно отметить, что дверка не добавляет никакой энергии в изолированную систему, она просто открывается и закрывается и не взаимодействует с молекулами воздуха внутри). Итак, пока никаких сюрпризов и противоречий не происходит, все идет так, как предписывает второй закон.
Давайте добавим нашего демона:
Проведем еще один эксперимент: герметичная коробка, два отсека, заполненные воздухом, крошечная дверка – но на этот раз она будет открываться не случайно. Теперь ее движения буду контролироваться разумом крошечного демона. Демон Максвелла настолько мал, а его зрение настолько острое, что он может видеть отдельные молекулы, приближающиеся к дверке. Демон открывает дверку для медленно движущихся молекул, если они идут справа налево, а для быстро движущихся – если они идут слева направо.
Вот и все. Больше ему ничего не нужно делать. В левом отсеке температура начнет падать, поскольку там процент медленно движущихся молекул увеличится, а в правом – температура повысится, поскольку там соберутся быстро движущиеся молекулы. Дверка открывалась столько же раз, как и в первом эксперименте, поэтому в систему не добавляется дополнительная энергия, но, как мы видим, демон Максвелла достиг того, что должно быть в принципе невозможно: левый отсек стал холодным, а правый – горячим. Демон буквально создал тепло и холод (и порядок) из воздуха. Другими словами, он уменьшил энтропию замкнутой системы, причем уменьшил без затрат, бесплатно. Согласно нерушимому второму закону такое никогда не может произойти. Однако, как мы видим, произошло.
Похоже, демон Максвелла – это сила, которая увеличивает общий порядок во вселенной, которая приводит вещи из беспорядочного состояния в прошлом к порядку в будущем.
На протяжении века ученые пытались разрешить проблему демона Максвелла, но безуспешно. Точные науки настаивали на том, что демон попросту не может делать то, что ему приписывается. Второй закон не имеет исключений и никогда не нарушается.
За годы работы ученые поняли, что если поведение системы противоречит второму закону, то, как правило, эта система не такая уж и изолированная, – что-то проникает в нее извне.
Но как это возможно? Только знание демона о молекулах вызывает уменьшение энтропии. Самому демону и пальцем не нужно шевелить, он ничего не делает. Лишь способность демона различать быстро и медленно движущиеся молекулы позволяет ему повышать порядок и уменьшать беспорядок в коробке, обращая эффект энтропии.
Бесчисленные великие умы потратили годы, препарируя язык, пытаясь найти какой-нибудь изъян, но попытки не увенчались успехом. А все потому, что в языке нет изъянов. Разгадка демона Максвелла – не тайна, ответ до невозможного прост. Разгадка настолько замечательна и поразительна, что на ее поиски потребовались немалая часть столетия и блестящий ум. В 1929 году человек по имени Лео Силард нашел ответ.
Силард понял, что только демон, способный видеть и понимать свойства молекул, которые он сортирует, может уменьшить энтропию воздуха в коробке, в то время как демон, не обладающий этой способностью, не может. Итак, мы знаем, что упорядоченность воздуха может быть увеличена, и, учитывая, что знание демона является единственной переменной, определяющей выполнимость и невыполнимость этой задачи, получается, что увеличить порядок и уменьшить энтропию может лишь одно – знание.
Не газ, не электричество, а само знание демона уменьшает энтропию в коробке. Демону не нужно ничего делать – ему нужно только знать. Чтобы вам легче было понять, как такое абстрактное понятие, как знание, может оказать влияние на реальный, физический мир движущихся молекул и термодинамических принципов, я предлагаю представить, что разум демона – это викторианская машина. Только вместо угля демону нужна пища, чтобы функционировать, – собственно, как и всем живым существам, – а еще он должен уметь усваивать знания, необходимые для выполнения своей задачи. Информация аккуратно упорядочивается у него в голове, приводя мозг в состояние низкой энтропии – этакий эквивалент заряженной батарейки или заведенного будильника. Естественно, все это происходит еще до начала эксперимента. Как только демон берется за дело, низкоэнтропийная информация в его мозгу определяет диапазоны скоростей молекул и уменьшает их энтропию, распределяя их по двум отсекам. Предположения многих ученых подтвердились: система все-таки не изолированная. Как только мы принимаем во внимание энергию, необходимую для подпитки, обучения и упорядочивания разума демона, становится понятно, почему общая энтропия процесса увеличивается. Все это лишь подтверждает второй закон, но не делает менее удивительным тот факт, что сытый и хорошо образованный демон может вызывать изменения только благодаря упорядоченным знаниям.
В 2010 году доктору Сёити Тоябе из Университета Чуо в Токио удалось создать реального демона Максвелла в лаборатории. Вместо двух герметичных отсеков Сёити создал миниатюрную лестницу и такой же миниатюрный шарик из полистирола. Демон в этом эксперименте принял форму камеры, подключенной к компьютеру. Лестница и шарик настолько крошечные, что шарик был подвержен так называемому броуновскому движению – на него могли влиять беспорядочно движущиеся молекулы воздуха. При прочих равных условиях эти молекулы сбивали шарик с лестницы, а иногда толчок подкидывал шарик вверх по ступеням, – тут-то в игру вступал демон. Компьютерная программа следила за шариком и активировала небольшое электромагнитное поле каждый раз, когда тот запрыгивал по ступеньке вверх. Вот и получилось, что исключительно благодаря наблюдательности и знаниям демона шарик двигался вверх, и только вверх. На вершине лестницы шарик падал в крошечную трубу, что вела обратно к подножию, и начинал все сначала.
Сёити создал машину, которая фактически преобразовывает информацию в энергию. Свое творение он назвал «информационно-тепловым двигателем».
11. Церковь
Огромный лист конского каштана прилетел мне прямо в лицо.
Я охнул от неожиданности и распахнул глаза, едва не потеряв два трепыхающихся письма, пока елозил по лицу манжетами рукавов, пытаясь отмахнуться от листа. Тот отлепился, снова взлетел в воздух, присоединившись к шуршащим собратьям, и они с шумом понеслись прочь по пустому кладбищу.
Несколько секунд я растерянно сидел на ступеньках заколоченной церкви, тяжело дыша, словно лунатик, внезапно очнувшийся не в кровати, а в незнакомой стране. Я посмотрел на два письма, на запечатанный и проштампованный ответ Эндрю, выжидающий, когда же я наберусь смелости его отправить.
Поднявшись на ноги, я наказал себе направиться к почтовому ящику.
Я успел пройти большую часть маленького кладбища и уже приближался к ограде, как вдруг остановился как вкопанный. Среди шумных коричневых, красных, желтых и оранжевых вихрей вокруг раздался какой-то звук. Я застыл и прислушался. Прошла секунда, а потом… Да, снова он. Едва уловимый, неотчетливый – звук детского плача.
«Вряд ли это младенец, – подумал я. – Откуда здесь взяться ребенку, в такую погоду?» Но другая, глубокая часть мозга – часть, сформированная книгами и нежным голосом матери, – начала нашептывать: «Моисей, Эдип, Том Джонс, Хитклифф. Что-что, а младенцы имеют привычку постоянно появляться в самых неожиданных местах. Да и люди часто бросают новорожденных, так? Не только в книгах. Оставляют на пороге церквей, на могилах, на обочинах, в парках».
«Так что если это и правда ребенок, – заключил я, – то долго он сегодня не протянет».
И вот я стоял на ветреном старом кладбище, вертя головой из стороны в сторону, пытаясь расслышать за шелестом листьев плач и понять, в какой стороне находится его источник. Я сделал пару шагов к дороге за оградой, прислушался и вернулся к церкви – да, я снова его услышал; еще несколько шагов, и звук стал громче.