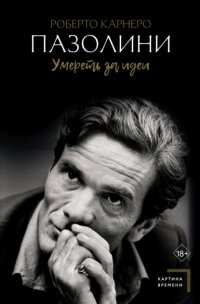
Читать онлайн Пазолини. Умереть за идеи бесплатно
- Все книги автора: Роберто Карнеро
© Giunti Editore S.p.A./Bompiani, Firenze-Milano, 2022
© М. С. Соколова, перевод, 2023
© ООО «Издательство АСТ», оформление, 2024
* * *
Эта книга переведена благодаря финансовой поддержке Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии.
Questo libro è stato tradotto grazie a un contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano.
Анжеле Феличи и Маурицио ди Бенедиктису
На добрую память
В знак признательности за наши столь приятные беседы о Пазолини
Или выразить себя ценою смерти, или остаться безмолвным и бессмертным
(Пьер Паоло Пазолини, Еретический эмпиризм)
Пазолини и бесстрашие правды
Тот, кому безразлично, кто победит или проиграет,
не стремится и наблюдать зрелище победы или поражения
и теряет больше всех,
из тех, кто много теряет, о силы небесные, —
сошлемся на самих себя, для разнообразия
(Пьер Паоло Пазолини, «Черновик» из Trasumanar e organizzar)
Прежде чем рассказать, почему я осмелился написать книгу о Пазолини (очередная книга о Пазолини…), я решил задать самому себе вопрос, что же такого особенного было в этом художнике, умудрившемся вызвать такой расцвет критической мысли, каким вряд ли могут похвастаться другие итальянские авторы второй половины ХХ века.
Несколько слов о Пазолини
Пьер Паоло Пазолини – фигура огромной значимости в истории второй половины ХХ века. Он смог овладеть, в гораздо более значительной степени, чем его современники, самыми разными формами художественного самовыражения: был поэтом, прозаиком, драматургом, режиссером кино, литературным критиком и журналистом, хотя сам предпочитал именовать себя просто «писателем».
В своих трудах он из раза в раз затрагивал важнейшие социальные, культурные и гражданские проблемы Италии прошлого века: фашизм и Сопротивление, послевоенную политику, развитие неокапитализма в стадии экономического бума, социальные перемены в жизни буржуазии и пролетариата, революцию 1968 года и драматизм «стратегии напряженности».
Пазолини, провокатор в жизни и в искусстве, занял центральное место в культуре современной Италии. В каждом своем произведении он выражал волю к борьбе, пусть и в одиночку, против институций и тех консенсусных механизмов, которые лишают человека его сути. Его творчество – приглашение исследовать окружающую реальность, познать ее теневые стороны, не удовлетворяться простыми объяснениями конформистского толка.
Можно разделять или нет его выводы, его идеи и взгляды, но нельзя отказать ему в безусловной способности проницательно задавать вопросы, пробуждать течение мысли, генерировать споры и размышления, заставлять нас взглянуть на себя и на мир новым взглядом, под другим углом: это дар интеллектуала.
Мне хотелось бы назвать Пьера Паоло Пазолини величайшим и важнейшим итальянским писателем второй половины ХХ века; но я не могу утверждать это столь категорично, в том числе и потому, что это, скорее всего, не совсем правда. На литературной сцене Италии этого периода выступали и другие герои, оспаривавшие пальму первенства: Итало Кальвино, Чезаре Павезе, Беппе Фенольо, Эльза Моранте…[1] Но я верю, что могу считать Пазолини выдающимся итальянским интеллектуалом второй половины ХХ века. Мне кажется также, что и писателем он был единственным в своем роде. По двум причинам, по крайней мере: во-первых, ему было свойственно уникальное качество выражать себя сразу в нескольких областях и в разных жанрах: от поэзии до романа, от театра до кинематографа, от журналистики до филологической критики, постоянно при этом обновляясь внутри открытого и мобильного творческого дискурса.
А во-вторых, – и это связано с его ролью интеллектуала, – такой фигуры, как он, нам решительно не хватает сегодня. «Пазолини продолжает задавать нам с трудом переносимые, а часто просто невыносимые вопросы: такова […] его “жестокость”. Жестокость, редко встречающаяся у итальянских интеллектуалов, напоминающая об ужасах мира, в котором мы обитаем, к которому привыкли (и который не может меняться без этой жестокости)»1: то есть мира, не обладающего смелостью взглянуть на реальность и сказать правду.
Ни один из авторов той эпохи не оставил в национальном образе и коллективной памяти Италии похожего следа, как в творчестве, так и в жизни. Влияние Пазолини не ограничивается только литературой и культурой, оно заметно и в итальянской истории, поскольку именно ей он всю жизнь противостоял, будучи убежденным в необходимости присутствия у интеллектуала высокого уровня моральной и гражданской ответственности.
Пазолини оказался способен, пусть и не без определенной двусмысленности и влияния личных предпочтений, задать вопросы своему времени, увидеть связи настоящего с прошлым, провести ясный и беспощадный анализ итальянской жизни, распространить его на весь мир, на будущие этапы нашего все более охваченного глобализацией существования. Каждый его «идеологический текст», в стихах и прозе, говоря словами Джанфранко Контини[2], представляет собой «формулировку не рационалистическую, но символическую, герметическую, “полную страсти”»2, что отнюдь не умаляет ее значения, даже наоборот, повышает, показывая, насколько глубоко его идеи укоренены в самом интимном опыте и до какой степени «частное» и «политическое» (перефразируя старый девиз протестов 1968 года) были для него одним и тем же, проблемой, которую, рассматривая сквозь призму собственной субъектности, он в конце концов превратил в экзистенциальный вопрос. Таким образом, он дал начало продолжительным, глубоко личным размышлениям критической направленности о культуре, обществе, политике; его выводы и по сей день являются его самым ценным наследием. «Страсть» и «идеология» превращались для него в единое целое по мере того, как произведение становилось выражением одновременно и личных, и социальных противоречий.
Поэтому, 100 лет спустя после дня его рождения и почти 50 лет с момента его смерти, некоторые его прозрения в области самых темных и сложных сторон нашего общества кажутся, увы, пророческими. Я использую это прилагательное – пророческий, – несмотря на то, что им злоупотребляют в отношении Пазолини, и я его не очень люблю, ведь в подобных случаях это слово выглядит слишком туманным, эзотерическим, мистическим. Пазолини отнюдь не был провидцем, обладающим тайным знанием или способностями медиума. Он просто умел предвидеть пути развития и изменения современного мира, и делал это потрясающе точно: глядя внимательно на настоящее (свою собственную жизнь) и заставляя его взаимодействовать с собственной уникальной культурой и чувствительностью, он в воображении (зная заранее, что случится) чувствовал направления изменений. В его произведениях нет ни одной детали, которая не была бы глубоко погружена в реальность его времени, при этом каждая подробность несет в себе метафорический заряд, способный рассказать о том, что находится за пределами случайностей, и предугадать будущее. Пазолини был способен сформулировать проблему в самом широком смысле.
Я не являюсь поклонником игры «Как бы поступил Пазолини». Это риторическая банальность, к тому же уже не смешная сегодня. Что бы Пазолини писал в социальных сетях? Что бы сказал о «Большом брате»[3] или «Остаться в живых»[4]? Или о политике последних лет? Или даже о пандемии Covid-19? Стоит раз и навсегда признать: мы никогда не узнаем, что сказал бы Пазолини о том или ином явлении или событии, потому что он умер в 1975 году. Что не исключает того, что по некоторым вопросам интеллектуальная и культурная глубина его мысли вполне может открыть нам что-то новое и в нашем настоящем. Проецирование идей Пазолини, как и некоторых других великих авторов (в том числе и из более отдаленного прошлого), за пределы их времени вполне естественно и часто весьма плодотворно.
В жизни Пазолини делал то, на что мало кто осмеливается: он двигался против течения. Но не из позерства для саморекламы или из-за нонконформистского эксгибиционизма (образцов подобного поведения мы имеем сегодня перед глазами более чем достаточно), но исключительно из внутреннего убеждения, в попытках продвигать свои собственные идеи, и был готов заплатить за них самыми тяжкими последствиями, включая и самую крайнюю меру – утрату жизни.
Именно поэтому фигура Пазолини для его эпохи стала как-бы «несовременной»3. По отношению к политике он и прежде был «внесистемным» интеллектуалом, самостоятельным, независимым от идеологических установок; впоследствии же, с конца 50-х годов и позже, когда влияние итальянских интеллектуалов снизилось на фоне распространения культуры постмодерна и идеи искусства (включая литературу) как носителя игрового и комбинаторного начала (поздний Кальвино может служить примером такого поворота), Пазолини, напротив, сохранил – и, кажется, даже усилил – на последних этапах своей работы (имеются в виду его «Корсарские письма» и «Лютеранские письма», неоконченный роман «Нефть» и даже такой его фильм, как «Сало, или 120 дней Содома») яркие опыты критики общества потребления, его фальшивых ценностей и политических практик тех лет. Однако парадоксальным образом все, что тогда казалось «несовременным» в творчестве Пазолини, после его смерти в глазах читателей стало становиться все более и более актуальным, современным, и этот процесс продолжается и ныне. Как будто все те порицания и остракизм, что так преследовали Пазолини при жизни, после его смерти превратились в свою противоположность, в компенсацию за понесенные страдания, и художник стал постоянной и неотъемлемой частью нашего бытия.
Неактуальность идей Пазолини в свое время объяснялась также и его «ересью», то есть провокативным выбором тем в пику неудовлетворительной реальности, неспособной ответить глубинным потребностям человека. Общество часто склонно применять против «еретиков» – тех, кто осмеливается выступать против серого «здравого смысла», конформистского «общественного мнения» – различные инструменты и механизмы (часто основанные на насилии). Живой и ясный ум Пазолини, его «искренняя ересь» привели его не только к борьбе с унификацией личности и единомыслием, но и к сражению с «фальшивой ересью», которая посредством декоративных обновлений не только закрепляет старые господствующие установки, но и отрицает воздействие на них подлинной критики. Именно поэтому размышления о Пазолини вызывают в памяти фигуру Джордано Бруно, другой жертвы власти, из более отдаленной эпохи4.
Другая личность, сравнимая с Пазолини, это Джакомо Леопарди[5]: неаполитанский поэт вынес на всеобщее обсуждение бескомпромиссный протест против «снобизма и глупости» (в стихотворении La ginestra – «Метла»), позволивший ему, благодаря наивному оптимизму, выжить; однако Пазолини, не поддерживавший ни один из современных мифов, которые так увлекали его современников (даже левых, вероятно, особенно левых), таким качеством не обладал. Леопарди современники, начиная с Бенедетто Кроче[6], упрекали в «нечистоте» некоторых мест в его поэзии, в том, что его стихи слишком нервны и насыщены «мыслью» и «философией»; то же самое делали современники и с Пазолини5, творчество которого (в том числе и поэзия) часто характеризовалась, как выразился Даниэле Пиччини (в его словах нет ни малейшего оттенка осуждения), «бьющей через край рациональной яростью»6. С Пазолини случилось нечто похожее на то, что произошло с его «коллегой» из XIX века: он стал объектом тенденциозного прочтения и интерпретации, рассматривавших радикальность его высказываний как производное личных «отклонений», порой чуть ли не настоящих патологий, якобы лишавших творца объективности и равновесия. Мерзкие и унизительные аргументы.
Пазолини – это континент. По мнению Марко Антонио Баццокки[7], творчество Пазолини – «это творчество не только всеобъемлющее и завораживающее, но поднимающееся до вершин совершенства благодаря открытой структуре. Огромный палимпсест, который надо делить на отрывки, даже фрагменты, создавая между ними короткие замыкания и улавливая эхо перевернутой страницы в каждой последующей, пока они не зазвучат все хором»7. Именно Баццокки отметил один весьма интересный и важный факт: Пазолини – это, как мы уже отмечали, континент, но континент, который требует дальнейшего вдумчивого изучения, несмотря на, – как уже упоминалось выше, – тонны исследований, эссе и томов, посвященных творчеству Пазолини, порой весьма высокого уровня, а также подготовку и публикацию (не очень удачную, – далее узнаем, почему) собрания сочинений.
Заметно увеличить объем познаний о Пазолини специалистам удалось благодаря трудам Уолтера Сити[8], опубликованным издательством Mondadori в серии «Меридиан» в период с 1998 по 2003 годы: 10 томов собрания сочинений Пазолини включили в себя новые тексты, объем которых стал вдвое больше того, что было доступно читателям ранее. Следует при этом учесть, что Сити публиковал не все подряд, а проводил тщательный отбор.
При работе над наследием Пазолини возникает чувство, что вы имеете дело с творцом, одновременно и каноническим, принадлежащим полностью ХХ веку, и в то же время абсолютно не «забальзамированным», живым автором актуальных произведений. В предисловии к первому тому романов и рассказов (Romanzi e racconti), вышедшему в 1998 году, Уолтер Сити и Сильвия де Лауде[9] (она была куратором издания) признавались, что «непосредственный процесс создания произведения был для Пазолини существенно важнее, чем уже законченные работы»8. Поэтому они решили, как в этом томе, так и в последующих, уделить больше внимания неизданным материалам или первоначальным версиям уже опубликованных, но после дополнительной редакции: это было сделано специально, чтобы показать «творческую лабораторию» Пазолини, поэтапный созидательный процесс во всей его сложности9.
Многие специалисты задавались вопросом, можно ли рассматривать Пазолини в роли «классика», учитывая его антиклассическую, экспериментальную, заразительную поэтику. Труды Пазолини представляют собой динамичное целое, в котором связи между различными жанрами порождают новые смыслы и направления. Они как бы движутся, развиваются вместе с автором, не могут устояться, окончательно определиться и зафиксироваться в неизменной форме10. Как писал Сити во введении (с говорящим названием «Письменные следы живого творчества») к собранию сочинений: «Всякий новый текст Пазолини корректирует образ, сложившийся после прочтения текста предыдущего […], а целью этого (возвышенной и недостижимой) является попытка “поймать” соблазнительный и ускользающий облик Реальности»11.
С другой стороны, именно Пазолини предложил в книге Divina Mimesis (сборник осовремененных сюжетов «Божественной комедии», созданный между 1963 и 1965 годами, но опубликованный только в 1975 году, всего несколько дней спустя смерти автора) поэтику незавершенности и неоконченности12: собрание сюжетов оформлено в виде найденного манускрипта, автор которого «погиб от удара дубинкой в Палермо в прошлом году»13. Этот же прием нашел свое последнее и наиболее яркое воплощение в романе «Нефть» (над ним автор работал перед смертью), но его можно, в какой-то степени, применять в качестве универсального ключа и к другим работам мастера.
Некоторые критики высказывались о «неудавшемся сочинении» этого «непонятого писателя», отмечая, что несоответствия и излишества (стилистические, формальные, концептуальные) в многогранном творчестве Пазолини служат для представления его произведений в виде устройств, способных изменить восприятие реальности со стороны тех, кому посчастливилось наткнуться на них и прочитать правильно. Пазолини мог бы восприниматься, таким образом, как «маньерист, чье подлинное стремление заключалось в порче собственных трудов на основе уверенности, что, превращенные в нерешенную загадку, они могли бы выглядеть дискуссиями о поисках истины, а не просто эстетическими замыслами»14.
Поэтому Пазолини на самом деле автор «греховный», и литература его тоже «греховная», поскольку люди, выходящие за границы текстовой реальности, всегда сильнее и точнее. Ценность его страниц, таким образом, заключается в значительной степени в их взаимодействиях с тем, что находится снаружи, за пределами страницы. Карла Бенедетти[10] пишет: «Сочинения Пазолини могут рассматриваться […] как тотальный перформанс, в котором эстетическое начало менее важно, чем присутствие или действия художника». И еще: «Немного как в искусстве, именуемом перформативным, или body art, где автор представляет собой неотъемлемую часть произведения. Текст – это остаток, или след того, что произвел художник: и именно подобный сложный “жест” и характеризует творчество Пазолини. Не только его поэзия, его проза, фильмы, театральные пьесы и сценарии, но и его журналистские расследования, заявления, высказывания о его позиции, – все эти процессы образуют творчество Пазолини»15. По мнению Джанни Скалья[11], «идеи стали его телом, его существованием, его присутствием внутри общества. Для него они были доказательством жизни»16.
Таким образом, творчество Пазолини состоит из физического, публичного и медийного присутствия автора. Кто-нибудь может даже добавить, что и смерть стала его частью, «жертвенная смерть (мученичество и свидетельствование) как семантическое усиление (ретроактивное) творчества», что-то типа таинственного (но одобренного автором) «воссоединения духовного тела в виде “собрания произведений литературного творчества” с его собственным физическим телом»17. Таким образом мы присутствуем практически во всех произведениях Пазолини, при систематическом «вписывании тела автора в его творение»18.
Писатель не боится заражения некоторым «беллетризмом», так ненавидимым по давней, преимущественно итальянской традиции; действительно, любовь к литературе сожительствует с темным влечением к отказу от нее19. Лучшим определением творчества Пазолини в целом, вероятно, может служить его собственное примечание, датированное 1 ноября 1964 года и оставленное под страницей в Divina Mimesis (ссылка относится к этому его проекту, но мне кажется, что вполне может быть отнесена и ко всем трудам Пазолини): «мешанина из того, что сделано и что надо сделать», «страниц законченных и черновиков, или даже только задуманных», образующих вместе «слепок уже изверженной и будущей реальности (ничего не отменяющей, но заставляющей прошлое сосуществовать с будущим и т. д.)»20.
Поэтому экспериментаторское напряжение Пазолини выражается не только в постоянной готовности изобретать новые языки (меняя художественные жанры: от литературы к кинематографу и обратно, к примеру), но и «в неиссякаемом противостоянии с миром, постоянном переосмыслении взаимоотношений личной жизни, культурного выбора, исторических, политических и социальных горизонтов»21. Случалось, что из-за этого порой отрицалась или не принималась до конца во внимание важность плодотворного взаимодействия с литературными традициями, всегда присутствовавшими как основа для сравнения, и, часто, даже вдохновения.
Именно поэтому творчество Пазолини следует воспринимать как единое целое, где разные этапы сложной и многоплановой работы художника пересекаются и влияют друг на друга: одно огромное «тотальное» произведение, внутри которого разные жанры трудно отделить один от другого. Именно таким образом нивелируется риск предложить бессмысленную жанровую классификацию, которую периодически применяют исследователи, выделяющие творчество Пазолини-кинематографиста, отрицая тем самым его значение как поэта или эссеиста, умаляя или преувеличивая заслуги рассказчика. В иных ситуациях, наоборот, цитируется Пазолини-полемист, и не упоминается его новаторский вклад в поэзию, а также важность его технических и художественных поисков в самых разных сферах, в которых он работал.
Этой ошибки надо непременно избегать. Поэтому в этой книге мы будем исследовать труды Пазолини во всех сложных взаимозависимостях их разных составляющих. «Конституциональные противоречия» творчества Пазолини, говоря словами Витторио Спинаццолы[12], «тревожно обильны»22.
За границей это было понято лучше, чем в Италии, где Пазолини порой предстает этаким «снобским», чрезмерно, но почти всегда не к месту цитируемым. Это исходит и от правых, которые раньше относились с подозрением к пазолиниевскому коммунизму, но сегодня готовы возродить, изуродовав, некоторые его идеи, кажущиеся им подходящими к реакционным и регрессивным политико-идеологическим позициям, пропагандируемым так называемыми «популистами», и от левых, которые в прошлом (в среде официальных представителей как парламентской, так и непарламентской оппозиции) не принимали его несгибаемую позицию по отношению к свободе мысли, считая ее недостаточно конформной и линейной относительно позиций, которые он занимал время от времени, и которые и сегодня (те остатки левых, что есть еще в Италии) испытывают смущение по отношению к некоторым его «скандальным» высказываниям (на тему абортов, феминизма, молодежного протеста и т. д.).
В том, что касается попыток правых приватизировать Пазолини (или часть его идей), следует сохранять ясность: это выглядит нечестно как с точки зрения способов, так и интеллектуальной подоплеки. Пазолинианские погружения в архаику нельзя рассматривать как консерватизм или реакционную позицию. Подобная трактовка не выдерживает критики. Пазолини всегда был на стороне прогресса. Сложность его высказываний создает возможности для изучения их под разными углами зрения, на основе разных сторон эмоциональной сферы, но не позволяет искажать или неправильно трактовать его роль или его высказывания. Эта точка зрения является необходимой и обязательной в период, когда политико-идеологические принадлежности становятся все более размытыми: чтобы избежать опасных искажений и смещений. И чтобы воздать Пазолини должное23.
Именно по этой причине можно отметить, что Пазлини, по сути, был забыт современной итальянской культурой. Некоторые его мнения и высказывания приводятся (от «антропологической мутации» до «исчезновения светлячков») в основном чтобы облагородить, с помощью этаких эстетико-риторических украшательств, речи некоторых авторов, в то время как по-настоящему «подрывной» смысл его мысли по-прежнему спит мертвым сном в его текстах. Ведь даже и в свое время Пазолини так и оставался чужеродным явлением для итальянской национальной культуры. Поэтому, чтобы оградить его от риска спекуляций (с каким бы то ни было знаком), мы обязаны сегодня как можно лучше узнать его: открыть его сочинения, посмотреть его фильмы, попытаться понять их не поверхностно, а заглянуть в глубину, увидеть их во всей их жизненной сложности. Это увлекательная, завораживающая, трудная работа: работа, которая никогда не заканчивается, как это всегда происходит с трудами великих классиков.
Существует греческое слово, – оно дорого папе Франциску, – определяющее позицию тех, кто хочет говорить открыто, ничего не скрывая: паррезия (этимологический результат соединения корней пан, «все», и рема, «речь»: прямодушное высказывание, которое ничего не скрывает, не замалчивает). На этой концепции настаивал Мишель Фуко[13], сформулировавший ее как «мужество свободы, посредством которого человек связывается с самим собой посредством акта откровенности»24. Баццокки пояснял: «Тотальное высказывание: сексуальность без цензуры. Иносказание: все более неправильные, пустые, ненадежные выразительные формы. Высказывание для другого: поиск особенного собеседника, который сможет принять необычное интеллектуальное наследие»25.
Несомненно, что характеристики паррезии, на которых настаивал Фуко, отлично подходят и Пазолини, особенно к последнему этапу его творчества, таким образом избежавшему (само)цензуры. Как пишут Карла Бенедетти и Джованни Джованнетти[14]: «Классический образ паррезиста воплощает фундаментально этическое и лишенное идеологии, абсолютно естественное отношение Пазолини к истине. Паррезист – это тот, кто говорит все то, что должен сказать, просто потому, что это правда, даже рискуя стать отверженным, выразить позицию, не разделяемую большинством, высказать истину, за которую он рискует заплатить жизнью»26.
Эта этическая позиция не предусматривает не только возможности оппортунизма, но и обычных благоразумия и осторожности, к которым прибегают порой даже честные интеллектуалы и порядочные политики. Таким образом паррезист, цитируя еще раз Фуко, «предпочитает откровенный разговор убеждению, истину – лжи или молчанию, риск умереть – жизни в безопасности, критику – лести, и моральный долг – собственным колебаниям или моральной апатии»27.
Ориана Фаллачи[15] вспоминала в отчаянном письме, написанном на следующий день после смерти Пазолини, что он исповедовал «необходимость быть искренним ценой того, чтобы показаться злым, честным до жестокости, и всегда смело высказывать то, во что искренне веришь: даже если это неудобно, возмутительно, опасно. Тебя оскорбляли, причиняли боль, пока сердце не разбилось»28.
Благодаря этим качествам творчество Пазолини, его не умиротворяющие и неумиротворенные взгляды, могут сегодня дать нам ключ к пониманию тех изменений, что происходят не только в Италии и не только на Западе29.
Несколько слов об этой книге
Заканчивая это краткое вступление, я хотел бы дать короткие пояснения по поводу методологических установок, которым я считал необходимым следовать. Эта книга, родившаяся в результате переработки, обновления и расширения удачного эссе, опубликованного издательством Bompiani в 2010 году и неоднократно переизданного под названием «Умереть за идею. Литературная жизнь Пьера Паоло Пазолини», станет дополнительным введением ко всему наследию автора, Пазолини, чье творчество прочно связано с самой жизнью. Поэтому для изложения контента в качестве критерия я взял нечто промежуточное между тематикой и хронологией. Или, чтобы было понятнее, я разделил повествование на несколько глав по темам, сосредоточившись на определенных работах, посвященных конкретной теме или темам, встроив их в базовую временную конструкцию. В конце концов, даже самые авторитетные биографы Пазолини30 связывают обстоятельства жизни автора с трактовкой его работ, ведь у Пазолини связь между работой и жизнью, между личным существованием и художественным моментом прочнее, чем у других творцов, поскольку его жизнью была, по сути, его работа (и наоборот). Эта часть, являющаяся сердцем повествования, обрамлена в начале повествования главой о жизни писателя, а в конце – рассказом о его смерти и о покрове тайны, до сих пор окутывающем его смерть.
Время от времени, в разных главах, я буду останавливаться на произведениях, наиболее значимых в свете изучаемой темы (поэтому следует подчеркнуть, что глубина обсуждения различных произведений не всегда будет пропорциональна их значимости в комплексе пазолиниевских трудов). Что касается его фильмов, за некоторыми исключениями, я ограничусь теми, что были сняты, оставив за скобками (или останавливаясь на них очень кратко) кинематографические проекты, не ушедшие дальше стадий эскизов, сюжета или сценографии. Значительно больше внимания (относительно того, что достанется другим, пусть и более важным произведениям) я уделю роману «Шпана», как потому, что речь пойдет о самом читаемом произведении Пазолини (не обязательно самом «главном», как бы ни требовали того схоластические традиции), так и для того, чтобы дать наиболее детальный и глубокий анализ текста в книге, которая претендует на своих страницах представить «всего Пазолини», и которая поэтому не может обойтись без некоторых упрощений (которые не станут примитивизацией, как я, по крайней мере, надеюсь). Основная цель этой книги – как непосредственно, так и используя некоторые интеллектуальные стимулы, облегчить чтение текстов Пазолини и просмотр его фильмов. Именно поэтому, излагая материал книги, я избегал техницизмов, предпочитая удобочитаемость.
Когда кто-то решает заняться автором, написав о нем книгу, это значит, что исследователь испытывает интерес, порой даже страсть к его творчеству. Я лично люблю Пазолини и уже много лет не перестаю его читать и изучать. Но в этой книге я постарался отнестись к нему без снисхождения. Мне не было интересно написать «житие» писателя, примкнуть к лагерю «Агиографы и Ко». Сегодня, на мой взгляд, пришла пора отойти от «мифа» о Пазолини. Для этого надо сепарироваться и от «восхваляющих», и от «проклинающих», занять позицию sine ira et studio (лат. – без гнева и пристрастия), чтобы попробовать дать наконец оценку, достойную уровня его творчества, определить вершины и пределы, достоинства и недостатки, сильные и слабые его стороны.
За годы, прошедшие с момента исчезновения Пазолини, его думы и его труды сделались более привычными и банальными, даже можно сказать, что временами их нам «навязывают», задавив критикой, больше напоминающей следствие, постоянно накручивающейся на саму себя. Таким образом, нам следует перечесть Пазолини зрительно и ментально, глазами и интеллектом, отбросив предубеждения и предрассудки, которые способны заставить нас поверить в то, что мы на самом деле не знаем, понять то, что на самом деле вовсе не понятно. Только так еще можно обсуждать творчество Пазолини и способствовать преодолению наших сегодняшних тревог. Я надеюсь, что следующие страницы книги смогут помочь читателю начать самостоятельно двигаться в этом направлении.
Сегодня критику творчества Пазолини уже никто не пишет, и я задался вопросом, как относиться к так называемым вторичным биографиям (т. е. исследованиям о самом Пазолини). Я прочитал большую часть того, что было написано (все прочесть было бы нереально), и мне пригодились многие источники, снабдившие меня датами, информацией, ключами к текстам и герменевтическими подсказками, которые я активно использовал и развил. Стремясь избежать излишней перегрузки повествования, я старался лишь по необходимости цитировать критические труды, отдавая предпочтение наиболее значимым работам и первоисточникам, то есть текстам самого Пазолини, так, чтобы читатели, еще недостаточно знакомые с его наследием, смогли бы познакомиться с его голосом еще до самостоятельного чтения собрания сочинений. Я старался создать скорее «рассказ» о Пазолини и его творчестве, чем новую или натужно оригинальную трактовку его произведений, но уверен, что к концу чтения мое личное отношение к Пазолини и оценки его творчества в целом станут понятны.
Жизнь Пьера Паоло Пазолини
Прежде чем перейти к обсуждению творчества Пазолини, его деталей и различных проблем, которые его волновали, уместно проследить, хотя бы кратко, основные моменты его жизни, в том числе и в силу уже упомянутой во введении сильной связи между его жизнью и творчеством, сказавшейся на исканиях Пазолини.
Детство и юность: частые переезды и каникулы в Казарсе
Пьер Паоло Пазолини родился в Болонье 5 марта 1922 года, он стал первенцем в семье Карло Альберто, кадрового офицера (принадлежавшего к младшей ветви семейства родом из Равенны, Пазолини даль Онда) и Сюзанны Колусси, учительницы начальной школы родом из коммуны Казарса-делла-Делиция, расположенной в провинции Фриули (сегодня – провинция Порденоне), на берегу реки Тальяменто1.
Все детство и юность он жил в разных городах Северной Италии, следуя за отцом по местам его службы: в 1923 году семья оказалась в Парме; в 1924 году – в Конельяно; в 1925 году – в Беллуно, где родился младший брат Гвидальберто, которого в семье звали Гвидо. Старший брат впоследствии вспоминал с нежностью: «Утром, в день, когда родился Гвидо, я встал первым, побежал на кухню и увидел его в кроватке. Я помчался в спальню к маме, чтобы рассказать ей новость. Я долго гордился, что первым его увидел»2.
И снова переезды: в 1927 году семья перебралась обратно в Конельяно, где Пьер Паоло пошел в начальную школу, а в следующем году отправилась в Казарсу, и там разделилась: Сюзанна с сыновьями поселилась в ее семейном доме, поскольку Карло Альберто, проигравшись, оказался под арестом в казарме. Брак постиг тяжкий кризис (ссоры между супругами и измены мужа); в разногласиях между родителями Пьер Паоло принимал всегда сторону матери, с которой у него была очень тесная, почти симбиотическая связь.
В 1929 году, по окончании срока наказания Карло Альберто, семейство обустраивается в Сачиле, неподалеку от Порденоне, и живет вплоть до 1931 года (с краткими визитами в Идрию, ныне территория Словении). В Сачиле Пьера Паоло допускают до вступительного экзамена в гимназию: его сочинение на итальянском было ранее отклонено, поскольку тема показалась педагогам «непривычной». Он сдает (успешно) повторный экзамен в Удине и посещает начальные классы в Конельяно.
С 1932 по 1935 годы семейство Пазолини жило в Кремоне, потом перебралось в Скандиано (провинция Реджо-Эмилия), и дальше в Болонью, где оставалось до конца 1942 года. Пьер Паоло доучивается в гимназии в Кремоне и Реджо-Эмилия и поступает в классический лицей Гальвани в Болонье. В гимназии в Реджо он знакомится с Лучано Серра, с которым вновь встретится год спустя в лицее Гальвани в Болонье; Лучано стал одним из самых близких его друзей юности. Там же он увлекся игрой в футбол – спортом, которым будет заниматься всю свою жизнь.
Закончив в следующем году лицей с блестящими оценками, Пазолини в 1939 году поступает на филологический факультет Болонского университета. На протяжении всей его юности в семье сохранялась традиция проводить каникулы в Казарсе. Она стала центральной географической и сентиментальной точкой отсчета внутреннего мира будущего писателя. В университете любимыми занятиями Пазолини стали романская филология и история искусства: он посещал лекции историка искусства Роберто Лонги[16] и решил писать у него диплом. Лонги, с его глубокими знаниями и харизматичной натурой, стал для Пазолини-студента глотком свежего воздуха, способного развеять ощущение закупоренности конформистской культуры режима: «Лонги был острым, как заточенный меч. Он умел говорить, как никто. Его молчание несло в себе тотальную новизну. Его ирония была беспрецедентна. У его любопытства не было аналогов. Его красноречию не требовалась мотивация. Для задавленного юноши, униженного схоластикой культуры, конформизмом фашистского общества, это было революцией»3. Благодаря мастерству преподавания Лонги, Пьер Паоло смог развить в те годы художественный вкус, который воплотился впоследствии и в его романах, и, прежде всего, в фильмах4.
Еще в студенчестве он начал писать статьи для журнала «Архитрав» (Architrave) университетской фашистской группы GUF (Gruppo universitario fascista), работал главным редактором в «Сите» (Setaccio), органе «Итальянской ликторской молодежи» GIL (Gioventù italiana del littorio)5. Для ясности: сотрудничество с этими газетами не означает, как формально считают некоторые, идеологической приверженности юного Пазолини фашизму. Тогда все, до некоторой степени, были «фашистами». Пазолини родился в 1922 году, поэтому весь процесс его учебы и формирования шел при диктатуре, а диктатура означает единомыслие. Какая иная возможность выбора могла быть у молодежи его поколения, кроме как следовать, во многих случаях некритически (это вся их «вина», если уж мы так хотим ее найти), единственной возможной в их обстоятельствах политико-идеологической точке зрения?
Тот же дискурс, с небольшими отличиями, можно наблюдать в культурной деятельности во времена молодости и других авторов; достаточно указать только некоторые имена представителей итальянской литературы примерно одного поколения: Элио Витторини[17], Васко Пратолини[18], Романо Биленки[19]. Поэтому мы можем говорить, в частности, относительно Пазолини тех лет, о некоем «а-фашизме» (по крайней мере, до 1943 года, после которого все резко изменилось и его позиция стала определенно антифашистской).
Существует хорошее выражение: «самый политизированный писатель 60-х равен наименее политизированному писателю сороковых»6. Действительно, просто регулярно бывая в мире «университетского фашизма», Пазолини начал развивать в себе определенную нетерпимость по отношению к духоте и цензуре режима, интуитивно почувствовав его культурную провинциальность: неудивительно, что после некоторых разногласий с директором (Джованни Фальцоне, последователь фашистской риторики) «Сито» прекращает публикации, выпустив всего шесть номеров. В последнем номере журнала вышла статья Пазолини под заголовком «Последнее слово об интеллектуалах» – чрезвычайно полемического характера, спорящая с культурной пропагандой режима. В это же время он активно общался с друзьями, в частности с Серрой, Эрмесом Парини, Франко Фарольфи, Элио Мелли, Франческо Леонетти, Роберто Роверси7.
В 1942 году в небольшом издательстве в Болонье он опубликовал «Поэзию Казарсы», тексты, написанные на фриульском – «по правую руку от Тальяменто» – языке[20], не имевшем литературной традиции и частично им самим и изобретенном из чисто художественных соображений. Эта публикация, получившая высокую оценку литературного критика Джанфранко Контини, изменила жизнь автора: с этого момента его основным занятием стала поэзия.
Фриульский период: война и первый опыт в образовании
25 июля 1943 года правительство Муссолини было вынуждено уйти в отставку: фашистский режим пал. Пазолини, отучившийся на курсах для офицеров запаса в Поретта Терме (Болонья), был призван в армию всего за несколько дней до перемирия 8 сентября[21]. Когда его подразделение было захвачено немцами, он умудрился спрятаться в канаве и спастись в Казарсе, куда семья переехала, чтобы дождаться окончания войны, там было безопаснее, чем в Болонье: в это же время его отец попал в Африке в плен к англичанам и был отправлен в лагерь для военнопленных в Кении, откуда вышел только по окончании военной кампании. Убегая, Пьер Паоло потерял свои заметки к диссертации, и это событие побудило его пересмотреть тему исследований: в ноябре 1945 года он окончил магистратуру с диссертацией о Джованни Пасколи («Антология поэзии Пасколи: введение и комментарии»), референтом был Карло Калькатерра[22].
В самом начале учебного года 1943–1944 в Сан-Джованни (деревня в окрестностях Казарсы) он открыл частную школу для детей, которые из-за бомбардировок не могли посещать школу в Порденоне или в Удине. Это был первый и грандиозный педагогический эксперимент Пазолини. В реальности он продлился всего несколько месяцев (с октября 1943 по февраль 1944), поскольку школа была закрыта после вмешательства Управления образования Удине (Порденоне тогда еще не был столицей провинции) – у учебного заведения не оказалось необходимых разрешений: школьная бюрократия всегда разит безжалостно.
Весной 1944 года Пазолини вместе с матерью поселились в арендованной комнате (ставшей его персональным убежищем, забитым книгами) в сельском доме в Версуте, крошечной деревне в окрестностях Казарсы, более безопасной, чем семейный дом в самой Казарсе (сегодня там находится Центр исследований Пазолини); дом располагался недалеко от железной дороги и рисковал подвергнуться воздушным бомбардировкам союзников. Сначала в Казарсе, а потом в Версуте Пазолини начал свой второй педагогический эксперимент, для малышей из начальной школы и детей из средней. Война вселяла страх, поэтому все стремились найти возможность учебы рядом с домом. Предложение исходило от Сюзанны, учительницы начальных классов, и ее сына, занимавшегося ребятами постарше. В более теплые месяцы Пазолини проводил уроки в casèl (т. е. «домике» на фриульском), «сооружении с кирпичными стенами и черепичной крышей, размерами примерно пять на шесть метров, поставленном прямо в поле», служившем для хранения сельхозинвентаря и в качестве «укрытия от летнего ливня, налетевшего внезапно»8; его остатки до сих пор можно увидеть среди полей недалеко от Версуты.
Эта преподавательская деятельность продолжалась вплоть до конца 1947 года, впоследствии Пазолини считал ее самой захватывающей в своей карьере учителя: в этих детях, сыновьях крестьян, он встретил незамутненную чистоту, создававшую им в его глазах моральное превосходство над их сверстниками из буржуазных семей. К Пазолини еще до окончания войны присоединились в качестве преподавателей некоторые друзья из Болонского общества: Джованна Бемпорад[23], Рикардо Кастеллани, Чезаре Бортотто[24], художник Рико Де Рокко, скрипачка Пина Кальк, дочь дружеского семейства словенцев, и Сильвана Маури, дочь болонского друга Фабио, влюбленная в Пьера Паоло (впоследствии она вышла замуж за писателя Оттьеро Оттьери[25]). Пазолини преподавал итальянскую и современную зарубежную литературу, латынь и греческий и писал стихи на фриульском.
Травма смерти брата
Брату Гвидо в 1944 году исполнилось 19 лет, и летом, по окончании научного лицея, он сблизился с партизанами; парень выделялся своей отчаянной храбростью в самых опасных операциях – от нанесения агитационных надписей на стены до распространения листовок, нападения на немецких военных с целью изъятия оружия, хранения дома пистолета. Он был членом бригады Озоппо, группы приверженцев старых антифашистских партий: католиков, либералов, монархистов (Гвидо был членом либерально-социалистической Партии действия).
12 февраля 1945 года, во время резни в Порзусе[26], Гвидо был убит партизанами-коммунистами из бригады Гарибальди, воевавшими за присоединение Фриули к только что созданной Югославской республике, под руководством маршала Тито: «одна из самых противоречивых и надолго исключенных из истории страниц движения Сопротивления»9.
Вот что произошло на самом деле: сотня гарибальдийцев, притворяясь заблудившимися, захватили членов бригады Озоппо и обменяли их на оружие. Гвидо стал пленником вместе с еще 30 товарищами, и их должны были казнить после «упрощенного» судебного разбирательства при участии «юристов» из бригады Гарибальди. Во время политического процесса Гвидо крикнул своим товарищам, что «у коммунистов все представления о юстиции сводятся к выстрелу в затылок». На судебных процессах в Пизе и Брешии, организованных после войны с целью пролить свет на обстоятельства резни (Пьер Паоло присутствовал на обоих, в качестве свидетеля обвинения), свидетели показали, что никто даже не дал себе труда ответить на его слова10.
Существует версия, что Гвидо было предложено спастись, перейдя на другую сторону: если бы он присоединился к сражавшимся на стороне Тито, он бы сохранил жизнь, но он отказался. В народе также распространялись слухи, впоследствии признанные ложными, о том, что мученики Озоппо были казнены с помощью кувалды. На самом деле 12 февраля Гвидо заставили спуститься в заранее вырытую для него канаву – могилу, где его и застрелили. Остальные 36 пленников, среди которых был и местный коммунистический лидер, были приговорены к весьма суровым наказаниям (вплоть до пожизненного заключения).
Официальное извещение о смерти Гвидо пришло в Казарсу только спустя три месяца, в конце мая. После отпевания в Удине его похоронили на кладбище Казарсы, в братской могиле, вместе с другими жертвами резни – на внутренней территории, справа от ворот. Пьер Паоло узнал об этом во время прогулки с кузиной Анни в окрестностях Версуты. Ему пришлось рассказать ужасную новость матери: то был один из самых тяжелых моментов молодости в его воспоминаниях.
Его непереносимая боль вырвалась наружу в душераздирающем письме, написанном 21 августа 1945 года Лучано Серро, его другу и сокурснику по университету в Болонье. В письме он изложил то, что было известно в его семье о резне:
Я не могу писать об этом без слез, мысли приходят ко мне спутанные от рыданий. Сначала я чувствовал только ужас, нежелание жить дальше, и единственным неожиданным утешением стала вера в существование судьбы, от которой невозможно скрыться, и потому по-человечески справедливой. Вспомни воодушевление Гвидо, ведь мысль, что день за днем билась у меня в голове, звучала так: «Он не мог пережить свой душевный порыв». Этот парень был создан из благородства, смелости, невинности, которые казались невероятными. Он всегда был лучше нас всех: у меня до сих пор перед глазами как живой образ – его волосы, его лицо, его куртка, и меня охватывает невыносимая, нечеловеческая тоска […]. Должно его оплакивать вечно, поскольку только так можно хоть чуть-чуть искупить безграничную несправедливость, постигшую его. […] Поэтому единственная мысль, что меня хоть как-то успокаивает, это то, что я не бессмертен, что Гвидо просто щедро опередил меня на несколько лет на пути в ничто, к которому я стремлюсь11.
Удар был весьма тяжел, как в плане семейных чувств, так и в области политики: ведь Пьер Паоло постепенно дозревал до принятия марксистской идеологии, что привело его в конце 1947 года к вступлению в Коммунистическую партию Италии, активному участию в ее действиях и занятию поста руководителя местной ячейки. Искренность его привязанности к коммунизму таким образом проявлялась в том, что, думая о смерти брата от рук «красных партизан», Пьер Паоло имел все основания стать антикоммунистом по личным причинам. Но он смог разделить эти две стороны жизни, несмотря на пережитую его семьей трагедию.
Знакомство с политикой, обязательства и «дело Рамушелло»
В Казарсе Пазолини целиком отдался своей страсти к преподаванию: сначала, во время войны, как мы уже упоминали, в маленькой частной школе, открытой им совместно с матерью, а потом, начиная с 1947 года, в государственной средней школе в Вальвасоне, симпатичной деревушке недалеко от Казарсы (пять километров, которые писатель ежедневно преодолевал на велосипеде); там он проработал учебные годы 1947–1948 и 1948–1949. Жизнь в провинции сблизила его с людьми и их социальными проблемами: с тех пор диалект стал для него не только языком, на котором можно слагать стихи, но и полноценной идиомой со множеством смыслов. А тем временем, в связи с окончанием войны, в Казарсу вернулся его отец, и семейство воссоединилось.
Пазолини увлекся политикой: вначале он вступил в ассоциацию борцов за автономию Patrie tal Friùl (из нее впоследствии образовалось сепаратистское «Движение Фриули»), а в 1947 году решил записаться в Коммунистическую партию Италии, проповедовавшую принципы марксизма: они стали ему близки. Осознавая, что некоторые коммунисты несли ответственность за смерть его брата Гвидо, он тем не менее без колебаний принял членский билет, в соответствии со своими убеждениями и политической совестью – признак выстраданного и подлинного членства.
Пазолини проявлял заметную активность на местном уровне, в отделении партии в Сан-Джованни, и даже ненадолго стал ее председателем; штаб-квартира коммунистов находилась в ободранной комнате под клубом Enal (Ente nazionale assistenza lavoratori, «Национальная организация помощи рабочим»). В период с 1947 по 1949 годы будущий писатель весьма активно участвовал в политической деятельности: он сочинял воззвания на итальянском и фриульском, принимал участие в митингах и демонстрациях, поддерживал крестьянское протестное движение (связанное с так называемым «законом Гаспери»)12. Во время выборов 1948 года Пазолини развешивал в Сан-Джованни стенгазеты, в которых обличал христианскую демократию и церковную реакционность.
Среди этой будничной и провинциальной рутины незаметно произошло событие, которое навсегда вошло в жизнь Пазолини. Во время традиционного местного праздника 30 сентября 1949 года в деревушке Рамушелло (в муниципалитете Сесто-аль-Регена), куда Пьер Паоло отправился вместе с кузеном Нико Нальдини[27], его видели с четырьмя подростками (двоим было по 15, двоим – по 17), которых, по словам Нальдини, «все знали»13 и с которыми Пьера Паоло связывали «совсем бесхитростные сексуальные отношения»14: по сути – мастурбация. Как сказал потом Нальдини: «Сегодня это может показаться иностранному наблюдателю почти чудовищным, но для того, кто знаком с обычаями парней нашей местности, в этом нет ничего удивительного или всерьез осуждаемого»15. Я полагаю, что подобные рассуждения Нальдини можно трактовать следующим образом: речь идет ни об одобрении, ни об оправдании того, что случилось, эпизод следует рассматривать просто в контексте крестьянской среды, в которой привычки к разным сексуальным практикам возникали значительно раньше, чем у ровесников в буржуазной среде.
На следующий день кто-то рассказал о случившемся стражам порядка, карабинерам: и уже 22 октября Пазолини было предъявлено обвинение в «развращении несовершеннолетних и непристойном поведении в общественном месте», дело было передано в суд. 28 декабря 1950 года судья Сан-Вито-аль-Тальяменто приговорил Пазолини и двоих юношей к трем месяцам заключения за непристойное поведение и полностью снял обвинение в развращении несовершеннолетних ввиду отсутствия соответствующего искового заявления (несмотря на то, что карабинеры с самого начала расследования настаивали на показаниях родителей мальчиков, родственники решительно отказались). А 8 апреля 1952 года суд Порденоне оправдал поэта и его сотоварищей по делу о непристойном поведении после апелляции.
Однако к тому моменту это уже почти не имело значения. А сразу после события – в октябре 1949 года – разразился чудовищный скандал: Пазолини был отстранен от преподавания (несмотря на письмо-обращение его начальству от родителей учеников, просивших продолжить преподавание детям), исключение из компартии («за моральное разложение», как гласит протокол отделения провинции Порденоне) не дожидаясь результатов заседания дисциплинарной комиссии по его вопросу. Однополая любовь была настоящим скандалом: эта тема в Италии в те годы была табу. Пьер Паоло, возможно, осознавал уже некоторое время свою ориентацию, но друзья и семья, даже смутно догадываясь, никогда это не обсуждали. Теперь же сексуальные предпочтения Пазолини, сказавшиеся впоследствии на его судьбе столь жестоким образом, стали весьма эффективным оружием в руках его политических противников, готовых использовать любой подходящий случай для шумной операции дискредитации, а не просто морального осуждения. Предполагается, что еще до знакового эпизода на деревенском празднике Пазолини получал предупреждения и сообщения в духе шантажа: якобы некий высокопоставленный прелат из Удине, которому очевидно была известна сексуальная ориентация поэта, намекал ему в личной беседе, что пора прекратить политическую активность, если он не хочет неприятных последствий16. Несложно вообразить, что столь блестящий молодой человек, как Пазолини, мог стать мощным противником на политической арене, поэтому перед искушением заставить его замолчать, даже постыдными способами, устоять было трудно.
Пазолини же разочаровало прежде всего поведение его товарищей по его же партии. Исключение из КПИ, произведенное 26 октября 1949 года, было опубликовано спустя три дня, 29 октября, на страницах местного ежедневника «Унита» (официального печатного органа партии), с комментарием Фердинандо Маутино, руководителя региональной федерации Удине. Принимая во внимание «сообщение о фактах, вызвавших серьезные дисциплинарные меры против поэта Пазолини», он выступал против «пагубного влияния определенных идеологических и философских течений разных Жидов, Сартров, и всяких декадентствующих поэтов и литераторов, которые хотят примкнуть к прогрессу, но на самом деле подхватывают самые вредительские аспекты буржуазного разложения»17. Нетрадиционные сексуальные отношения рассматривались как типичной буржуазный «порок». Пазолини ответил Маутино (31 октября 1949 года): «Меня совершенно не поражает дьявольское лицемерие христианских демократов; но меня поражает ваша бесчеловечность: вы прекрасно понимаете, что говорить об идеологических отклонениях – кретинизм. Но, вопреки всем вашим мнениям, я остаюсь коммунистом, в самом подлинном смысле этого слова»18.
Анна Тонелли реконструировала, основываясь на случае Пазолини в качестве типичного примера (тем самым, высветив его еще детальнее), культурный срез исторического периода, в течение которого случились все эти события, срез, наиболее детально отражающий все раздиравшие его напряжения и противоречия19. Годы, наступившие сразу после окончания войны, стали периодом острейшей и ничем не ограниченной политической борьбы. В том же 1949 году, 4 апреля, в Вашингтоне был заключен Атлантический Пакт, в результате которого был создан Североатлантический союз, то есть НАТО, центральный элемент начинавшейся холодной войны. Италия, в силу географического положения, стала стратегической территорией: она была «пограничной» страной между двумя блоками, либерально-капиталистическим и реал-социалистическим (за Адриатическим морем находилась страна-сателлит из орбиты СССР, Социалистическая федеративная республика Югославия). Поэтому жестокость противостояния политических сил в те времена не должна никого удивлять, и понятно, почему КПИ старалась избегать создания поводов для атак со стороны противников.
Вот в таком контексте и состоялось изгнание Пазолини, продиктованное вдобавок еще и пуританской моралью, свойственной и католикам, и коммунистам. Достаточно вспомнить, к примеру, как долго тщательно скрывалась, а потом была воспринята с огромным возмущением все теми же товарищами по партии внебрачная связь генерального секретаря КПИ Пальмиро Тольятти (женатого на товарище по партии Рите Монтаньяна, разделившей с ним тяготы преследований и политических баталий, и родившей ему сына) с депутаткой Нильде Йотти, моложе его на 27 лет.
В Риме в 50-е годы
В январе 1950 года, будучи больше не в состоянии выносить сложившуюся в родных краях ситуацию, Пьер Паоло вместе с матерью решились на внезапный переезд, почти бегство, в Рим, поначалу к дяде по материнской линии. И 28 января мать с сыном рано утром, чтобы их не видели соседи, сели на вокзале в Казарсе на первый же скоростной поезд в Рим. Ему было 28, ей – 59. С собой у них был, как и положено бедным беглецам, классический фибровый чемодан. Но то, что казалось тогда шагом в пропасть, на самом деле стало стартовой площадкой для превращения Пазолини в одного из самых знаменитых и признанных авторов. Однако в тот момент, ни он, ни его мать об этом еще не знали и даже не могли вообразить. Не знали они и о том, что страдания этого поспешного, почти тайного отъезда были хоть и болезненными, но необходимыми для того, чтобы Пьер Паоло открыл для себя мир новых возможностей, в котором его интеллектуальные и творческие таланты смогут наконец раскрыться.
С этого времени и до самой смерти Пазолини будет жить вместе с матерью в Риме, много раз меняя районы и места обитания. Начало жизни в Риме было трудным. Сюзанна поступила гувернанткой в семью с двумя детьми, а Пьер Паоло снял комнату на площади Костагути, в бывшем еврейском гетто, в нескольких метрах от берега Тибра.
Заработать на жизнь он пытался корректурой – вычиткой гранок и снимался статистом в фильмах кинокомпании Чинечитта. Когда денег стало совсем не хватать, Пазолини решил продать несколько томов торговцам подержанными книгами. В последние дни 1950 года он оказался в курортном местечке Кьоджа вместе с кузеном Нико Нальдини и Джованни Комиссо. Драка началась, по свидетельствам очевидцев, из-за кражи банкноты, выпавшей у него из кармана. Карабинеры задержали его, и ночь он провел в камере в полицейском участке.
Летом 1951 года семья – Пьер Паоло, мать, и даже отец, присоединившийся наконец к ним в Риме, – поселилась в домике на Понте Маммоло, недалеко от римского пригорода Ребиббия, на улице Джованни Тальере, номер 3. Отец, которому за три года до этого психиатр в Удине поставил диагноз «параноидальный синдром», усугубленный злоупотреблением алкогольными напитками, провел в столице самые безмятежные и спокойные свои годы, счастливый и гордый растущей литературной популярностью сына – он стал его практически единственным секретарем.
В конце этого же 1951 года Пазолини нашел место преподавателя в частной средней школе в пригороде Чампино (он проработал там до конца 1953 года, и среди его учеников оказался будущий писатель Винченцо Черами[28]).
Его метод преподавания основывался скорее на творческом сотрудничестве с учениками, внимательном их выслушивании, чем на хладнокровном изложении материала. Этот метод уже был им опробован в те годы, что он преподавал в Казарсе.
Он подружился с Сандро Пенна, Джорджио Капрони, Аттилио Бертолуччи, Карло Эмилио Гадда, Гофредо Паризе, Альберто Моравия и Эльзой Моранте[29]. Пенна помог ему узнать поближе ночной Рим – город языческий и средиземноморский, бездумный и живой, в котором царили эрос и чувственность. Он открыл для себя и мир пригородов: Примавалле, Квартичоло, Тибуртино, Пьетралата. Бедный и маргинальный (то есть отвергаемый «порядочным обществом»), Пазолини ощущал себя своим в этой социальной среде, тоже бедной и маргинальной.
Благодаря участию поэта Аттилио Бертолуччи издательство Guanda заказало ему две антологии: о поэзии XIX века, написанной на диалектах, и о народной итальянской поэзии. В 1954 году, благодаря улучшению материальных условий, Пазолини смог перевезти свою семью в квартиру на улице Фонтеяна, 86, в буржуазном квартале Монтеверде Нуово, а потом, в 1959 году, на улицу Джасинто Карини, 45, в том же квартале Рима, в очень скромное маленькое палаццо, где уже жил поэт Аттилио Бертолуччи.
В 1954 году он впервые начал работать для кинематографа: Пазолини (вместе с Джорджо Бассани[30]) входил в группу сценаристов фильма Марио Сольдати «Женщина с реки», главную роль в котором играла Софи Лорен. Затем он сотрудничал с Мауро Болоньини[31] на разных фильмах, например «Мариза-кокетка», «Молодые мужья», «Глупый день», «Красавчик Антонио» (по роману Виталиано Бранкати[32]), с Федерико Феллини на «Ночах Кабирии» и «Сладкой жизни», с Джанни Пуччини на «Танке 8 сентября», с Флорестано Ванчини[33] на «Долгой ночи сорок третьего года» (по рассказу Джорджо Бассани). Первый самостоятельный сценарий он написал в 1958 году – это была «Бурная ночь» (фильм в 1959 году снял Болоньини. В это же время он обрел и новых друзей: Лауру Бетти, Адриану Асти, Энцо Сичильяно, Оттьеро Оттьери[34]).
50-е годы стали для Пазолини временем мощнейшего творческого порыва, вызванного открытием совершенно нового для него мира, мира городских окраин, населенных люмпен-пролетариатом и знакомством с «гидами», которые помогли ему проникнуть в этот сложный человеческий и социальный слой: прежде всего с братьями Серджио и Франко Читти[35], а несколькими годами позднее (в 1962 году) с Нинетто Даволи[36].
Плодом творческого погружения в предместья стал роман «Шпана» (1955), сделавший Пазолини известной и противоречивой фигурой: дополнительному успеху у читателей способствовал и процесс по обвинению в непристойности, в котором, впрочем, были оправданы и автор, и издатель. Публикация книги стала поворотным моментом в жизни Пазолини: из автора, известного ограниченному кругу друзей, он превратился в успешного писателя, которого знали все. Но успех, скажет потом Пазолини, «вещь для человека жестокая», поскольку «это обратная сторона преследования»20.
В 1957 году Пазолини опубликовал сборник поэзии «Прах Грамши», создавший ему славу «коммуниста-еретика» из-за критического отношения к КПИ. Сборник вышел после того, как в 1956 году были обнародованы вопиющие и болезненные (для многих западноевропейских коммунистов) факты: в феврале состоялось выступление Хрущева на ХХ съезде Коммунистической партии СССР (КПСС), осудившее сталинизм (Сталин умер в 1953 году) и обещавшее обновление советской модели государства; а в октябре-ноябре – жестокое вооруженное подавление советскими войсками восстания в Венгрии. Второе событие мощно и парадоксально контрастировало с первым, как и июньские репрессии против рабочих протестов (они протестовали против подорожания товаров первой необходимости) в Польше в Познани – их осуществляли варшавские власти (которые, без малейших сомнений, делали это по приказу из Москвы). Эти факты породили недоумение и дезориентацию у борцов за коммунизм на Западе.
С 1955 по 1959 году Пазолини, вместе с Франческо Леонетти, Роберто Роверси, Франко Фортини и Анджело Романо[37], начал издавать болонский журнал Officina, поэтические предпочтения которого представляли собой нечто вроде мостика между неореализмом и зарождающимся неоавангардизмом (хотя с представителями последнего Пазолини скоро вступит в полемику).
В июле 1957 года Пазолини совершил, по заданию коммунистического еженедельника Vie Nuove («Новые пути»), путешествие в Москву на VI Международный фестиваль молодежи и студентов, гигантскую манифестацию, которая собрала в Москву юношей и девушек со всего мира, стремившихся подышать ветром перемен, подувшим с востока, ветром оттепели. «После поездки в Москву Пазолини стал членом группы итальянских писателей, художников и интеллектуалов, которые имели постоянные и частые контакты с Советским Союзом, в основном благодаря деятельности общества дружбы Италия – СССР»21. Но прежде всего, благодаря сотрудничеству с Vie Nuove, куда его позвала новая директриса Мария Антониетта Маччиокки (ставшая главой редакции за год до этого), ему удалось найти возможность «реабилитации», пусть не безусловной, перед КПИ22. В российской столице он побывал еще и в следующем году, в сентябре, по случаю второго съезда итальянских и советских поэтов. А 19 декабря 1958 года умер его отец.
60-е годы
1960-e годы для Пазолини стали периодом сомнений и неуверенности: стоило ему утратить веру в марксистскую интерпретацию истории, как мир превратился в место, где царит невероятный хаос, а буржуазия (воспринимаемая скорее как психологическая характеристика, чем как социальный класс) закрывает собой все горизонты и движется к темному «новому доисторическому времени», то есть в эпоху этического и интеллектуального регресса.
1960 год был годом правительства Тамброни: в марте сформировалось, при решающей поддержке Итальянского социального движения, единое правительство с Фернандо Тамброни во главе. Оно отличилось особой жестокостью при подавлении волн народных демократических и антифашистских протестов, начавшихся в крупных итальянских городах. В июле, критикуемый значительной частью общества из-за смерти пяти рабочих в результате расстрела профсоюзной демонстрации в Реджио Эмилия, Тамброни был вынужден уйти в отставку. Для Пазолини этот политический опыт стал доказательством идеологической преемственности между прежней фашистской партией и значительной частью правящей христианско-демократической элиты.
На фоне этих событий Пазолини решил посвятить себя кинематографу: взяв в руки камеру, он начал снимать свой первый фильм в роли режиссера: действие «Аккатоне» (1961), как и двух его романов того периода (за «Шпаной» в 1959 году последовала «Жестокая жизнь»), происходит в римских окраинах. Позднее он снял еще множество фильмов. В марте Пазолини становится ведущим рубрики диалогов с читателями в еженедельнике Vie Nuove – он останется ее ведущим вплоть до 1965 года (тексты рубрики были изданы в 1977 году Джан Карло Ферретти отдельной книгой, Le belle bandiere («Прекрасные флаги»).
Перед новым 1961 годом Пьер Паоло отправляется в Индию (Бомбей, Нью-Дели, Калькутта) вместе с Альберто Моравиа: к ним на пару недель присоединяется Эльза Моранте. В феврале оба писателя едут дальше в Африку (Кения и Занзибар). Впечатления об индийском путешествии Пазолини были описаны в книге «Запах Индии» (1962).
В январе следующего года уже в одиночку Пазолини ппредпринимает путешествие в Египет, Судан, Кению, Грецию. В том же 1962 году, во время работы над эпизодом «Овечий сыр» (для коллективного фильма «РоГоПаГ» – фильма, состоящего из четырех отдельных эпизодов, снятых Росселлини, Пазолини, Грегоретти и Годаром), он знакомится с Нинетто Даволи, которому тогда было 14. Нинетто было суждено в последующие годы стать одной из главных привязанностей всей жизни Пьера Паоло Пазолини.
В январе 1963 года писатель предпринимает третье длительное путешествие за границы Европы: он посещает Йемен, Кению, Гану, Гвинею. В марте они с матерью переезжают в их последний дом в Риме: в аппартаменты в квартале Всемирной выставки, на улице Евфрата, 9. С ними поселяется Грациелла Кьяркосси[38], 19-летняя кузина Пазолини, приехавшая в Рим изучать филологию в Университете.
Летом Пазолини отправляется в Израиль и Иорданию вместе с библеистом Андреа Карраро и съемочной группой – они едут на поиски атмосферных мест для фильма о жизни Христа. Годом ранее в Ассизи Пазолини прочел Евангелие от Матфея, и оно произвело на него сильнейшее впечатление.
В те годы страна начала пожинать первые плоды экономического бума, особенно в области социальных и, как скажет Пазолини, антропологических трансформаций. Крестьянская Италия быстро освобождала место для индустриальной нации, хотя изменения касались почти исключительно Севера, всегда бывшего более богатым, в противовес Югу, отстававшему в скорости развития и становившемуся все беднее, тем самым увеличивая неравенство, ставшее характерным для Италии еще со времен объединения[39].
Столкнувшись со все возраставшим сращением пролетарского менталитета с буржуазным и последующей потерей рабочим людом, как он полагал, присущей ему спонтанной человечности, Пазолини пускается на поиски альтернативы, уходя все дальше на юг: от «третьего мира» городских окраин он движется к «мировым трущобам» на периферии глобального развития. И снова уезжает в конце 1965 года: на этот раз в Северную Африку.
В 1966 году, однажды вечером в конце марта, во время ужина с Моравиа и писательницей Дачией Мораини[40], у Пьера Паоло случился тяжелейший приступ язвы с кровотечением. Ему прописали постельный режим на месяц, и он признался, что его начали мучить мысли о возрасте: «Я впервые почувствовал себя старым»23. Ему было 44 года. Но в августе, познакомившись с поэтом Алленом Гинзбергом, он оказался, впервые в жизни, в Нью-Йорке. А в октябре уже подбирал в Марокко места съемок будущего фильма о царе Эдипе – и фильм был снят в следующем году частично в Марокко, а также в Лодиджано и Болонье.
Наступил 1968 год: Пазолини весьма скептически отнесся к молодежным и студенческим протестам и старался от них дистанцироваться. В августе 1968 года он начал вести рубрику, озаглавленную «Хаос» в газете Tempo, и эта работа продлилась до января 1970 года. В 1969 году он предпринял путешествие в Уганду, Танзанию и Танганьику в поисках мест для съемок кинематографической транспозиции «Орестиады» Эсхила (этот фильм так и не был создан, но сохранились документальные записи для африканской Орестиады). И в том же 1969 году он успел попасть еще раз в Нью-Йорк.
Судебное преследование и травля в СМИ
«Дело Рамушелло» стало первым из серии юридических процессов, героем которых Пазолини был на протяжении всей своей жизни. Даже не желая представлять его кем-то вроде святого или невинной жертвы, нельзя отрицать, что он подвергался преследованию. Коммунист, яростный антиконформист как в своих сексуальных, так и в политических предпочтениях, Пазолини являл собой просто воплощение скандала (в этимологическом смысле – «камня преткновения») в глазах современного ему буржуазного общества, был вызовом для его отнюдь не кристальной совести. Работу по изучению наследия писателя после его смерти координировала Лаура Бетти24, однако относительно недавно существенный вклад в нее внесли тщательно задокументированные Франко Граттарола[41] свидетельства того, какому моральному бичеванию повергался Пазолини – как со стороны судебной власти, так и хамоватых и бесцеремонных представителей прессы, в течение целых 25 лет25.
Писатель стал участником не более, не менее, чем 33 судебных процессов. С момента публикации романа «Шпана» (1955 года), после выхода каждой очередной книги и каждого нового фильма (кино подарило Пазолини широкую известность, за которую он платил и подобным образом), неизменно находился обиженный гражданин, ощущавший себя обязанным строчить жалобы и доносы с самыми разнообразными обличениями, среди которых превалировали обвинения в непристойности и оскорблении религиозных чувств. Пазолини проводил значительную часть своего времени в адвокатских конторах, обсуждая стратегии защиты. Да и затраты на судебные издержки были отнюдь не незначительными. Но, помимо чисто практических аспектов, особенно болезненна для него была атмосфера враждебности, которую он ощущал вокруг себя.
СМИ не давали писателю пощады: ему напоминали о его отношениях с парнями из народа, распространяли слухи и сплетни о его дружеских связях, часто выставляли в фальшивом и двусмысленном свете. Вполне справедливо будет сказать, что изображение мелкой преступности, данное им в книгах и фильмах о жителях Рима, подавалось ими как попытка облагораживания и легитимации его «шпаны» в глазах молодого поколения: Пазолини, таким образом, делали виновным в распространении уличной преступности, как будто его «образы» оказывали неблагоприятное влияние на менее стойкую в психологическом отношении аудиторию. А исполнение им в качестве актера роли помощника (по кличке «Урод») преступника в фильме Карло Лиццани «Горбун» (1960), казалось, послужило буквально доказательством его отклонений от нормы. Кадры из фильма использовались в качестве иллюстраций к статьям в прессе о бурной ночной жизни Пазолини.
Моравиа сказал: «Он [Пазолини] знал, что провоцирует скандал, но игнорировал опасность, которой подвергался, оскорбляя такой класс, как итальянская буржуазия, которая за четыре столетия создала два самых значимых консервативных движения в Европе – контрреформу и фашизм»26.
На Пазолини нападала прежде всего пресса правых взглядов (такие издания, как Lo Specchio и Il Borghese) или газеты бульварного типа (как, например, еженедельник АВС), в лице персонажей типа Джозе Риманелли (автора автобиографического романа «Стрельба по голубям», 1953, в котором он вспоминал о своих воинственных подвигах в республике Сало, и подписывавшего свои статьи в Lo Specchio псевдонимом А. Дж. Солари) и Луиджи Бартолини (автор романа «Похитители велосипедов», 1946, ставшего спустя два года основой для шедевра Витторио Де Сика). Риманелли высмеивал, – видимо, считая это очень остроумным, – интимные предпочтения писателя, называя его феминитивом «Ла Пазолина» и «Ла Пьера Паола Пазолина»27.
Марио Тедески (преемник Лео Лонганези в руководстве издания Borghese) в своем «Словаре безнравственности», опубликованном издательством Edizioni del Borghese, писал: «Однополая любовь по прошествии лет расширила свое влияние особенно среди марксистов, и самым ярким представителем этого выбора стал Пьер Паоло Пазолини»28. «“Лукиниды” и “Пазолиниды” – так саркастически крайне правые издания […] называли последователей Висконти и Пазолини»29: даже просто положительная оценка творчества этих режиссеров уже служила синонимом неких сексуальных предпочтений (Лукино Висконти ставили рядом с Пазолини исключительно по этой причине).
Другие называли Пазолини «левым копрофагом жизни»30 за сочетание жалости и непристойности в лексике его произведений – «бард канализации», «пророк местечковых педиков», «Гомер уличных шлюх»31 или «певец воришек»32 из-за особой атмосферы в его творчестве. Пазолини был мишенью для комиков и подражателей, и их скетчи не всегда были безобидными. Скорее, они почти никогда не были таковыми.
Он отдавал себе отчет о том, в какой атмосфере ему выпало жить, аккуратно ее фиксировал и не уклонялся от оценок:
Уже 20 лет итальянская пресса, в первую очередь газеты, тратит большие усилия для превращения моей персоны в эталон морального разложения, всего запретного. Нет никаких сомнений, что формированию общественного запрета способствовала моя ориентация, которую всю мою жизнь мне предъявляют как особенно постыдное свидетельство того, что я собой представляю: печать мерзости, которой я отмечен, служит приговором всему, что я делаю, – моей чувствительности, моему воображению, моей работе, особенностям моих эмоций, моих чувств и моих действий, ведь они суть не что иное, как попытка замаскировать фундаментальный грех, грех и проклятие. […] Не любитель мужчин, который подлежит осуждению, но писатель, сексуальные предпочтения которого не смогли сделаться средством давления на него, средством шантажа для возвращения в ряды нормальных. На самом деле скандальность была не в том, что я не скрывал мои предпочтения, но в том, что я не скрывал ничего33.
Пазолини подвергался не только постоянному моральному осуждению, но и настоящей физической агрессии. Но не жаловался. Летом 1960 года его обвинили в пособничестве (за то, что он подвез на своей машине парня, который, не сообщив об этом писателю, провез на себе ценные вещи, похищенные у некой дамы во время драки на Виа Панико), а затем в подкупе малолетних (за то, что обменялся парой слов с двумя 14-летними подростками на пирсе Анцио – последним, как стало позднее известно, заплатили два журналиста34 за то, чтобы они отправились в полицейский комиссариат с сообщением о неприличном анекдоте, рассказанном им писателем). Последнее обвинение было отвергнуто прокурором Анцио «по причине отсутствия каких-либо доказательств преступления»35, однако машина по метанию грязи заработала на полную мощность, и бульварные газеты опубликовали статьи по обоим эпизодам.
Конечно, Пазолини не мог оставаться равнодушным. Комментируя эти и подобные события, он писал: «Эта злоба причиняет тому, кто является ее целью, сильнейшее чувство боли: он ощущает себя живущим в мире тотального непонимания, где говорить, увлекаться, спорить бессмысленно; в обществе, где, чтобы выжить, надо не только быть злым, но и отвечать на злобу злобой… Несомненно, я должен платить чрезвычайно тяжкую цену, и это создает во мне острое чувство безнадежности – признаюсь в этом совершенно искренне»36.
Другой юридический процесс был вообще сюрреалистичным37