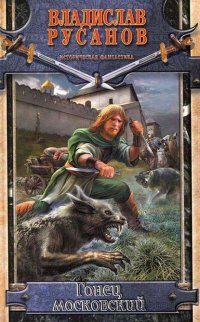
Читать онлайн Гонец московский бесплатно
- Все книги автора: Владислав Русанов
Пролог
17 сентября 1307 года от Рождества Христова
Париж, Франция
Низкие тучи сдвинулись над городом, словно брови разгневанного правителя.
С утра лил дождь. Холодный по-осеннему. От сырости не спасал ни плотный плащ, свисающий до самых шпор, ни капюшон, низко надвинутый на лицо. Под ногами мерзко чавкала грязь, щедро замешанная на очистках, пожухлой ботве и прочей дряни. Вонь из сточных канав резала ноздри, заставляя брата Антуана горько пожалеть не только о свежем морском ветре, обдувающем побережье родимой Нормандии, но даже о палящих суховеях Земли Обетованной, где он почти пятнадцать лет посвятил борьбе за Гроб Господень. В Палестине ветер обжигал, но не вызывал тошноты. А здесь…
Тоже мне – Париж!
Идущий впереди слуга, освещающий путь в кромешной тьме, поскользнулся и едва не упал, выронив факел. Тихо выругался сквозь сжатые зубы.
Раздражение накатывало волнами, в который уже раз вынуждая шептать «Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem cæl i et terræ»[1], а следом и «Pater noster, qui es in cælis»[2]. Ибо Господь наш, Иисус Христос, учит смирению. Нельзя давать гневу овладеть собой. Разозлившийся боец в четырех случаях из пяти проигрывает воину, сохранившему разум холодным.
И почему нельзя встречу назначить в новом Тампле?
Ах, да! Твердыня же еще недостроена – если стены и прочие защитные сооружения уже готовы, то вряд ли успели оборудовать кельи для братии и залы для проведения капитулов[3].
Возведенная неподалеку от Парижа новая резиденция Ордена ничем не должна была уступать как твердыне в Акре, ныне безвозвратно утерянной, так и лондонской. Не случайно Великий магистр решил перенести именно сюда, а не за пролив главную обитель, хоть и носил до того мантию Великого приора Англии. Да и король Франции Филипп Четвертый, прозванный в народе Красивым, сам предложил рыцарям Храма перебраться поближе к его двору.
Брат Антуан поежился. На душе было неспокойно.
Французский король хитер и жёсток, чтоб не сказать – жесток. Правит железной рукой, усмиряя зарвавшихся баронов, но, когда нужно, умеет проявить гибкость, достойную истинного монарха. Летом прошлого года он уже был вынужден обращаться к рыцарям Храма в поисках спасения – взбунтовавшаяся парижская чернь заставила здорово поволноваться короля и его ближайшую свиту. Вот тогда-то и родилась у Филиппа мысль – пригласить самый сильный в Европе Орден поближе к своей столице.
Великий магистр Жак де Моле возражать не стал. Все владения Ордена Храма в Святой земле потеряны. Последняя, отчаянная попытка отвоевать Иерусалим провалилась. Нет, город-то они взяли, но вот захватить мало, надо еще и уметь удержать… Да и рыцарство, в целом, разочаровалось в крестовых походах. Теперь братьям ничего не остается, как искать новое приложение для своих мечей – но уже в Европе. Рыцари-тевтоны уже подсуетились: нашли для Ордена новое славное поле деятельности. Нести веру Христову в земли отчаянных язычников – пруссов, ливов, жмуди – не менее почетно, чем сражаться с мусульманами.
Ордену Храма еще предстояло сделать свой выбор. На то у него были и золото, и тысячи братьев, закаленных в постоянных сражениях с нехристями, и святые реликвии, вселяющие неустрашимый дух в сердца бойцов. А помощь такого сильного королевства, как Французское, будет весьма кстати. Наверняка Филипп Красивый рассуждает так же. Если Орден Храма и Франция станут поддерживать друг друга, кто сможет противостоять им?
Вот только зачем же его, Антуана де Грие, пригласили в дом ростовщика на улице Старой Голубятни? Да еще и встречу назначили на полночь? Тащись теперь через весь этот вонючий город…
А вот и указанный в записке дом. Брат Антуан узнал его по тяжелым створкам дверей, украшенных бронзовыми бляхами в виде львиных голов. Роскошь невиданная. В самом ли деле тут живет ростовщик?
Дав знак слуге остановиться, рыцарь приблизился к двери и трижды ударил липким и мокрым кольцом. Повременил и ударил еще трижды. Так было указано в записке.
Долго ждать не пришлось.
Щедро смазанные петли провернулись без скрипа. В образовавшейся щели, шириной не более ладони, появился внимательный глаз:
– Брат Антуан?
– Да! – решительно отвечал рыцарь.
– Скажи слово! – потребовал привратник.
Храмовник, хоть его и раздражали подозрительность и недоверие, подчинился, назвав имя рыцаря, четвертым по порядку занимавшего пост Великого магистра Ордена:
– Бернар де Тремеле!
Почему в записке указывался именно де Тремеле? Загадка на загадке!
– Входите, во имя Господа, брат Антуан!
Откинув капюшон в тесноватой комнатушке за дверью, Антуан де Грие мрачно поинтересовался:
– А мой слуга?
– О нем позаботятся, – отозвался коренастый чернобородый мужчина, никак не походивший ни на ростовщика, ни на охранника. Скорее, брат-сержант[4]. Причем из ветеранов. Любопытно, где же он служил делу Христа?
– Прошу вас, брат Антуан, во имя Господа!
Дерзкий прищур. Видать, заинтересованный взгляд рыцаря не укрылся от привратника.
Точно – опытный головорез. Достоин уважения.
Де Грие сбросил плащ, одернул плотную суконную коту[5], призванную защитить от осенней сырости, и прошел следом за чернобородым.
По узкой лесенке они поднялись на второй этаж и очутились в просторном помещении, освещенном десятком дорогих восковых свечей. Тяжелые занавеси закрывали окна, спасая от сквозняков. Стены увешаны гобеленами с картинами на библейские сюжеты.
Четверо рыцарей, что вели до того неторопливую беседу, обернулись навстречу де Грие. Трое постарше и один – совсем молодой, видимо, опоясанный мечом совсем недавно.
Под гобеленом с изображением Иисуса Христа, искушаемого дьяволом в пустыне, сидел худощавый мужчина лет пятидесяти. Седые виски, впалые щеки и белесый росчерк шрама на лбу. Антуан узнал его – магистр Гуго де Шалон, прославленный воин и мудрый политик. В отсутствие Великого магистра именно брат Гуго брал на себя руководство жизнью Храма во Франции. Сейчас, несмотря на горящие в камине дрова, брат Гуго кутался в белый плащ с красным восьмиконечным крестом Ордена.
Де Грие поклонился, придерживая висящий у бедра меч.
– Приветствую вас, брат Антуан, – ответил сдержанным кивком магистр. – Вы явились строго в назначенный срок, явив похвальную точность.
– Благодарение Господу, – рыцарь прижал ладонь к сердцу. – Мне ничто не помешало. И никто.
– Не думаю, что среди отребья, шастающего по парижским улочкам, нашелся бы хоть кто-то, способный послужить помехой рыцарю Храма, – сипло проговорил высокий, смуглый до черноты рыцарь. Не иначе, большую часть жизни, если не всю ее, сиплый провел в Святой земле.
– Брат-рыцарь Эжен д’Орильяк, – представил его магистр. – Ту пользу Ордену бедных рыцарей Иисуса из Храма Соломона[6], что принесла служба брата Эжена, трудно переоценить…
«Был ли он в Акре или Иерусалиме? – подумал было Антуан. – Что-то не припоминаю такого имени…»
– Брат Эжен служил не оружием, – пояснил де Шалон. – Но его служение не менее почетно, чем братьев, облаченных в доспех.
Де Грие кивнул, хотя ничего не понял из слов магистра. Да, он слышал: многие братья постигают тайные знания, изучают алхимию, исследуют священные реликвии, которыми обладает Орден. Но до сих пор Антуан предполагал, что это удел братьев-священников, но не рыцарей.
– Брат Рене де Сент-Клэр, – продолжал представлять присутствующих брат Гуго. Второй рыцарь шагнул от гобелена, изображающего воскрешение Лазаря, к середине комнаты. В отличие от других, лицо его обрамляла снежно-белая борода. Высокий лоб, удлиненный глубокими залысинами, свидетельствовал о недюжинном уме, а широкие плечи и мощная шея выдавали подлинного бойца. Не то что сутулый и худосочный Эжен.
– Рад знакомству, во имя святого Бернара, – поклонился де Грие.
– Взаимно, брат Антуан, – глубоким и густым, как патока, голосом отвечал де Сент-Клэр.
– Брат Рене долгие годы провел на востоке, – проговорил де Шалон. – Но не в Святой земле, а гораздо севернее. В землях руссов. Их некогда могучее государство было разрушено и опустошено язычниками из земли Чинь. Должно быть, вы слышали, брат Антуан, об этой волне, прокатившейся, словно горный обвал, сметающий все на своем пути, едва ли не до границ Священной Римской империи…
– Признаться, слышал я не много, – не стал кривить душой де Грие. – И все услышанное больше походило на сказки.
– Ничего. У вас будет достаточно времени, чтобы узнать историю падения великого государства руссов из уст брата Рене. И о том, как их правители пытаются ныне восстановить былое величие державы. На северо-востоке лишь они являют собой форпост христианства в окружении языческих орд.
– Я всегда думал, что севернее Константинополя живут одни лишь схизматики[7]… – пожал плечами Антуан.
– Не судите и не судимы будете![8] – сурово произнес магистр и даже пристукнул ладонью по колену. – Не так ли заповедовал нам Господь наш, Иисус?
– А еще сказано: «Нет ни эллина, ни иудея»…[9] – мрачно добавил де Сент-Клэр. Обиделся он, что ли, за своих руссов?
Де Грие развел руками:
– Прошу простить меня, братья, если невольно оскорбил ваши чувства.
– Господь простит, – отозвался де Шалон, а бородатый рыцарь лишь кивнул.
– Позволь представить тебе еще одного нашего брата, – продолжал магистр. – Брат – рыцарь – Жиль д’О.
Молодой человек, стоявший до сих пор особняком, зарделся и поклонился, прижимая ладони к груди. Окинув его беглым взглядом, де Грие обратил внимание на широкие плечи и непринужденную грацию движений. Будто крупный хищник – волк или леопард.
– Брата Жиля рекомендовал прецептор[10] Храма, брат Жерар де Виллье, который, к моему великому сожалению, не может присутствовать на нашей встрече самолично. Несмотря на молодость, брат Жиль уже зарекомендовал себя как великолепный мечник. Не много найдется братьев-рыцарей, способных противостоять ему хоть пешим, хоть в седле.
«Любопытно… Не перебарщивает ли магистр с похвалами?» – устало подумал Антуан.
– Вот так, братья… – Де Шалон пристально поглядел на каждого из присутствующих рыцарей. – А перед вами брат Антуан де Грие из Нормандии. Достойнейший рыцарь. Образец служения делу Господа в Святой земле. Только величайшая скромность не позволяет ему возвыситься над прочими братьями и стать в один ряд с комтурами и магистрами.
Три пары оценивающих глаз впились в нормандца. Тот вдохнул поглубже, стараясь ничем не проявить недостойное тамплиера тщеславие, хотя слова магистра, признаться, потешили его самолюбие. Впрочем, Антуан всегда считал, что не ищет повышения по службе не из скромности, а из лености. Выше должность – выше ответственность.
Брат Гуго вздохнул, зажмурился так, словно огонь камина резал глаза подобно полуденному солнцу, сцепил пальцы.
– Я призвал всех вас сюда, братья, – очень тихо проговорил он, – не только для того, чтобы познакомить между собой. Я отдаю себе отчет, что каждого из вас я оторвал от выполнения важнейшей миссии… Ну, может быть, за исключением брата Жиля…
Брат Эжен возвел глаза к сводчатому потолку. Брат Рене буркнул что-то неразборчивое.
– Но та служба, ради которой я призвал вас сюда… – глаза магистра сверкнули, как два клинка дамасской стали под жарким солнцем Палестины, – она, эта служба, важнее любой другой. От вас будет зависеть дальнейшая судьба Ордена бедных рыцарей Иисуса из Храма Соломона. Понятно ли вам, братья?
Не сговариваясь, присутствующие расправили плечи и, сделав несколько шагов, выстроились в ряд перед магистром.
В полумраке комнаты прозвучал освященный временем девиз Ордена:
– Non nobis Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam…[11]
– Спасибо, братья! – ровным тихим голосом произнес де Шалон. – Я верил в вас. Я знал, что вы примете новое служение, как и подобает истинным рыцарям Храма. Теперь же, во имя Господа, выслушайте меня.
На несколько мгновений воцарилась тишина, нарушаемая лишь потрескиванием дров в камине.
– Всем вам известно, – по-прежнему негромко продолжил речь брат Гуго, – что Великий магистр наш принял предложение короля Франции и переносит резиденцию Храма в Париж. Что ж… Орден Храма переживает не лучшие времена. У нас попросту нет иного выбора. Но король Филипп коварен и вероломен. Жажда золота способна толкнуть его на любое клятвопреступление. Поэтому Великий магистр, все магистры и комтуры приняли единогласное решение. Даже если нас ждет предательство, и французский монарх нарушит все Божьи и человеческие установления, Орден должен выжить. Мы вывезем наши сокровища и укроем их в надежных местах. Не спрашивайте меня, где именно, ибо это не моя тайна, но тайна Ордена.
– Что король Франции может противопоставить мощи Ордена Храма? – не сдержался самый молодой рыцарь, брат Жиль.
– К сожалению, наши комтурства разбросаны по разным городам, – пояснил магистр. – Мы не можем собрать наши силы в единый кулак – это вызовет ненужные подозрения и обвинения.
– Чем мы можем послужить Ордену? – насупился брат Рене.
– Вы будете сопровождать обоз из четырех телег. Четверо братьев-рыцарей. В помощь могу дать вам полдюжины братьев-сержантов и не больше десятка слуг. Это и так слишком много…
– Все верно, – кивнул седобородый крестоносец. – Чем больше отряд, тем больше ненужного внимания привлечет он на дороге.
– От ненужного внимания вас прикроет брат Эжен. Вы справитесь, брат?
– Все в руке Божьей, – скромно отвечал смуглый рыцарь. – Горячая молитва и священная реликвия помогут мне. Я сделаю все, что в моих силах, клянусь Кровью Христовой.
– А сила твоя хорошо известна Великому магистру и мне.
– In nomine Patris, – перекрестился д’Орильяк, – et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.[12]
Все тамплиеры последовали его примеру.
– Вы отправитесь на восток, через Священную Римскую империю. Положитесь в выборе пути на брата Рене, – теперь слова де Шалона зазвучали резче, словно боевые команды. – Придерживайтесь безлюдных мест – с любой шайкой разбойников ваш отряд совладает без труда, а вот излишнее внимание баронов и епископов вам ни к чему. Минуете королевство Польское и Великое княжество Литовское. И, если будет на то воля Господня, достигните русских земель. Там ищите помощи и покровительства князя Московского Георгия. Это внук великого русского князя Александра, который сумел уберечь хотя бы часть своей державы от завоевания ордами нехристей, чьих косматых коней видели стены Лигницы, Кракова и Буды. И даже Иерусалим не избежал этой печальной участи… – Магистр перевел дух. Помолчал, собираясь с мыслями: – Князю Георгию вы передадите это письмо. Подойдите, брат Антуан, и возьмите его!
Из-под плаща де Шалона появился пергаментный свиток, запечатанный тремя печатями. Де Грие приблизился к магистру и с поклоном принял письмо, успев заметить на печатях изображение двух рыцарей, едущих на одном коне[13].
– Помните, братья, от успеха вашего похода зависит судьба Ордена. Напоминаю это еще раз. Брата Антуана я назначаю старшим. Какие будут у вас вопросы, братья?
Рыцари молчали. Глянув искоса на лица будущих спутников, де Грие прочел озабоченность, но не страх. Сам он вовсе не ощущал уверенности, но готов был идти до конца. Особенно если на то будет приказ Великого магистра.
– Прошу простить меня во имя Господа, брат Гуго…
– Слушаю вас, брат.
– Еще раз прошу простить меня. Брат Жак де Моле знает о нашем походе?
– Безусловно. Письмо к князю Георгию написано им собственноручно и запечатано личной печатью. Можете удостовериться, брат Антуан.
Де Грие приблизил свиток к глазам.
«Если бы я знал личную печать Великого магистра…»
– Да, – кивнул он. – Благодарю вас, брат Гуго. Я удовлетворен.
– Еще вопросы?
– Я все-таки не понимаю, – смущенно улыбнулся брат Жиль. Похоже, он стеснялся старших по возрасту и сроку службы братьев, но удержаться все же не смог. – Я не понимаю, как брат Эжен может прикрыть нас? Что значит «прикрыть»? Каким образом? При чем тут горячая молитва?
Д’Орильяк поморщился:
– Слишком много вопросов.
– Ничего. Молодости свойственна любознательность, – улыбнулся магистр. – Я поясню. Возможно, брат Жиль, мои слова прозвучат не совсем привычно. То есть вызовут удивление и даже возмущение в первый миг. Но по здравом размышлении вы не сможете не признать мою правоту. А уж после того, как мои слова будут подтверждены делом…
Де Шалон выдержал паузу.
– Итак… Благодаря беззаветному подвижничеству, умерщвлению плоти и укреплению духа постами, молитвами и чтением Священного Писания, брату Эжену уже не единожды удавалось творить чудеса… Я вижу на ваших лицах удивление и даже негодование. Спешу вас заверить, братья: чудеса брата Эжена не имеют ничего общего с колдовством и чернокнижием. Господь дает ему силу и помогает в делах, как некогда помог Иисусу Навину остановить солнце, а Моисею провести иудеев через море… Вы же знаете, если искренне веришь в Бога, то и вода может стать твердью. Главное, не допустить в сердце ни тени сомнения. Молитвы брата Эжена помогут скрыть ваш обоз от излишне любопытных глаз.
– Боюсь уподобиться Фоме, но откуда такая уверенность? – подал голос брат Рене.
– Простите мне, братья, что я не могу вам дать бесспорных доказательств. Поэтому прошу поверить мне на слово.
– Позвольте еще вопрос? – решился наконец-то де Грие.
– Слушаю, брат Антуан.
– Если Великий магистр чувствует опасность со стороны его величества Филиппа, почему он едет в Париж? Зачем сует голову в пасть льву? Не было бы разумнее переждать какое-то время на Кипре, пока отношения с французским королем не изменятся? В лучшую или худшую сторону, не суть. Важна определенность.
– Великий магистр не может проявлять малодушие. Иначе какой пример он подаст всем братьям? Что скажут об Ордене миряне? Ведь они привыкли судить по поступкам. Нельзя также сбрасывать со счетов расположение папы Климента. Он весьма благоволит к Филиппу. Ходят слухи, что даже папский престол он намерен перенести из Рима в Авиньон. А к Ордену Храма он, напротив, неоправданно суров. Так зачем же усиливать его неприязнь? Брат Жак решил поручить себя воле Господа. Насколько вы поддержите Его, настолько же и Бог поддержит вас, сказал он.
Повисла тишина.
Никто из рыцарей не решался ее нарушить новым вопросом.
Внезапный порыв ветра за окном рванул занавеси. Метнулось пламя в камине.
Магистр медленно поднялся со скамьи, выпрямился и осенил братьев широким крестом, благословляя их на подвиг во имя Ордена.
Глава первая
Вересень[14] 6815 года от Сотворения мира
Тверское княжество, Русь
По старой привычке Никита проснулся задолго до рассвета.
Колосок овсяницы щекотал нос. Высунувшаяся из стога левая нога здорово озябла. Еще бы! Вересень на исходе. Вот-вот заморозки начнутся.
Парень выбрался из сена и с наслаждением потянулся. Сделал несколько быстрых движений, растягивая связки и разминая суставы. Поддернул штаны, проверяя – надежно ли завязан гашник, и сорвался с места в бег.
В десять шагов надвинулся лес. Расступился и поглотил человека подобно пасти огромного зверя.
Никита легко мчался между старыми разлапистыми елями, привычно уклоняясь от растопыренных во все стороны ветвей. Чужой человек, попади он в темный ельник, ни за что не догадался бы, где проходит стежка, но парень чувствовал ее, что называется, пятками. Наверное, он мог бы найти дорогу и с закрытыми глазами. Как-никак, пять лет без малого здесь бегает, с той поры, как поселился у старого Горазда.
Тело вошло в работу быстро и привычно.
Четыре шага – вдох.
Четыре шага – выдох.
Густой смолистый дух врывался в легкие.
Сырая земля упруго отзывалась на прикосновение подошвы.
Поскрипывала бурая хвоя, устилавшая тропку, будто шкура матерого медведя.
Четыре шага – вдох.
Четыре шага – выдох.
Вот и поляна, заросшая разнотравьем.
Надо будет следующим летом выбраться сюда на покос… Ох и сладкое молоко даст Пеструха!
Двадцать вдохов-выдохов. Вот и березняк. Листья с желтеющими по краям зубчиками трепетали под едва заметным дуновением ветра. Теперь под пятками шуршала прошлогодняя листва.
Овраг.
Через него переброшена тонкая жердина.
Тонкая, она прогибалась даже под весом Никиты, хоть в нем не было ни капельки лишнего жира – только кости, сухожилия и мышцы. Скользкая от росы. Опасное препятствие. Особенно после лета, когда солнце вставало гораздо раньше и успевало высушить темно-серую кору.
А ну-ка, посмотрим…
Скользящий шаг. За ним второй.
Похоже, тело вспоминало многократно заученные движения само, без вмешательства рассудка.
Вот уже и колючие заросли малинника на той стороне. Рукой подать.
«Не так страшен черт, как его малюют!» – пронеслось в голове.
И тут левая нога соскользнула с жерди.
«Опять левая! Невезучая…»
Никита успел раскинуть в стороны руки. Пару мгновений ловил равновесие и, наконец, замер. Даже дыхание затаил. Подождал, пока сердце начнет биться реже. Глубоко вдохнул и поставил ногу обратно.
«Стыд-то какой! Зазнался, потерял бдительность, как глухарь на токовище…»
Уже продираясь через малинник, парень без устали корил себя. И, в конце концов, успокоил совесть, пообещав продлить утренние упражнения.
По пологому склону холма, вновь через ельник, он поднялся на плоско срезанную вершину и помчался вниз, набирая больше и больше скорости, на ходу уворачиваясь от стволов и ощетинившихся ветвей.
Ветер свистел в ушах. Черные косматые ели мелькали размытыми громадами.
Дважды острые иглы оцарапали щеку. Один раз – пребольно хлестнули по губе.
«Да что ж это со мной сегодня!»
С разбегу влетев в бурелом – толстые, поваленные когда-то, давным-давно, стволы с торчащими в разные стороны сучьями делали путь непроходимым для всех, кроме особым образом обученного бойца, – Никита запрыгал, словно белка.
Касание. Толчок. Взлет. Снова толчок.
Всякий раз, проходя эту часть дороги, он старался пойти привычным путем. И всякий раз сбивался. Будто какая-то неведомая сила ночью перекладывала валежник, чтобы подловить человека.
Зато тут уж не расслабишься, как на простой и понятной жерди. А значит, он всегда будет наготове. Учитель говорил, что это пригодится в будущем, – в бою нельзя отвлекаться, а уж рассеянный не выживет и пары вздохов.
«Уф… Вот и выбрался на приволье!»
Теперь парень бежал по безлесному косогору, который полого спускался к берегу реки. По правую руку занималась заря. Небокрай окрасился легким оттенком розового. И от этого широкая гладь плеса засветилась, словно изнанка раковины-беззубки – которых Никита насобирал несчитано, когда был младше. Учитель варил их в котелке – получалось вкусно, хотя и непривычно для русского человека.
На ходу парень сбросил рубаху, дернув гашник, выскочил из штанов, с размаху бросился в воду.
Холод сдавил ребра, вынудив пустить пузыри из носа.
«Подумаешь… Разнежился, что ли, за лето? А вспомни, как той зимой в лютый мороз в полынью нырял!»
Никита плыл под водой так долго, как только мог, греб размашисто, но не часто, а потому вынырнул почти на стрежне. Тут приходилось бороться с течением, для того чтобы держать направление на старую примету: кривую березу с обломанной верхушкой.
С наслаждением вдохнув стылый воздух, парень поплыл саженками, стараясь не шлепать ладонями. Обрывистый берег приближался не так уж и быстро – хоть и не Волга, а Сестра ее, а все же река не маленькая.
Коснувшись рукой глинистого откоса, Никита развернулся и поплыл обратно.
После купания прохладный ветерок показался жарким.
Не стесняясь наготы – кто его увидит в эдакой глухомани? – парень затанцевал по песчаной отмели, нанося попеременно руками и ногами удары невидимому противнику. Заученные связки движений получались легко.
Удар кулаком!
Пяткой!
Щепотью!
Снова кулаком!
Подъемом стопы!
Пяткой в прыжке!
Ребром ладони!
Вскоре от разгоряченного тела юноши повалил пар.
«Довольно пока…»
Никита быстро оделся и помчался обратно.
Без труда поднялся по косогору. Преодолел бурелом. Миновал ельник, продрался через малинник. Выбежал на жердь…
…И опять потерял равновесие. Замахал руками, выровнялся и обругал себя самой злой бранью, которую только знал.
«Позор! Стыдоба-то какая!»
Теперь и стволы берез, окрашенные розовыми лучами взошедшего солнца, не радовали.
Так хорошо день начинался, и вот – на тебе!
Уже подбегая к подворью, Никита уловил запах дыма.
Неужто учитель с утра очаг растопил?
Вот и постройки: крытая дерном полуземлянка, сенник, хлев, где ночевала Пеструха, лабаз на четырех ногах-столбах. Плетня здесь не ставили. От кого двор огораживать? Зимой, когда волки наглеют, корову можно и в дом забрать. Да и пса, Кудлая, в тепло запустить от греха подальше.
Сдержанный лай Кудлая, который вообще-то никогда пустобрехом не был, заставил Никиту замедлить шаг.
Что там может быть?
В душе зашевелились нехорошие предчувствия. Уж не татары ли нагрянули? Проклятые нехристи! Сколько Русь может томиться под их ярмом? Сумеют ли когда-нибудь князья оставить распри, хоть несколько лет не выяснять, чей род старше и именитее, кто великому Ярославичу ближней родней приходится, кто дальней, а поднять людей, раздать броню и оружие всем, до самого захудалого смерда, и ударить по ненавистным захватчикам! Тогда бы он, Никита, в ноги дядьке Горазду поклонился, лишь бы только учитель отпустил его драться, отомстить басурманам за все старые обиды, а если доведется погибнуть, так смерть в бою за Русь Святую лучше любой другой.
Впереди заржал конь. Зло заржал. Сразу слышно, что норовистый жеребец из тех, что кусаются в сражении, копытами бьются, да и в мирное время никому спуску не дадут: ни конюху, ни другому жеребцу.
– Балуй мне! – громко прикрикнул на коня кто-то, кого Никита еще не мог видеть.
Слава Богу! По-русски.
Значит, не враги, а гости.
Хотя, с другой стороны, время сейчас такое, что и от соотечественника не знаешь что ожидать. Особенно от того, кто заявиться может вот так вот: ни свет ни заря, ни зван ни ждан. Не зря же в народе и пословица родилась: незваный гость хуже татарина.
Никита решил подобраться к дому украдкой и поглядеть: что да как? Дядька Горазд, конечно, великий боец – голой рукой саблю ломает, но мало ли что?
От опушки до хлева парень перебежал за считаные мгновения. Замер, прижавшись плечом к шершавым бревнам. Прислушался.
Люди весело гомонили, перебрасывались едкими шутками-прибаутками, все чихвостили какого-то Всемила, что потник плохо расправил и коню холку намял.
Всемил вяло оправдывался, что два раза проверял, после чего кто-то суровый и немногословный пообещал накостылять ему по шее. Дымком, который почуял парень, тянуло, похоже, от костра. Кто же это такие? Где учитель?
– А вот и Никитша пожаловал! – раздался громкий голос Горазда. Бывший дружинник самого Александра Ярославича Невского умел вроде бы и не кричать, а так сказать, что за полверсты слышно. – Выходи вьюноша, не таись! Не враги у нас, гости!
«Как только узнал, что я здесь? Нет, ну не волшбой же, в самом деле?»
Старик будто услышал его мысли.
– Да я тебя давно жду! – проговорил он уже тише, приближаясь к пеструхиному жилью. – Небось неладное заподозрил? Выходи, Никитша, не бойся! Свои, русские.
Горазд стоял ссутулившись, опираясь на посох. На вид старик стариком. Такому только на завалинке кости греть да внукам побасенки сказывать. Однако Никита знал, что учитель умеет вытворять с длинной палкой, и мечтал достичь хотя бы половины его мастерства.
– Что смурной-то такой?
– На жерди не устоял… – опустил глаза парень.
– Неужто свалился? – усмехнулся старик. Длинный, багровый шрам, пересекающий его лоб, бровь и щеку, зашевелился, будто диковинный червь.
Пять лет назад, только познакомившись с Гораздом, Никита часто расспрашивал о прошлом учителя, но узнал немного. А о старой ране, которую не нанесешь ни мечом, ни саблей, – так и совсем ничего.
Уже позже бывший воин признался как-то под хорошее настроение, что ходил в свое время с суздальской дружиной далеко-далеко – аж в страну Чинь, где живут люди желтые лицом и узкоглазые, но не татары, а другого племени.
Тогда Александр Невский обещал помочь оружными людьми Сартаку, своему названому брату. Вот и отправились суздальские дружины с темниками хана Хубилая.
Горазд с товарищами попал в отряд, возглавляемый Уриан-гадаем, сыном знаменитого военачальника – Субудая-богатура. Но не повезло молодому тогда бойцу – под стенами города, название которого Никита, как ни старался, а выговорить так и не мог, Горазд был ранен. Подобрали и выходили его монахи, великие искусники рукопашного боя.
В монастыре Горазд прожил больше двадцати лет, но далекая родина звала и манила. Снились по ночам березовые рощи, земляничные поляны, пушистый снег на еловых ветвях и весенняя капель. И он ушел. Пешком. С мечом на поясе и котомкой за плечами. Добирался домой шесть лет, перевидав столько народов, сел и городов, что оставшейся жизни пересказать не хватит. Да он и не стремился. Любил повторять: «Молчание – верный друг, который никогда не изменит»[15]. Мол, так говорил один мудрец, учение которого почитали в стране Чинь.
– Нет… – покачал головой Никита. – Свалиться не свалился, но едва удержался.
– Надо бы тебе еще поработать с равновесием, вьюноша, – вздохнул старик. – Поди на столб.
Парень кивнул. Подбежал к толстому бревну, поставленному «на попа» и вкопанному напротив землянки, одним прыжком взметнулся на его верхушку. Застыл, раскинув руки и слегка наклонившись. Левую ногу он согнул в колене и поднял назад-вверх так, чтобы и носок смотрел в небо. «Ван юэ пинхэнь» – «наблюдение луны» – называл это Горазд.
Тем временем к Горазду подошел кряжистый боярин. Явно вояка, закаленный в десятках сражений и сотнях стычек, он напоминал дубовый комель, выглаженный степными ветрами и зимними морозами. Вороненая кольчуга мелкого плетения обтягивала тело, как змеиная чешуя. Битые сединой кудри растрепались от ветра, а борода упрямо топорщилась, хоть он то и дело приглаживал ее широченной ладонью.
– Это и есть твой новый воспитанник? – Боярин с интересом разглядывал Никиту, будто к коню приторговывался. – Жидковат что-то…
– Какой есть, – без особой приязни отозвался Горазд. – Мне учеников откармливать не с руки. Чай, не поросята.
– Ершистый ты! – хмыкнул боярин. – Каким был, таким и остался.
– А ведь и ты не мед, Акинф Гаврилович.
– Какой есть! – захохотал боярин.
Его смех подхватили дружинники, собравшиеся вокруг костра, на котором булькал душистым варевом котел. Было их не больше десятка – охрана, должно быть. Все-таки в лесах лихие люди попадаются, да и просто именитому военачальнику негоже без свиты путешествовать – не к лицу.
Акинф зыркнул на них через плечо. Нахмурился. Сказал, глядя на Горазда исподлобья:
– Князь Михаил Ярославич тебе поклон шлет.
– Благодарствую. Честь то великая для меня – поклон от князя тверского получить… Неужто лишь для этого своего соратника верного ко мне послал?
– Нет. Не только, – не стал лукавить боярин.
– И что же князю Михайле Ярославичу от старика надобно? – прищурился Горазд.
– Помощи надобно.
– Помилосердствуй! Чем же я – старый, увечный, нелюдимый – самому князю тверскому пособить могу? У него ж такие бояре-разумники, дружина ближняя мастерству боя обучена, закрома богатые, смерды покорные да трудолюбивые…
– Боец ему нужен. – Боярин играл желваками, но на едкие подколки Горазда не отвечал. – Такой, чтоб равных ему не было от Орды до немецких земель.
– Ну, ты сказал! Где ж сыскать такого? И для какой такой надобности князю Михайле боец понадобился? Опять с князьями московскими ратиться решил?
– Для чего ему боец, то не твоего разума дело, старче, – свел мохнатые брови Акинф. – Князь, он для того Богом поставлен над людьми, чтобы самому решать, что да как… Если совет понадобится, то спросит. А нет, так непрошеного советчика и взашей может приказать…
– Так с какой такой радости ты, Акинф Гаврилыч, ко мне пожаловал тогда?
Боярин отвел взгляд, усилием воли сдержался, чтоб не вспылить. Переступил с ноги на ногу.
– Федот… – проговорил он через силу.
Старик поднял бровь:
– Чего? Федотка? Так он к вам сбежал?
– К нам, – Акинф развел руками. – Чего ж скрывать теперь… Явился не запылился. Желаю, говорит, при особе князя состоять да помогать ему супротив выскочек московских, Юрки с Ванькой, бороться. Князь-батюшка тогда молод был, четвертого десятка не разменял. Посмеялся да велел взашей выставить дерзеца…
Суровый воин передернул плечами, будто холодом его прошибло. Что он вспомнил? Как мальчишка, у которого едва-едва усы пробились, швырял его по всему княжьему терему? Или как он, опытнейший боец, не мог попасть клинком по юркому пареньку? Или обидные слова Михаила Ярославича, который хвалил приблуду, возвышая его над старыми, не раз и не два доказавшими свою преданность, дружинниками?
– Федотка всегда хвастуном был, – сказал Горазд. – Ему бы учиться и учиться… Тогда, может быть, толк и вышел бы.
– Телохранителем его князь назначил. Ни днем ни ночью не расставался. А волчонок этот и рад. Кочетом ходил. Боярину Ивану Зайцу руку сломал… И все ему сходило! Как с гуся вода!
– А чем же он нынче не потрафил князю Михайле? Или надоел? Или зазнался чересчур?
– Да сгинул он. Еще два лета тому… – пояснил боярин. – Повез в Орду грамотку и пропал. С той поры ни слуху ни духу.
– А вам, значит, новый телохранитель понадобился?
– Бери выше! Для особых поручений человек князю нужен.
– Убить, что ль, кого?
– Не твоего ума дело!
– Ну, не моего так не моего, – легко согласился Горазд. – Только это ты ко мне с просьбой приехал, а не я к тебе.
– Князья не просят. Они приказывают. А смерды выполняют.
– А ты никак со смердом разговариваешь? – Старик взялся двумя руками за посох. – Тогда я могу тебе ответить, Акинф Гаврилович… Там, за леском, брод, за бродом дорожка прямая на Тверь. Не ошибешься, прямиком доедешь.
– Ты что морозишь, старый? Понимаешь, с кем дерзкие речи ведешь?
Никита, все так же неподвижно стоящий на столбе, заметил, как вскочили спутники боярина. Один из них, горбоносый с черной бородой, что-то коротко приказал другим.
– Ты, Акинф, не пугай меня, – Горазд говорил тихо. – Я ни тебя не боюсь, ни дружинников твоих, ни князя твоего. Старый я уже, чтобы вас бояться. Восьмой десяток доживаю.
– Жить все хотят.
– А ты с мое поживи, там узнаешь. Я, Акинф Гаврилович, умер давно, полста лет назад. В Чиньской земле… С той поры я смерти не боюсь.
Старик перенес тяжесть на левую ногу, поднял посох на плечо. Никита догадался, что будет, если боярин, поддавшись гневу и самоуверенности излишней, прикажет дружинникам хотя бы попытаться обидеть учителя. Парень прикидывал, успеет ли соскочить со столба, чтобы помочь, или уже придется ему складывать побитых-покалеченных в кучку да водой отливать?
Акинф насупился, сгорбился, не прикасаясь, впрочем, к рукояти меча.
– Зря ты речи такие ведешь, Горазд. Я по-хорошему договориться хотел. Гостинцев тебе привез дорогих от князя. Порты[16] новые из полотна беленого. Шапку кунью. Серебра пять гривен…
– Я учениками не торгую, – твердо ответил старик. – Он – не телок и не баран, а человек. С душою, понимаешь ли…
– Я и не думаю покупать! – обиделся боярин. – Это – помощь. По дружбе.
– Ежели по дружбе, то извини. – Горазд дурашливо поклонился, не сводя глаз с Акинфа и его дружинников. – Не догадался. Это все глупость моя стариковская. Из ума выживаю, видно.
– Так отдаешь ученика на княжескую службу?
– А зачем он князю понадобился?
Акинф аж зарычал, почище медведя:
– Не моя это тайна, старче! Не моя! Что ж ты жилы из меня тянешь?!
– Пока не скажешь, на что Михайле мой ученик, ответа не будет!
Воины-тверичане заволновались, зашептались. Один, помоложе, схватился за саблю, но горбоносый хлопнул его по руке, будто мальчишку, потянувшегося за краюхой вперед старших.
– Ладно! – Боярин тяжело вздохнул, почесал затылок, пригладил бороду. – Уболтал, красноречивый! Скажу, что ж с тобой поделаешь… Не князь меня за твоим учеником посылал. Сам я…
– Неужто? – удивился Горазд так искренне, что Никита сперва даже поверил учителю. Только потом понял, что он издевается над княжьим слугой.
– Правду говорю. Князь Михаил Ярославич посольство собирает. Далеко. Дальше княжества Литвинского и королевства Польского. В земли, которые зовутся Священной Римской империей.
– И что?
– А то! Сына моего, Семку, князь отправляет! – Акинф повернулся к своим, гаркнул через плечо: – Чего вызвездились? Заняться нечем? Ступайте себе!
А когда дружинники вернулись – кто к огнищу, кто к расседланным коням, – продолжал, стараясь говорить потише:
– Семен мой – вроде бы не дурак, но горяч. Без меры горяч! А дорога дальняя… Сперва до Вроцлава, а там – как получится…
– Не близко, – согласился Горазд.
– Вот и я подумал – нужен Семке такой боец, чтобы спину прикрыть завсегда мог.
– Ну, правильно подумал. – Старик снял посох с плеча, вновь оперся на него.
– Слушай, Горазд, отдай парнишку мне… – В голосе боярина прозвучала едва ли не мольба.
– А зачем Михайла посольство снаряжает? И чего ты боишься?
– Да франкский какой-то обоз… – начал Акинф и осекся. – Не моя это тайна. Не моя! Не скажу ничего!
– Твоя воля.
– Так дашь?
– Не дам.
– Почему? Ты что, Горазд?
– А это моя воля.
– Подумай, старик!
– Да что думать? Уже все подумал. Сказал не дам – значит, не дам. Отдыхайте. Гнать вас не гоню. Людям и коням роздых нужен.
Боярин побагровел:
– Это твое последнее слово, Горазд?
– Последнее.
Учитель повернулся. На миг Никите показалось, что Горазд занедужил: старческая немощь виделась во всех его движениях. И тут старый боец украдкой подмигнул парню. Хитро так подмигнул: мол, эвона, как мы боярина-то обманули!
А после, шаркая ногами по траве, ушел в избушку.
Акинф остался стоять с открытым ртом. На его лице смешались разочарование и гнев, быстро сменившиеся откровенной растерянностью. Не на такой ответ он рассчитывал, не на такой. Потом тверич быстрым шагом приблизился к столбу, где Никита продолжал «наблюдать луну».
– Слышь, вьюноша… – позвал он тихонько.
Никита молчал. Если какой-то Федот предал учителя и сбежал, это еще не значит, что и он его примеру последует.
– Слышишь меня, малый? Озолочу. Бросай этого упрямца старого, поехали со мной.
Парень не отвечал. Даже смотреть старался мимо боярина. Не дождется…
– Поедешь с Семкой – как сын мне будешь. Доспех, оружие самое лучшее. Серебра шапками. Мягкой рухляди[17] – возами. Старшим над дружиной поставлю, если сбережешь Семена. Что молчишь? Мир поглядишь! Людей всяких-разных! Города, земли! Что тебе еще пообещать? Сам говори, не стесняйся! Все, что скажешь, получишь!
Никита безмолвствовал, сосредоточившись на сохранении равновесия.
– А! Щенок!!! – Акинф громко стукнул кулаком о ладонь. – И ты такой же, как он! Одним миром мазаны. Чтоб вы пропали оба!
Боярин развернулся и чуть ли не бегом кинулся к своим людям. Те опасливо посторонились, а воевода с разбегу поддел носком сапога котел, опрокинув его в костер. Взметнулось облако пара, завоняло подгоревшим варевом.
– На-конь! Ноги моей тут не будет! – взревел Акинф. – Бегом, недотепы! Ну же!!!
Дружинники кинулись к седлам, будто их плетью ожгли. Да и то сказать, помедли они хоть чуток, могли бы и по-настощему схлопотать. Как пить дать!
Чернец не успел бы и «Отче наш» дважды прочитать, как десяток всадников поскакал прочь. Коней не жалели. Могучий каурый жеребец боярина мчался впереди, взрывая дерн широченными копытами. Вскоре они скрылись за ближним ельником, и только черная проплешина костровища, заваленные рогульки да удушливый чад от сгоревшей каши, которую никак не мог унести легкий ветерок, напоминали о них.
А когда и топот копыт затих вдали, из землянки появился Горазд. Озабоченный и серьезный, он решительно поманил Никиту пальцем.
Глава вторая
Желтень 6815 года от Сотворения мира
Московское княжество, Русь
По звериным тропам, по раскисшим торным дорогам, по перелескам и лугам шлепали добрые, на совесть сплетенные лапти. Никита накрыл голову дерюгой, чтоб за шиворот вода не стекала, и шагал, не уставая дивиться красоте земли Русской.
Вроде бы и осень в самом разгаре – дождь с утра, морось в полдень, стылый туман к вечеру, а завтра все наоборот. И вроде кошки на душе скребут, а как поглядишь вокруг – петь хочется.
Золото берез дожидалось первого заморозка, чтобы облететь в одночасье, упасть к подножию белых стволов дорогим заморским ковром – сам-то парень ни разу на торгах богатых не был, с гостями, что приезжают из южных стран, теплых краев, не встречался, не знался, но восхищенные рассказы старших в его роду помнил хорошо.
На еловых да сосновых иглах капельки воды, будто драгоценные украшения на княжне или боярской дочке. Когда выпадала удача и тучи в небе самую малость рассеивались, чтобы дать возможность ясну солнышку напоследок погладить землю ласковыми лучами, капельки эти сверкали почище самоцветов, о которых Никита тоже знал только понаслышке.
На осинах листва покраснела и мелко дрожала даже в безветрие, вспоминая, должно быть, повесившегося Иуду Искариота, который учителя и Сына Божьего за тридцать сребреников продал. А ольха уже сережки выбросила, готовилась заранее, чтобы весной распуститься мелкими цветочками. Вот уж мудрое дерево! Не зря в народе говорят: готовь сани летом, а телегу – зимой.
Зверья в дороге попадалось мало. Оно и верно: всякая тварь лесная человека боится и спрятаться от него норовит. Изредка мелькали нагулявшие на зиму жир зайцы. Они еще не переменили шкурку на белую, а потому казались грязными и замусоленными. Пару раз Никита пересекал волчий след, однажды наткнулся на глубоко вдавленный отпечаток медвежьей лапы. Но хищников он не боялся. Сейчас у них добычи хватает с избытком. Вот ближе к весне, под зимобор, волки с голодухи лютовать начнут. Тогда и опасаться надобно будет. А бурый хозяин, так тот и вовсе озабочен, чтобы место под берлогу сыскать. Если даже нос к носу столкнешься, отпустит. Главное тогда с перепугу глупостей не наделать. Не орать, не метушиться, а убегать и вовсе не приведи Господь.
Как-то рано утром Никита увидел лося. Огромный бык – рога в размахе не меньше двух аршин – задумчиво жевал осиновые листья. Мокрая шерсть лоснилась на круглом боку, а на лопатке белел длинный шрам. То ли от сородича получил рогом по неосторожности, когда за лосих дрались, то ли с хищником каким повздорил. Парень остановился, прижавшись плечом к гладкой и холодной коре. Взрослого лося лучше не сердить по пустякам. Говорят, они ударом копыта медведю череп проламывают, а волки берут верх лишь благодаря верткости, да и то навалившись кучей. Пока самые ловкие отвлекают, ужом вьются перед мордой быка, кто-то вцепляется сзади в скакательный сустав и рвет сухожилия. Или хищникам приходится дожидаться глубоких снегов: тяжелый зверь вязнет, проваливается по брюхо и уже не может отбиваться, а волков плотный наст держит.
Пока Никита любовался горбоносым великаном, тот повернул голову, окинул человека скучающим взглядом, а потом вроде бы неспешно скрылся в лесу.
«Эх, хорошо ему! Ни забот, ни хлопот. Поел, поспал… Главное, жить и выживать. А для человека не это ли главное? – подумал парень. – Наверное, нет… Иначе не отправил бы меня учитель за сотню верст».
В тот день, когда их уединенное лесное жилище посетили тверичи, Горазд зазвал Никиту в землянку, приказал сесть на лавку. Сам уселся напротив. Долго молчал, хмурился. Потом заговорил:
– Неспокойно у меня на душе, Никитша. Ох, неспокойно. Коли Михайло Тверской что-то замыслил – жди беды. Горяч Михайло. Горяч и взбалмошен. Ежели что в голову втемяшится – не выбить и чеканом. Еще отроком был, а уже все спорил с дядьями своими, сыновьями Александра Невского. Великого княжения алкал сверх меры… А я так думаю, нельзя тому много власти давать, кто за нее с родичами перегрызться готов, кто в Орду ездил поклоны бить, свой же народ обирал, чтобы данью ордынцев задобрить. С князем Андреем Городецким его ведь только владыка Симеон помирить сумел. А с Новгородом? Договоры заключал о дружбе и помощи, а когда нужда приспела на шведа войной идти, почему-то назад повернул, а с новгородцами вместе владимирский князь Андрей, сын Александра, ходил. Московским князьям, Ивану и Юрию, он не простил, что их отец, Данила Александрович, в Переяславле княжить стал после Ивана Дмитриевича. Ну а теперь, когда ему хан Тохта ярлык на великое княжение выдал, совсем совесть потерял. В открытую грозит. Против Москвы зубы точит. Того и гляди войной пойдет…
– Откуда ты все это знаешь? – поразился парень. Учитель не покидал лес много лет. Ну разве что иногда принимал проезжих гонцов. Так неужели из обрывков разговоров можно так дотошно выяснить все тонкости вражды и дружбы княжеской.
– Имеющий глаза видит. Имеющий уши слышит, – отвечал Горазд. – А у кого голова не для того лишь, чтобы шлем носить, – тот не только глядит-слушает, а потом еще и думает. Учись, пока я жив. Глядишь, и ты начнешь не только видеть-слышать, но и выводы делать. А пока не научился, запоминай вот что: поход этот за земли литвинов и поляков, аж до самых немцев, Михайло неспроста замыслил. Он ничего просто так не делает. Тверское княжество и так сильнее некуда – воеводы и бояре под Михайлову руку бегом бегут, аж спотыкаются. Того же Акинфа Гавриловича возьми… Мало ему Иван Данилович накостылял, – покачал головой старик. – Ну, ничего. Это по малолетству…
Горазд помолчал, расправил бороду. Глянул пристально:
– В Москву пойдешь.
– Куда? – поперхнулся Никита.
– Что, уши заложило? В Москву. Разговор мой с боярином хорошо слышал?
– Хорошо.
– Молодец. Вот и обскажешь все Юрию Даниловичу. Все передашь. А там князья пускай сами решают, чем Михайле Тверскому ответить. На то они и князья.
Парню стало не по себе. Он и представить не мог, что отправится куда-то из родных лесов. Пускай и не слишком далека Москва – не Орда и не Литва, а кажется, будто за тридевять земель.
– Да кто меня пред княжеские очи пустит? – зачастил он. – Как мне в детинец попасть? Там же и дружина, и слуги, и…
– Захочешь – попадешь. Кто хочет, пути изыскивает, а кто не хочет, руки опускает.
– Так ведь…
– И не говори ничего. Не приму никаких отговорок. Уяснил?
– Уяснил…
– То-то же. Будь готов, что не поверят тебе. Будь готов, что препятствия чинить станут. Обо мне, если хочешь, скажи. Только вряд ли молодые князья старого бойца упомнят. Разве что кто-то из стариков, еще под началом Александра Ярославича ходивших… Только рассчитывать на это не стоит. Готов?
– Готов, – убитым голосом отвечал Никита. А про себя подумал: «Будь что будет. Учитель мудрость свою не раз и не два доказывал. Пойду в Москву – двум смертям не бывать, одной не миновать».
– Вот и молодец. Сегодня соберем чего-нибудь в дорогу, а завтра, на рассвете, и отправишься. Утро вечера мудренее. И запомни напоследок: «Достойный человек знает лишь долг, а низкий человек ничего, кроме выгоды, не знает. Каждый может стать достойным человеком, нужно только решиться им стать»[18].
Сборы не заняли много времени. Когда пожитков раз, два – и обчелся, и в поход отправляешься налегке. Одним побаловал Горазд воспитанника: добротной полотняной рубахой, какую не стыдно и при княжьем дворе носить, да меховой безрукавкой – вдруг до заморозков парень задержится? В котомку сложили четыре больших куска сушеного творога – татары его называют диковинным словечком «хурут», десяток пригоршней орехов да столько же сушеной малины.
Поначалу Никита, раньше не отдалявшийся от дома больше чем на дневной переход, боялся, что голодать в дороге придется, но на пятые сутки понял: старик снарядил его харчами – лучше не бывает. Кипятка согрел в маленьком горшочке, пожевал чего-нибудь, запил… И все. Сил хватает весь день шагать.
Правда, чем дальше, тем труднее становилось разводить огонь. Небеса, казалось, прохудились не на шутку. Лило и лило. Чтобы обустроить костер, Никита собирал по дороге шишки. Прошлогодние, высохшие и взъерошенные. Разжигал их от стружки, которую соскабливал с сырых деревяшек, пока не добирался до сердцевины, более-менее сухой. А уж когда разгорались смолистые шишки, подкладывал ветки потолще. Жара хватало и согреться, и воду вскипятить, и хоть немного просушить одежду.
Как говорится, с жиру не взбесишься, но от голода и холода не помрешь.
Дал Горазд ученику и оружие. Вдруг придет нужда от лихих людей отбиваться? Мало ли кто в дороге повстречается?
Гладкий, ошкуренный посох. Сам учитель с ним в руках чудеса творил и Акинфа не испугался, хоть тверичей десять было против одного. Да и боярин, видать, наслышан был о мастерстве отшельника – на рожон не полез, убрался восвояси. Никите, конечно, до Горазда далеко, но запросто отбиться от мечника посохом и он мог. Само собой, если на умельца не нарвешься, опытного да в боях закаленного.
А еще в котомке лежали до поры до времени два кинжала диковинных. Лезвие узкое, в три ладони длиной, отточенное до остроты небывалой. У крестовины концы тоже заострены и вверх загнуты – ни дать ни взять короткий трезубец. Странное оружие, его Горазд привез из земли Чинь. Рассказывал, что там подобные кинжалы-трезубцы в большом почете. Называют их теча[19] и в бою держат в каждой руке по одному. Вот с ними Никита не боялся выйти сражаться и против двух-трех мечников. Хотя и помнил наставления учителя, что по-настоящему выигрывает бой тот, кто не начинает его.
Впрочем, парень и не собирался без надобности в драку лезть. Пять лет ежедневных упражнений с оружием и без, пять лет закаливания духа и плоти, пять лет неторопливых рассуждений старика о чести и мудрости, о гордости и смирении, о достойных и недостойных поступках приучили его сперва думать, а потом уже спор затевать.
Так Никита и шагал. Не слишком торопился, но и не отдыхал без надобности по полдня. Ночевал под елками. Встречающиеся по пути веси[20] обходил стороной, чтобы не наткнуться на дружинников князя Михаила или татарских сборщиков дани.
Горазд сказал, что потихоньку-полегоньку молодые ноги до Москвы дней за десять добегут. Парень управился за шесть.
Как раз пополудни, когда дождь притих, ветер разогнал тучи, в просветы проглянуло синее небо и солнечные лучи погнали прочь липкий туман, Никита выбрался, наконец, на дорогу, по которой тянулся поток накрытых дерюжными и кожаными покрышками телег. Это землепашцы и пастухи из окрестных селений везли в крепость Московскую обычный оброк. Будет чем князьям выплачивать дружине кормовые[21]. А селянам, глядишь, найдется заступа, ежели пожалуют князья из соседних земель или кто иной, охочий до дармовщинки. На то испокон веков на Руси народ князей и призывает, начиная с варяга Рюрика. Ты нам оборону от всяческих врагов, а мы тебя и твою дружину обеспечим, чем сможем.
Между повозками попадались и верховые с туго набитыми тороками[22]. Эти люди выглядели не по-простецки. У одного даже край кольчуги из-под плаща показался. То ли ратный народ спешит на службу к князьям наняться, то ли свои отправлены были в другие города по какой-то надобности, а теперь возвращаются.
Шли и пешие. С кривыми палками в руках, тощими мешками за плечами. Верно, паломники в Свято-Данилов монастырь.
Никита, обретаючись в лесу, уже и запамятовал, когда какой праздник празднует люд православный. Горазд, хоть и молился каждый день перед сном, и поутру, и за стол садясь, благодарил Господа за дары его, больше ничем своей веры не показывал. На исповедь или к причастию не ходил. Рождества Христова или Великое Воскресение не отмечал. Не постился. Хотя у них в лесу и так каждый день пост был… Да и грешить когда? Весь день то упражнения, то добыча пропитания.
Порывшись в памяти, парень решил, что идут христиане в храм помолиться в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. А сообразив, и приметы вспомнил. «На Покров земля снегом покрывается, морозом одевается», «На Покров до обеда осень, а после обеда – зимушка-зима». На Руси в день Покрова смотрят, какая зима будет. Если снег выпадет, значит, быть зиме снежной и холодной…
Никита решил слиться с пешими паломниками. А и правда, как его отличить? В руке – палка, на голове – дерюга, а на плече – котомка. Богомолец, каких из дюжины двенадцать.
Так и шел, пока впереди, на Боровицком холме, название которого почему-то напоминало парню о грибах, вырисовался Московский Кремль.
Пускай говорят, что, мол, Москва не Владимир, не Новгород и даже не Тверь – выходцу из леса крепостица показалась могучей и неприступной. Насыпной вал, у подножия которого вкопаны заостренные колья, а крутые бока покрыты глиной и обожжены, чтобы врагу карабкаться труднее было. Поверху вала стена из деревянных срубов, с заборолом[23]. Грузно нависали бревенчатые башни, прикрывающие ворота с боков.
За стенами Кремля виднелись островерхие, сработанные из теса крыши боярских и княжеских теремов и маковки церквей, увенчанные крестами.
У подножия вала теснились, расползались вдоль кривоватых улочек дома ремесленников и торговцев победнее. Тут тебе и кузнецы, и кожевенники, и шорники, и гончары. Бондари и тележники, оружейники и калачники. А называлось все это скопление мастерового люда и их домочадцев Посадом.
Зачарованный красотой и величием стольного града, Никита низко поклонился. Не князю и не власти княжеской, а Москве.
– Что, проняло? – послышался веселый голос с ближайшей телеги.
Румяный старичок, доверив вожжи курносой девчонке, должно быть внучке, сидел, свесив ноги в новеньких лаптях с задка телеги. Он улыбался и глядел на Никиту ясным взглядом человека, прожившего всю жизнь в согласии с Божьими законами и собственной совестью.
– Ага! – кивнул парень.
– То-то же! Расцвела Москва при батюшке Даниле Лександровиче. Ох, расцвела! А ведь когда Егорий-князюшко, Долгорукий который, крепость ставил, еще при прадеде моем, царство ему небесное, никто и не думал, что городу быть.
Словоохотливый старичок, заметив интерес в глазах Никиты, пошел как по писаному:
– Городу ведь не бывать, пока люди вокруг селиться не начнут. Понимаешь меня, паря? Люди – они всему голова. Так или нет?
– Так, – кивнул Никита.
– Вот видишь, паря! Ты, хоть и молодой, а с понятием! А говорят – молодежь-де только пить да гулять желает… Прыгай ко мне!
– Да я уж как-нибудь… – попытался отказаться парень.
– Нет уж! Прыгай! – Для убедительности старик похлопал ладошкой по пузатому тюку рядом с собой. – Нютку не боись! Она только с виду грозная! – Он мотнул бородой в сторону недовольно сморщившей веснушчатый нос внучки. – А сама, как увидит добра молодца, навроде тебя, аж пищит…
– Деда!.. – зарделась девчонка, закрывая лицо рукавом кацавейки.
– А что деда? Деда врать не будет. Энто все знают – спроси кого хошь!
Никита тоже покраснел. Живя отшельником в лесной землянке, он пять лет не видел ни баб, ни девок и теперь невольно смущался под женским взглядом. Поэтому он с наигранной лихостью запрыгнул на телегу и устроился плечом к плечу старика.
– Спасибо!
– Не за что! Тебя как звать?
– Никитой.
– Богомолец? – Дед кивнул на посох.
– Ага! – легко соврал посланец Горазда.
– Зови меня дедом Ильей.
– Ага…
– Вот «разагакался»!
– Прости, дед Илья.
– Да не за что прощать тебя! «Агакай», ежели так хочется. – Старик прищурился: – В первой раз в Москву-то?
– В первый, – едва сдержался, чтобы не ответить «ага!», Никита.
– То-то я гляжу – идет, рот разинул. Москва – она настоящим княжьим, стольным городом только при Даниле Лександровиче стала. Он народ окрестный защитил. И оружием, и хитростью… Супротив татарских полчищ-то сила ведь не всегда помогает, приходится ужом виться. И князьям, и боярам. Да и простому селянину тоже… Зато, как поняли люди, что в Москве жить можно, так и повалили. Кремль-то всех не поместит, хоть и расширили его изрядно, аж до Неглинки. Так народ, вишь, где селится! – Дед Илья махнул в сторону Посада с такой гордостью, будто сам был по меньшей мере Юрием Долгоруким. Ну или Даниилом Александровичем.
– Вижу, – согласился Никита. – Народу – уймища!
– Да уж! Всякого ремесла люди! И всем место находится! Всяк при деле, от каждого польза! Вот так, паря! Такая она, наша Москва!
Никита кивнул. Хотя на языке так и вертелся ехидный вопрос: а что, во Владимире или Новгороде иначе? Но дед Илья просто дышал радостью и убеждением. Разочаровывать его не хотелось.
– Смотри! – частил старик, дергая парня за рукав. – Вот наш Посад. Видишь, людей-то тут сколько, людей! И всяк трудится на величие княжества Московского. Князь с дружиной по-своему, а мы по-своему. Зато все мы, как тот веник, – когда вместе, об колено не переломишь, а порознь – в пальцах захрустим.
Дед Илья от волнения даже руками размахивать начал. Наверное, в дороге поговорить было не с кем.
– Ты, паря, в Свято-Даниловский, на богомолье?
– Да.
– Заночевать-то есть где?
Никита пожал плечами:
– Да я привычный…
– И не думай! У моих заночуем! Мой младшенький на Подоле живет! Прохор-кожемяка. Не слыхал?
– Да я же первый раз тут, дед Илья. Кого я в Москве знаю?
– Вот и познакомишься!
– Да не нужно. Я сам как-нибудь.
– Обидеть хочешь? – делано нахмурил брови старик. – Нет, ты скажи – обидеть меня хочешь?
– Не хочу. Прости, дед Илья.
– То-то же! – Отец кожемяки улыбнулся до ушей. И вдруг закричал: – Нютка! Ты куда правишь?! Влево, влево заворачивай!
– Да заверну я, деда, – бросила девчонка, не оборачиваясь. – Забыл, как в прошлый раз на этой улице завязли?
– Да? Ну, ладно. – Илья обернулся к Никите: – На Подол нам надо. Это за Кремлем, как к речке спускаться. – И вновь начал сыпать словами. О том, как Москва строилась, как защищалась. Как рязанский князь Глеб жег и крепость, и ремесленные слободки. Как прокатились через город орды Батыя. Как уже совсем недавно, на памяти деда Ильи, хан Дуденя разорил Москву, великого вреда наделал, ограбил и в полон множество людей увел, и как князь Данила отстраивал потом столицу, как разбежавшиеся по лесам жители возвращались в Посад, восстанавливали мастерские и лавки. Как два года назад всем миром отбивали нападение тверского князя Михаила Ярославича. И ведь отбили. Так и убралась рать тверичей с воеводой Акинфом во главе прочь, несолоно хлебавши.
Вот тут Никита заинтересовался рассказом по-настоящему. Он начал понимать, почему озаботился Горазд, и если до сих пор какие-то сомнения терзали душу парня, то теперь он уверился – не зря отправил его учитель, ох, не зря. Он даже принялся задавать вопросы, чем несказанно обрадовал словоохотливого деда, и наслушался столько нелестного о тверском князе и его боярах, сколько и за десять лет не узнал бы, сидючи в лесной глуши.
Узнал бы и больше, но они приехали.
Телега остановилась напротив крепких, тесовых ворот.
– Дядька Прохор! – завизжала Нютка при виде здоровенного широкоплечего мужика, выглянувшего поверх забора.
А дальше Никита помогал выгружать тюки с коровьими шкурами. Потом парился в баньке вместе с дедом Ильей, кожемякой Прохором и его старшим сыном, Ванькой, уродившимся в отца и крупной костью, и саженным росточком. Ужинал «чем Бог послал», опасаясь с непривычки занедужить животом. И наконец уснул в сеннике, сытый, чистый и довольный, укрываясь овчинным полушубком. Последней его мыслью было: «Если не утратят москвичи хлебосольства и доброжелательности, то быть этому городу величайшим на Руси, головой всех народов и племен».
Глава третья
Желтень 6815 года от Сотворения мира
Дорога из Твери на Переяславль, Русь
Человек сидел около маленького костерка. Угли едва-едва тлели, не давая света. Лишь немного тепла, достаточного, чтобы согреть озябшие ладони. Ведь гибкие пальцы для воина – главное. Натянуть тетиву лука, выхватить меч, поймать повод коня. Всегда нужно ожидать подвоха, от каждого встречного ждать нападения. Даже если это твой старинный знакомец, с которым и на войну ходил, и мед пивал за одним столом. Люди меняются. И очень часто не в лучшую сторону.
Хотя…
Полные губы сидящего у костра презрительно скривились. Он давно привык не доверять никому и никогда. Бить первым, если заподозрил предательство. И мало кто смог бы отразить его удар…
Фыркнул конь, бродящий неподалеку.
Человек поднял голову, огляделся.
Никого.
Показалось? Или нет?
Может, филин пролетел? Или конь почуял волков?
Прикоснувшись к рукоятке прямого длинного меча, человек повел плечами, поправил воротник черного чопкута[24]. Посильнее натянул на голову подшлемник-калбак.
«Ну, где же этот Пантюха? Вроде бы не мальчишка – должен понимать, что уговор дороже денег. Или он в бирюльки играть со мной вздумал?»
В это миг конь тихонько заржал, предупреждая об опасности.
Человек у костра встрепенулся. Пальцы сомкнулись на черене меча.
– Эге-гей! Ты здесь, что ли? – послышался настороженный голос.
Пантюха. Десятник Пантелеймон. Кто ж еще?
– Слышишь меня, нет? Слышишь?! – Голос из темноты запнулся. – Эй, Кара-Кончар[25]! Не молчи, ответь!
– Что ты орешь, как корова недоенная? – сквозь зубы бросил сидящий у костра. – Всю округу созвать сюда хочешь?
– А! Вот ты где! – Глухо стукнули о землю подошвы сапог. – Сейчас, подпругу отпущу… Тут есть где привязать?
– Где хочешь, там и вяжи, – неприязненно отозвался сидящий.
– Ты добрый, как я погляжу…
После недолгой возни в темноте к костру вышел крепкий мужчина. Поискал глазами – на что бы присесть? Не нашел. Сел на корточки. Скривился, устраиваясь поудобнее:
– Здоров будь, Кара-Кончар.
– И тебе не хворать, Пантелеймон.
– Я гляжу, ты совсем обтатарился.
– Тебе какое дело?
– Злой ты.
– Какой есть. Ты зачем приехал? Поболтать?
– Ну… – замялся Пантелеймон. – Ты же сам велел…
– Правильно. Я велел. Потому что я тебе плачу́, Пантюха.
Десятник сник, опустил плечи:
– Все верно, Кара-Кончар… Тьфу! Ну и имечко ты себе подобрал.
– Тебе какое дело?
– Вот. Опять. А про тебя, замежду прочим, боярин Акинф вспоминал давеча…
– Тьфу, жирная свинья! Ужо я б ему язык поганый отрезал!
– Ему необязательно. – Пантелеймон сплюнул рядом с костром. – Сынка его, Семку, можешь прищучить. Очень даже запросто.
– Да? – Человек в чопкуте оскалился. – Семку… – повторил он, будто пробуя замысел на вкус. – А ведь это даже лучше будет… Это, пожалуй, больнее по Акинфу ударит.
– То-то и оно. Бери своих баатуров[26] и давай на закат.
– Э! Погоди! Быстрый какой. Почему я бежать должен, будто плохого кумыса опился? С какой радости? Что мне нойон Ялвач скажет? Небось по головке не погладит…
– А ты никак боишься нойона своего?! – делано всплеснул ладонями Пантелеймон. – Нет, правда, Кара-Кончар? Боишься? Бои…
Десятник замер на полуслове, когда холодное острие клинка коснулось его кадыка. Застыл, боясь вдохнуть. И только навязчивая мысль билась в голове:
«Зачем я его дразнил? Теперь прирежет и воронам скормит…»
Он уже ощущал, как тоненькая горячая струйка стекает за пазуху.
– Запомни раз и навсегда, пес, – чеканя каждое слово, проговорил Кара-Кончар. – Не смей меня попрекать. Ничем и никогда. Я нойона не боюсь. Это вы князю Мишке зад лижете за кусок черствого хлеба. Я служу Ялвач-нойону потому, что мне нравится. И нужен он мне. До поры. А как соберу вокруг себя преданных молодцев – сам нойоном стану. И Ялвач мне тогда не указ будет. А пока нужно с оглядкой жить. Уразумел, пес?
Пантелеймон побоялся кивнуть. Просто моргнул в знак согласия. Мелькнула мыслишка: а что будет, если не заметит баатур? Но тот заметил. Знать, видел в темноте, как кошка. Помедлил, но меч-мэсэ[27] убрал.
– И не зли меня больше…
Десятник судорожно втягивал воздух, ощупывая горло. Он всегда поражался этому человеку. Никто в дружине тверского князя не мог ему противостоять. Ни с оружием, ни с голыми руками. И вряд ли во всей Золотой Орде нашелся бы кто-то, умеющий драться лучше. Не человек, а смерть ходячая. Быстрая, безжалостная, расчетливая… А ведь он правду говорит, открыт, как на исповеди. Терпит Ялвач-нойона, а сам спит и видит, как бы на его место вскочить. И вскочит, когда поймет, что миг удачный. Запрыгнет, как волк на холку степному коню, и…
– Прости меня, Кара-Кончар, – хрипло проговорил Пантелеймон. – Язык мой глупый раньше меня говорит. Я только подумать успел, а он уже ляпнул.
– Может, тебе отрезать его? – прошипел человек с мечом.
– Что ты! Не надо. Мне с ним привычнее… Да и тебе выгодно, чтобы твой послух мог тебе передать, что разузнал.
Кара-Кончар расхохотался сухим, злым смехом.
– Ладно! Живи, чушка[28]! Живи… – и вдруг оборвал смех. – Надоел ты мне. Рассказывай, с чем пожаловал, и пошел прочь…
Пантелеймон заговорил сипло, будто пережимал себе горло ладонью.
– Князь Михайло Ярославич поход собирает…
– Против Даниловичей? – со смешком прервал его Кара-Кончар.
– Нет. Не войско, а поход. Малый отряд – два десятка дружинников. В далекие западные земли. За Смоленск и за Туров. За Люблин и Сандомир. Аж в Силезию, где немцы живут, которые по-нашему ни бельмеса не понимают.
Тверич многозначительно замолчал, очевидно ожидая вопросов, но его собеседник не спешил. Ждал ровно столько, сколько понадобилось десятнику, чтобы сообразить: никто его уговаривать не будет. Предательство – дело добровольное.
– А все потому, – продолжил Пантюха как ни в чем не бывало, – что перехватил он лазутчиков из далекой страны франкской. Те лазутчики рассказали: мол, везут тамошние витязи сокровища несметные. Везут простым обозом. С малой охраной.
– Глупости какие, – буркнул Кара-Кончар. – У них что, заботы другой нет? Витязи сражаться должны, а не сокровища возить туда-сюда. Да еще по чужим землям…
– А они и сражались раньше. Это рыцари Христового воинства. Так они себя называют. А в Польском королевстве их зовут крыжаками[29].
– Знаю. Белый плащ, черный крест.
– А вот и не угадал! – осклабился Пантелеймон. – Белый плащ, но красный крест. «Чернокрестных» тевтонов князь Лександра бил. А эти на дальних южных землях сражались с басурманами – маврами да сарацинами. Аль ты не знал?
Кара-Кончар повел плечами, словно намереваясь броситься на собеседника. И тверич сглотнул слюну, которая вдруг стала тягучей и горькой. Можно ли забывать, как молодой боец не любит, когда ему напоминают, что он – темная деревенщина.
– Извини меня, Кара-Кончар, Христа ради…
– Когда-нибудь я все-таки отрежу тебе язык, – мрачно пообещал мечник. – Говори дальше.
– Так вот! – теперь Пантелеймон выбрасывал слова часто, будто бы хотел побыстрее закончить неприятное дело. – Эти крыжаки сражались на юге. Награбили добра всякого – прорву целую. И золота, и серебра, и ковров дорогих, и тканей шелковых… Такие богатые стали – прям на загляденье. Даже их король франкский позавидовал. Позавидовал и решил их извести. А сокровища, что крыжаки привезли из походов, себе подгрести. А что? По-легкому и без трудов особых… Только их главный… магистрою они его кличут… или магистерой… тоже не лыком шит оказался. Прослышал, что король ограбить их возжелал, и бегом-бегом все сокровища отправил. От греха, как говорится, подальше…
– Не может быть, – вновь прервал его Кара-Кончар. – Если король не дурак, он обоз выследит и отберет. Ему даже проще так будет, чем искать. Нужно было зарывать богатство.
– Где богатство зарыто, под пытками вызнать легко, – возразил тверич.
– А про обоз?
– Магистра об этом подумал. Он не один обоз отправил, а много. И морем, и сушей. И на север, и на юг. И на закат солнца, и на восход. Никто из охранников не знает, куда другие поехали или поплыли. Только о своем задании им ведомо.
– Да? Ну ладно… Поверю. Дальше-то что?
– А что дальше? Князь Михайло задумал перехватить обоз. Около Вроцлава. Акинф рвался самолично отправиться, да князь-батюшко, – Пантелеймон хмыкнул, – не отпустил. Сказал, что здесь он ему нужнее будет. Нам Семен свет Акинфович за старшего дан.
– Нам?
– А я не говорил? Я в том отряде десятником иду.
– Десятником, говоришь? – Кара-Кончар задумался. – Ладно. Ты сказал. Я услышал. Ступай теперь.
– Что, и не скажешь ничего?
– Все сказал уже. Довольно.
– Что ждать-то мне?
– А ничего не жди. Служи князю-батюшке. Слушайся Семку, Акинфова сына…
– Так ты…
– Ступай, сказал! – В голосе мечника прорезался нешуточный гнев.
– Все, все! Иду! – Пантелеймон вскочил. Охнул – ноги затекли. – Все. Прощавай, Кара-Кончар.
– Прощавай, чушка-Пантюха, – рыкнул в ответ баатур.
Уже запрыгнув на коня, тверич крикнул в полный голос:
– Боярин Акинф к Горазду-отшельнику ездил. Нового ученика просил в помощь! Семку охранять!
– И что?! – вскинулся татарский воин.
– А ничего! Не скажу! Сам думай! Прощавай, Федотка!
Пантелеймон ударил пятками в гулко отозвавшиеся конские бока.
Топот копыт пронесся над перелеском и стих вдалеке.
Баатур рывком поднялся. Несколькими ударами разметал угли костра. Свистнул. Позвал:
– Цаган-аман[30]!
Жеребец с тихим ржанием подбежал к хозяину. Ткнулся мордой в плечо.
Человек похлопал скакуна по шее, подтянул подпругу:
– Вперед!
Конь сорвался с места вскачь. Держась за луку, Кара-Кончар сделал несколько шагов рядом с животным, а потом сильно оттолкнулся ногами и взлетел в седло.
– Ай-йа-а-а-а-а!!! – пронзительный клич прорезал тишину.
Черные крылья ночи сомкнулись за плечами всадника.
Желтень 6815 года от Сотворения мира
Москва, Русь
Проснувшись рано утром – по-другому он уже не мог, Никита попрощался с гостеприимными хозяевами и собирался было уйти, да куда там! Кожемяка Прохор наотрез отказался отпускать парня, не покормив напоследок, а дед Илья упорно предлагал выпить на дорожку медовухи. А когда Нютка и жена Прохора – дородная, пышущая здоровьем баба по имени Лукерья – набросились на старого с упреками, обиделся, насупился и потребовал, чтобы кто-нибудь проводил Никиту до Свято-Даниловского монастыря.
Парень отнекивался, как мог. Ему очень не хотелось признаваться в обмане – москвичи приняли его как родного. Но переубедить кожемяку с дотошным дедом Никита так и не сумел. Его накормили кашей с топленым молоком и навязали в провожатые Нютку.
Девка сразу возгордилась, по мнению Никиты, выше всякой меры.
Если вчера она весь вечер молчала, только поглядывала искоса, то теперь молола языком – не остановишь. Просто ужас! Она рассказывала о каждой улице и о каждом переулке. Почему реку Неглинку так назвали, и отчего Боровицкий холм именно так именуется. Какие князья в Москве сидели, и кем они приходились Александру Ярославичу и Всеволоду Большое Гнездо.
Никита слушал, снисходительно улыбаясь. Ну откуда, скажите на милость, простая девчонка, родившаяся в селе под Москвой, может знать, почему именно Александр Невский подарил город младшему сыну? О чем думал великий победитель свейских захватчиков и немецких крестоносных рыцарей? Может, просто не знал, куда посадить младшенького, – с ними у любого князя забот полон рот. Старшие, понятное дело, наследники, а вот младшие… А по словам девчонки выходило, что Невский едва ли не предвидел величие Москвы, а потому и отдал ее самому рачительному и заботливому сыну – Даниилу.
Слов нет, постарался князь Данила. Под его княжением Москва расцвела и окрепла. Не уступит нынче ни Твери, ни Переяславлю, ни Рязани. Глядишь, скоро и с Владимиром поспорит. Главное, чтобы Юрий с Иваном не растеряли всего, что их отец накопил. Так Никита и сказал, когда Нютка ненадолго замолкла, переводя дух, – иначе он просто не мог слово вставить.
Как девка на него взъелась!
В один миг парень выслушал столько нелестного о себе, сколько не довелось и за несколько лет от скупого на похвалу учителя узнать. Да как он мог, оказывается, языком своим поганым трепать славные имена князей московских?! Кто еще больше за своих подданных радеет, как не они? И купечество не утесняют, и ремесленный люд поддерживают, и дружину берегут – кормят, поят, на убой зазря не бросают. И с церковью они в ладах настолько, что, поговаривают люди, митрополиты могут вскорости перебраться сюда из Владимира. Осталось только еще несколько храмов возвести. Да не простых, деревянных, а белокаменных – как София Киевская или София Новгородская.
Глаза Нютки горели столь праведным гневом, что Никита устыдился своих сомнений, в чем и повинился не медля.
– То-то же, дурень деревенский! – смилостивилась девка. Можно подумать, сама городская!
– Да мы такие… – развел руками парень. – В лесу живем, лаптем щи хлебаем.
– Ага! Шишки на обед варим! – подхватила девчонка. И тут же заинтересовалась: – А ты откудова будешь? Издалека? Али не очень?
– Издалека, – честно признался Никита. – Шесть дней до Москвы добирался.
– И все пешком? – Она всплеснула ладошками.
– А то? Вестимо, пешком.
– А с какой стороны идешь? От Рязани, от Переяславля?
– От Твери.
– От Твери? – В голосе Нютки легким оттенком скользнула неприязнь. Не слишком-то в Москве любят тверичей. Ну так тому князь Михайла, последние десять лет досаждающий князю Даниле, а после и сынам его, виной. Дивиться не приходится.
– Живем мы с учителем на тверских землях, – попытался оправдаться парень. – Но к нашим князьям да боярам любовью не пылаем.
Она хмыкнула, сморщила вздернутый носик и тут же уцепилась за обмолвку:
– С каким таким учителем? Чему он тебя учит? Охотиться? Шорничать? Кузнечному ремеслу? Да нет! Не похож ты на кузнеца!
– Даже на подмастерье?
– Тем более на подмастерье! Ты свое отражение в речке видел? Какой из тебя молотобоец?
– Ну… – Никита развел руками.
Девка вцепилась ему в рукав. Глядя снизу вверх, притопнула лапотком:
– Признавайся, какому ремеслу учишься? Немедленно!
В глубине души понимая, что после будет раскаиваться за излишнюю откровенность, Никита ляпнул:
– Сражаться учит. Бойцовскому ремеслу.
– Как это? – Она выпучила и без того огромные, синие, как васильки, глазищи.
– Да вот так… Рукопашному бою. И оружному. Мой учитель – самый умелый боец на Руси! – не сдержался и отчаянно прихвастнул парень. Возможно, это и неправда, но кто проверит?
– Ври, да не завирайся!
– Почему это?
– Самые лучшие бойцы, они в княжеских дружинах все!
– С чего ты взяла?
– А где им быть? Они у князей живут, советами помогают, младшую дружину обучают, в походы ходят, сражаются…
– А если учителю неохота?
– Как это может быть неохота? Какой же он боец после этого?
– Самый лучший.
– Да кто это проверял? Кто это знает? Думаешь, тебе на слово кто-то поверит?
– Кому надо, тот знает, – немного обиделся за учителя Никита. – И проверять его не надо. Учитель рассказывал, что в земле Чинь… Слыхала про такую?
– Это из сказок земля!
– Не совсем. Если долго-долго – месяц, два, полгода – идти на восход солнца, то попадешь в землю Чинь. Татары, между прочим, тоже из тех краев пришли, только они в степях живут, кочуют, коней с овцами пасут, а чиньские люди живут как мы: города строят, крепости, храмы возводят. Бог у них другой, не Иисус Христос…
– Нехристи, значит!
– Нехристи? Можно и так назвать. Только их бог не злобливый, а совсем даже наоборот – мудрый и справедливый. Учит доброте и кротости. Мне учитель рассказывал.
– Что ты чужого бога защищаешь? Не стыдно? А еще на богомолье пришел!
– А я верую в Отца, и Сына, и Духа Святого! – перекрестился Никита. – Но хулить чужого бога – невелика заслуга!
– Странный ты человек, – прищурилась Нютка. – Непонятный. Ладно! Что ты там про земли Чинь сказывал?
– Ага! Любопытство разобрало?
– А если и так? Я с детства сказки люблю.
– А это не сказки.
– Ты говори, а там разберемся.
– Ну хорошо… В земле Чинь люди сеют, пашут, хлеб убирают. Все как у нас. Только ни рожь, ни ячмень у них не растет. А зерно белое, рисом называется. Из него лепешки пекут, кашу варят…
– Ты про бойцов начинал!
– А! Ну слушай! Народ тамошний лицом на татар похож – желтые да узкоглазые. И воины в их земле рождаются великие. И оружия всякого – невиданного и неслыханного. Иной лопатой дерется. Другой с простой палкой против мечника выходит и побеждает. И мечи разные. Узкие длинные и широкие кривые. Любят они выяснять, кто же сильнее, чье оружие лучше. Собираются, приглашают в судьи столетних стариков, которые всю жизнь искусство боя постигали, монахов – у них монахи тоже бойцы хоть куда.
– Чудной народ какой-то…
– У всякого люда свой норов. Что поделать? Что татары коней едят, тебя не удивляет?
– Сравнил тоже! То кони, а то монахи!
– Что ж поделать! Но я не к тому. Самые лучшие мастера заканчивают бой, еще не начав его.
– Это как?
– Ну… Учитель рассказывал – постоят друг напротив друга, постоят. Потом один поклонится. Значит, признал, что слабее.
– Это ты к чему?
– Это я к тому, что проверять, кто же самый сильный, по-разному можно. Дядька Горазд ни с кем не рвется силами мериться. Только я сам видел, как он голой рукой саблю татарскую ломал.
– Правда? Расскажи!
– В другой раз, – пожал плечами Никита, чувствуя, что ему хочется увидеть ее еще раз. Хоть и вздорная девчонка, а болтать с ней интересно. Вначале вроде как смущался, а после язык развязался – не остановить. Давно он ни с кем вот так не беседовал… Молчальник Горазд и сам не очень любил лишние слова, а уж парня наставлял и вовсе помалкивать. На то он и ученик.
– Не хочу в другой… Хочу сейчас!
– Некогда. В Кремль мне надо. Сможешь провести?
– Ты что?! – Девчонка даже присела чуть-чуть с испугу и огляделась по сторонам – не услыхал ли кто в толпе. – Зачем тебе в Кремль?
– Да пошутил я! Зачем мне в Кремль? Глупости какие! – громко сказал, почти выкрикнул Никита, а потом добавил шепотом: – Мне с князем Юрием поговорить надо.
– Зачем это?
– Тебе какое дело?
– Раз мне никакого дела, то чего я тебя вести должна? Вон он – Кремль. Иди! – надула губы Нютка.
– И пойду! Деду кланяйся. Дядьку Прохора поблагодари за хлеб, за соль… – Парень учтиво поклонился: – Прощай. Не поминай лихом.
Он повернулся и пошел сквозь толпу.
Через несколько шагов Нютка догнала его:
– Погоди! Постой!
– Чего тебе? – Парень не сбавил шага. – Я же попрощался.
– Нагнись, чего скажу!
– Ну?
Горячее дыхание обожгло ухо:
– Я тебя до ворот доведу. А дальше – сам.
Никита поймал себя на том, что стоит и глупо улыбается. Ведь прекрасно мог бы и в одиночку дойти до кремлевских ворот. А вот поди ты – приятно, когда тебя не бросают, когда хотят помочь. Да и девчонка, кажется, считает, что, помогая ему, ввязывается в опасное дело. Может, она думает, что он подсыл? Тогда чего не кликнет дружинников? Нельзя сказать, что они толпами по улице ходят, а все ж таки попадаются.
Тем временем Нютка схватила парня за рукав и потащила за собой.
– Сейчас пройдем через торг… Поглядишь, какой торг у нас в Москве! Ты такого раньше не видел!
Никита хотел сказать, что он никакого торга никогда не видел. Ни разу в жизни. Но не успел… Дух захватило от многолюдья, каким бурлила широкая площадь. В уши ударил многоголосый гам. В ноздри ворвались всяческие запахи.
Все больше наши, русские, купцы и покупатели ходили, приценивались к товару. Но попадались среди них и заморские гости. Смуглолицый и белобородый южанин с головой, обмотанной цветными яркими тряпками. Светловолосый здоровяк с бритым подбородком, но длинными усами: датчанин или свей. Мелькала мордва в расшитых бисером безрукавках. Прохаживались татары, поглядывающие на всех свысока. Они хоть и вели себя как хозяева, ходили все же по трое-четверо. Чувствовали, видно, что любви к их роду-племени тут никто не испытывает, а только терпят, как занозу в пятке.
– Это еще торга нынче нет! – с трудом перекричала шум Нютка.
Кричали зазывалы. Гоготали гуси. Блеяли бараны, и мычали коровы. Изредка ржали кони. Вернее, лошади. Конь – у дружинника и воеводы, а у купца и селянина – лошадь.
– Вот когда вересень только начинается!..
Легкий ветерок нес аромат дыма. Похоже, от коптилен. Ядреный дух квашеной капусты мешался с запахом конского навоза.
Толчея становилась все гуще и труднопроходимее.
«Что ж тут делается, когда торг в самом разгаре, если об эту пору он на убыль пошел?» – думал Никита.
Бедро Нютки, прижимавшееся к его ноге, заставляло полыхать огнем уши. Но почему-то хотелось идти и идти так. И плевать на Кремль, князей московских, наказ Горазда… Об учителе напоминали только течи, упиравшиеся рукоятками в бок. Ну и пусть упираются!
– А вот пироги! Пироги с зайчатиной! Пироги с капустой!..
– Подходи, выбирай!..
– Ткани легкие, шелковые! Из Дамаска и Багдада!..
– Пироги с черникой! Пироги с ежевикой!..
– Горшки! Горшки и кувшины!..
– Колечки для девиц, браслеты для мужних жен!..
– Горячие с пылу с жару!..
– Навались, подешевело!..
– Капуста кислая, моченая! С брусникой да клюквою!..
– Платки узорчатые!..
– Горшки звонкие – работа тонкая!..
– Корова рябая, рога разные! А сколько молока – доить устанет рука!..
– Ложки липовые! В рот сунешь – сразу сладко!..
– Пироги с грибами!..
– Ножи булатные! Сами режут, сами строгают!..
– Пояски тисненые!..
– А вот алатырь-камень[31]! Из земли Жмудской!..
– Подходи! Отдаю задешево!..
– Зерно бурмицкое[32] – украшение не мужицкое!..
– Эх, сам бы купил, да людям не достанется!..
– Сбитень горячий!..
– Поросята! Поросята! Кому поросят? Двоих покупаем, третьего за так дарю!..
– Пироги! Пироги!..
– А вот скакун знатный! Бежит – земля дрожит, упадет – три дня лежит!..
– Подходи, люд честной!..
– Свистульки глиняные – это вам не щи мясные! Не греют брюха, так радуют ухо!..
– Соболя, куницы, белки! Белки, куницы, соболя!..
– А вот ржаной квас! Кислый – страсть!..
Никита хлопал глазами, уже не пытаясь ничего запомнить. Что тут запомнишь, когда мелькает все вокруг, будто во сне? Счастье, что ничего с собой на обмен нет, а то не удержался бы, потратился…
– Дорогу, смерды! – загремело над головой. – Дорогу боярину!
Парень рванулся в одну сторону, Нютка потянула его в другую. Они задергались на месте, замешкались.
Горячий дух конского пота ударил в нос.
– Прочь, худородные!
Никита успел обернуться.
Увидел распяленные ноздри, обрамленный клочьями пены лошадиный рот, раздираемый уздою!
Довольное русобородое, молодое лицо.
Свистнула плеть, обжигая острой болью плечо!
Парень крутанулся на месте, вырвал рукав из цепких Нюткиных пальцев и толкнул девчонку в толпу…
Глава четвертая
Желтень 6815 года от Сотворения мира
Москва, Русь
Оттолкнув Нютку, Никита взметнулся вверх в высоком прыжке.
Толпа ахнула.
Может, со стороны это выглядело удивительно, но, обучаясь у Горазда, парень выкидывал и не такие коленца.
Он успел заметить ошарашенное лицо молодого воина. Губы еще улыбались, радуясь незатейливой шутке. Неотесанную деревенщину проучил. Ну не весело ли? Зато глаза уже округлились.
Закручиваясь, подобно молодому, только нарождающемуся смерчу, Никита от души приложил всаднику посохом поперек лопаток.
Дружинника будто вынесло из седла. Он кувыркнулся через конскую шею головой вниз, прямо в жидкую грязь, размешанную лаптями да сапогами москвичей и приезжих гостей.
Уже приземляясь, Никита не удержался и легонько наподдал гнедому коню по крупу. Чуть повыше репицы.
Скакун заржал, присел на задние ноги и с места рванулся вскачь, отбивая копытами по сторонам. Видно, здорово обиделся за непотребное обращение.
Зеваки, разинувшие рты вокруг, расступились, не желая попасть под удар.
Парень хотел броситься следом за конем, но поскользнулся – подвела привычка бегать по траве или палой листве. Рыночная грязь оказалась куда как коварнее.
– Куда?! – преградил путь дюжий ремесленник. Он раскинул в стороны руки-грабли, будто бы намереваясь схватить беглеца.
Никита мог бы сбить его с ног одним ударом, но гнев и обида уже отступили, а ударить беззащитного человека, вся вина которого заключалась в желании поймать нарушителя порядка, он не смог. Взмахнул посохом, в надежде, что кто-то из ротозеев отпрянет.
– Стой! – послышалось позади.
– Сдавайся, тать!
Первый голос грубый, словно охрипший от беспрестанного крика. Второй – юношеский, звонкий.
– Держи! Держи вора! – уже надсаживался кто-то в задних рядах. Какие слухи начнут гулять по Москве завтра, и думать не хотелось.
Очень хотелось, чтобы Нютку не задавили в толпе. И чтобы не пришлось никого убивать.
Может, лучше сдаться? Повинную голову, как говорится, меч не сечет.
Развернувшись, парень увидел еще двоих всадников, подъезжавших с боков. Явно намеревались зажать наглеца «в клещи». Один – мальчишка, не старше самого Никиты, но горя и беды не нюхавший, а потому сохранивший детское восторженное выражение на лице. Второй – седобородый. Черные глаза пронзительно сверкали из-под мохнатых бровей. На щеке – шрам. Не такой причудливый, как у Горазда. Просто белесая полоска, выделяющаяся на загорелой коже.
Юноша замахнулся копьем.
К его чести, он попытался достать Никиту тупым концом оскепища[33]. Очевидно, несмотря на все случившееся, не воспринимал посох как оружие, а потому не хотел бить острием безоружного.
Двигался он медленно.
Нет, может, чтобы мастерового или купца с дороги прогнать, этого удара хватило бы. Но не обученного бойца, которого день и ночь гонял наставник, не знающий, что такое снисхождение к детским жалобам на потянутые связки и боль в натруженных мышцах.
Никита отвел древко копья полукруговым движением посоха.
Краем глаза заметил, что седобородый не собирается его атаковать, а, опершись кулаком о переднюю луку, с интересом наблюдает за их забавой.
– Ах, вот ты как! – покраснел и обиженно надул губы юноша. Перехватил копье для удара острием. Сверху вниз. Так бьют скорее охотники, чем воины.
Опять слишком медленно.
Пока он замахивался, Никита успел шагнуть вперед и ткнуть посохом в лицо противнику. Конечно, он не собирался убивать или калечить мальца (почему-то предполагаемый ровесник казался ему совсем зеленым, «сопливым», как говорится), а потому задержал удар, способный без труда сломать кость, в полувершке от переносицы всадника.
Этого хватило.
Испугавшись стремительно летящей ему в лицо деревяшки, юнец отшатнулся, безалаберно взмахнул руками и полетел через круп.
Только подошвы сапог мелькнули. Чистые – в грязь еще не становился.
В толпе захохотали. Не смогли горожане сдержаться…
– Ну, держись, грязный смерд!
Оказывается, первый сбитый с коня противник уже поднялся на ноги и теперь приближается, держа двумя руками меч. Клинок зло мерцал. Будто волк зубы показывает. Боярин кривился и пытался отереть щеку о богатый плащ. Но он забыл, что плащ окунулся в липкую жижу вместе с хозяином, а потому лишь размазывал грязь по лицу.
«Кто ж из нас грязный?» – невольно подумалось Никите.
– По спине бьешь, да? Обманом норовишь? – Поверженный в грязь удалец изо всех сил пытался разжечь в себе обиду и праведный гнев.
– Я первым не бил, – твердо отвечал парень.
– Да кто ты таков есть? Как смеешь дорогу боярину заступать?
Острый кончик клинка двигался вправо-влево. Похоже, этот дружинник не дурак подраться.
– Бабка твоя с медведем снюхалась, слышь, лапотник! – встал рядом с боярином юнец с копьем.
– Назад, Мишка! – тут же загремел с коня седой. Он не только не обнажал оружия, а даже пальцем к рукоятке шестопера не притронулся. Зато смотрел с неподдельным любопытством, примечая каждое движение.
«Наверное, он наставник молодого боярина! – догадался Никита. – Учит его драться, как дядька Горазд меня. Потому и не спешит в бой ввязываться. Хочет посмотреть, на что ученик способен. А малец – стремянный, не больше того…»
Мишка обиженно засопел, но не посмел ослушаться. Отступил.
– Пять кун на Емелю Олексича! – послышался задорный голос в толпе.
– Хитер-бобер! – ответил густой бас. – Наверняка хочешь? Ясное дело, палка супротив меча не катит!
«Ну, я вам покажу – не катит!»
– Ниче! – встрял третий любитель биться об заклад. – Палкой он тоже могёт!
– Точно! – продолжал сварливый женский голос. – Вдоль хребтины боярина приголубил-то… Шустрый!
– Пустое мелешь! Не можно с палкой мечника победить! – это басистый.
– Принимаю! Пять кун на вьюношу! – крякнул еще кто-то. – Пущай он уделает Емелю-то!
– Дырка не круглая!
– А вот и поглядим!
«Поглядите, поглядите…»
Никита закрутил посох над головой.
Восторженный шепоток прошелестел по толпе.
«Ну да… Такого поди ни разу не видели».
Будто крылья стрекозы раскрылись под сумеречным осенним небом.
Мерцающий круг, в котором и не различишь, где один конец палки, где второй.
Боярин замедлил шаг, вытер правую ладонь о богато вышитую ферязь[34].
«Волнуется, – отметил Никита. – Значит, не так уж и уверен в своих силах».
Парень перебросил посох из правой руки в левую, но не так, как могло бы прийти в голову обычному человеку, а за спиной и застыл на одной ноге, устремив кончик деревянной палки в лицо Емельяну Олексичу.
Это был безмолвный вызов.
Боярин скривился, шмыгнул носом и наотмашь рубанул, целясь в посох.
Никита легко предугадал направление удара и убрал палку, вернув ее на место спустя долю мгновения.
Тяжесть меча далеко унесла руку Емельяна. Ему пришлось широко шагнуть, чтобы сохранить равновесие.
– Ах ты, пес смердящий! – воскликнул он и вновь попытался срубить кончик посоха.
Без труда повторив уловку, Никита различил за спиной смешки. Пока еще несмелые.
– На тебе! На тебе! – Емельян Олексич ударил еще дважды.
И опять не достиг желаемого.
Народ уже хохотал в голос.
– Совсем окосел наш Емеля! – послышался ехидный голос.
Боярин покраснел, как вареный рак. Отступил на два шага. Видно, понял, что дело предстоит нешуточное.
И вдруг прыгнул вперед, целясь теперь парню в голову.
Никита успел перехватиться двумя руками за посох, ушел в сторону. Широким взмахом ударил противника по ногам. Боярин сумел увернуться. Полоснул лезвием поперек живота – попади, и выпустил бы кишки парню. Но и Никита на месте не стоял. Держа посох широким хватом, ткнул Емельяну в лицо. Тот отпрянул. Сбросил в грязь сковывающий движения плащ.
Они закружились, обмениваясь ударами.
Москвич вкладывал в них всю силу, стараясь или убить, или покалечить врага. Может быть, раньше он относился к потасовке не так серьезно, но гогот и улюлюканье горожан, обрадовавшихся дармовому развлечению, разбудили в нем ярость, затмевающую рассудок.
Никите теперь приходилось туго. Он не хотел причинять вреда Емельяну Олексичу – ведь тогда ни о каком разговоре с Юрием Даниловичем не может быть и речи. Какой князь станет разговаривать с чужаком, покалечившим одного из его ближних дружинников? Велит казнить – и всех делов. Да и защита требовала осторожности. Лезвие меча, скользнув вдоль посоха, запросто могло отсечь пальцы.
Взмах!
Тычок в колено!
Сбоку по запястью! Промазал…
Клинок со свистом прошел у самой макушки парня, обдав ветерком.
Никита присел на широко расставленных ногах. Ударил тычком.
Торец посоха врезался Емельяну «под ложечку».
Боярин охнул, выпучил глаза, выронил меч.
– Ага! Наша берет! – закричал тот из москвичей, кто ставил пять кун на незнакомца с палкой.
Емельян Олексич, согнувшись, медленно опустился на колени. Обе ладони он прижимал к животу, словно получил смертельную рану.
– Убили-и-и-и! – Пронзительный визг перекрыл гомон.
Стремянный Мишка с округлившимися глазами бросился на Никиту, замахиваясь копьем, будто оглоблей. Если и имелись у отрока какие-то воинские умения, то испуг и растерянность затмили их полностью. Отбросить в сторону его оружие не составило ни малейшего труда. А после Никита хлестнул его посохом по лицу. Коротко, без замаха, чтобы не убить, не приведи Господь.
Удар пришелся в нос. Юнец схватился за лицо, размазывая кровь, и тихонько заскулил. Прямо как побитый щенок.
– Что делает, а?! Душегубец! – Кажется, это закричал тот мужик, что не верил в победу палки над мечом. Понятное дело, проигрывать никому не нравится.
– Головник[35]! – гаркнул рыжебородый мужик в забрызганном грязью армяке, тыкая в Никиту пальцем.
– Хватайте его, люди добрые!
Толпа качнулась к Никите. Тот, хотя и напугался до дрожи в коленках, не подал виду, а закрутил посох. Как Горазд учил. Восьмерка, петля, полукруг вправо, полукруг влево, над головой, вокруг поясницы.
Москвичи отшатнулись. Получить в зубы крепкой деревяшкой не хотелось никому.
– За колья, мужики! – прокричал сутулый мастеровой в шапке-треухе.
– Камнями ирода, камнями! – Худая старуха приподнималась на цыпочки, чтобы хоть иногда появляться над плечами мужчин, стоявших в первом ряду, но ее пронзительный голос с легкостью перекрывал прочих.
– Точно! Чтоб впредь неповадно было!
– Не позволим наших бояр обижать!
– Камнями!..
Никита едва успел сдержать размах посоха, когда к нему из толпы бросилась… Растрепанная, запыхавшаяся – видно, что потолкаться пришлось изрядно. Нютка? Точно. Она!
– Не смейте его трогать! – отважно закричала та, загораживая собой Никиту. – Люди вы или звери? Хороший он!
– Ишь ты! – прошипела все та же старуха. – Защитница выискалась!
– Мы-то люди! – сурово ответил рыжебородый, поддергивая рукава. – Мы драк тут не учиняли!
«Вот навязалась на мою голову, – с тоской подумал парень. – В одиночку я б еще авось прорвался. Ну получил бы по ребрам пару раз, сломал бы носы двоим-троим… А с обузой не выбраться. Выискалась, защитница! Нет чтобы тихонько домой уходить!»
– Ты зачем сюда выскочила? – зашептал он на ухо девчонке. – Прибьют ведь!
– Не боись, не прибьют! – с бесшабашной снисходительностью отозвалась она. – Я не дозволю!
«Вот дурёха! Думает, что сумеет толпу удержать от расправы! Да не родился еще такой человек, чтобы в одиночку, голыми руками…»
– Дурочка… – начал он.
Но тут суровый голос прокатился над торговой площадью:
– Всем стоять! Тихо!!!
И такой силой веяло от него, что даже раздухарившиеся мужики, готовые рвать на груди армяки и рубахи да кидаться в драку, притихли, втянули головы в плечи. Кто только что орал-надрывался, захлопнул челюсти, аж зубы клацнули. Кто-то даже шапку сунул себе в рот, чтобы ненароком словечко не вылетело. Только тощая, носатая старуха продолжала выныривать над плечами и головами, как поплавок. Трясла сухими кулачками. Выкрикивала:
– Камнями! Бейте его, православные! Бейте, кто в Бога верует!
Седобородый спутник Емельяна Олексича не спеша раздвинул конем толпу. Да, собственно, и расталкивать не пришлось – горожане сами расступались перед ширококостным серым жеребцом.
– Ой, а мы про тебя и забыли, дядька Любомир… – виновато развел руками светловолосый мужичок. От смущения дернул себя за льняную бороду.
– Никшни, сказал! – сверкнул черным глазом дружинник. Наклонился с седла к орущей старухе. – Федосья!
– А? – Бабка побелела, шарахнулась в сторону. Будто желала спрятаться. Но дюжие мужики, стоявшие вокруг, не позволили. Сдвинулись, заступая дорогу к спасению.
– Ты бы, Федосья, рот свой черный закрыла, – мягко, едва ли не ласково проговорил Любомир. – Закрыла, платочком замотала и… Проваливай отсюда! – загремел он на последних словах, будто конные сотни в бой бросал.
Старуха охнула, икнула и ужом протиснулась между двух подмастерьев.
– То-то же… – довольно бросил седой. Обвел взглядом собравшихся. – Благодарствуйте, люди добрые, что вступились за боярина Емельяна свет Олексича! Поклон вам низкий!
Любомир и вправду поклонился, прижимая ладонь к сердцу. Потом выпрямился и продолжил:
– Только самовольный суд чинить никак нельзя. Кто лучше всех рассудить сумеет – виновен ли этот малый, или боярин Емельян сам нарвался?
– Дык… это… князь-батюшка, ясен пень! – воскликнул ободранный – будто его собаки по подворью валяли – мужичонка с подбитым глазом.
– Ай, молодец! – похвалил его Любомир. – Умище-то не пропьешь! Верно я говорю, православные?
Толпа загудела:
– Точно!
– Правильно!
– В Кремль его! Пущай князь решает!
– Значит, согласны вы, чтоб головника князь судил? – гнул свое дальше седой дружинник. – Хотя какой он головник?! Вон он, Емельян Олексич! Поглядите, кто не верит на слово! Живой стоит! Целехонький! Только за живот держится…
– Верно! – отвечали люди. – Живой!
– И Мишка вроде как не убитый. Юшка из носа? Так это у молодых не в диковину. Сами подрались, сами помирились…
– Спасибо тебе, Любомир Жданович! – чинно проговорил белый как лунь дед. Такому давно пора на печи сидеть, косточки греть да внучатам сказки сказывать. Одному Богу ведомо, зачем его понесло на торжище?
– Да за что же спасибо? – приподнял бровь всадник.
– Не дал греха на душу взять. От смертоубийства удержал, – все так же неторопливо и веско объяснил старик.
– Ну! – хмыкнул Любомир. – Тут мне добавить нечего. Удержал так удержал. Грешен. Каюсь.
По рядам плотно сгрудившихся людей волной прокатились смешки.
– Все, православные! Идите по своим делам! А то без товара останетесь. Чем тогда семьи кормить станете? – махнул рукой дружинник, а сам неторопливо подъехал к неподвижно застывшему Никите.
– Откуда будешь такой, прыткий? – внимательно пробежал взглядом, словно цепкими пальцами ощупал. Все подметил, все определил раз и навсегда – и постав ног, и обманчиво расслабленный хват на давно остановившемся посохе. Нютку, растопырившую руки в неуклюжей попытке защитить – и ту разглядел.
– Издалече, – отвечал Никита. Любомир ему нравился. Уверенностью и спокойствием напоминал Горазда. Именно поэтому парень решил держаться настороже. Нельзя поддаваться чувствам. Расслабишься – сожрут и косточки сплюнут.
– Никак тверич? – подметил его выговор седой.
– Оттуда. Верно. А что, нельзя?
– Тверичам дорога на московский торг не заказана. Только зачем же палкой махать, бояр калечить?
– Я первым в драку не лез, – стоял на своем парень.
– Да неужто?
– Кто меня плетью ожег? Боярин ваш…
– А ты такой гордый, что уж и плетью нельзя?
– Я – не холоп.
– А кто же ты?
– Человек.
– Вона как! – протянул Любомир. И повторил, будто пробуя слово на вкус: – Человек! Не приучил разве вас Михаил Ярославич к покорности?
Никита только плечами пожал. Что тут ответить? Он о князе тверском и не слышал, почитай, ничего, кроме того, что успел поведать дед Илья. И с дружинниками Михаила Ярославича первый раз столкнулся, когда боярин Акинф пожаловал в гости к Горазду.
– Крут ваш князь. Ох, крут. Не понаслышке знаю, – прищурился седой. – Что ж молчишь, парень?
– Нечего мне говорить.
Толпа вокруг заметно поредела. Одно дело – на драку глазеть, а то и всем миром чужака пришлого отделать, а совсем другое – слушать неспешную беседу. Да и вопросы дядька Любомир задает простые и будничные. К чему там прислушиваться? Нет, скучно…
– Домой беги, – яростно зашипел Никита на ухо Нютке. – К дядьке Прохору! Нечего тебе тут делать!
– Я тебя не брошу! – отвечала девка. Вот упрямая!
– Иди-иди! Я сам управлюсь.
– Не пойду. Ты гость наш…
– Иди, я сказал!
Седой с интересом наблюдал за их перепалкой.
– Девчонка с тобой?
– Нет! – ответил Никита.
– Да! – одновременно с ним ляпнула Нютка.
Любомир рассмеялся. Покачал головой.
Тем временем Емельян Олексич отдышался. Зло гаркнул на стремянного Мишку, который продолжал размазывать розовые сопли по реденьким усам. Тот промямлил что-то виновато и побежал искать коня.
– Кем драться-то учен? – без предупреждения спросил Любомир.
– Дядькой Гораздом… – проговорился парень. И прикусил язык, но было уже поздно.
– Гораздом, говоришь? Слыхал я об одном отшельнике, которого Гораздом зовут. Сколько раз его звали князья – и московские, и тверские, и рязанские – учить дружину бою оружному и рукомашному. А он ни в какую… Гонцам отвечал, что самому Александру Ярославичу Невскому служил, а больше ни единому князю не станет. Гордый. И упрямый.
Никита удивился, хоть и постарался не подать виду. Он и знать не знал, что его учителя, оказывается, все окрестные князья звали к себе в дружину.
– От московских князей еще при Даниле Александровиче ездили. Вот Олекса Ратшич и ездил, – Любомир кивнул на боярина Емельяна. – Его тятька, стало быть…
Старый дружинник замолчал. Видать, минувшие дни вспомнились.
Емельян Олексич с помощью Мишки забрался на подведенного коня и теперь срывал злость на спутнике, вполголоса выговаривая ему. Лишь бросал исподтишка косые взгляды на Никиту.
– Отведи меня в Кремль, почтенный Любомир Жданович, – попросил парень.
– Что-о? – удивился старый дружинник. – Ты никак княжеского суда просить захотел? Я-то думал…
– Не суда, – мотнул головой Никита. – Мне ему послание от Горазда передать нужно. Очень нужно. Я затем и в Москву пришел.
– Вона как… А не боишься? Сперва ведь отвечать придется за то, что тут натворил.
– Отвечу, если надо.
– А ты смелый.
– Мне очень нужно передать слова Горазда. Я бы хоть так, хоть сяк в Кремль пошел бы. В ворота не пустили бы, через городню[36] бы полез.
– А поймали бы? – улыбнулся Любомир.
– Просил бы встречи с князем.
– А взашей бы выгнали?
– А я опять полез бы.
– А в подпол бросили бы?
– Убег бы…
– Вона как! Молодец. Уважаю.
– Так сведешь меня к князю Юрию? А, Любомир Жданович?
– К Юрию не сведу.
Заметив разочарованный взгляд парня, воин пояснил:
– Юрий Данилович уехал в Новгород. По делам. По каким, не спрашивай – не твоего ума дела.
– Я и не спрашиваю…
– Вот и правильно. А к Ивану сведу. Попробую добиться для тебя княжьей милости.
– Спасибо тебе, почтенный Любомир Жданович, век не забуду! – Никита поклонился дружиннику в пояс.
– Не радуйся прежде времени. Князь Иван Данилович справедлив, но суров.
– Бог не выдаст, свинья не съест.
– Вона как! Свинья не съест, говоришь? Тогда пошли, – кивнул Любомир. – Девчонка с тобой?
– Сам пойду!
– Никуда ты сам не пойдешь! – возмутилась Нютка.
«Вот напасть на мою голову… Как же избавиться от нее?»
– Почему сам, красавица? – приподнял бровь дружинник. – Я с ним иду. В обиду не дам.
– Я все равно пойду! – уперлась девчонка. Хоть и зарделась, что убеленный сединами воин назвал ее красавицей.
– Ну, дело ваше.
Любомир повернулся к боярину:
– Слышь, Емельян Олексич! Парень желает, чтобы князь ваш спор рассудил. Вот прямо в Кремль и поедем сейчас.
Емельян презрительно оттопырил губу. Мол, подумаешь, суд княжеский. Мне все равно. Прав я. На том стоял и стоять буду. А боярская правда, как известно, сильнее холопской.
Но и возражать он не решился. Развернул гнедого мордой на Боровицкий холм, стукнул каблуками в конские бока.
Любомир махнул Никите рукой – пошли, дескать. Пришпорил серого, нагнал боярина и поехал стремя в стремя. Парень, закинув посох на плечо, зашагал следом за ними. Нютка семенила рядом, вцепившись в рукав Никиты. Замыкал шествие Мишка. Непонятно: то ли решил, что не по чину ему впереди ехать, то ли приглядывал, чтобы тать не сбежал.
Глава пятая
Желтень 6815 года от Сотворения мира
Кремль, Москва, Русь
Треугольник Кремля приближался медленно. Все потому, что дружинники московского князя никуда не спешили. Гнедой и серый еле-еле переставляли копыта в круто замешанной, как доброе тесто, грязи. Все это время Любомир тихо вычитывал Емельяну. Что именно говорил старик, Никита не слышал, но отлично видел, как с каждым словом все ниже опускается голова молодого задиры, и сутулятся плечи под измаранным плащом.
Парня аж любопытство разобрало! Интересно, за что распекают молодого боярина. Не будь рядом Нютки, он обязательно постарался бы нагнать всадников, подобраться как можно ближе к конским крупам. Тогда, возможно, и уловил бы краем уха слова Любомира. Но показывать себя «любопытной Варварой» при девчонке Никите не хотелось.
Вот и шагал он неторопливо, разглядывая растущую по мере приближения громаду крепости. Сколько деревьев пришлось срубить, чтобы сложить эти стены, башни и ворота?! Целую рощу! Или даже целый лес! А ведь на всех бревнах нужно было еще обрубить сучья, привезти, подобрать по толщине, подготовить, соединить сруб «в лапу»[37]. Сколько же нужно людей, лошадей, подвод?! А времени-то, времени!..
Домишки обитателей Посада, карабкающиеся по склону холма, казались мелкими, игрушечными. Как кошка рядом с коровой.
Кремль составляли три стены: одна – вдоль реки Москвы, вторая – вдоль Неглинной, а третья глядела на пригород.
– Сколько же шагов она в длину? – поразился парень.
– Да кто ж ее мерил? – шепотом отвечала Нютка. – Ты погляди лучше – красота-то какая! Лепота! Вон Свято-Данилов монастырь! А вон Спасский! Его только недавно отстроили! Вот бы хоть одним глазком…
– Так вот для чего ты в княжий терем напросилась со мной? – догадался Никита. – На красоту поглазеть захотелось?
– Дурак! – ответила девчонка и отпустила его рукав.
Парень даже понадеялся, что она развернется и уйдет домой, к дядьке и деду. И тут же ему стало стыдно. Обидел ни за что ни про что. Но просить прощения он не захотел. Так и шагал молча до самых ворот.
Внутри крепости, в тени стен, не было той суеты, что на торгу или посадских улочках. Именитые люди и купцы передвигались степенно, вразвалочку. Каждого сопровождали один-два человека из чади[38]. Ходило много воев – без доспеха, но при мечах. Они сердечно приветствовали Любомира Ждановича и сурово поглядывали на Никиту: кто таков и почему сюда заявился?
Стало попадаться много монахов, спешащих по делам. Одни вели трудников[39], груженных мешками и корзинами, другие шли сами по себе. Никита вспомнил рассказы Горазда о монахах из земли Чинь, посвящавших всю жизнь совершенствованию боевых искусств, и улыбнулся, представив ну вот хотя бы того сутулого, с жиденькой рыжеватой бородкой, прыгающего по монастырскому двору с длинной палкой или широким кривым мечом в руках. Еще раз представил и прыснул в кулак. Любомир обернулся и покачал головой, хотя глаза старого дружинника смеялись. О чем он подумал, интересно?
А вот и княжеское подворье. В воротах, опираясь на рогатины, скучали десяток стражников в бахтерцах[40]. Увидев Емельяна с Любомиром, они подтянулись, расправили плечи. Никиту с Нюткой пропустили беспрепятственно.
Подбежали отроки[41], приняли поводья коней.
– Посидите тут пока, – Любомир кивнул на бревно, проложенное вдоль стены молодечной[42], а сам одернул полукафтанье и скорым шагом направился в терем.
Емельян Олексич на прощание окинул парня презрительным взглядом и гордо удалился в сопровождении верного Мишки.
Никита прислонил посох к стене. Присел. Нютка примостилась вроде бы и рядом, но так, будто бы она сама по себе. Натянула кожушок на колени, съежилась, будто замерзший воробышек.
По двору туда-сюда сновали дружинники и чадь. Пронесли десяток корзин со стрелами. Двое мальчишек пробежали вприпрыжку, держа на плечах палку, через которую перекинули кольчугу. Въехала телега, укрытая рогожей. Ее подогнали к пристройке в глубине и принялись вытаскивать освежеванные туши баранов.
Пожилой, дородный воин – видно, боярин не из последних – долго заставлял отроков водить по кругу огромного серого в яблоках коня с длиннющей гривой и челкой до ноздрей. Придирчиво осматривал копыта и опять требовал провести рысцой. Никита так понял, что боярину казалось – конь прихрамывает на левую заднюю, но вот выяснить причину никак не получалось.
Холодало.
Конечно, по сравнению с тем, чтобы в середине снежня держать равновесие на столбе, даже жарко, но все равно дрожь пробирает. Нютка и вовсе начала выстукивать дробь зубами.
«Да где же этот Любомир? Куда подевался? Вдруг про нас забыли? Так и просидим до сумерек, а после попробуй уйди – сразу выяснять начнут, что да как…»
И тут появился седой дружинник.
Улыбнулся, помахал Никите рукой:
– Идем, тверич! И ты, красавица, тоже!
Парень с девкой поднялись, подошли к крыльцу.
– Кличут-то вас как? – прищурился Любомир.
– Никитой меня зовут.
– А я – Нютка.
– Анна в крещении?
– Ну да… Только все Нюткой кличут. И тятька, и мамка, и деда, и…
– Ладно. Годится, – дружинник посторонился, пропуская гостей под резную притолоку, прямиком в просторные сени. – Палку свою можешь тут оставить. И котомку тоже. Да не бойся! Не украдут! До сих пор у нас такого не водилось.
Никита пожал плечами. Не украдут так не украдут. Приходится доверять слову. Хотя… Посох-то что? Сущая пустяковина. Всегда в лесу можно найти подходящий ствол орешника. А вот течи жалко будет, коли пропадут. Работа чужедальних мастеров, вряд ли кто-то здесь способен выковать нечто подобное.
Прислонив посох в углу и пристроив тут же котомку, Никита одернул рубаху, поправил поясок, сгоняя складки за спину. Пятерней разгладил волосы. Нет ли грязи на щеках, а то как он будет выглядеть перед княжьими очами?
Нютка топталась на месте, озабоченно разглядывая перемазанные бурой глиной лапотки. Очень ей не хотелось наследить в чистых горницах княжеского терема.
– Довольно прихорашиваться! Пойдемте, что ли?! – усмехнулся Любомир. Толкнул дверь.
Они оказались в гриднице[43]. Огромной, на взгляд Никиты, хоть конем скачи. Сколько же дружинников могло поместиться по лавкам вдоль длинных столов, которые сейчас стояли пустыми?! В кованых светцах горели всего две лучины. Их отсвет падал на лица четверых людей, стоявших друг напротив друга. Вернее, трое стояли, а один сидел.
Это и есть князь, догадался Никита. Кто еще может сидеть в тереме, когда прочие почтительно стоят?
Молодое лицо – внук Александра Невского еще двадцатое лето не встретил – Ивана Даниловича обрамляла короткая русая бородка. Одевался московский князь просто: темная ферязь тонкого сукна, чуть тронутая серебряным узором на груди, невзрачные сапоги. Волосы перехватывала кожаная лента без следов вышивки или тиснения. Он сидел ссутулившись, опустив подбородок на кулак руки, упирающейся локтем в колено. Обведенные темными кругами – свидетельство усталости и недосыпа – глаза смотрели внимательно и цепко.
За его плечами замер устрашающих размеров боярин. Рост – косая сажень, а в плечах немногим меньше. Объемистое брюхо натягивало бархатный охабень с бобровым воротником. Шапка из куньего меха лихо заломлена на правое ухо. На широком поясе боярина висела кривая сабля и тяжелая граненая булава. Несмотря на прохладу, царившую в нетопленом тереме, на лбу его блестела испарина.
Напротив них понурились старые знакомцы: Емельян Олексич и Мишка. Молодой боярин успел сменить изгвазданную одежду на чистую, но более скромную. Без узоров и вышивок, без золота и серебра. Он мял в руках шапку, а Мишка старался и вовсе спрятаться в тень, сжаться, съежиться, стать махоньким, будто комарик.
Любомир громко откашлялся, привлекая внимание.
– А! Это ты! – пророкотал дородный боярин таким густым и глубоким басом, что, казалось, затряслись потолочные балки. – Давай-кось сюда этого героя!
Дружинник вывел парня с девчонкой на середину гридницы.
– Это и есть Никита. Ученик Горазда-отшельника. А с ним девица Анна. Кем ему приходится, не знаю, но была с ним и свидетельствовать может, – представил их седобородый.
– Это ты, что ли, моего Емелю отлупил? – сдвинул кустистые брови великан. – Простой палкой? Так ли было, как этот олух сказывает? Отвечай немедля!
Никита поклонился, как того требовали правила приличия. Откашлялся:
– Истинная правда. Бился я посохом супротив меча в руке этого боярина молодого.
– И победил?
– Победил ли, не мне судить. Вот Любомир Жданович может свое слово молвить. Он тоже там был и все видел.
– Ишь ты! Скромняга. Оно верно, скромность отроков украшает. Ты скажи, огрел Емельяна по спине или нет?
– Огрел, – не стал спорить Никита.
– А после рожи непотребные корчил и всячески ломался, аки скоморох на площади?
– Рожи не корчил. Бился так, как учен был, – твердо отвечал парень.
– Кем учен? – Боярин чуть-чуть наклонился вперед, но показалось, будто эта громада сейчас обрушится и похоронит под собой и князя, который слушал, не проронив ни слова, и всех прочих.
– Дядькой Гораздом.
– А рожи не корчил?
– Нет.
– А вот Емельян утверждает, что корчил. И дразнился. И Мишка-отрок то подтверждает.
Никита вздохнул. Чего тут возразить? И почему Любомир молчит?
– Из-за чего хоть сцепились-то? – устало произнес дородный боярин.
Парень сжал зубы.
«Спроси своего Емельяна! Пускай расскажет, как честной народ плетью охаживал!»
– Что молчишь? Ответствуй, коль на суд княжий явился!
– Этот боярин молодой, – пискнула Нютка, – плеткой дрался! И конем чуть не стоптал!
Испугалась, зажала рот двумя ладошками.
– Ах вот как?! – загремел великан. Лицо его налилось кровью. – Емельян! Было аль нет? Сказывай!
– Ну… – промямлил Емельян, еще ниже опуская голову.
– В глаза смотри! И сказывай! Было?
– Было…
– Ах ты ж крапивное семя! – Боярин сжал кулаки. – Правда это? Любомир, ответствуй!
– Правда, – кивнул дружинник.
– Почему не воспрепятствовал?
– А не успел! Виноват я, Олекса Ратшич! – Любомир развел руками. – Горяч Емельян не в меру. Верхом вперед вырвался. Я окликнул его, да он не услышал, видать. Что ж мне, прилюдно догонять его было, с коня стаскивать, стращать гневом княжьим и родительским?
– И надо было!
– Тогда виноват. Наказывай меня, Олекса Ратшич, прежде Емельяна.
– И накажу…
– Только я подумал… – осторожно вставил дружинник.
– Что ты подумал? Мудрец, тоже мне!
– Что парнишка этот ловчее меня его проучит. И стократ обиднее. Так и вышло.
– А если бы не вышло? – впервые подал голос князь. – Если бы посек Емельян мальца?
«Какой я тебе малец? – подумал Никита. – Сам-то ты, князь-батюшка, на сколько старше?»
– Я по его ухватке понял, что не справится Емельян. Не обломится покуражиться. Нашла коса на камень.
– Увидел он… – пробурчал боярин Олекса.
– Что ты увидел? – вкрадчиво поинтересовался Иван. – Какую такую ухватку?
– Как прыгнул. Как посох держал, – пояснил Любомир. – Я хорошего бойца сразу вижу. Скольких сам обучал, а до него моим далеко. Как до Киева. Веришь ли, Иван Данилович?
– Верю, – просто ответил князь. – Тебе, Любомир, верю. – Он помолчал, потер подбородок. – Потому определяю приговор мой. Никита не повинен ни в чем. За свою честь вступиться не побоялся. И проучил обидчика, как полагается. Хотя, как по мне, так мало проучил.
– Верно, – кивнул Олекса.
– Дальше… Мишку, огольца, на конюшню отправить. Пускай навоз выгребает, пока ума-разума не наберется. Не защищать боярина ему надо было, а удерживать. Емельяну Олексичу такое наказание определю. На выбор Никиты. Хочет парень, может плеткой Емелю поперек спины вытянуть. Не хочет, пускай боярин ему виру[44] уплатит. Десяти кун, сдается мне, довольно будет.
– Я еще от себя десять добавлю, – виновато опустив глаза, проговорил пожилой боярин. – За то, что вырастил такую орясину.
Никита и раньше догадывался, что совпадение не случайно: Емельян Олексич и Олекса Ратшич. А теперь удостоверился наверняка. Отец и сын. Видать, баловал батюшка сыночка-то, пока тот под стол пешком ходил, вот и пожинает нынче плоды. Стыдится, может быть, даже и воспитывать пытается, а без толку. Правду говорят: воспитывай пока поперек лавки дитя ложится; как вдоль лавки ляжет – поздно будет.
– Не надобно мне никакой виры, – отвечал парень. – И бить плетью я никого не собираюсь – не по душе.
– Выходит, прощаешь Емельяна? – Князь улыбнулся уголками губ.
– Прощаю. Он свое получил. В другой раз думать будет и не станет плеточкой размахивать направо-налево.
– Молодец. Хорошо сказал. Емельян!
– Слушаю, князь-батюшка… – дрожащим голосом отозвался молодой боярин. Глянул исподлобья, не смея поднять головы.
– Прощаешь ли ты Никите обиды вольные и невольные?
Емеля кивнул.
– Не слышу! – Умел, оказывается, и Иван Данилович голосом стегнуть не хуже батога.
– Прощаю, князь-батюшка. Вот те крест святой. – Боярин споро развернулся направо и перекрестился. Надо думать, в сторону Спаса.
– То-то же… Обниматься-целоваться неволить не стану. Когда не от сердца, а по принуждению, пользы в том немного. Теперь ступай, Емельян! И Мишку с собой забирай! Прочь с глаз моих!
Когда провинившиеся мо́лодцы убрались восвояси, князь покачал головой:
– А про виру ты все же подумал бы, парень. Десять кун на дороге не валяются. Вон, девице-красавице своей гребешок купил бы или колечко…
– Очень нужно! – вспыхнула, как маков цвет, Нютка и тут же спохватилась: – Извини, батюшка князь, не надобно мне ничего.
– Ты гляди! Гордые какие все! Ну, неволить не буду. Сами решили. Может, есть у тебя, Никита, заветное желание какое-нибудь? Говори. Исполню. Князь я или не князь?
Парень собрался с духом:
– Заветных желаний у меня, Иван Данилович, нет. Вернее, одно есть – скорее поручение учителя моего исполнить и домой вернуться. А посему вели слово молвить, князь-батюшка.
– А что? И велю! – Данилович откинулся на спинку резного стольца. – Говори.
Никита повел глазами по сторонам:
– Не обессудь, князь-батюшка. Дело тайное. Не для сторонних ушей.
– А где ты тут сторонние уши видишь? Олекса Ратшич – мой самый доверенный советник. Любомир Жданович тоже верный человек. Не за кормовые служит, а за совесть. Разве что подружка твоя…
Нютка тихонько вздохнула. Понурилась. Поняла, что сейчас ее попросят уйти. Никита отвернулся, поскольку почему-то чувствовал угрызения совести. Будто пообещал что-то и не дал. Может, взаправду нужно было брать куны у боярина да подарить девке чего-нибудь? Хоть ленточку какую или поясок. Хотя… Девка сегодня в княжьем тереме побывала. Другие всю жизнь могут прожить, и никто их не пригласит даже издали поглазеть. А тут в гридницу провели, сам князь московский с ней разговаривал… Будет в деревне хвастать перед подружками, никто не поверит.
– Любомир! – прервал молчание князь. – Сыщи кого-нибудь из воев понадежнее да постарше возрастом – пускай они девицу-красавицу домой отведут. Неблизкий конец, мало ли что по дороге приключиться может?
Дружинник поклонился и жестом пригласил Нютку к выходу. Девка бросила презрительный взгляд на Никиту – так, наверное, глядели апостолы на Иуду Искариота в Гефсиманском саду, – поклонилась князю и боярину и ушла, гордо расправив плечи.
Олекса Ратшич, не сдержавшись, гулко хохотнул в кулак.
– Ну, говори, – обратился к Никите Иван Данилович. – Лишних ушей нет.
Парень набрал полную грудь воздуха:
– Велел мой учитель, Горазд, передать тебе, князь-батюшка, и брату твоему Юрию Даниловичу, что Михаил, князь Тверской, снаряжает отряд в дальнюю дорогу. За королевство Польское и Великое княжество Литовское, аж в Священную Римскую империю. До города Вроцлава. Там они будут ждать обоз из земли франкской. Назначена ли встреча франками, или они силой постараются тот обоз захватить – о том Горазд не знает. Только велел мне поспешать, чтобы князьям московским стало известно о замысле Михаила Ярославича. Ибо, сказал Горазд, все, что Михайло в Твери замысливает, непременно против Москвы направлено, так уж повелось. Вот и все.
Боярин с князем переглянулись. Олекса округлил глаза, развел руками. Иван покачал головой. Пробормотал:
– Быть того не может…
– Может или не может, то не мне решать, – ответил Никита. – Я наказ учителя исполнил. Могу с чистой совестью назад идти.
– Погоди-ка! – встрепенулся Олекса. – Это все, что ты сказать должен был? Ничего не забыл?
– Ничего. В том могу крест целовать.
– Верю тебе, верю… А ответь-ка – откуда Горазду стало ведомо про замыслы Михайлы?
– Так тут все просто. Боярин-тверич приезжал. Акинф Гаврилович…
– Акинф? – засопел Олекса. – У-у-у, пес смердящий… Попадется он мне в чистом поле или кривом переулке!
– Так Акинф и сказывал все. Он просил Горазда, чтобы он дозволил мне с тверским отрядом ехать. Сын, говорил, Семен Акинфович во главе тверичей идет, а меня он в телохранители к нему хотел пристроить. Только Горазд отказал.
– Да… – протянул Олекса Ратшич. – Доводилось мне кой-чего слыхать о Горазде. Но знать не знал и ведать не ведал, что способен он на подобный поступок.
– А вот видишь, неправ ты был, – задумчиво проговорил князь. – Может, врали тверичи про Горазда, чтоб опорочить его перед нами?
– Как Бог свят, врали! Ох, Акинф, ох, кобель брехливый! Ну, погоди ужо, доберусь я до тебя – небо с овчинку покажется!
– Погоди, погоди… Может, еще и доберешься… Скажи-ка, Никита, – Иван пристально посмотрел на парня, – больше ничего нам не поведаешь? Может, краем уха что услыхал? Тверичи словечко-другое ненароком обронили… Мне теперь все важно знать.
– Нет, – Никита помотал головой. – Все, что знал, обсказал. Обоз франкский. С чем – неведомо. Про город Вроцлав речь шла. Я о таком впервые услышал. Отряд Семен, сын боярский, поведет. Сколько воинов с ним будет – не знаю. Когда выступают – не знаю.
– Ну, добро… – кивнул Иван Данилович. – Не много ты мне поведал, но и те крохи больше пользы принесли, чем рассказы длинные да цветастые многих наших послухов. Просить, чего хочешь, предлагать не буду. Ты же все равно откажешься! – Князь лукаво подмигнул. – Предлагаю идти ко мне в дружину. Если верно то, что Любомир про тебя говорил, долго в отроках не проходишь. Мне бойцы хорошие ой как нужны! Кроме палки, чем драться учен?
– Без оружия учен. Руками и ногами, – честно ответил Никита. – Длинным посохом и коротким посохом. Прямым мечом немножко – Горазд говорит: рано еще… Течами…
– Чем-чем? – округлил глаза князь, а Олекса просто полез пятерней в затылок.
– Ну… Это оружие такое… Навроде кинжалов… – попытался объяснить парень. – Хотите, я покажу? У меня в котомке…
– А давай так! – широко улыбнулся Иван Данилович. – Будь моим гостем. Переночуй, отдохни, а завтра покажешь, чему научен, если будет на то желание. Заодно подумаешь, идти ко мне в дружину или нет. Утро вечера мудренее, ведь правда? А не захочешь, неволить не стану. Распрощаемся по-хорошему. Согласен?
– Согласен, – кивнул Никита, заранее зная, что не согласится. Не мог он вот так запросто бросить учителя. Да и зачем ему перебираться в город, участвовать в войнах, сражаться за князя? Пусть даже за справедливого, мудрого и доброго князя.
Когда парень вышел из гридницы, Иван указал боярину на лавку:
– Садись, Олекса Ратшич. В ногах правды нет.
Тот грузно уселся, умостил саблю между коленей.
– Что скажешь, Олекса Ратшич? Что посоветуешь?
– Да что советовать? Странно все это… Велел бы я, Иван Данилович, франкского посла кликнуть, Жихаря. Пускай он поведает все начистоту.
– А надо ли? Вдруг он только на словах такой добрый, а на деле и вашим, и нашим. Перед нами мелким бисером сыплется, а за нашей спиной с Михайлой Тверским сговаривается?
– Этот? – поднял кустистые брови боярин. – Этот может. Не люблю я этих немцев да франков. Хитрые они. С подвывертом. Уж на что ордынцы лукавы – в глаза улыбаются, а за спиной ножик вострят. Но эти!
– Он божился и крест целовал, что сокровища будут морем доставлены. Что Орден Храма снарядил восемнадцать набойных насадов[45], загрузил их во франкском порту и пустил через Варяжское море… – Князь рассуждал вслух, загибая пальцы. – Что прибудут они в Великий Новгород, а нам их надлежит встретить. Потому и брат мой, Юрий, в Новгород отправился с сильной дружиной. И что я теперь узнаю? Что обоз франкский идет сухопутной дорогой через Римскую империю. И Михаилу то ведомо. Да не просто ведомо, а он решился обоз перехватить. Или не перехватить? Может, рыцари Храма те подводы прямиком в Тверь и ведут? Может, ждут их там с распростертыми объятиями? И мы ждем. И во Владимире ждут, и в Рязани… А еще, быть может, в Кракове ждут и в Вильно? В Буде и в Сучаве?[46] Где еще ждут? Может, братья их по Христовому служению в Кенигсберге или Риге? А рыцари все приглядываются: где им больший почет и уважение окажут? А? Что думаешь?
– Рыцари эти… – почесал затылок Олекса. – Рыцари эти хитрецы известные. Кафолики, что с них взять? – Он чуть не сплюнул. – Но все яйца в одну корзину не сложат, как Бог свят! С них станется всем наобещать… Но ведь и мы не пальцем деланные, а, князь-батюшка?
– На каждую хитрую задницу… – задумчиво проговорил Иван Данилович, – свой подход найдется. – Он вдруг пристукнул кулаком по колену. – Надобно нам тверичей упредить! Собирай, Олекса Ратшич отряд! Небольшой. Десятка полтора бойцов, но чтоб таких! Ну, ты меня понимаешь!
– Сам бы поехал, князь-батюшка…
– А вот об этом и думать забудь. Москву нам тоже оставлять нельзя. Давно ли Михаил Тверской войной на нас ходил? Я своего дядьку[47] хорошо знаю. Не отступится, пока не добьется, чего хочет. Так что нам настороже сидеть надобно. И мечи со стрелами наготове держать. А ты, Олекса Ратшич, вот что! Отправляй Емельяна своего старшим над дружинниками.
– Емельяна?
– Ну да!
– Горяч он не в меру. Да безрассуден. Как бы все дело нам не испортил.
– Вот и приложит свою горячность куда следует. Пускай сабелькой помашет, вместо того чтобы честных горожан плетью охаживать. А чтобы дров не наломал, Любомира с ним отправишь. И остальных подберешь, чтоб надежные были.
Боярин задумался.
– Что пригорюнился, Олекса Ратшич? – усмехнулся князь. – Это я Емельяну не наказание назначаю, а честью одариваю.
– Да неужто ты думаешь, Иван Данилович, что я за сына переживаю? Его давно надо было к серьезному делу пристроить. Тогда бы и дурью не маялся. Я думаю, не пригласить ли паренька этого, Никиту?
– Никиту? А позови. Дружба у них с Емельяном вряд ли выйдет, но, когда начнут друг перед дружкой выделываться, многого достигнут.
– Так я пойду?
– Иди, готовь дружинников, коней… Десять дней даю тебе на сборы.
Боярин встал, поклонился и вышел.
А московский князь Иван Данилович, которого народ впоследствии назовет Калитою за рачительность государственную, еще долго сидел, подперев бороду кулаками, и глядел на догорающую лучину. Сидел и думал о великой ответственности, которую они с братом приняли из рук отца своего; и о грядущих испытаниях, о завистниках, окруживших Московское княжество со всех сторон, и верных сподвижниках, готовых подпереть плечом и прикрыть спину; и о простых людях, каким вроде бы и дела нет до забот княжеских, а вот находят в себе желание бросить все и отправить ученика в далекий город предупреждать о чужих замыслах. Сидел и думал, пока не погасла лучина, и последний уголек не упал, шипя, в миску с водой.
Глава шестая
13 октября 1307 года от Рождества Христова
Париж, Франция
Стылой и сырой ночью, перед рассветом осеннего дня по мосту Нотр-Дам, что связывал остров Ситэ с южной частью Парижа, прогремели копыта многих десятков лошадей. Следом за ними протопали тяжелые башмаки королевских лучников и еще нескольких сотен человек, вооруженных алебардами и короткими мечами. Путь их лежал к недавно достроенному и обжитому замку Тампль, чья мрачная громада просвечивала сквозь туман, нависая над двухэтажным домами горожан.
Ехавший в голове колонны на спокойном вороном мерине Гийом де Ногарэ, хранитель печати Французского королевства, не мог сдержать улыбки на костистом лице. Наконец-то гнусной деятельности рыцарей Храма будет положен конец. О! Канцлер мог по праву гордиться блестяще задуманным и исполненным планом. Его величество, король Филипп, дал ясное и четкое задание: Орден бедных рыцарей Иисуса из Храма Соломона должен перестать существовать. Слишком много власти забрали гордые и самолюбивые магистры и комтуры, слишком высокомерно вели себя братья-рыцари. И это после неудач в Палестине, когда все завоевания предков, все свершения вековых трудов крестоносцев со всей Европы были бездарно утрачены. Его величество Филиппа особенно бесило, что его дед, Людовик Святой, приложивший так много усилий в борьбе за Гроб Господень, не дождался настоящей помощи от рыцарей Храма. Ну разве что выкупили его из мусульманского плена. И то в этом поступке легче было разглядеть попытку унизить французского монарха, чем подлинное желание спасти его. А потом, страдая в Тунисе, Людовик так и не дождался внятного ответа от Великого магистра и умер от заразной хвори.
А богатство Ордена, просто неприличное, на взгляд большинства придворных короля Франции, вызывало злость и у самого Гийома де Ногарэ. Несметные сокровища, награбленные на Востоке…
Конечно! Если бы рыцари уделяли больше времени воинскому искусству и сражениям, они, возможно бы, дольше удерживали Арсуф и Яффу, Антиохию и Триполи. Но они отдали эти города, а следом, к вящему торжеству проклятых сарацинов, Иерусалим и Акру. Зато храмовники увлеклись стяжательством. Думали лишь о своих прибылях, позабыв, для чего создавался Орден. Перестали защищать паломников, отстаивать завоевания христианской веры на Востоке. Пожалели золота Салах ад-Дину для выкупа христианских пленников, когда свыше шестнадцати тысяч иерусалимских христиан были проданы в рабство в Багдад, Басру, Тебриз.
В итоге рыцари Храма вернулись в Европу пощипанными, утратившими боевой пыл и задор, зато безмерно богатыми. Тысяча консисторий, разбросанных по землям Англии, Франции, Португалии, Испании, Фландрии, Священной Римской империи, Ломбардии, Романьи, Тосканы, обеим Сицилиям… Огромные земельные владения – свыше десяти тысяч мануариев[48]. Неслыханные суммы под залог. И ведь как хитрецы изловчились избежать обвинений в ростовщичестве! Указывали в расписках не размер займа, а сумму, оговоренную заранее для возврата. Брали в залог земли заемщиков и присваивали все доходы от бенефиция[49].
Но поскольку деньги нужны всем, от ремесленника до монарха, поток желающих воспользоваться услугами храмовников не иссякал.
Да что говорить? Сам король Франции не избежал сей печальной участи. Казначей Тампля выдал ему просто головокружительную денежную сумму. Да и как откажешь королю? Даже мысленно Гийом де Ногарэ не мог заставить себя назвать точное число. Нынешний Великий магистр, Жак де Моле, узнав об этом, пришел в ярость, прогнал прочь с глаз провинившегося казначея, а после несколько раз намекал Филиппу Красивому о необходимости платить по счетам.
Ничего… Сегодня и состоится расплата.
Хранитель печати оскалился, предвкушая потеху. Божий промысел неисповедим – ну не чудо ли, что именно ему, внуку гонимого крестоносцами катара[50], доведется положить конец величию одного из самых мощных Орденов рыцарей-монахов? Ведь именно святой Бернар Клервоский, покровитель храмовников, приложил немало усилий для искоренения катарской ереси…
Его величество давно задумал раз и навсегда покончить с Орденом Храма. Еще в начале октября тысяча триста седьмого года от Рождества Христова во все города Франции были разосланы запечатанные приказы короля с пометкой «вскрыть двенадцатого октября». В них предписывалось одновременно, в пятницу тринадцатого октября, арестовать и бросить в застенки всех тамплиеров, чьи консистории находились во Франции. Загодя получено одобрение Папы Римского Климента Пятого и Святой Инквизиции.
Ни один храмовник не должен ускользнуть. Шутить с ними нельзя. Как нельзя дразнить обложенного медведя прежде, чем на хищника не набросят крепкие сети, не спутают лапы веревками.
А на его, Гийома де Ногарэ, долю выпала самая ответственная и почетная миссия – захватить врасплох всю верхушку Ордена. Великий магистр сам влез в расставленные на него силки. То ли поддался величайшей гордыне, уверившись в почтении, которое внушает одно лишь имя Ордена Храма всем правителям Европы, что, в общем-то, немудрено, учитывая военную мощь и богатство тамплиеров, то ли поверил королю Франции, который внешне проявлял уважение и даже почтение, не забывая благодарить рыцарей Храма за оказанную некогда помощь.
Что ж, не важно, что послужило причиной старческого слабоумия де Моле – непомерная гордыня или излишняя доверчивость. Важно лишь то, что он здесь, совсем рядом. И для того, чтобы он, Гийом де Ногарэ, хранитель печати, второй человек во Франции после Филиппа Четвертого, смог исполнить волю монарха, совпадающую с его собственными чаяниями, осталась лишь самая малость…
Вот и ворота Тампля!
Ногарэ дал знак капитану лучников, Алену де Парейлю, как всегда спокойному и невозмутимому, обождать вместе со своими людьми чуть в стороне. Сам же канцлер спешился, бросив поводья оруженосцу, подошел к дубовым, окованным сталью створкам и несколько раз ударил кулаком. Подождал. Постучал еще три раза, с большими промежутками.
Мгновения ожидания тянулись долго. Стылый туман с Сены капельками оседал на волосах и одежде. Дважды ладонь хранителя печати опускалась на рукоять кинжала, а взгляд настороженно метался между воротами и замершими в готовности лучниками. Наконец по ту сторону ограды скрипнул засов. Выглянувший в образовавшуюся щель рыцарь не носил обычной для храмовников одежды с крестом, но тело его защищала кольчуга с капюшоном-койфом[51], пояс оттягивал тяжелый меч.
– А, это вы, мессир Ногарэ, – проговорил он хриплым голосом, вздыхая с видимым облегчением. – Я уже заждался…
– Мы пришли, как и было условлено! – отрывисто бросил Гийом. – Делайте свое дело, мессир Жерар де Виллье, а мы сделаем свое.
Тамплиер нахмурился. По его лицу пробежала судорога, свидетельствующая о внутренней борьбе. Пальцы сжались в кулаки. Но рыцарь нашел в себе силы сдержаться и отступить в сторону с легким поклоном:
– Я свое дело сделал. Вход свободен.
По его отмашке створки ворот медленно поползли, распахиваясь во всю ширь. Четверо одетых как для сражения братьев-рыцарей застыли по обе стороны прохода.
«Сержанты, – отметил для себя Ногарэ. – Доспехи бедноваты, да и лица далеки от благородства. А что еще можно ждать от повторяющих поступок Иуды?»
Жерар де Виллье предательством своих братьев и командиров покупал жизнь и свободу. Что двигало сержантами, которых он завербовал себе в помощники? Слепая преданность прецептору? Жажда наживы? Личные обиды на Великого магистра и его приближенных?
