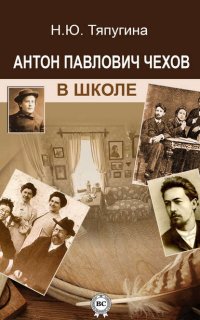Читать онлайн Романы Ф. М. Достоевского 1860-х годов: «Преступление и наказание» и «Идиот» бесплатно
- Все книги автора: Н. Ю Тяпугина
Романы Ф. М. Достоевского 1860-х годов: «Преступление и наказание» и «Идиот»
Предисловие
Жизненный путь Федора Михайловича Достоевского уникален не только по творческим результатам, обессмертившим его имя, но и по выработанному им руслу духовных поисков, по исключительно высокой цене, заплаченной за прозрение.
Судьба этого русского писателя удивительна еще и потому, что его духовные искания в своих существеннейших чертах отражают развитие русской философской и общественной мысли второй половины XIX века и во многом определяют ее направление в последующих веках, причем не только в России. Катастрофичность судьбы Достоевского сродни российским историческим катаклизмам. Что же давало силы этому русскому мученику каждый раз начинать новый путь? Какие аргументы зрели в его душе, когда он оказывался в очередном водовороте идей и мнений? Как осуществлялся их отбор в ситуации абсолютной открытости самым острым вопросам жизни? Как складывалась копилка бесценного опыта, созидался запас незаёмной мудрости, где все векселя оплачены по самому высокому счету?
Вот об этом и хочется поразмышлять над страницами его романов «Преступление и наказание» и «Идиот».
Ф. М. Достоевского интересует личность, взятая в важнейший, переломный момент жизни, когда в ней обнажаются темные, стихийные стороны и, одновременно, открываются вершины духовности.
Герой Достоевского – это борец, отстаивающий свою волю в борьбе с диктатом нравственного долга и совести, в испытании пределов добра и зла. На героев Достоевского, как из проклятого рога изобилия, сыплются разного рода трагические неожиданности. Сердце у них «стучит сильней, сильней, сильней». Они живут неимоверно напряженной, ускоренной, импульсивной жизнью, с каждым движением устремляясь либо к бездне и катастрофе, либо к очищению и «восстановлению».
Герой Достоевского «являет свое своеволие» в попытке «мысль разрешить». Он человек думающий, экспериментирующий, испытывающий свою идею в диалогах с другими персонажами, укрепляясь в ней или подвергая ее сомнению. В диалогах у Достоевского сосредоточена вся сила его художественного изображения. Именно там проходит нерв его идеологических романов. Голос каждого героя важен. И все они, сливаясь воедино, образуют мощную романную полифонию. Это, конечно, не означает того, что голос самого автора неразличим, что он теряется в сложном многоголосии идей. Отнюдь. Голос автора, его позиция – во всем: в расстановке сил, в построении конфликта, в той интонации, с которой он повествует о своих непростых героях. Она в изумительных по глубине и точности художественных деталях. Вот почему произведения Ф. М. Достоевского требуют медленного, внимательного чтения, полного погружения в художественный мир автора. Последуем же за ним.
Глава I. Читаем вместе «Преступление и наказание»
Фёдор Михайлович Достоевский – писатель удивительный. В том прямом смысле, что и сегодня он удивляет нас смелостью своей мысли, глубиной вопросов, обращенных к человеку: кто такой человек есть? Для чего он существует? Что питает или отравляет его душу? Какой смысл в испытаниях, приходящихся на его земной путь и как их достойно вынести?
Эти и множество других, «последних», вопросов возникают и сегодня при чтении произведений Достоевского.
«Преступление и наказание» – один из самых острых, самых пронзительных романов Достоевского, где эти вопросы о сути человеческого бытия решаются в момент «излома», в ситуации кризиса, проверяя на подлинность систему нравственных ценностей, которая была выработана человечеством. И сейчас, в самом начале века ХХI, когда человеческая жизнь чудовищно обесценилась, когда вновь проверку на подлинность проходит древнейшая библейская заповедь «не убий», давайте вместе проследим за развитием авторской мысли, вникнем в систему художественных доказательств, задумаемся над словом Достоевского.
История создания романа
Замысел романа зародился у Ф. М. Достоевского ещё на каторге. В письме к брату Михаилу Михайловичу от 9 декабря 1859 года Достоевский делится своими планами: «В декабре я начну роман… Не помнишь ли, я тебе говорил про одну и с п о в е д ь – роман, который я хотел писать после всех, говоря, что ещё самому надо пережить. На днях я совершенно решил писать его немедля… Все сердце мое с кровью положится в этот роман. Я задумал его в каторге, лежа на нарах, в тяжелую минуту грусти и саморазложения…»[1]
Однако должно было пройти 6 лет, прежде чем замысел обрел четкие очертания. Этому во многом способствовали обстоятельства жизни писателя. Испытывая крайнюю нужду в деньгах, Достоевский в письме к издателю «Отечественных записок» А. А. Краевскому просит денег для работы над романом «Пьяненькие», излагая его содержание в самых общих чертах: он «будет в связи с теперешним вопросом о пьянстве. Разбирается не только вопрос, но представляются и все его разветвления, преимущественно картины семейств, воспитание детей в этой обстановке и проч. и проч.» (ХХVIII, кн. 2.С. 127–128). Но издатель отказывает Достоевскому в авансе. И тогда 2 июля 1865 года писатель вынужден заключить настоящий кабальный договор с другим издателем – Ф. Т. Стелловским. За три тысячи рублей Достоевский продал Стелловскому право на издание своего трехтомника собрания сочинений, да ещё обязывался написать для него новый роман объемом не менее 10 листов к 1 ноября 1866 года. При этом в договоре специально оговаривалось это условие. И если бы писатель его не выполнил, то на 9 лет все его авторские права на все литературные произведения перешли бы в полное владение Стелловского.
И тем не менее Достоевский пошел на эти условия, чтобы выплатить самые неотложные долги и бежать от кредиторов за границу, чтобы там спокойно поработать над романом, приобретающим в его сознании всё более четкие контуры. Оставшиеся деньги должны были обеспечить его творческую свободу. Но… Достоевский был страстный, увлекающийся человек. И в Вистбадене за 5 дней он проигрывает в рулетку всё, включая карманные часы. И оказывается за границей один, без денег, в плену самой отчаянной нужды. На письма о помощи откликается только И. С. Тургенев, отправивший ему 50 талеров. Достоевского они не спасают. Ситуация скатывается к катастрофе, которую Достоевский документально отразил в письме к А. П. Сусловой от 10/22 августа 1865 года: «Рано утром мне объявили в отеле, что мне не приказано давать ни обеда, ни чаю, ни кофею. Я пришел объясниться, и толстый немец-хозяин объявил мне, что я не «заслужил» обеда и что он будет мне присылать только чай. Итак, со вчерашнего дня я не обедаю и питаюсь только чаем… Нет выше преступления у немца, как быть без денег и в срок не заплатить». Через два дня Достоевского лишают света: «Скверно то, что меня притесняют и иногда отказывают в свечке по вечерам, в случае если остался от вчерашнего дня хоть крошечный огарочек».
Вот в такой обстановке, оставив первоначальный замысел «Пьяненьких», который потом вольется в роман «Преступление и наказание» в виде сюжетной линии о семействе Мармеладовых, Достоевский начинает работу над романом, с которым связывает большие надежды.
Подробный план нового произведения писатель излагает в письме к издателю «Русского вестника» М. Н. Каткову: «Это психологический отчет одного преступления. Действие современное, в нынешнем году. Молодой человек, исключенный из студентов университета, мещанин по происхождению и живущий в крайней бедности, по легкомыслию, по шаткости в понятиях, поддавшись некоторым странным, «недоконченным» идеям, которые носятся в воздухе, решил разом выйти из скверного своего положения. Он решился убить одну старуху, титулярную советницу, дающую деньги на проценты. Старуха глупа, глуха, больна, жадна,…зла и заедает чужой век, мучая у себя в работницах свою младшую сестру. «Она никуда не годна», «для чего она живет?», «полезна ли она хоть кому-нибудь?» и т. д. – эти вопросы сбивают с толку молодого человека. Он решает убить ее, обобрать, с тем, чтобы сделать счастливою свою мать, живущую в уезде, избавить сестру, живущую в компаньонках у одних помещиков, от сластолюбивых притязаний главы этого помещичьего семейства – притязаний, грозящих ей гибелью,…и потом всю жизнь быть честным, твердым, неуклонным в исполнении «гуманного долга к человечеству» – чем уже, конечно, «загладится преступление», если только можно назвать преступлением этот поступок над старухой глухой, глупой, злой и больной, которая сама не знает, для чего живет на свете, и которая через месяц, может быть, сама собой померла бы.
…Почти месяц он проводит после того до окончательной катастрофы, никаких на него подозрений нет и не может быть. Тут-то и развертывается весь психологический процесс преступления. Неразрешимые вопросы восстают перед убийцею, неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце. Божия правда, земной закон берет свое, и он кончает тем, что принужден сам на себя донести. Принужден, чтобы хотя погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям; чувство разомкнутости и разъединенности с человечеством, которое он ощутил тотчас по совершении преступления, замучило его. Закон правды и человеческая природа взяли свое, убили убеждения, даже без сопро[тивления]. Преступник сам решает принять муки, чтобы искупить свое дело» (ХХVIII, кн. 2 136–137).
Катков принял предложение Достоевского, и теперь работа над романом и его публикация в журнале протекают одновременно. Первая часть «Преступления и наказания» появилась уже в январском (1866) номере журнала и вызвала большой интерес у читателей. В апреле 1866, когда были опубликованы три части, Достоевский пишет священнику И. Янышеву: «Надо заметить, что роман мой удался чрезвычайно и поднял мою репутацию как писателя. Вся моя будущность в том, чтобы кончить его хорошо». На лето 1866 у писателя были самые «эксцентрические» планы. Дело в том, что Стелловскому он обязан был представить большой неизданный роман. Между тем, «Преступление и наказание» еще не окончено. И спешить с ним нельзя, ибо тут – «будущность». Что же делать?
«Я хочу сделать небывалую и эксцентрическую вещь, – писал Достоевский в июле 1866 года, – написать в 4 месяца 30 печатных листов, в двух разных романах, из которых один буду писать утром, а другой вечером, и кончить к сроку… До сих пор мне вот такие эксцентрические и чрезвычайные вещи даже нравятся. Не гожусь я в разряд солидно живущих людей… Я убежден, что ни единый из литераторов наших, бывших и живущих, не писал под такими условиями, под которыми я постоянно пишу».
Но лето закончилось. До срока оставался один месяц, а к роману для Стелловского Достоевский ещё и не приступал. Шла работа над 5 частью «Преступления и наказания». И тогда друзья посоветовали ему обратиться к помощи стенографистки. Директор курсов стенографии Ольхин порекомендовал свою лучшую ученицу. Ею оказалась Анна Григорьевна Сниткина, будущая жена и верный друг писателя. Ей 4 октября 1866 года он и начал диктовать роман «Игрок» для Стелловского, а когда 31 октября эта работа была закончена, Достоевский вновь вернулся к «Преступлению и наказанию». Шестая и последняя часть этого романа была написана в ноябре.
В 1866 году роман был закончен.
«Человек есть тайна»
Во всех произведениях Достоевского в центре находится человек, личность. Именно тайну личности Раскольникова и пытается разрешить писатель. Кто же он такой, Родион Романович Раскольников, недоучившийся студент юридического отделения? Как он живёт? О чём размышляет? Что волнует его? Писатель не спешит приподнять завесу тайны над ним, как, впрочем, и над всеми остальными героями.
А почему, собственно, тайна? Потому что именно так понимал человека, любого человека, Ф. М. Достоевский? В письме к брату он четко сформулировал своё творческое кредо: «Человек есть тайна. Её надо разгадать, ежели будешь её разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». Тайна стимулирует работу мысли, вырабатывает умение соединять причину и следствие. От читателя требуется способность к истолкованию противоречий, которых в романе, как и в самой жизни, великое множество. Что же из себя представляют эти противоречия? Ну, например, те, что содержатся в портретах убийцы и его жертвы. В самом деле, писатель как будто нарочно нас путает. Раскольников выглядит вполне привлекательно: «Кстати, он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-русый, ростом выше среднего, тонок и строен».[3]
Кажется, что автор стремится вызвать у нас сочувствие к нищему студенту: «Он был затравлен бедностью» (5); «он очень слаб: второй день как уж он почти совсем ничего не ел» (6); «он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу» (7).
То, что испытывает нищий, с полным знанием дела, почти торжественно формулирует Мармеладов, тоже, как и Раскольников, «бывший», только не студент, а чиновник: «Бедность не порок, это истина… но… нищета… – порок-с. В бедности вы ещё сохраняете свое благородство врождённых чувств, в нищете же никогда и никто. За нищету даже и не палкой выгоняют, а метлой выметают из компании человеческой, чтобы тем оскорбительнее было; и справедливо, ибо в нищете я первый сам готов оскорблять себя» (15). Воистину – «униженные и оскорбленные»…
Между тем портрет жертвы, старухи-процентщицы, вызывает у нас почти отвращение: «Это была крошечная, сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом и простоволосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы её были жирно смазаны маслом. На её тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпьё, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрепанная и пожелтелая меховая кацавейка. Старушонка поминутно кашляла и кряхтела» (8–9). К тому же и характер у неё самого гнусного свойства: было известно, что свою сестру Лизавету эта «маленькая и гаденькая» старушонка «бьёт поминутно и держит в совершенном порабощении, как маленького ребёнка», в то время как Лизавета «работала на сестру день и ночь, была в доме вместо кухарки и прачки», и вообще была существом тихим, кротким, безответным. Что, впрочем, не спасло и её от топора Раскольникова.
Петербург в романе
Условия жизни Раскольникова выписаны так отчетливо, что, кажется, именно они могли бы стать главной причиной его преступления. Место действия – Петербург середины 60-х годов, город не только «самый фантастический», но и самый прозаический, где с ужасом бреда соседствует не меньший ужас действительности.
Здесь все реально и призрачно одновременно. Здесь «гранит, который разлетается в туман, и туман, который сгущается в гранит» (Д. С. Мережковский). В изображении Достоевского он выглядит как душная вонючая клоака, создавая в романе «отвратительный и грустный колорит». Неслучайно приехавшая в Петербург мать Раскольникова, Пульхерия Александровна, сразу установила связь между психическим неблагополучием сына и жизненной средой, его окружающей: «…пусть пройдётся, – говорит она о сыне, – воздухом хоть подышит… ужас у него душно… а где тут воздухом-то дышать? Здесь и на улицах, как в комнатах без форточек. Господи, что за город!..»
Впрочем, и здесь всё не так однозначно.
Петербург – самый мифологизированный город. Он – символ блеска, величия, богатства, он – зримая материализация фантастической идеи Петра I о возможности «окна в Европу», распахнутого с гиблых русских топей и болот.
Достоевский в романе создает не столько буквальный, сколько символический, духовный пейзаж Петербурга, накрепко связанный с личностью и идеей Раскольникова.
Вот герой в ясный летний день стоит на Николаевском мосту и пристально вглядывается в «эту действительно великолепную панораму». И что же? – «Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина…» (110)
От Раскольникова тоже веет холодом. Он так же угрюм и загадочен, как и город, в котором сформировалась его идея. Как и в Петербурге, соединяются несовместимые стороны в личности Раскольникова. Царственная Нева, золото Исаакиевского собора, гранит мостовых – с одной стороны. А с другой – Сенная площадь, где в безобразной толкучке представлены, кажется, все человеческие пороки и несчастья.
И у Раскольникова романтическая внешность мечтателя и мыслителя соединяется с самым грязным «подпольем» – мыслями о грабеже и убийстве. «Кажется, что ядовитые испарения большого города, зараженное и лихорадочное его дыхание проникли в мозг нищего студента и породили в нём мысль об убийстве».[4] «Безобразная мечта» здесь сменяется безобразной «пробой» и наоборот.
Другой пример материализации духа Раскольникова – его жилище. Теснота, убогость жилья рождают у героя тоску и подавленность. Цветовая гамма лишь подчёркивает ощущение безысходности и надрыва. Вот почему на его лице почти постоянно мы наблюдаем гримасу. Не успев проснуться, он, уже «желчный, раздражительный, злой», с ненавистью смотрит на свою каморку. И было от чего прийти в дурное расположение духа. «Это была крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, имевшая самый жалкий вид со своими желтенькими, пыльными и всюду отставшими от стены обоями, и до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку (а мы помним, что Раскольников был «ростом выше среднего» – Н.Т.) становилось в ней жутко, и все казалось, что вот-вот стукнешься головой о потолок» (29).
Мебель и вещи вполне соответствовали помещению: они тоже были ветхими, изломанными, грязными. «Трудно было более опуститься и обне-ряшиться», – скажет писатель о Раскольникове, но скажет это с намеком на то, что какие-то другие думы занимали его героя, какая-то мономания властно захватила и увела его от мыслей о приличном виде и пристойном образе жизни.
Подчёркивается отстраненность героя от быта: спит он на неуклюжей большой софе, обитой ситцем, обыкновенно «не раздеваясь, без простыни, покрываясь своим старым, ветхим, студенческим пальто» (29). Если верно утверждение, что жильё – это ландшафт души его хозяина, – то тогда очевидно, что материальная оболочка «идеи» Раскольникова – эта желтая пыльная каморка, этот удушливый, обшарпанный «гроб», – во многом объясняют причину того, почему в голове человека умного и образованного родилась идея дикая и жестокая. Оболочка не только вполне соответствует «содержимому», но и его обусловливает. Хотя, как и всегда в художественном мире Достоевского, эта связь человека и обстоятельств носит характер не принудительный, не абсолютный.
Тем более, когда герой – личность сильная, когда живет он по преимуществу в сфере самосознания, когда фактически обратился в бесплотный дух: почти ничего не ест и не пьёт. Ему, по большому счёту, и деньги-то не очень нужны: он бескорыстен.
Ему не нужно ничего и никого, кроме возможности разобраться со своей идеей, додумать её до конца и решиться на шаг.
Причины преступления
Эта ужасающая, унижающая человеческое достоинство бедность, рождающая «желчь и конвульсии» в душе Раскольникова, вполне могла стать причиной его преступления. Именно она, кстати, первой приходит в голову Соне: «Ты был голоден! ты… чтобы матери помочь? Да?» – И слышит в ответ: «Нет, Соня, нет,… не был я так голоден… я действительно хотел помочь матери, но… и это не совсем верно…» (391)
Так в чем же дело? Что же было причиной преступления Раскольникова? Что толкнуло его, умного, образованного юношу, на кровавое убийство, от описания которого кровь стынет в жилах? – Их несколько, о них говорит сам Раскольников, говорят и другие герои.
Следователь Порфирий Петрович: «Тут дело фантастическое, мрачное, дело современное, нашего времени случай-с, когда помутилось сердце человеческое; когда цитуется фраза, что кровь «освежает»; когда вся жизнь проповедуется в комфорте. Тут книжные мечты-с, тут теоретически раздраженное сердце; тут видна решимость на первый шаг, но решимость особого рода, – решился, да как с горы упал или с колокольни слетел, да и на преступление-то словно не своими ногами пришел» (430).
То есть, получается, виновата современная «шаткость воззрений», приведшая к тому, что «недоконченные идеи», носящиеся в воздухе, овладели молодым человеком и толкнули его к преступлению.
Какие же идеи носились в России в 1860-е годы? Одну из них четко, хотя и не без иронии сформулировал друг Раскольникова – Разумихин: «…преступление есть протест против ненормальности социального устройства – и только, и ничего больше, и никаких причин больше не допускается, – и ничего!» (241)
Ужасающая бедность, невозможность свести концы с концами и в самом деле рождает мысль о социальной справедливости и возмездии. В особенности, когда речь идет о страдании невинных детей. Для Раскольникова вопрос стоит именно так: «Лужину ли жить и делать мерзости, или умирать Катерине Ивановне, а её детям погибать на улице?»
Может ли человек в случае, когда жизнь явно несправедлива к нему, разрешить себе бунт, убийство по «совести»?
Для Сони, истинно верующей в Бога, ответ ясен: «Да ведь я Божьего промысла знать не могу… И к чему вы спрашиваете, чего нельзя спрашивать? К чему такие пустые вопросы? Как может случиться, чтоб это от моего решения зависело? И кто меня тут судьёй поставил: кому жить, кому не жить? (с. 386)
А вот «отошедший от Бога» Раскольников считает, что вправе был лишить старуху-процентщицу жизни. «Я вошь убил», – скажет он, ощущая себя просто общественным санитаром. «Я убил гадкую, зловредную вошь, старушонку процентщицу, никому не нужную, которую убить сорок грехов простят, которая из бедных сок высасывала, и это преступление? Не думаю я о нем и смывать его не думаю» (491).
И так считал не один Родион Романович. Накануне преступления, в трактире, в случайно услышанном разговоре офицера со студентом Раскольников обнаружил ту же самую «арифметическую» логику преступления. «С одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная… С другой стороны, молодые, свежие силы, пропадающие даром без поддержки, и это тысячами, и это всюду! Сто, тысячу добрых дел и начинаний, которые можно устроить и поправить на старухины деньги, обреченные в монастырь!..Убей её и возьми ее деньги, с тем, чтобы с их помощью посвятить потом себя на служение всему человечеству и общему делу: как ты думаешь, не загладится ли одно, крошечное преступленьице тысячами добрых дел?…Одна смерть и сто жизней взамен – да ведь тут арифметика!» (65)
Так возникает идея утилитарной морали, выводящей поведение человека из принципа разумной пользы. Получается все очень логично: старуха «никому не полезна», смерть же её принесет облегчение многим: решит материальные проблемы бедного студента, успокоит его мать, спасет сестру Дуню от несчастного брака, даст возможность Раскольникову закончить образование и всю оставшуюся жизнь приносить добро людям.
Идея эта – не только русской принадлежности. И во Франции, в творчестве О. Бальзака, в его романе «Отец Горио», мы встречаем те же вопросы. Бальзаковский герой Растиньяк также озабочен тем, позволено ли человеку совершить малое злодеяние ради большого грядущего блага? Оправдывает ли благородная цель преступное средство?
Воистину – идея носилась в воздухе… Известно, что в журнале «Время» Достоевский периодически печатал материалы судебных процессов, которые считал знаковыми. К таковым он причислял дело Пьера Франсуа Лессенера, который свои преступления трактовал как мщение обществу, как наведение общественной справедливости, героическую готовность «идти противу всех». Достоевского интересовала не только «логика» преступлений, совершенных «жертвой общества», но и психология «мстителя».
Что же произошло с душой Раскольникова? Какие «трихины» заразили её? Как получилось, что юноша – надежда своей семьи – превратился в существо злобное, желчное, опасное? Идея, засевшая в голове Раскольникова, исказила его мировосприятие. Взгляд на жизнь искривился. Контрастным свидетельством тому – Разумихин, который тоже находился в сложном материальном положении, но оставался «необыкновенно весёлым и общительным парнем, добрым до простоты». Про него сказано: «Он мог квартировать хоть на крыше, терпеть адский голод и необыкновенный холод. Был он очень беден и решительно сам, один, содержал себя, добывая кой-какими работами деньги. Он знал бездну источников, где мог почерпнуть, разумеется, заработком» (Выделено нами – Н.Т.). Он тоже, как и Раскольников, вынужден оставить университет, но изо всех сил старается поправить свои обстоятельства, помогая при этом людям, ну, хоть тому же Раскольникову. Если Родион унижен бедностью и убогостью своего жилища, называя его «гробом», «сундуком» и «шкафом», то Разумихин со смехом именует комнатушку своего друга «морской каютой», смещая акцент в юмористическую плоскость.
Заметим, что сама фамилия Разумихина, как это часто бывает у Достоевского, несет в себе оценку личности героя: он человек рассудительный, разумный. Лужин, ошибаясь, называет его Рассудкиным. Свидригайлов говорит о нём: «Он малый, говорят, рассудительный (что и фамилия его показывает…)»
Да и в процитированном выше отрывке о том, что поправить своё положение Разумихин стремился, «разумеется, заработком», – ощутимо то смысловое постоянство, что сопровождает этот образ. Раскольников и по значению своей фамилии противоположен Разумихину. Здесь очевиден акцент на расколе, раскольниках, на таких личностных свойствах, как фанатизм, истовость, страстность в вопросах веры. Вот почему проницательный Порфирий Петрович так аттестует Раскольникова: «Я вас за кого почитаю? – … за одного из таких, которым хоть кишки вырезай, а он будет стоять да с улыбкой смотреть на мучителей, – если только веру иль Бога найдет» (434).
Раскол прошел через душу героя, отделив его прошлое от настоящего и будущего, разъединив его с людьми и миром. Преступление Раскольникова – это драма его личности. Ущербны его отношения с людьми, к которым он и до и после преступления испытывал «какое-то бесконечное, почти физическое отвращение». «Упорное злобное, ненавистное» чувство не позволило герою ощутить всей полноты жизни, всего многообразия человеческих отношений.
В этом смысле символичен эпизод, приключившийся с Раскольниковым на Николаевском мосту. Погруженный в свои думы, он чуть не попал под коляску, и кучер, который ему три или четыре раза кричал, в досаде хлестнул его по спине кнутом. Этот унизительный эпизод, вызвавший смех у окружающих, еще больше разозлил Раскольникова, который «злобно заскрежетал и защелкал зубами».
Он был так потрясен, что не сразу понял: кто-то сует ему в руки деньги. Это пожилая купчиха с дочерью, приняв его за нищего, подала ему милостыню: «Прими, батюшка, ради Христа». Этот трогательный двугривенный чуть позже Раскольников почти механически швырнет в воду, окончательно отрезав себя от всех и всего в этом мире.
Горд и самолюбив Раскольников. Прав Порфирий Петрович, «опасен этот подавленный, гордый энтузиазм в молодежи». Высказывая свое отношение к статье Раскольникова, – «статья ваша нелепа и фантастична» – следователь объяснит причину её появления возрастом бунтаря: «В ней мелькает такая искренность, в ней гордость юная и неподкупная, в ней смелость отчаяния» (427).
В самом деле, именно молодежь чаще всего попадает в плен таких идей и теорий, которые берутся разом разрешить все мировые проблемы. Именно молодым людям свойственно то нетерпение, которое торопит развязку, не размышляя о средствах, отдавая весь сердечный жар заманчивой цели. Трагический разрыв между благими намерениями и негодными средствами как в ловушку увлекает души горячие и неопытные.
Молодой возраст – еще одна причина преступления Раскольникова.
Вспомним, как потрясло Раскольникова письмо матери, полученное накануне принятия им окончательного решения. Как его залитое слезами лицо искривила страдальческая судорога. Очень хорошо понял он, что в его семье готовится для него очередная жертва, что сестра собирается пожертвовать собой ради его будущности. Гордый, умный, проницательный он сразу осознал, что стоит за предстоящим браком: «На Голгофу-то тяжело всходить». Допустить это он не вправе. Письмо матери требует от Раскольникова конкретных действий, оно – поворотный пункт в его судьбе.
Теория, «фантастическая идея», явилась вдруг не мечтой, а в каком-то новом, грозном и совсем незнакомом ещё виде, и он вдруг сам сознал это…»
Так преступление, жившее в сознании как отвлеченная идея, перетекает в плоскость практическую, начинает восприниматься Раскольниковым как неотложное решение его личных, семейных проблем. Не случайно позднее Раскольников в тоске воскликнет: «О, если бы я был один и никто не любил меня и сам бы я никого никогда не любил! И не было бы всего этого!» (493)
Это прекрасно понимает «темный двойник» Раскольникова – Свидригайлов, который, излагая Авдотье Романовне причины совершенного её братом преступления, перечисляет их со всей обстоятельностью.
Первая, собственно свидригайловская версия, была с гневом отвергнута Дуней: «Он их убил, чтобы ограбить…» Поверить в это невозможно. Далее Аркадий Иванович воспроизводит то, что подслушал под дверью из разговора Раскольникова с Соней: «Единичное злодейство позволительно, если главная цель хороша». Свидригайлов называет также «самолюбие непомерное», «раздражение от голода, от тесной квартиры, от рубища, от яркого сознания красоты своего социального положения, а вместе с тем положения сестры и матери» (465). В этом разговоре возникает и ещё одна – национальная причина происшедшего: «Русские люди вообще широкие люди»,…широкие, как и их земля, чрезвычайно склонны к фантастическому, беспорядочному; но беда быть широким без особенной гениальности» (465).
Эту идею Достоевский будет развивать и в других своих произведениях, в «Братьях Карамазовых» и в «Дневнике писателя»: «Широк русский человек. Я бы его сузил».
Что касается другого важнейшего понятия в этом объяснении – «фантастический», – то и оно является важнейшим в художественной системе Достоевского. В «Преступлении и наказании» идея Раскольникова есть «дикий и фантастический вопрос», его статья «О преступлении» названа Порфирием «нелепой и фантастичной». Раскольников «фантастичен» даже для своей матери.
Как верно заметила А. А. Жук, постепенно фантастичность начинает оформляться как некая национальная черта, которая роднит Раскольникова не только с «фантастическим душегубцем» Свидригайловым, но и с «желающим пострадать» Миколкой, который, по определению Порфирия, «сердце имеет; фантаст». И – как обобщение – вопрос Порфирия Петровича: «Что, не допускаете, что ли, чтоб из такого народа выходили люди фантастические?»
Так фантастичность становится синонимом внутренней подвижности, способности к перерождению. Эта щедрая плодовитость души – источник нравственного чуда. Свойство это в высшей степени было присуще самому Достоевскому: «Когда я вспоминаю его, – писал Н. Н. Страхов, – то меня поражает именно неистощимая подвижность его ума, неиссякающая плодовитость его души. В нем как будто не было ничего сложившегося, так обильно нарастали мысли и чувства, столько таилось неизвестного и непроявившегося под тем, что успело сказаться».[5]
А может быть, всё дело в банальном сумасшествии Раскольникова? Может, и правда, ум помрачился? Ведь именно этим объяснили на суде такую несообразность: убил, чтобы ограбить, а потом даже не поинтересовался содержимым кошелька, не только что не воспользовался им.
Заметим, что Достоевский явно иронизирует над «новейшей модной теорией временного умопомешательства». Впрочем, болезненное состояние души и в самом деле было отмечено и лечащим врачом Раскольникова, и его знакомыми. Вот почему и приговор был неожиданно мягким – восемь лет каторжных работ. Суд принял во внимание «несовершенно здравое состояние умственных способностей во время совершения преступления», «болезненную мономанию убийства и грабежа, без дальнейших целей и расчетов на выгоду» (505). «Впрочем, – скажет Достоевский, – все это было почти уже грубо…» Фактически на суде прозвучало то, что хотели от Раскольникова услышать, приняли во внимание то, что способны были уразуметь, вынесли приговор, который обычно в таких случаях выносили. Но случай-то особый.
«Идея» Раскольникова
Давайте тщательнее разберемся в причинах преступления. А для этого ещё и ещё раз обратимся к самой «идее» Раскольникова, оказавшей такое фатальное воздействие на его судьбу.
В первом разговоре с Порфирием Петровичем Раскольников сам пояснил основную мысль своей статьи, заинтересовавшей следователя в связи с убийством процентщицы и её сестры. Мысль и в самом деле неординарная. «Она именно состоит в том, что люди, по закону природы, разделяются вообще на два разряда: на низший (обыкновенных), то есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и собственно на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово» (246). При этом первые, т. е. обыкновенные люди, они же «твари дрожащие», должны жить по законам, существующим в обществе. Права преступать они не имеют, да им это и в голову не придет. Другое дело – люди необыкновенные, существа высшие, способные на открытия, на поступки, на новое слово. Они могут не думать о таких условностях, как законы, – не для них они писаны.
Кто крепок и силен умом и духом, тот над людьми и их законами властелин. А потому остается только сделать свой «дух» таким же «крепким» и «сильным», как и «ум». То есть победить свою нравственную природу, освободив её от вековых предрассудков и страхов, порожденных многочисленными «дрожащими тварями». И здесь нужна решимость первого шага: «проходя мимо всей этой нелепости», «взять просто-запросто всё за хвост и стряхнуть к черту!»
Именно так и поступает Раскольников. Главным в его преступлении было «узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу! Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или право имею…» (397)
И горестный вопрос Сони: «Убивать? Убивать-то право имеете?»
Раскольников задумался над тем, что любой новый закон, устанавливаемый в государстве Ликургом, Соломоном, Магометом, Наполеоном или кем-либо ещё, непременно нарушает закон предыдущий, чтимый обществом, и потому является преступлением перед ним. Но почему эти размышления вывели Раскольникова не просто к идее преступления, а именно к убийству, как самой тяжкой его разновидности?
«Твари дрожащие» от веку живут по этому закону – «не убий», они веруют в Бога, боятся небесной кары, мук ада и прочего. А что случится, если заповедь эта будет нарушена? Небеса упадут на землю? Светопреставление начнётся? А что если люди всё это только выдумали, и на самом деле человеку «все позволено?» На какой же заповеди можно окончательно в этом убедиться, как не на самой последней, самой крамольной? «Идея» Раскольникова даже не в том, что ему лично, «все позволено» – в этом-то он как раз и не уверен. Он говорит Соне: «Уж если я столько дней промучился: пошел ли бы Наполеон или нет? – так ведь уж ясно чувствовал, что я не Наполеон»… (397)
Раскольников проверяет сам принцип, он решает вопрос для человека вообще. И получается, что идея Раскольникова – это идея мировоззренческая, проверяющая на подлинность всю систему вековых нравственных ценностей, претендующая отменить христианские нормы бытия, поставив на их место новый абсолют – свободу от всего.
Надоела студенту «болтовня», захотелось, наконец, самому во всем до конца разобраться. Вот почему он абсолютно честен с Соней, когда признается ей: «Не для того, чтобы матери помочь, я убил – вздор! Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор! Я просто убил; для себя убил, для себя одного»… (397)
Убил и понял, что он, Родион Раскольников – не исключительная личность, не приспособлен он к роли «собственно человека». Но разочарован он в себе, а не в идее. Вот почему себя он называет «эстетической вошью», а идея и после убийства – его «вера и закон», то фундаментальное, что совершённое преступление отменить не в силах. Вот почему Раскольников и на каторге не раскаивается: «Совесть моя спокойна…»
Ужас в том, что его концепция бытия не поколеблена.
Как видим, под понятием «идея Раскольникова» сосуществует несколько, подчас взаимоисключающих друг друга теорий. Первая – убийство ради других. Преступник здесь не только палач, но и жертва, у него доброе сердце, он полон ошибочных, но благородных целей. Вторая – «идея Наполеона», она прямо противоположна первой. Убийство как преступление против божественного миропорядка. Преступник «от Бога отошел», он гордец и атеист, более всего ценящий власть. Достоевский в черновиках разрабатывал поочередно обе идеи. В окончательный текст романа вошел герой, соединивший в своем сознании трагическую раздвоенность обеих идей. Вот почему прав Разумихин, отметивший, как главную особенность Раскольникова, его раздвоенность: словно «два противоположных характера» в нем соединились.
Раскольников – трагический герой
Достоевский в центр внимания помещает все перипетии борьбы свободного духа Раскольникова. Он углубляется в первопричины поступков и решений своего героя. Анализирует и мотивирует каждый сделанный им выбор, следит за развитием его свободной воли. Ведь «без свободы нет человека. И всю свою диалектику о человеке и его судьбе Достоевский ведет как диалектику о судьбе свободы. Но путь свободы есть путь страдания. И этот путь страдания должен быть до конца пройден человеком».[6] Он и был до конца пройден Раскольниковым.
«Преступление и наказание» называют романом-трагедией (Вяч. Иванов). То есть сам тип трагической коллизии предопределяет случившуюся катастрофу. Такого рода коллизию точно определил В. Г. Белинский как «безусловное требование судьбою жертвы себе. Победи герой естественные влечения сердца в пользу нравственного закона – прости, счастие, простите, радости и обаяние жизни! Он мертвец посреди живущих… Последуй герой трагедии естественному влечению своего сердца – он преступник в собственных глазах, он жертва собственной совести, ибо сердце его есть почва, в которую глубоко вросли корни нравственного закона – не вырвать их, не разорвавши самого сердца, не заставивши его истечь кровью».[7]
И в самом деле, поистине трагичен герой Достоевского, который «тысячу раз… готов был отдать свое существование за идею, за надежду, даже за фантазию. Одного существования всегда мало ему» (512–513), но сам «выход» за пределы того, что «разрешено», неминуемо ввергает его в новую бездну вопросов, на которые, используя старые «арифметические» познания, ответить уже невозможно.
«Преступление и наказание» – это монотрагедия. Из сорока сцен романа Раскольников участвует в тридцати семи. Автор скрупулезно ведет счёт времени. Первая часть включает 3 дня, отведенных на подготовку и совершение преступления. Действие романа начинается в начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер. Заканчивается через две недели. Но время, как и место, в художественной системе Достоевского – категория особенная. Она тесно связана с психологическим состоянием героя и может вести себя вполне своевольно – то убыстряя, то замедляя ход, а может и вообще выпасть из болезненного сознания героя, что и происходит постоянно в последних пяти частях романа.
Героя раздирает на части дилемма, выводящая его за пределы традиционного образа жизни. Нищета, голод, гибель – вполне реальные угрозы. Как относиться к ним? С христианским смирением? – Он, отошедший от Бога, считает, что смирение и жертва делают гибель неотвратимой (убедительным аргументом для него здесь является судьба Мармеладовых и Сони). Разве человек не имеет права на жизнь? Что дороже: жизнь или нравственные принципы? «Давным-давно зародилась в нем эта теперешняя тоска, созрела, «сконцентрировалась, приняла форму ужасного, дикого и фантастического вопроса».
Так Раскольников, последовательно развивая эту мысль, вынес свою жизнь в сферу, где «дьявол с Богом берется». Так вопросы его личного существования обрели характер общечеловеческих.
Раскольников, безусловно, сильный человек, самое увлекательное для него – борьба с роком, балансирование на краю гибели. Он и борец с судьбой, и её послушное орудие. Заметим, что «идея» для него – это «колдовство, обаяние, наваждение», то, от чего отказаться, не в его власти.
Ведь вроде бы после пророческого сна накануне преступления, в котором видит Раскольников дикую сцену убийства лошади, он приходит в себя от «наваждения»: «Боже! – воскликнул он, – да неужели ж, и в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп… буду скользить по липкой, теплой крови, взламывать замок, красть и дрожать; прятаться, весь залитый кровью… с топором… Господи, неужели?»(60)
Ведь рос и воспитывался Раскольников в религиозной семье. «Вспомни, милый, – пишет ему мать, – как ещё в детстве своем, при жизни твоего отца, ты лепетал молитвы свои у меня на коленях и как мы все тогда были счастливы!» (40–41)
Про Бога, конечно, вспоминал Раскольников. Вот почему сразу после своего пророческого сна взмолился: «Господи!..покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой… мечты моей!» (60)
И сразу точно нарыв на сердце прорвался. Он ощутил свободу от логически безупречной, арифметически точной, но такой коварной идеи, которая на самом деле подвела его к пропасти, катастрофе, кровавому кошмару.
Но согласие с собой было недолгим. Потому что человек у Достоевского – это не только единовластный творец своей судьбы, но и жертва предопределения, судьбы, рока. Какие-то высшие силы переставляют его, как шахматную фигурку, на игровом поле жизни, создавая самые немыслимые комбинации. И у Раскольникова нет ответа на вопрос: «Зачем же такая важная, такая решительная для него и в то же время такая в высшей степени случайная встреча на Сенной (по которой даже и идти ему незачем) подошла как раз теперь к такому часу, к такой минуте в его жизни, именно к такому настроению его духа и к таким именно обстоятельствам, при которых только и могла она, эта встреча, произвести самое решительное и самое окончательное действие на всю судьбу его? Точно тут нарочно поджидала его! (61) Именно так расценил Раскольников случайно услышанную на Сенной информацию о том, что завтра, в седьмом часу, Лизаветы дома не будет, а следовательно, старуха будет дома одна.
Вот почему «первоначальное изумление его мало-помалу сменилось ужасом, как будто мороз прошел по спине его». Он уже точно знал смысл полученных от судьбы сведений, лишивших его разом рассудка и воли. Он понял, что «всё вдруг решено окончательно» (62).
Так Раскольников оказался пленником своего плана. И пусть в день предполагаемого убийства он неожиданно крепко заснет и почти проспит назначенное самому себе время, но все равно вмешается какая-то властная сила и явится в полной мере вся импульсивная мощь жизни, и он вдруг ясно сквозь сон услышит, как бьют часы, вдруг вскочит с дивана, вдруг вместо сна и отупения его охватит паническая суета, и Раскольников начнет действовать «почти совсем механически: как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с неестественною силой, без возражений» (70). Так же – «почти без усилия, почти машинально» (76) опустит он свой топор вначале на голову Алёны Ивановны, а затем и сестры её Лизаветы.
Путь к раскаянию
По сути, Раскольников оказался в двойном плену: в плену «идеи», которая приобретала над ним всё большую власть, и в плену жизни, которая тоже властно диктовала свои законы. А что же сам человек? Что зависит от его собственной воли? – Именно это и постигает Раскольников во всё последовавшее за преступлением время.
Он, как и другие герои Достоевского, бунтует, пытаясь своим дерзким своеволием, злобной исступленностью и страстной порывистостью вмешаться в ход событий, порушить предопределенность, которая, как в колесо машины, затащила его в мучительный психологический капкан.
Герои Достоевского хотят знать, чего они стоят. Вот почему они сознательно испытывают свои возможности. И творят свой свободный выбор, даже если цена за него ужасна, несоразмерна. Они знают вкус сраженья у «бездны мрачной на краю». Им знакомо мучительное наслажденье явиться и разорвать свою и чужую судьбу, как гнилую нитку. Проследим, каким путём ведет писатель своего героя к раскаянью.
Первое, что ощутил в себе после преступления Раскольников, – это чувство отъединённости от людей. «Всею силою ощущенья» он понял, что ему уже более нельзя обращаться к людям как ни в чем не бывало. Это мучительное переживание ещё более отделило героя от целого мира, к которому теперь он испытывал стойкое отвращение. «Ему гадки были все встречные, – гадки были их лица, походка, движения. Просто наплевал бы на кого-нибудь, укусил бы, кажется, если бы кто-нибудь с ним заговорил» (106–107).
Чувство ненависти заполнило душу Раскольникова, распространяясь и на самых дорогих ему людей – мать, сестру, Соню: «Мать, сестра, как любил я их. Отчего теперь я их ненавижу? Да, я их ненавижу, физически ненавижу, подле себя не могу выносить… (260)
Злоба его так сильна, что, кажется, он может убивать и дальше. «О, как я ненавижу теперь старушонку! Кажется бы, другой раз убил, если б очнулась!» (261) Ненависть живет в нем против Лужина, Свидригайлова, Порфирия. «…Может быть, он мог бы убить… По крайней мере, он чувствовал, что если не теперь, то впоследствии он в состоянии это сделать» (422–423).
Сердце Раскольникова устало. Существовать с таким грузом злобы и ненависти невозможно. И он решает покончить с этим, потому что «не хочет так жить» (148). Он еще знает, пойдет ли он признаваться или просто убьет себя сам, что для него, по сути, одно и то же. Но жизнь еще слишком держит его. «Как бы ни жить – только жить!..» Так в своих беспорядочных метаниях он оказывается в трактире, где встречает судебного исполнителя Заметова и вступает с ним в опаснейшее соревнование. Раскольников вновь испытывает судьбу. «Озноб, минутами, проходил по спине его», когда он фактически в деталях описывал Заметову и ход преступления, и место, где он спрятал украденные вещи. Делает он это цинично-гипотетически, в виде предположений о том, как бы он повел себя на месте преступника. И делает это дерзко, провокационно. Это была опасная игра. Но логика, разум, воля и здесь не подвели Раскольникова. В этом психологическом поединке он одерживает верх над Заметовым и выходит из трактира как с поля боя, «дрожа от какого-то дикого истерического ощущения, в котором между тем была часть нестерпимого наслаждения» (Выделено нами – Н.Т.) (158).
Впрочем, и это ощущение жило в нем недолго.
Герой бросает вызов року
Снова почти невольно он оказывается на мосту, мысли о спасительной смерти вновь овладевают им. Но «Шиллер в нем бунтует», как иронично заметил Свидригайлов: вода грязная, вид утопленника отвратителен, и студент брезгливо отходит от перил, бормоча про себя: «Нет, гадко… вода… не стоит!.. (с. 163) Решаясь, однако, всё побыстрее закончить, отправляется он в контору. Но почему-то ноги сами приносят его к тому роковому дому, где им была пролита человеческая кровь.
И опять герой демонстрирует провокационное поведение, от которого до полного разоблачения – один шаг. И здесь его спасает только полное самообладание, только циничная дерзость и воля.
Следующий этап – интеллектуальный поединок со следователем Порфирием Петровичем, где Раскольников толкует содержание своей статьи «О преступлении» и, по сути, раскрывает идейную основу своего убийства. Излагая свое понимание человечества и человека, обосновывая сакраментальное разделение людей на «обыкновенных» и «право имеющих», Раскольников в лоб получает прямые вопросы Порфирия: как отличить тех и других? К какому разряду относит себя сам Раскольников? Верует ли он в Бога? Не будет ли совесть беспокоить тех, «преступивших»?
И когда присутствовавший при разговоре Заметов прямо предположил: «Уж не Наполеон ли какой будущий и нашу Алену Ивановну на прошлой неделе топором укокошил?» – Раскольникову остается только, невероятным усилием воли сохранив присутствие духа, перевести разговор в официальное русло: можете доказать – доказывайте, надо узнать – вызывайте в участок по всей форме. В ситуации официального допроса он неуязвим. И в этой сцене Раскольников демонстрирует какую-то звериную хитрость, неслыханную дерзость и безотчетную волю к жизни. Однако ощущение, что круг замыкается, что опасность прошла совсем рядом, заставляет его по окончании разговора глубоко перевести дыхание. Пока пронесло…
И вдруг срыв. К Раскольникову приходит некий мещанин и тихим, но ясным и отчетливым голосом говорит ему: «Убивец». И это обвинение так действует на Раскольникова, что вновь погружает его в пучину сомнений. «И как смел я, зная себя, предчувствуя себя, брать топор и кровавиться…» «Я не человека убил, я принцип убил!»
Сомнение в себе доказывает лишь… постыдную личную слабость. Не Наполеон он, а «убитая вошь». Полноту мировоззренческого кризиса знаменует сон Раскольникова, в котором он вновь ударяет свою жертву топором по темени. Но та… лишь смеется в ответ. Жертва издевается над своим палачом. Теперь ему не отделаться от неё. От живых он себя как ножницами отрезал, а вот с мертвыми отныне будет навеки соединен… кровью.
При второй встрече с Порфирием, отдавая должное уму и проницательности следователя, Раскольников, внутренне «приготовляясь к страшной и неведомой катастрофе, вновь гордо требует «допроса по форме». И когда Порфирий, по сути, доказывает его вину, перечисляет все промахи и заявляет, что Раскольников никуда от него не денется, «психологически не убежит», когда до крушения Раскольникова – только полшага, неожиданно возникает фигура красильщика Миколки, который, «желая пострадать», принимает на себя вину за убийства.
И вместо обвинительных показаний мещанина – его покаяние в оговоре: «За оговор и злобу мою простите». – «Бог простит», – богохульственно отвечает убийца.
Реакция Раскольникова на этот опаснейший для него эпизод – вызов борца-одиночки: «Теперь мы ещё поборемся!» – восклицает он гордо, с презрением и стыдом вспоминая о своем недавнем «малодушии». Что касается мещанина-обвинителя и Миколки-маляра, то здесь явственно выражаются свойства народного сознания, нравственно-религиозного в своей основе. Так, Миколка, в соответствии с представлениями раскольников-бегунов, к секте которых он принадлежит, верит, что Антихрист уже пришел в мир и ему можно противостоять только христоподобным поведением. Вот почему, принимая на себя чужой грех, он и «желает пострадать». Порфирий про него говорит: «Невиновен и ко всему восприимчив. Сердце имеет, фантаст».
Важнейшим этапом в самосознании «сильного» Раскольникова является его второе свидание с Соней, во время которого он прямо сознается ей в убийстве и в его мотивах: «Я просто убил, для себя убил, для себя одного».
Мораль силы, которую он исповедует, приводит к философии насилия: «Я захотел осмелиться и убил». Он отдает себе отчет в том, что ведет и чувствует себя, «как вошь». Ему горько и досадно, что именно таков результат его чудовищного эксперимента. Когда Соня ему говорит: «Вас Бог поразил – дьяволу предал», – Раскольников вполне с этим согласен: «Я ведь и сам знаю, что меня черт тащил… А старушонку эту черт убил, а не я». Однако ни «старушонке», ни самому Раскольникову от этого не легче. И тогда Соня предлагает ему покаяться, поцеловать оскверненную землю, повиниться перед всем миром и донести на себя.
Но Раскольников хочет еще побороться: «…может, я ещё человек, а не вошь и поторопился себя осудить»… (399) И хотя он чувствовал любовь Сони и её готовность к жертве, хотя не мог не оценить её решимости вместе с ним идти страдать, вместе крест нести, – «он тотчас же отдернул протянутую за крестом руку» (400). Соня поняла, как глубоко проник в сознание его «мрачный катехизис», этот психологический дурман, который «стал его верой и законом».
Вслед за этим настает «безвыходное и тяжелое уединение», которое нарушает приход Порфирия Петровича на квартиру Раскольникова. Это важный момент, в который следователь не просто доказывает, что никакой не Миколка, а именно Раскольников и есть убийца, и предлагает ему выход из тупика.
Выход юридический: прийти в участок и самому сдаться, чтобы облегчить свою участь. И выход мировоззренческий: Порфирий убежден, что Раскольников – «не безнадежный подлец», что те муки, на которые обрек себя преступник, может быть, и укажут ему новую дорогу в жизни: «Вас, может, Бог на этом и ждал», «вам Бог жизнь приготовил». А для того, чтобы тебя заметили, не надо преступать, есть другой путь. «Станьте солнцем, вас все и увидят». И хотя следователь убежден, что Раскольников больше в свою теорию не верит, – на самом деле всё было не так просто.
Вот почему как запасной вариант расценивает Раскольников свою последнюю встречу со Свидригайловым.
Раскольников и Свидригайлов
Каких «указаний и выхода» ищет Раскольников в общении с убийцей, сладострастником и обидчиком своей сестры? Как помним, Свидригайлов возник в комнате Раскольникова, когда тот находился в самом смятенном состоянии, возник как материализация его кошмаров. Оскорбитель сестры, человек, которому молва приписывала самые ужасные злодеяния: убийство жены, доведение до самоубийства слуги и оскорбленной им четырнадцатилетней девочки, является румяным, хорошо упитанным, и спокойно объявляет Раскольникову, что они с ним «одного поля ягоды». Это возмущает студента, но он не может не оценить той высшей логики, которая содержится в речах Свидригайлова: между ними и в самом деле существует мировоззренческое сходство. И заключается оно в том, что оба они отменили старую мораль, оба проявили свободу своей злой воли, оба считают добро и зло категориями относительными.
Только Свидригайлов поступает более последовательно, он освобожден от внутренних борений и «моральных предрассудков». Он более логичен в своем безнравственном поведении, чем Раскольников, который «преступил; но все ещё держится за «гуманность и справедливость», «высокое и прекрасное», как иронизирует Свидригайлов.
Свидригайлов – это воплощение самых темных сторон личности Раскольникова, его «чёрт». Он, исповедуя принцип «всё позволено, устал от беспредельности зла и погрузился в скуку и пошлость, развлекая себя самым замысловатым образом: был шулером, сидел в тюрьме, заключил выгодную брачную сделку, продав себя жене за 30 тысяч, собирается летать на воздушном шаре или отправиться с экспедицией на Северный полюс. Свидригайлов развратен, но при этом щедр, способен на помощь – именно он обеспечивает дальнейшую жизнь «птенцам» Катерины Ивановны, дает денег Соне для помощи Раскольникову, страстно любит Авдотью Романовну. Воистину «широк» и этот человек.
Вот почему именно к нему, преступнику, где-то черпающему силы для спокойной жизни и безмятежного духа, и идет за последним ответом Раскольников.
Порфирий Петрович в полной мере доказал теоретическую ошибку Раскольникова, назвав её «книжной мечтой», Свидригайлов разрушил последнее основание теории Раскольникова – он высветил её нравственное лицемерие. Вот почему он, по сути, издевается над студентом, который убежден, что у дверей нельзя подслушивать, а старушонок можно лущить чем попало, в свое удовольствие» (459). А потому Свидригайлов советует: «Уезжайте куда-нибудь поскорее в Америку!..» и денег обещает дать на это спасительное путешествие.
Предложение это вызывает у Раскольникова отвращение, потому что принять его – значит признать то, что он и в самом деле заурядный убийца, двойник Свидригайлова. Тогда надо принять и его логику, и советы: «Какие у вас вопросы в ходу: нравственные что ли? Вопросы гражданина и человека? А вы их побоку; зачем они вам теперь-то? Хе-хе! Затем, что все еще гражданин и человек? А коли так, так и соваться не надо было; нечего не за свое дело браться. Ну, застрелитесь; что, аль не хочется?» (459)
Но если добро и зло неразличимы, если жизнь – дурная бесконечность, в которой все бессмысленно, тогда, действительно, остается только смерть. К этому, собственно, не только теоретически, но и фактически приходит Свидригайлов, который перед тем как пустить себе пулю в лоб, по-своему высоко оценит дерзость Раскольникова: «А шельма, однако ж, этот Раскольников! Много на себе перетащил. Большой шельмой может быть со временем, когда вздор повыскочит, а теперь слишком уж жить ему хочется!» (479)
А вот самому Свидригайлову всё прискучило. Он уходит из жизни не потому, что совесть замучила, а потому что жить стало нечем и не за чем. Смерть его так же нелепа, как нелепа была жизнь.
«В страдании есть идея»
Так у Раскольникова остается только тот выход, о котором ему говорила Соня. Путь, связанный с Богом, с верой в чудо воскресения. Если Свидригайлову вечность кажется чем-то наподобие деревенской бани – «закоптелая, и по всем углам пауки», то Соня говорит Раскольникову о любви и вере в Бога, которые способны творить чудеса. Принять этот взгляд Раскольников не может. «Что она, уж не чуда ли ждет? И наверно, так. Разве это не признак помешательства?»
Убийца называет кроткую Соню «великой грешницей», считая её такой же, как и он сам, проклятой: «Ты загубила жизнь… свою (это всё равно)». Между тем, это не только не «все равно», но прямо противоположно тому, что сделал Раскольников. Разве положить душу за други своя всё равно, что загубить душу ближнего? – Безусловно, нет. Бесовская ложь и злоба в словах Раскольникова, в которых раскрывается он до донышка: «Что делать? Сломать, что надо, раз навсегда, да и только…Свободу и власть, а главное власть! Над всею дрожащею тварью и над всем муравейником!..» (311)
Итак, Раскольников уткнулся в очередной тупик: в искупительное страдание он не верит. Сонина любовь вызывает в нем «едкую ненависть». Свидригайлов недвусмысленно продемонстрировал, что демонический путь ведет к скуке небытия и смерти. Порфирий советует пострадать и дает ему «денька полтора али два… погулять» и приходить самому сдаваться в участок: «Без нас вам нельзя обойтись…» Об этом же, но только в своем смысле, говорит ему Соня: «Поди сейчас, сию же минуту, стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету, на все четыре стороны, и скажи всем, вслух: «Я убил!» Тогда Бог опять тебе жизни пошлет» (398).
Но для Раскольникова всё одинаково неприемлемо.
Как же осуществлялось принятие окончательного решения? Что стояло за добровольной явкой с повинной? Ведь от этого зависит многое в логике его судьбы. Проанализируем этот важнейший момент. Амплитуда нравственных колебаний Раскольникова чрезвычайно велика: от отчаянья и страха перед близким наказанием до ненависти и досады к тем, кто протягивает ему руку помощи. Чувство любви к матери и сестре сменяется ощущением непростительной вины перед ними. В особенности это касается матери. Во время прощания с матерью подвернувшуюся под руку свою статью он отбрасывает «с отвращением и досадой». Впервые за последнее время обращается он к матери «от полноты сердца, как бы не думая о своих словах и не взвешивая их: «Маменька, что бы ни случилось, что бы вы обо мне ни услышали, чтобы вам обо мне ни сказали, будете ли вы любить меня так, как теперь?» (с. 487) Любящая мать, конечно, многого не понимая, чувствует главное: «… тебе великое горе готовится, оттого ты и тоскуешь…» Она перекрестила и благословила своего дорогого Родю, а вскоре после суда над ним умерла, не пережив этого несчастья.
Раскольников ищет у своих близких поддержку, но пока отнюдь не уверен в том, какое именно решение выберет.
В разговоре с сестрой он трактует свою возможную добровольную сдачу как поступок сильного человека: «…если я считал себя до сей поры сильным, то пусть же я и стыда теперь не убоюсь» (490). Самолюбие его польщено тем, что и Дуня так считает.
Упоминание о гордости подобно динамиту: вновь в душе Раскольникова всё разрушено. Он признается сестре: «Я сейчас иду предавать себя. Но я не знаю, для чего я иду предавать себя» (491). И когда Дунечка, всем сердцем желая помочь ему, говорит: «Разве ты, идучи на страдания, не смываешь уже вполовину своё преступление?» – словно взбесившись, Раскольников вновь с горячечным пафосом излагает ей свой взгляд на вредных «старушонок», которые только портят мировую гармонию.
На волне этого гнева появляются новые оценки его предполагаемой сдачи: «нелепость малодушия». «Просто от низости и бездарности моей решаюсь, да разве ещё из выгоды, как предлагал этот… Порфирий!» И когда Дуня в ужасе от его слов восклицает: «Но ведь это нет, совсем не то! Брат, что ты это говоришь!» – Раскольников совершенно четко ей формулирует: «Боязнь эстетики есть первый признак бессилия!.. Никогда, никогда яснее не сознавал я этого, как теперь, и более чем когда-нибудь не понимаю моего преступления! Никогда, никогда не был я сильнее и убежденнее, чем теперь!..» (492) И хоть чувствует он что-то похожее на стыд при взгляде на несчастное лицо Дуни, но тоска от скорой развязки лишает его определенности: герой и в самом деле не знает, вынесет ли страдания, готов ли к ним? Раскольников в ужасе от возможной перспективы: «раздавленный муками, идиотством, в старческом бессилии после двадцатилетней каторги», чем и к чему жить? – поневоле пожалеешь, что побрезговал Невой.
Он хорошо осознает, что к признанию его побуждают, что не только его знакомые и близкие, но и просто люди, все, кто его окружают, требуют покаяния и наказания. Однако гордость бушует в нем. Ещё бы! Его, умника и гордеца, требуют отправить на каторгу эти жалкие ничтожества, которые по природе своей подлецы, разбойники и идиоты. «О, как я их всех ненавижу!» – неистовствует раздраженный Раскольников.
В таком состоянии духа он и появился в каморке Сони, которая, зная его «тщеславие, заносчивость, самолюбие и неверие», решила уже, что вряд ли она вообще его увидит. «Неужели же одно только малодушие и боязнь смерти могут заставить его жить?» – горестно размышляет Соня.
Раскольников, и в самом деле, был сам не свой. Ругая «глупые, зверские хари», которые сейчас обступят его и будут «пялить… свои буркалы», показывать пальцами, решаясь на публичное покаяние, он судорожно ищет подпоры: «Ну, что же, где кресты?» – и когда Соня, перекрестив его, надела ему на грудь трогательный кипарисный крестик, убийца по-свидригайловски ухмыльнулся: «Это, значит, символ того, что крест беру на себя, хе-хе!» (495)
Однако сердце его все-таки не выдержало, дрогнуло, когда он увидел страдальческое лицо Сони. Впрочем, ненадолго. «Нянька будет моя!» – подумал Раскольников не без практического смысла. И крестится-то он – не для себя, а для нее, чисто механически, иронизируя в душе: «Крестов, что ли, мне в самом деле от неё понадобилось? О, как низко упал я!» (496)
Между тем христианский обряд обмена крестами, как впоследствии это выяснится, много значил для нравственного возрождения Раскольникова. Принимая крест от Сони, ранее получившей его от Лизаветы, он одновременно братается и с Соней, и с невинной жертвой своей безумной «пробы». В рукописи романа этот мотив был даже усилен. Соня передает Раскольникову вместе с простонародным крестиком своего рода духовное завещание Лизаветы: «Молись об ней, молись! Она простит, простит, я знаю. А знаешь её любимую поговорку: «Не пострадаешь, так и не порадуешься» (VII, 290).
Так в результате братания крестами вина Раскольникова как бы удваивается и, одновременно, высвечивается тот путь, которым убийца может вернуться к совести, к попранным народным идеалам. Но даже по дороге на Сенную вопрос «ходить или не ходить?» ещё не решен Раскольниковым окончательно. Сталкиваться с народом ему было «очень неприятно», оставаться одному – просто невыносимо. Вот почему, припомнив Сонин совет покаяться на миру, он, раздавленный безвыходной тоской и тревогой пережитых дней, «так и ринулся в возможность этого цельного, нового, полного ощущения» (498).
И опять это знаменательное вдруг Достоевского. Когда герой дошел до середины площади, «с ним вдруг произошло одно движение, одно ощущение овладело им сразу, захватило его всего с телом и мыслию». Он вдруг вспомнил слова Сони: «Поди на перекресток, поклонись народу, поцелуй землю, потому что ты и перед ней согрешил, и скажи всему миру вслух: «Я убийца!» (498)
В душе его вдруг возникло какое-то новое ощущение, которое охватило его всего. «Все разом в нем размягчилось, и хлынули слёзы. Как стоял, так и упал на землю» (498).
Как видим, и в самом деле какой-то высший смысл содержался в совете Сони, уходящем корнями в глубины народных верований. Вера в мать – сыру землю – из этого ряда.
Идею о святости родной земли более полно развил Достоевский в романе «Идиот». Там купец-старообрядец говорит так: «Кто от родной земли отказался, тот и от Бога своего отказался». Родная земля издревле была в центре религиозно-этического мировоззрения народа. Вот почему начало возрождения Раскольникова – в покаянии перед родной матерью Пульхерией Александровной и перед родной матерью-сырой землей. И хотя народ не понял и осмеял целование грязной земли на Сенной, но именно оно, да ещё присутствие его ангела – Сони, дало Раскольникову силы передать себя в руки правосудия и вступить на путь нравственного воскресения.
Смысл финала
Чем же завершился роман Достоевского об «идейном» преступлении недоучившегося студента? Итак, Раскольников уже полтора года на каторге. Соня пошла, как и обещала, за ним. Наказание пока не принесло психологического облегчения. Он всё тот же: угрюмый, несловоохотливый, «углублен в самого себя и ото всех как бы заперся» (511).
Каторжные его невзлюбили, и хотя все в остроге «преступили» – к Раскольникову они чувствуют ненависть: и там он «чужой среди своих», потому что барин, потому что гордец, а главное – потому что безбожник. «Ты в Бога не веруешь! – кричали ему. – Убить тебя надо» (515).
А как же искупляющая сила страданий? Как же раскаяние, которое должно было появиться на свободе? – Ничего подобного мы не видим.
«… Он строго судил себя, и ожесточенная совесть его не нашла никакой особенно ужасной вины в его прошедшем, кроме разве простого промаху, который со всяким мог случиться» (512). «Он стыдился, но не своего смертного греха, а того, что его гордость сильно была уязвлена». Раскаянья, как видим, нет. «Совесть моя спокойна», – объявляет Раскольников, который по-прежнему соотносит себя с «благодетелями человечества» и четко формулирует разницу между ними и собой: они «вынесли свои шаги, и поэтому они правы, а я не вынес и, стало быть, я не имел права разрешить себе этот шаг.
Вот в чем одном признавал он своё преступление: только в том, что не вынес его и сделал явку с повинною» (513). То есть он и на каторге ведет себя по-прежнему, как «порядочный циник», заключающий в себе, по словам Свидригайлова, «огромный матерьял». «Сознавать много можете, много, ну, да вы и делать-то много можете, – так, как помним, проницательно заметил его демонический двойник.
И наказание в виде тяжелой физической работы, кандалов, бритой головы и пустых щей с тараканами мало что изменило в мироощущении Раскольникова. Он по-прежнему более всего в человеческом существовании ценит «идею», «надежду», «фантазию», а бытовые условия его и раньше не слишком интересовали, он всегда был вне этого.
А поскольку никаких внутренних подвижек в его мировоззрении на каторге не произошло, поскольку обещанного Соней душевного согласия не наступило, поскольку жизнь его по-прежнему есть «тревога беспредельная и бесцельная в настоящем, а в будущем одна беспрерывная жертва, которою ничего не приобреталось», то у Раскольникова вновь наступает период тотальной ревизии: себя, своей идеи, своего поведения.
И что же? Раскольников, этот, по выражению Порфирия, «бесстрашный боец», «вновь обсудил и обдумал все свои поступки и совсем не нашел их так глупыми и безобразными, как казались они ему в то роковое время, прежде» (Выделено нами – Н.Т.) (513). Как результат – гордость за себя, за то, что не остановился на половине пути! И вывод: не оттого он погиб, что поймал его Порфирий своей «психологией о двух концах». На каторге Раскольников со всей определенностью понял причину своей гибели: «Он стыдился именно того, что он, Раскольников, погиб так слепо, безнадежно, глухо и глупо, по какому-то приговору слепой судьбы…» (Выделено нами – Н.Т.) (512)
То есть перед нами окончательный и определенный, прошедший проверку временем и испытанием, не сломившийся, а утвердившийся в своих воззрениях «сильный человек», равновеликим которому может быть только Рок, судьба.
Но завершает роман Достоевский все-таки не этим. Те «подпочвенные силы жизни», которые питаются природой, любовью, верой, незаметно для самого Раскольникова подточили его идеологический монумент. Народный суд, контраст в отношении к нему и Соне со стороны таких же, как он, «отверженных», побудили его внимательнее отнестись к словам и делам его «няньки», которая всегда оказывалась там, где требовались ее помощь и участие.
Его, возведшего между собой и людьми «страшную, непроходимую пропасть», каторжане ненавидели, упрекая в самом страшном: «Ты безбожник! Ты в Бога не веруешь»! – что абсолютно соответствовало действительности, потому что и сама богоненавистническая идея его зародилась тогда, когда он «от Бога отошел». Это, собственно, и было первопричиной всего. Вот еще почему так важно было для Раскольникова понять, почему Соню, которая не заискивала ни у кого, которую каторжане и видели-то редко, все так выделили, так полюбили? Почему именно к ней обращались они, когда требовались им услуги: написать письма, отправить их на почту и т. д. Почему, когда встречали они её, то все снимали шапки и кланялись: «Матушка, Софья Семеновна, мать ты наша, нежная, болезная!»
И в отношении к Раскольникову Соня тоже проявляла какую-то удивительную мудрость, в полной мере соответствуя своему имени – София. Она обнаружила кротость и упорство, такт и терпение. Против его ожидания она не проявляла настойчивости, ничего от него не требовала, не говорила ему о вере, не предлагала Евангелия. «… К величайшему его удивлению, она ни разу не заговаривала об этом…» И вот однажды, когда во время работ Раскольников сел на бревна и стал глядеть на широкую и пустынную реку, он вдруг ощутил небывалую гармонию во всем: с дальнего берега чуть слышно доносилась песня, в облитой солнцем необозримой степи своей жизнью жили кочевые юрты. И такая свобода, такая воля была во всем, что, казалось, так было здесь всегда, с сотворения мира. И «вдруг подле него опустилась Соня». Как всегда она «приветливо и радостно улыбнулась ему. Как всегда – протянула руку. Но вместо того, чтобы, как обычно, «с досадой» и отвращением принять её руку, он вдруг безотчетно для себя почувствовал прилив благодарности и какого-то бесконечного счастья. И когда он вдругнеожиданно для себя открыл в себе чувство любви к Соне, оно забило в нем мощно, как родник, смывая с души ненужные напластования. И опять это характерное вдруг Достоевского: как возможность новых жизненных поворотов, как резерв сил для воскресения, как источник нравственного чуда.
«Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к её ногам. Он плакал и обнимал её колени, В первое мгновение она ужасно испугалась, и все лицо её помертвело. Она вскочила с места и, задрожав, смотрела на него. Но тотчас же, в тот же миг она всё поняла. В глазах её засветилось бесконечное счастье; она поняла, и для неё уже не было сомнения, что он любит, бесконечно любит её и что настала же наконец эта минута…» (518)
И как только отворилось сердце Раскольникова для любви, возникла перспектива обновления и искупления. «Их воскресила любовь», скажет писатель. А впереди – подтверждение жизнью вновь открытых возможностей, и опять требуется «великий, будущий подвиг…» Но об этом уже в другом произведении, о «восстановлении» и воскрешении души под воздействием абсолютно прекрасной личности. Речь о следующем романе Достоевского – «Идиот».
Что же означает финал «Преступления и наказания»? Что нравственные ценности не выдуманы людьми, что они не могут быть «отменены» чьей-то волей, что они властно проявляют себя в течение живой жизни. Что творцом спасения Раскольникова стала Соня, воскресившая его неприметным упорством любви. Что вопрос о смысле жизни неизменно приводит к христианской «точке отсчета» основных нравственных ценностей.
И ещё один – собственно художнический итог.
Именно в «Преступлении и наказании» Достоевский вывел героя, который своей судьбой решает не просто социальные, психологические или философские вопросы. Базовые, мировоззренческие проблемы взяты в ситуации свободного нравственного выбора.
В эпоху глобального кризиса религиозности русский писатель убедительно утверждает христианскую систему ценностей, неизменно выводимую из реального опыта жизни. Впервые зло и добро явлены в художественном произведении как проблемные величины, что делает воскрешение героя в финале особенно значимым: оно обретено Раскольниковым, как и самим автором, через мучения, сомнения перерождения. Оно абсолютно достоверно, потому что выведено из духовного опыта жизни. Вот почему не ослабевает интерес к роману, в центре которого свободный человек, несущий всю полноту ответственности за свои идеи и поступки.
Глава II. Над страницами романа «Идиот»
Одной из продуктивных идей русской классической литературы является мысль о том, что человеческая души, будучи материей тонкой и сложной, обладает подвижностью и способностью к изменению, иногда изменению скорому и радикальному. Гоголь, Достоевский, Толстой полагали, что душа подвержена многочисленным воздействиям, из которых Слово – главнейшее. В осуществлении благого влияния на современников и потомков видели эти титаны свою литературную сверхзадачу. «Дело моё – душа и прочное дело жизни» – эта гоголевская связка характерна и для остальных. Учительство наших классиков основывалось не только на их художественной одаренности, но и на собственном нравственном подвижничестве, неустанном самоусовершенствовании. Воспитательный момент был принципиально важным и для творчества, и для самой их жизни.
Именно это давало им моральное право быть услышанными, создавало атмосферу убедительности и достоверности.
«Положительно прекрасный человек»
В 1860-е годы Достоевский испытывает желание воплотить эту идею художественными средствами. Задачу свою он считает «бесконечно трудной, почти непосильной для художника», потому что это вопрос об идеале. Но, несмотря на это, он все-таки приступает к ней в романе «Идиот», берется «изобразить положительно прекрасного человека».[8]
Перед писателем встает вопрос: посредством какого литературного образа можно было бы доказать право «единичности добра» на разрешение мировых вопросов? В поисках ответа художник обращается к опыту мировой литературы (Сервантес, Гюго, Диккенс), но приходит к выводу: «Все писатели пасовали, потому что эта задача безмерная, прекрасное есть идеал, а идеал – ни наш, ни цивилизованной Европы еще не выработался»(X, 643).
В процессе работы Достоевский убеждается, что на свете есть только одно положительное лицо – Христос. (Эту мысль находим в дневниковой записи от 13 апреля 1868 года). А следовательно, чем ближе к нему будет главный герой его романа, тем полнее может быть осуществлен писательский замысел. Вот почему поначалу своего Мышкина Достоевский именно так и называет – «Князь Христос». Этот ориентир остался ощутимым не только на уровне предварительных набросков. И в окончательном варианте писателю удалось воплотить в образе Мышкина ту высшую стадию развития личности, что проявляется в христианском отрешении от индивидуализма и эгоизма. Мышкин не преследует собственных интересов, не выделяет себя из толпы людей, он входит в этот мир с проповедью сострадания, которая, по мысли Достоевского, и есть «главнейший и может быть единственный закон всего человечества». Любовь и сострадание открывают ему сердца людей. В этом влиянии на людей и заключена энергия образа князя Мышкина, его «огромная и сердечная жизненная задача, которая предстала перед ним, когда он попал в вихрь человеческих отношений – это вещее проникновение в судьбу каждого человека…».[9]
Достоевский убежден, что, благодаря примеру Христа и собственным усилиям, человек может обрести, восстановить в себе «детскость» как особенное мироощущение, как осознание себя частью единой общности, которую современное общество утратило. «Богатства больше, но силы меньше – утверждает один из героев романа, Лебедев, – связующей мысли не стало».
Князь Мышкин в романе и является носителем такой «связующей мысли» о братстве людей, о необходимости милосердия и добра, сострадания и поддержки, о родстве человеческих душ.
В. В. Розанов точно определил значение образа Льва Мышкина для самого Достоевского: В «Идиоте» отражено его сердце в идеальном успокоении, вместе и отчужденное от людей на какую-то бесконечную высоту, и совершенно слитое с их нуждами, страданиями; этот странный образ есть до известной степени то, что каждый поэт зовет своею «музою»…»[10]
Время в романе «Идиот»
У Достоевского свои отношения со временем. В творчестве ему под силу запечатлеть и горячую современность, и холодный свет вечности. Он осязает время и одновременно отпечатывается в нем. В его творениях всегда особые временные координаты, в которые органично вписывается жизнь героев, сливаясь, но не теряясь в полифонической оркестровке произведения.
Время – одна из самых существенных категорий в художественном произведении. Не случайно М. М. Бахтин именно время назвал «ведущим началом» в хронотопе. А сам хронотоп определил как ворота, через которые совершается «всякое вступление в сферу смысла».[11] Известно, что Достоевский, чье творчество устремлено к постижению вечных законов человеческого духа, как никто другой в момент написания своих произведений имел потребность в газетной хронике, в свежих, реальных фактах, которые не только принимались им к сведению, но и по мере написания вводились в структуру текста, так что по ним можно теперь изучать его творческую историю.
Достоевский одинаково свободно апеллирует и к текущей минуте, и к вечности. Роман «Идиот» исключением не явился. Приступив к работе 14 сентября 1867 года (первая запись сделана писателем в Женеве), Достоевский в конце ноября узнает из газет о деле купца В. Ф. Мазурина, убившего ювелира Калмыкова. Он берет себе на заметку ряд поразивших его деталей: труп убитого купец спрятал, накрыв американской пленкой и поставив вокруг склянки со ждановской жидкостью для уничтожения запаха. Как помним, эти детали не только «повторены» Рогожиным, но и «узнаны» князем: «Это как там… в Москве?»
Этой же новостью на своих именинах пророчески тревожится и Настасья Филипповна. Происходит пересечение времени художественного и исторического: именины героини – в конце ноября – совпали со временем написания романа – ноябрь 1867 года – и с реальным событием, отраженным в газетной хронике этого же времени.
Надо отметить, что реально-историческая основа «Идиота» привлекала исследователей. В частности, обращалось внимание на то, что писателя особенно интересовали факты, несущие мету 1860-х годов, фокусирующие в себе наиболее тревожные симптомы времени. К таковым, например, относятся «идейные» преступления, свидетельствующие о «шатании мысли».
Речь, в частности, идет об убийстве молодым образованным дворянином Витольдом Горским шести человек из семейства купца Жемарина, в доме которого убийца и грабитель давал уроки сыну хозяина. Достоевского буквально потрясли детали этого «дела»: хладнокровный преступник, продумавший все тонкости своей чудовищной акции, имел репутацию умного, начитанного, любящего литературу юноши. На суде, правда, он признал себя неверующим.
Для Достоевского это было тревожным знаком проникновения нигилистических идей в молодежную среду, приведших не только к «путанице понятий», но и к реальным кровавым жертвам.
В романе Достоевского основные постулаты «позитивизма» дебатируются в сцене с «сыном Павлищева», при этом мелькают многочисленные упоминания о «жемаринском деле». Так, чиновник Лебедев своего племянника называет убийцей «будущего второго семейства Жемариных». Но главное – выявлена логика «бунта», когда главным основанием является прикрытая бойкими лозунгами: «Прогресс! Реформа! Справедливость!» – возможность делать все, что захочется, «ни перед какими преградами не останавливаться, хотя бы пришлось укокошить при этом восемь персон…» (259) Достоевского потрясает готовность этих людей к скорым решениям при их очевидной моральной недостаточности. Как заметил один из героев, «это напоминает… недавнюю знаменитую защиту адвоката, который, выставляя как извинение бедность своего клиента, убившего разом шесть человек, чтоб ограбить их, вдруг заключил в этом роде: «Естественно, говорит, что моему клиенту по бедности пришло в голову совершить это убийство шести человек, да и кому же на его месте не пришло бы это в голову?»(286)
И это не логический казус, это новая – страшная – система ценностей, следуя которой из «благородного отчаяния» или принципиального «отрицания» возможно все. Как негодует на жизнь, в которой «все навыворот, все кверху ногами пошли», Лизавета Прокофьевна Епанчина: «Сумасшедшие! Тщеславные! В Бога не веруют, в Христа не веруют! Да ведь вас до того тщеславие и гордость проели, что кончится тем, что вы друг друга переедите, это я вам предсказываю. И не сумбур это, не хаос и не безобразие это?» (288)
Понятно, что в романе тревожные проблемы времени не только фиксируются, они горячо дискутируются, вплетены в сложнейший художественный орнамент произведения, находят свою оценку, трактовку и разрешение.
Мы привели лишь два примера, чтобы засвидетельствовать это. Перейдем же далее к тому, как воплощается в тексте Достоевского эта существеннейшая смысловая категория – время.
Бросается в глаза обилие точных временных указателей: писатель непременно отметит время действия, его продолжительность, иногда с точностью до мгновения; укажет возраст героев, ритм их жизни.
Достоевский всегда пунктуален в обозначении длительности событий и промежутков между ними. Время дня и года присутствует в тексте точно, хотя и не назойливо, и тоже самым важным образом соотносится с сюжетом и вообще – с художественным замыслом. Это делает обоснованным при изучении произведений Достоевского составление художественных календарей, тем более что «каждое событие в романе имеет одно– единственное время и место не терпит приблизительных, «на глазок», определений.
Ошибка в расчетах всего только на день или час (там, где счет на часы) вызывает серьезные искажения, а порой и вовсе грозит потерей смысла».[12]
Думаю, что касается это не только «Бесов», по поводу которых было сказано. Хроникальность – типологическое качество повествования Достоевского. Вопрос князя Мышкина: «Что же в самом деле делать с действительностью?» – был важнейшим авторским вопросом. И дело не только в поисках ответов на актуальные проблемы времени. Здесь понимание драматического характера взаимоотношений человека с одной из самых иррациональных и загадочных категорий, в пределах которой только и может осуществляться жизнь, – с категорией времени. В самом деле, время, по сути, не поддается рациональному осмыслению: ведь прошлого уже нет, и мы над ним не властны; будущего еще нет, и нам о нем ничего не известно; а настоящее есть неуловимый миг, и всё это слито в едином, нерасчленимом потоке. Мы не успеваем изжить мгновение, а оно уже недостижимо для нас, ибо присоединилось к прошедшим мигам нашей жизни.
Уяснить, что это такое – время твоей жизни, чем следует наполнять каждую минуту бытия, что способно оправдать твое присутствие на земле, – это и значит постичь главную тайну, с которой сталкивается каждый человек.
Вот почему особенно интересно будет проследить бытование в романе «Идиот» тех героев, которые в силу разного рода причин ориентированы именно на настоящее время.
«В конце ноября, в оттепель, часов в девять утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу» (5). Он спешил доставить человека, который не был в России «с лишком четыре года», да и вообще из своих «двадцати шести или двадцати семи лет» был двадцать четыре года болен. И хотя все из своей предшествующей жизни он помнит, «но мало может удовлетворительно объяснить, потому что во многом не давал себе отчета. Частые припадки его болезни сделали из него совсем почти идиота…» (29) И вот теперь после лечения он приехал начать «новую жизнь», для того, чтобы «с людьми сойтись» (29). При этом, как он выразился, «о, у меня время терпит; у меня время совершенно мое…»(28)
Как видим, прошлого у Мышкина (а это, конечно, он) можно сказать, почти нет. Оно в очень малой степени присутствует в романе, чаще всего в виде фрагментарных воспоминаниях о Швейцарии, где он и почувствовал некоторое облегчение от своей болезни.
Будущее этого героя очерчено буквально несколькими штрихами на самых последних страницах романа: «И если бы сам Шнейдер явился теперь из Швейцарии взглянуть на своего бывшего ученика и пациента, то и он, припомнив то состояние, в котором бывал иногда князь в первый год лечения своего в Швейцарии, махнул бы теперь рукой и сказал бы, как тогда: «Идиот!» (612)
И еще: при посещении Евгением Павловичем князя в лечебнице, он видит, что «Шнейдер все более и более хмурится и качает головой; он намекает на совершенное повреждение умственных органов; он не говорит еще утвердительно о неизлечимости, но позволяет себе самые грустные намеки» (614).
Жизненный круг князя Мышкина почти замкнулся. В итоге он вернулся к тому состоянию, из которого на недолгое время, выходил. Настоящее время князя Мышкина в романе исчерпывается неполными восемью месяцами: с конца ноября до середины июля. Хронология его жизни выстроена четко, автор не забывает упомянуть, что, приехав поздней осенью в Петербург, он на шесть месяцев исчезал из него, сначала на три месяца в Москву, где «братски» сошелся с Рогожиным; потом ездил за Настасьей Филипповой «где-то в губернии», затем снова был в Москве, пока вновь не объявился в Петербурге, когда «был июнь, в первых числах» (192). Далее повествование содержит более дробные временные меты: недели, дни и даже часы. В финальной сцене счет идет на минуты: «Князь удивился ответу, но он удивился спустя уже по крайней мере две минуты, когда сообразил»; «он стоял и всматривался минуту или две»; «помолчали минут пять…» и т. д.
«Восстановить и воскресить человека»
Сложность задачи состояла не только в том, чтобы достоверно показать Князя Христа. Достоевский ставит перед собой масштабную задачу раскрыть, «как отражается Россия» в судьбе и размышлениях князя, что, с одной стороны, «Россия действовала на него постепенно», а с другой стороны, его появление не прошло для нее незамеченным. Более того, «где бы только он ни прикоснулся – везде он оставил неисследимую черту» (IX, 242). Влияние князя Мышкина мыслилось писателем как своего рода «мистическое участие» в судьбах всех встреченных им людей. Оно основывалось на вроде бы простом «секрете»: будь искренним, люби ближних, старайся помочь им.
Почему же забыто людьми то, что, по сути, является самым главным? И почему именно тот, которого они считают «идиотом», призван напомнить о том, как следует жить?
Здесь надо сказать об одном из коренных значений греческого по происхождению слова «идиот». Это – «отдельный, частный человек», то есть человек, не подверженный всеобщим страстям и заблуждениям. Он живет, сообразуясь с законами собственного внутреннего мира, резервируя понятие моральной нормы, и не поддается окружающему «хаосу». Это важные свойства, чаще всего извращаемые реальной дисгармонией, жертвой которой, сами того не замечая, становятся «нормальные», «здоровые» люди.
Вот, наверное, почему на Руси никогда не обижали юродивых, грехом считалось обидеть меченного Богом. Сохраняя в себе, как старец в скиту, верные моральные реакции, «идиот» Достоевского притягателен для людей, забывающих, но все-таки неосознанно носящих в себе представление о христианской норме.
Так, всех потрясает евангельская реакция князя Мышкина на пощечину Гани Иволгина, хотя всем было знакомо: «Я говорю вам: не противиться злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую…» Одно дело – проповеди, другое дело – следование им. Вот почему истинно христианская сдержанность князя, его «странный и укоряющий взгляд» так сильно подействовали на окружающих: «Ганя действительно стоял как уничтоженный. Коля бросился обнимать и целовать князя: за ним затеснились Рогожин, Варя, Птицын, Нина Александровна, все, даже старик Ардалион Александрович… Настасья Филипповна была тоже очень поражена и поступком Гани и ответом князя» (121).
А слова Льва Николаевича Мышкина, обращенные к публично униженной Настасье Филипповне «Я… я вас буду всю жизнь уважать…» – необычны только с точки зрения человека, чье зрение искривлено социальными условностями и привычной жестокостью.
Любовь людей к князю Христу – это любовь к забытой норме, детской чистоте и невинности. А у него нигде нет учительской позы и перста указующего, зато есть смирение и осознание собственной малости. Есть желание быть до конца искренним со всеми, не рассчитывая последствий своего простодушия.
Но как быть с героями, не поддающимися «выпрямляющему» влиянию князя Мышкина? С такими, как Парфен Рогожин, например?
Мышкин и Рогожин
Думается, что здесь мы приближаемся к главному нерву романа. Рогожин – сокровенный герой Достоевского. В купели страданий и унижений обретает он свое очищение, примирившись с судьбой и миром, ощутив блаженство сострадания и братства. Трагедия Рогожина потрясает.
Бледное, неподвижное лицо Рогожина, чьи слезы смешались со слезами князя Мышкина, его достойное смирение на суде, где приговор он выслушал «сурово, безмолвно и «задумчиво», – это внешние знаки колоссальных духовных сдвигов, изменивших ландшафт его души. Велика цена за его прозрение: за него заплачено жизнью Настасьи Филипповны, душевным здоровьем князя, собственной погубленной жизнью.
Рогожин слит с Мышкиным, как слиты в человеке его лучшие и худшие стороны. И это заложено в романе с первых же строк: «В одном из вагонов третьего класса, с рассвета, очутились друг против друга, у самого окна, два пассажира – обалюди молодые, оба почти налегке, оба не щегольски одетые, обас довольно замечательными физиономиями и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор» (5). Кроме всего – они ровесники, им по двадцать семь лет – возраст, как помним, для Достоевского знаменательный, переломный, именно столько ему было, когда отправился он на каторгу. Момент решительного перелома судьбы.
Что касается портрета Парфена Рогожина, то поначалу в нем явственно проявляются низменные инстинкты, привычная агрессивная напряженность, «его тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую улыбку». Хотя «лоб его был высок и хорошо сформирован и скрашивал неблагородно развитую нижнюю часть лица. Особенно приметна была в этом лице его мертвая бледность, придававшая всей физиономии молодого человека изможденный вид, несмотря на довольно крепкое сложение, и вместе с тем что-то страстное, даже до страдания, не гармонировавшее с нахальною и грубою улыбкой и с резким, самодовольным его взглядом» (5–6). Настасья Филипповна называет его «мужиком». Ей все одно: что замуж за него пойти, что в прачки, что в трущобу. «Рогожинская» – синоним, и не только для Настасьи Филипповны, падшей, погибшей женщины. Вот почему сама возможность «разгуляться с Рогожиным» воспринимается окружающими как предел ее падения: «погибшая женщина, женщина сумасшедшая».
И в самом деле, поначалу характер Рогожина лепится автором из самых «бросовых» материалов: подчеркивается его необразованность, необузданность, стихийность. Ватага, сопровождающая его, рисуется и «разнообразной», и «безобразной», к ней вполне естественно прилепиться какому-то «беспутному старичишке».
Рогожин нелеп в своих грязных сапожищах, когда в страшном волнении от присутствия Настасьи Филипповны он в ее гостиной натыкается на окружаюшие предметы, наступает на кружева юбки красавицы-немки. Огромная бриллиантовая булавка на его шелковом шарфе изображает жука, а массивный драгоценный перстень надет на грязный палец. Контраст между алчной неразборчивостью Рогожина и душевной деликатностью князя столь велик, пропасть между рогожинским ревом: «Не подходи!.. Моя! Всё мое!» – и рыцарским: «Я вас честную беру, Настасья Филипповна, а не рогожинскую», – столь очевидна, что Настасья Филипповна, оказавшись между этих двух полюсов, как в ловушке, обречена на мучительные метания.
Но вот что важно: в оскорбительном, по сути прилюдном торге Рогожиным Настасьи Филипповны все-таки нет цинизма. Есть любовная горячка, купеческая широта, безумие ситуации, но нет холодного расчета и желания уязвить. Кажется, что он слепо повинуется ее мазохистскому капризу, не вдаваясь в психологические сложности. А когда осознает, что князь может увести у него Настасью Филипповну, «невыразимое страдание отпечаталось в лице его. Он всплеснул руками, и стон вырвался из его груди» (172). В бреду азарта он как-то упустил из виду, что поведение его – оскорбительно-кабацкое, что слишком на безобразие смахивает его любовь. Но любовь-то настоящая! И это сразу понял Мышкин, заступившись за него перед Настасьей Филипповной: «Он пьян… Он вас очень любит» (173). И впрямь не в себе был Рогожин, перемещаемый по прихоти своей королевы из надежды в отчаянье: «Он совсем отупел, точно от ужасного удара по голове». И когда сакральный маятник вновь качнулся к удаче, он, как раненый зверь, завопил: «Моя! Все моё! Королева! Конец!» Он от радости задыхался; он ходил вокруг Настасьи Филипповны и кричал на всех: «Не подходи!» (175). Эгоизм обладателя, исступление собственника поселились в его душе, заслонив всю серьезность психологической мотивировки Настасьи Филипповны: «Этакого-то младенца сгубить?» – Понятно, что реплика эта обращена к сопернику Рогожина.
И то сказать, откуда у Рогожина взяться детскости? Весь строй его жизни до встречи с князем и Настасьей Филипповной отличался особенно мрачным и тяжелым колоритом, начиная от «скучного» дома «грязно-зеленого цвета», где «и снаружи и внутри как-то негостеприимно и сухо, все как будто скрывается и таится», кончая вековой привычкой обитателей этого дома к подозрительности и желчи. Вот почему ласковая улыбка, которая появилась было на лице Парфена в разговоре с князем в доме на Гороховой улице, так «не шла к нему в эту минуту, точно в этой улыбке что-то сломалось и как будто Парфен никак не в силах был склеить ее, как ни пытался» (208).
Как же разуверить в тяжких подозрениях человека, доведенного ревностью и унижениями до последней черты? В первую очередь, конечно, быть с ним вполне откровенным. Вот почему князь по-детски прямодушно объявляет измученному Рогожину: «Я тебя успокоить пришел, потому что и ты мне дорог. Я очень тебя люблю, Парфен» (210). Он не скрывает, что «если бы вы опять разошлись, то я был бы очень доволен; но расстраивать и разлаживать вас я не намерен. Будь же спокоен и не подозревай меня» (210). И Рогожин понял, что князь оставляет за ним право выбора, что он, Парфен, свободен в своем решении. И это при том, что глаза обезумевшего Рогожина постоянно выслеживали князя, при том, что новенький, «довольно простой формы ножик» уже был им куплен, при том, что все трое уже чувствовали энергию засасываюшей дьявольской воронки…
Христианское великодушие Мышкина побуждает Рогожина к откровенности: «Я, как тебя нет предо мною, то тотчас же к тебе злобу и чувствую, Лев Николаевич… Так бы тебя взял и отравил чем-нибудь! Вот как теперь ты четверти часа со мной не сидишь, а уж вся злоба моя проходит, и ты мне опять по-прежнему люб. Посиди со мной…» (210) На что князь ему отвечает: «Когда я с тобой, то ты мне веришь, а когда меня нет, то сейчас перестаешь верить и опять подозреваешь». И снимает с него грех неверия: «В батюшку ты!» (210) В ответ Рогожина будто прорывает. Он исповедуется в прегрешениях, жалуется на свои страдания и как будто заранее объясняет то, что никак нельзя отвратить.
Исповедь Рогожина тяжела и страшна. Он бесконечно унижен своей «королевой»: «Как на последнюю самую шваль на меня смотрит». В нем уже нет жалости: уж слишком срамит, да и «ненавидит она меня пуще всего». Чудовищные испытания устраивает ему возлюбленная: «Да ты не знаешь еще, что она надо мной в Москве выделывала!» Настасья Филипповна безжалостно разоряет Рогожина: «А денег-то, денег сколько перевел…»
И хотя Мышкин пытается его утешить: «Ты мнителен и ревнив, потому и преувеличил все, что заметил дурного», – но эти резоны выслушаны Рогожиным «с горькою усмешкою». Его убеждение в трагической развязке было «уже непоколебимо поставлено».
Рогожина жаль. Жаль тем более, что этот необузданный человек готов к внутреннему движению, и не только в сторону бездны. Он по-настоящему широкая натура, что признала и Настасья Филипповна. В нем нет ничего лакейского, у него сильные страсти, большой ум. Он готов взяться и за «Историю» Соловьева. Но нет ему спасения от «напасти». Не успел он милости Настасьи Филипповны нарадоваться: «И никогда-то, никогда прежде она со мной так не говорила, так что даже удивила меня; в первый раз как живой человек вздохнул», – как еще сильней затянулся этот трагический узел из ревности, гордости, унижения и любви. Узел, который нельзя развязать, не повредив нитей, протянувшихся между этими тремя судьбами.
Рогожин болен Настасьей Филипповной. Но страдающий человек ищет дорогу к Богу, даже если от жизни, как и от картины, висящей в доме Парфена, «вера может пропасть». Рогожин истинно страдает. И это страдание мучает, но оно же делает его более проницательным и понимающим человеком. Именно к Мышкину обращает он самый важный вопрос: «А что, Лев Николаевич, давно я хотел тебя спросить, веруешь ты в Бога или нет?» И не только понял скрытый смысл четырех рассказанных ему князем притч, но и был настолько потрясен родственностью их религиозных переживаний, что захотел немедленно побрататься с князем, обменяв свой золотой нательный крест на грешный оловянный, купленный князем у пьяного солдата. Рогожину важна мотивация князя: «…нет, этого христопродавца подожду еще осуждать. Бог ведь знает, что в этих пьяных и слабых сердцах заключается» (222).
Его глубоко взволновало понимание князем религиозного чувства, то, что оно «ни под какие рассуждения, ни под какие проступки и преступления и ни под какие атеизмы не подходит: тут что-то не то, и вечно будет не то…" Именно от простой бабы услышал Мышкин «такую глубокую, такую тонкую и истинно религиозную мысль, такую мысль, в которой вся сущность христианства разом выразилась, то есть все понятие о Боге как о нашем родном отце и о радости Бога на человека, как отца на свое родное дитя, главнейшая мысль Христова!» (222) И открылась эта мысль Льву Николаевичу Мышкину со всей очевидностью именно в России. Вот почему истинно братское ободрение звучит в словах князя: «Есть что делать на нашем русском свете, верь мне!» (222–223)
Любимейшая идея Достоевского! Именно на христианстве примирятся противоречия и успокоятся враждующие, именно оно даст почву для взаимного понимания и братского единения. Вот почему финалом встречи на Гороховой улице стал добровольный отказ Рогожина от Настасьи Филипповны, что было проявлением истинного великодушия со стороны Парфена: «Он поднял руки, крепко обнял князя и, задыхаясь, проговорил: «Так бери же ее, коли судьба! Твоя! Уступаю!.. Помни Рогожина!» (224)
Так началось движение от полного нравственного беспорядка к христианскому «выпрямлению» Парфена Рогожина.
Рогожин как откровение услышал от князя то, чему от веку учит людей Евангелие: самая последняя, самая заблудшая овца, если только захочет вернуться в Божье стадо, может это сделать, и при этом она будет вдвое дороже Богу. Притчи о блудном сыне, о наемных работниках и о званных на пир о том повествуют. Церковная истина, что Бог милосерден и к нему опоздать нельзя, в наивном и сердечном понимании князя притушила греховную исступленность Рогожина. Притушила, но, увы, не предотвратила. Взял Парфен на свою душу смертный грех. Убил ту, которой восхищался и мучился, которую любил и ненавидел. Произошло и невозможное, и неотвратимое одновременно. И встали вопросы: «Как, чем, зачем жить?» Великое смятение воцарилось в душе героя.
Проявляя чудеса хитрости и предусмотрительности, он приводит незаметно в свой дом Мышкина, чтобы никто и ничто не могло помешать им проститься с Настасьей Филипповной.
Поглощенный каким-то тайным замыслом, Рогожин, пожалуй, мог бы и напугать князя своим болезненным бормотанием: «… потому я, парень, еще не знаю… я, парень, еще всего не знаю теперь, так и тебе заранее говорю, чтобы ты все про это заранее знал…» (609) О чем это он? Не о том ли он сейчас ничего не знает, что знала пришедшая в этот дом накануне, что-то решившая про себя Настасья Филипповна? Тихонько прокралась она в рогожинский дом: «Шепчет, на цыпочках прошла, платье обобрала около себя, чтобы не шумело, в руках несет, мне сама пальцем на лестнице грозит, это она тебя все пужалась» (608). Заметим, не скорого убийцу своего, а того, кто, в очередной раз пожалев, продлил бы ее страдания! Это было удивительно даже для Рогожина: «Я еще про себя подумал дорогой, что она не захочет потихоньку входить, – куды!» (608)
Страх гнал Настасью Филипповну, но страх не за себя, а за князя: «На машине как сумасшедшая совсем была, все от страху, и сама сюда ко мне пожелала заночевать; я думал сначала на квартиру к учительше везти, – куды! «Там он меня, говорит, чем свет разыщет, а ты меня скроешь, а завтра чем свет в Москву, а потом в Орел куда-то хотела» (608). И хоть не сразу понял Рогожин замысел Настасьи Филипповны – просторечное «куды!» выдает его удивление, – но когда осознал, выполнил-таки ее страшную волю: скрыл ее навсегда от опеки князя.
Но почему именно так понял волю своей «королевы» Парфен Рогожин, нет ли в этом трагической ошибки? А может быть, дело в другом и Настасья Филипповна оказалась жертвой необузданной рогожинской ревности? Или просто это была месть за все причиненные ему страдания и унижения? Была ли Настасья Филипповна жертвой насилия или она сама пожелала сбросить бремя измучившей ее жизни? Вопросы, как видим, самые сущностные. И, конечно, роман содержит на них ответы.
Вчитаемся в текст: многочисленные разговоры о возможном браке Настасьи Филипповны с Рогожиным всегда сопровождаются «смертельными» синонимами: женится – и зарежет, женится – и отомстит, что за него – что в воду и т. д. И сам факт ее согласия уехать с Рогожиным в то время как все, и в том числе сам Рогожин, знали, что любит она не его, а Мышкина, – был своего рода знаком: она готова, она хочет умереть.
Метания кончились, решение вызрело, она боялась только того, что князь может этому помешать. И в комнате, где навсегда успокоилась гордая воительница, следы жуткого умиротворения; везде разлито «мертвое молчание», на постели «кто-то спал, совершенно неподвижным сном». При этом комната сохранила следы трагедии: «Кругом в беспорядке, на постели, в ногах, у самой кровати на креслах, на полу даже, разбросана снятая одежда, богатое белое шелковое платье, цветы, ленты. На маленьком столике, у изголовья, блистали снятые и разбросанные бриллианты» (607). Заметим: не обрывки, не клочья лент и одежд. Все целое, сохраняющее красоту и выдающее лишь психическое состояние своей хозяйки, ее нервы, судорогу, спешку, а не борьбу, не насилие.
Это трагедия души, а не крови. Последствия ножевого удара выписываются автором как до удивления не кровавые: «И… и вот, вот еще что мне чудно: совсем нож как бы на полтора… али даже на два вершка прошел… под самую левую грудь… а крови всего этак с пол-ложки столовой на рубашку вытекло; больше не было…» (610) Это не кровавые потоки Раскольникова. Тут другое. Парфен в известном смысле тоже жертва – жертва страсти, нрава, обстоятельств. Он проводник последней воли Настасьи Филипповны, и не будь так, не пришел бы он за своим названым братом, чтобы вдоволь погоревать вместе. Не вел бы себя так у ее одра: Рогожин «подошел к князю, нежно и восторженно взял его за руку, приподнял и повел к постели…» (609)
Рогожин чувствует себя уничтоженным, раздавленным. Он коснулся дна своих самых навязчивых кошмаров, и теперь почти сомнамбулически воплощает в жизнь последние акты этого страшного сценария. Не ясно ему только одно: как жить дальше? И эта потерянность то выливается в бредовое многословие, то сковывает немотой, то поднимает из глубин памяти «домашние» еще, давнишние слова: «надоть», «куды», «сумлеваюсь»; то вдруг, как вспышкой, пронзает воспоминанием, где в центре – все она же, мучительно-прекрасная и дерзкая «королева»: «Офицера-то, офицера-то… помнишь, как она офицера того, на музыке, хлестанула, помнишь, ха-ха-ха! Еще кадет… кадет… кадет подскочил…» (611)
И только присутствие Князя Христа, его искреннее сострадание отворили, наконец, слезы великого грешника, помогли вполне отдаться невыносимому горю. Брат разделил трагедию с братом, принял на себя неподъемную ношу греха, смешал свои слезы с рогожинскими. Он погубил себя этим, как погубил себя много веков назад Христос, придя к людям с помощью. И в обоих случаях жертва не была напрасной.
Сам грех Рогожина, его кровавая вина обретают в романе характер национального «забвения всякой мерки во всем». Тайные пружины вины и страдания обнаружены Достоевским не в библиотечной пыли: они открылись ему за многолетнюю человеческую и художническую муку. В «Дневнике писателя» за 1873 год, в главе, которая называется «Влас», у Достоевского есть потрясающее по психологической точности объяснение русской натуры, которая во внезапных иррациональных всплесках подчас раскрывает то, что надежно удерживается буднями в силках привычек и обычаев. При этом катализатором может быть что угодно: любовь, вино, самолюбие, ревность. И вот тогда, срываясь со всех тормозов, несется человек к самому краю и уже не властен он в самом себе… Так и Рогожина швырнула в дьявольскую воронку судьба, и значит, бороться с ней бесполезно.
И в этом конкретном случае, и в истории народной судьбы не было бы оснований для спасения, если бы в русском мире не существовало не менее упорного противодействия. И тогда «с такою же силою, с такою же стремительностью, с такою же жаждою самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасает себя сам, и обыкновенно, когда дойдет до последней черты, то есть когда уже идти больше некуда. Но особенно характерно то, что обратный толчок, толчок восстановления и самоспасения, всегда бывает серьезнее прежнего порыва – порыва отрицания и саморазрушения» (XXI, 35).
Вот и Парфен Рогожин, упав на дно собственного кошмара, еще не верит до конца в его свершение. Он еще хлопочет, расставляя склянки со ждановской жидкостью возле накрытой американской клеенкой Настасьи Филипповны, но уже постепенно и неудержимо начинает возвращение к своей истерзанной душе. И князь Мышкин, поглаживая грешника по лицу, помогает ему в этом возвращении. Этот инстинктивный жест, зародившись еще в здравом сознании князя, вывел его самого за пределы реальной жизни: «Князь сидел подле него неподвижно на подстилке и тихо, каждый раз при взрывах крика или бреда больного, спешил провести дрожащею рукой по его волосам и щекам, как бы лаская и унимая его» (612).
Объединившись во Христе, побратавшись крестами, эти герои окончательно слились в своих судьбах друг с другом. И хотя «искушение дьявола» состоялось, но оно повлекло за собой лишь физический распад: Мышкин, и уходя из разума, остается помощью и поддержкой Рогожину; Рогожин, и совершив преступление, не отрешен от духовного возрождения; Настасья Филипповна, и отправляясь на заклание, думает не о себе, а о князе. Так открывается одна из самых загадочных заповедей Христа: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геене» (Евангелие от Матфея, гл. 10).
И в самом деле, несмотря на трагическую очевидность финала, роман убеждает в том, что князь Мышкин – это не русский мираж, а реальная, хотя и не всегда различимая, перспектива.
Свобода и жребий
Конечно, судьба Мышкина, как и судьба Христа, трагична. Пришедший в этот мир со светом и добром, он в итоге оказался погруженным во тьму безумия, не спася от беды ни Настасью Филипповну, ни Рогожина. И тем не менее внутренний свет романа сохранился. Идет он от главного героя, не теряясь во мраке кровавой развязки. Уважая Человека в каждом, князь не препятствует никому поступать своеобразно сложившимся обстоятельствам, а точнее – сообразно своей духовной судьбе, не сбивая никого с его жизненной траектории. И чем безнадежней и драматичней эта судьба, тем большую жалость вызывает в нем человек. Уж кому, как не ему, и было знать, что свершится непременно, именно и только то, что неминуемо. Что человек может лишь попытаться облегчить страдания другого, но никогда – избежать их. Что здесь действуют силы, над которыми никто не властен. У каждого своя судьба, и он сам творит ее. Вот почему человек должен быть абсолютно свободен, ведь только свободный выбор жизненного пути делает человека не игрушкой рока, а творцом судьбы, за которую он несет ответственность перед людьми и Богом.
В этом проявляется и христианское доверие к Промыслу: «Да будет воля Твоя!» Но в этом же интуитивно-иррациональное понимание свободы как вместилища сразу двух стихий – добра и зла.
Зло, как и добро, есть дитя свободы. Оно так же глубоко заложено в основание человеческой природы, как и добро. Вот почему свобода – категория воистину трагическая, она лежит в центре бытия как его изначальная тайна. И Мышкину это, конечно, было ведомо. При его активном духовном учительстве, в стремлении к духовному общению он всегда апеллирует к внутренней самостоятельности человека. Призывая творить себя, он никогда не посягает на личную свободу другого, не диктует готовых решений, как бы ни был убежден в своей правоте.
Человек имеет право на ошибку, даже ошибку трагическую, потому что и смерть может стать новым рождением. Грех и искупление неразрывно связаны друг с другом. И не надо лишать человека благодати страдания и наказания. Все во благо, если человек свободен. Вспомним разговор князя с Рогожиным в его доме на Гороховой улице: «Парфен, я тебе не враг и мешать тебе ни в чем не намерен… Своих мыслей об этом я от тебя никогда не скрывал и всегда говорил, что за тобою ей (Настасье Филипповне – Н.Т.) непременная гибель. Тебе тоже погибель… может быть, еще пуще, чем ей» (210). И тем не менее – мешать не намерен. А намерен уговорить встревоженного Рогожина: «Я тебя успокоить пришел, потому что и ты мне дорог». Но не случайно князя не отпускают дурные предчувствия и грустная уверенность в кровавой развязке: слишком неистов, оскорблен, унижен Рогожин. Слишком надломлена Настасья Филипповна. Нет веры, а есть лишь ее подсознательная потребность. Вот и на картину Гольбейна, изображающую невыносимые страдания распятого Христа, Рогожин смотреть любит! Что является, по сути, лишним доказательством принятия им суровой необратимости жизни, ее безудержной жестокости и безысходности; понимание ее как силы, от которой нет спасения.
Это неподъемная для человека ноша, вот почему пытается Рогожин, побратавшись с князем крестами, снять груз со своей души. Но даже просветлев на время сердцем, Рогожин не перестает быть пленником своего кошмара, своей нелегкой «планиды». «Дай же я хоть обниму тебя на прощанье, странный ты человек!» – вскричал князь, с нежным упреком смотря на него, и хотел его обнять. Но Парфен едва только поднял свои руки, как тотчас же опять опустил их. Он не решался: он отвертывался, чтобы не глядеть на князя. Он не хотел его обнимать» (224).
Князь Мышкин, пытаясь воздействовать на Рогожина, потому-то и жалеет его, что в полной мере понимает, сколь могучи силы необузданной стихии жизни. Он и сам их пленник. Выйдя от Рогожина, имея самое определенное представление о «градусе» его переживаний, обладая самыми отчетливыми дурными предчувствиями на его счет, князь поначалу благоразумно взял билет в Павловск, чтобы уехать и лишний раз не искушать безумного страдальца. Но почему-то он «вдруг бросил только что взятый билет на пол и вышел обратно из вокзала, смущенный и задумчивый». И Достоевский это объяснил так: «Его что-то преследовало, и это была действительность, а не фантазия…» (225). Это «вдруг», в полной мере отражающее всю импульсивность и непредсказуемость жизни, мы уже встречали в «Преступлении и наказании». Встретим в этом, да и других эпизодах романа «Идиот», многократно: «Он вдруг как бы что-то припомнил»; «ему вдруг сознательно пришлось поймать себя на одном занятии»; «вдруг начинал как бы искать чего-то кругом себя» и т. д.
Как будто кто-то ведет князя к дому, где должна(?) разыграться кровавая развязка, должно произойти искушение братоубийством. И Мышкин не шел, а влекся туда «почти в тоске», «сердце его билось от беспокойного нетерпения», ибо он чувствовал, что какими-то могучими силами он вовлечен в чудовищный эксперимент, выйти из которого – не в его власти. Приготовляется «высшая проба»: что пересилит – братское единение, духовная породнённость или буйная ревность, неистовая стихия жизни? «Чрезвычайное, отразимое желание, почти соблазн вдруг (!) оцепенили всю его (Мышкина – Н.Т.) волю». И даже зная почти наверняка, что Настасьи Филипповны нет дома – «иначе бы Коля оставил что-нибудь в «Весах», по условию», – князь, тем не менее, идет к ее дому: «конечно, не затем, чтоб ее видеть. Другое, мрачное, мучительное любопытство соблазняло его». Воистину:
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Необъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог (А. С. Пушкин).
Не только Рогожина, но и себя испытывает князь, свое понимание жизни и людей: «Не преступление ли, не низость ли с моей стороны так цинически-откровенно сделать такое предположение!» «Но… разве решено, что Рогожин убьет?! – вздрогнул вдруг князь». «Отчаяние и страдание захватили всю его душу».
Мышкин чувствует всю провокационность своего поведения, вот почему заранее ищет оправдания: «Сердце его чисто: разве он соперник Рогожину?» Но главное – «пусть все это свершится свободно и светло». Ведь преображение Рогожина уже началось: «Рогожин за книгой, – разве уже это не «жалость», не начало «жалости»? Князь отгоняет свои предчувствия: «Нет, Рогожин на себя клевещет; у него огромное сердце, которое может и страдать и сострадать… Когда он узнает истину и когда убедится, какое жалкое существо эта поврежденная, полоумная, – разве не простит он ей тогда все прежнее, все мучения свои? Разве не станет ее слугой, братом, другом, провидением? Сострадание осмыслит и научит самого Рогожина» (232).
Если дела обстоят именно так, то подозрительность князя «непростительна и бесчестна». Он виноват перед Парфеном. К тому же только слепой может не видеть, что Рогожин не злодей, а боец: «Он хочет силой воротить свою потерянную веру. Ему она до мучения теперь нужна…» Но и Мышкину именно так – «до мучения» – нужно убедиться в том, что он непременно встретит «давешние глаза» у дома Настасьи Филипповны, что, увы, оправдаются «ужасные предчувствия князя и возмущающие нашептывания его демона» (234).
И хоть эти мысли мучили князя, хоть ощущает он их как чудовищные и унизительные, но… спор, извечный спор добра и зла, хаоса и умиротворяющей веры уже начался. И Мышкин при всей видимости выбора («вдруг неотразимое желание захватило князя – пойти сейчас к Рогожину, дождаться его, обнять его со стыдом, со слезами, сказать ему все и кончить все разом») уже не властен над собой, ему остается только подчиниться судьбе и ждать, когда все само разрешится.
И когда самые невозможные предчувствия сбылись, когда увидел князь в руках Рогожина нож, занесенный над ним, последнее, что успел выкрикнуть, прежде чем забился в болезненном припадке: «Парфен, не верю!..» Последнее мгновение перед падучей было у князя мгновением «самосознания и в то же время самоощущения в высшей степени непосредственного»: в это время он в полной мере сознавал, что «времени больше не будет», переживая каждую минуту «как высший "синтез жизни». И вот в это, может быть, и в самом деле последнее мгновение жизни князь кричит о главном: он не верит, что Рогожин – убийца, не верит, что чужая душа – потемки, что ничего не значат братание и духовное родство, что единственно мощным рычагом, управляющим человеком, является злоба. Не верит, что свободная «проба» в полной мере выявила крах его благоволения и прекраснодушия. Что человек ведом по жизни не Богом, если поднимается у него рука на брата. Это и многое другое вмещает в себя отчаянно-последнее «Не верю!» князя Мышкина.
Наверное, и Христос не хотел верить в предательство, злобу и коварство людей, к которым пришел он с благой вестью.
Поверить в это так же трудно, как и в то, что все в жизни предопределено заранее и от воли человека мало что зависит. Вот и бунтуют герои Достоевского, пытаясь своим дерзким своеволием, злобной исступленностью или страстной порывистостью вмешаться в ход событий, порушить предопределенность, испытать свои возможности. Все они творят свой свободный выбор, даже если цена за него ужасна, несоразмерна. «Сражаться» приходит к Настасье Филлиповне и Аглая, стремясь расставить все точки в их изнурительных отношениях с князем. Но при этом еще и испытать! Испытать всех: себя, Настасью Филипповну, князя. Тоже своего рода «последняя проба». А иначе зачем она делает то, чего ни при каких обстоятельствах делать была не должна? Она демонстративно унижает свою гордую соперницу, намеренно бестактно цитирует ее личные письма, не забывая при этом «ядовитым взглядом» следить за все более искажающимся от волнения лицом Настасьи Филипповны. «Беспредельная гордость» Аглаи увлекает ее стремительно к опасной черте, когда главным ощущением становится чувство полета в бездну. «Аглая же решительно была увлечена порывом в одну минуту, точно падала с горы, и не могла удержаться пред ужасным наслаждением мщения» (569). Раздавленная, опозоренная Настасья Филипповна «упала в кресла и залилась слезами. Но вдруг…» Это было вдруг явившееся спасение, которым доведенная до края Настасья Филипповна просто не могла не воспользоваться, как не мог не использовать какой-нибудь, пусть даже самый неустойчивый, выступ срывающийся в пропасть человек.
И Настасья Филипповна, «как безумная», выставляет на кон сразу четыре жизни! «А хочешь, – обращается она к Аглае, – я сейчас… при-ка-жу, слышишь ли? только ему (речь, конечно, о Мышкине – Н.Т.) при-ка-жу, и он тотчас же бросит тебя и останется при мне навсегда, женится на мне, а ты побежишь домой одна?… Хочешь, я прогоню Рогожина?… Вот сейчас при тебе крикну: «Уйди, Рогожин!», а князю скажу: «Помнишь, что ты обещал?» (571)
Конфликт обостряется до предела. Жить по-прежнему уже нельзя. Решение рождается в разреженной атмосфере, с жизнью почти несовместимой. Вот почему князю кажется, что порыв Настасьи Филипповны «был так силен, что, может быть, она бы и умерла…» Обе женщины, «как помешанные», ждут решения князя. А сам князь, может быть, и не понимал всей силы этого вызова, «онемев под ужасным взглядом Аглаи», с одной стороны, и «убитым, искаженным» лицом Настасьи Филипповны – с другой, должен был сделать невозможное: немедленно выбрать ту, которую не мог бы оставить… И опять, как и в случае нападения на него Рогожина, все решает провидение. Настасья Филипповна без чувств падает ему на руки. Так сама судьба вручает ему женщину, которой у него «навсегда пронзено сердце». Участь всех четверых была решена. «Рогожин пристально посмотрел на них, не сказал ни слова, взял свою шляпу и вышел». Князь, которого всего несколько минут назад в беспамятстве проклинала Настасья Филипповна, теперь сидел подле нее, «не отрываясь, смотрел на нее и гладил ее по головке и по лицу обеими руками, как малое дитя». Точно так же он будет успокаивать чуть позже убившего ее Рогожина.
Люди в горячке своеволия и гордыни перешли грань, отделяющую жизнь от смерти, попутно уничтожив и того, кого искренне почитали благороднейшим человеком, и кто, вовлеченный в водоворот событий помимо своей воли, стремясь помочь всем, тоже оказался жертвой чудовищных обстоятельств.
«Красота – загадка»
Красота хрупка и уязвима, она волнует еще и потому, что, будучи лучшей частью реального мира, она, как ничто другое, заслуживает лучшей участи, заслуживает любви. С другой стороны, она требует внутренней гармонии и от самого носителя телесной красоты, «чтобы он не жил среди людей в виде фальшивой маски совершенства, вечным соблазном для духовных слепцов».[13] Так возникает и еще одна координата – совесть, и проблема красоты вырастает в важнейшую проблему человеческой жизни.
Понятно, что в романе «Идиот», произведении, посвященном самым глубинным исканиям человеческого духа, в том числе и поискам нравственных скреп между идеальным миром прекрасной души и «черномазой» стихией жизни, Достоевский просто не мог пройти мимо этой проблемы. Красота для Достоевского – это тайна человеческого бытия, понятие почти безбрежное, и в романе она явлена в разных ипостасях: в большей мере как совершенство души (князь Мышкин), и в меньшей как природная гармония. Совершенно особое место в нем занимает красота женская. Красота – свойство многих героинь этого романа. «Странная», «необыкновенная», «невыносимая», «ослепляющая» красота у Настасьи Филипповны. «Совсем красавица» и даже «чрезвычайная красавица» Аглая. «Замечательно хороши собой» и ее сестры Александра и Аделаида, причем о красоте первой сказано, что ее лицо, «прекрасное и очень милое», имеет оттенок Гольбейновой Мадонны, а у Аделаиды, как тонко ощутил князь, лицо самое «симпатичное», «счастливое лицо», как у доброй сестры.
Даже второстепенные женские персонажи чаще всего аттестуются автором именно с точки зрения их внешней привлекательности, при этом и в мимолетном случае автор не отказывается от попытки разгадать тайну женского очарования. К примеру, сестра Гани Иволгина Варвара Ардалионовна характеризуется автором, как «девица лет двадцати трех, среднего роста, довольно худощавая, с лицом не то чтобы очень красивым, но заключавшим в себе тайну нравиться без красоты и до страсти привлекать к себе» (93).
В то время как красавица немка в доме Настасьи Филипповны выполняет чисто декоративную функцию, ибо «была столь же глупа, сколько и прекрасна» (161).
Даже в мельчайших художественных деталях Достоевский обозначает связь красоты с такими категориями, как ум, характер, судьба, и рисует в романе результат их таинственных хитросплетений. Воистину – «красоту трудно судить… Красота – загадка (80), но красота – это еще и сила, с нею можно «мир перевернуть» (84). Человек ощущает органичную тягу к прекрасному. Его сердце прозревает в красоте то высшее проявление блага, ту приобщенность к подлинному совершенству, первозданной гармонии, которые и рождают в сердце восторг любви. Одно только появление красавицы Настасьи Филипповны вызывает «столбняк», «онемение» (у Гани Иволгина); князь Мышкин «остолбенел на месте», на Рогожина «вид ее произвел необыкновенное впечатление, он так побледнел, что даже губы его посинели» (117). Его влечет к ней как к «магниту», как к «божеству какому-то».
Достоевский, как видим, вкладывал исключительный смысл в обличье прекрасной женщины. Заметим, что и женщине обычного внешнего вида писатель придавал важное значение, полагая, что «в ней заключена одна наша огромная надежда, один из залогов нашего обновления». Что же касается роли «положительной и бесспорной красоты в лице русской женщины», то смысл ее преображающего воздействия на людей писатель связывал с правдой «бесспорной и осязательной». Именно в красоте Достоевский усматривал сверхматериальные начала, которые потому и способны улучшить жизнь, что воплощаются они в мире человеческого духа.
Впрочем, не всем понятна красота. Часто на нее смотрят с вожделением, стремясь завладеть ею. Натурами эгоистическими и страстными овладевает слепая решимость «соблазна», при этом, действуя сообразно инстинкту, они не способны оценить подлинного совершенства, проявляя в погоне за внешней красотой лишь собственную нравственную ущербность. Так, о Настасье Филипповне до появления в ее жизни князя Мышкина сказано: «О красоте ее знали все, но и только…»
Настасья Филипповна
И в самом деле, ранен своей страстью Рогожин, который, обращаясь к Настасье Филипповне «со смелостью приговоренного к казни», готов служить своей «королеве», но по сути не понимает ее, не чувствует причин ее внутреннего разлада, он ослеплен лишь ее незаурядной внешностью и экзальтированным поведением. Ганя, будучи женихом Настасьи Филипповны, пребывает в комической «трусливой потерянности» и по-настоящему озабочен лишь собственной корыстью. Для Тоцкого красота Настасьи Филипповны – то источник наслаждения, то предмет щегольства, то досадное излишество. Но, очевидно, что все эти герои, да и остальные тоже, стремятся использовать лишь ее телесную прелесть, не придавая никакого значения ее душевному самочувствию, не пытаясь разгадать эту «фантастическую» женщину, не видя никакого смысла в том разительном контрасте, который так ошеломил князя.
Между тем главное, что изумило Мышкина при взгляде на портрет Настасьи Филипповны, а затем и при их личном знакомстве, – это контраст между «необъятной гордостью, презрением, почти ненавистью», отпечатавшимися на этом необыкновенном по своей красоте лице, и доверчивостью, простодушием, детскостью, свидетельствующими о внутреннем конфликте и неизбежности страданий.
Волна сострадания подхватила и увлекла князя, побудила его целовать портрет прекрасной мученицы. При личной встрече реакция была еще острее. Князь «отступил в изумлении, весь даже вздрогнул» (105) – так сильно, даже невыносимо было впечатление от этой ослепляющей красоты, так испуган был князь глубоким контрастом между божественным совершенством ее облика и нарочитой вульгарностью поведения. Трагедию предвидел князь в этом разладе, трагедию, участником которой он уже не мог не быть.
Глубинная, почти родственная связь, которую Мышкин и Настасья Филипповна при первой же встрече ощутили друг к другу, – это как бы забытые и вновь обретенные духовные узы, о которых всегда мечтается человеку, но в существовании которых разочаровавшийся и отчаявшийся человек так склонен усомниться. Чуть позже Настасья Филипповна признается князю: «Разве я сама о тебе не мечтала? Это ты прав, давно мечтала, еще в деревне у него (у Тоцкого – Н.Т.), пять лет прожила одна-одинехонька; думаешь-думаешь, бывало-то, мечтаешь-мечтаешь, – и вот все такого, как ты, воображала, доброго, честного, хорошего и такого же глупенького…» (176) При первой встрече с князем она тоже опознает его каким-то внутренним зрением: «Право, где-то я видела это лицо!»
Что касается князя, то его приобщенность к судьбе Настасьи Филипповны столь прочна, что один взгляд на ее портрет многое определил в его жизни. Ее красота, в которой «страдания много», стала для него абсолютным критерием, с которым можно, например, сравнить облик ее соперницы Аглаи, и простодушно признать, что та хороша чрезвычайно, почти как Настасья Филипповна, хотя лицо совсем другое!.. (80) (Курсив мой – Н.Т.)
О Настасье Филипповне нельзя забыть. Вот почему при их личной встрече князь сразу признается: «Такою вас именно и воображал…» Более того, она уже настолько для него своя, что он не боится ее прилюдно укорить: «А вам и не стыдно! Разве вы такая, какою теперь представлялись. Да может ли это быть!» (121) И что самое невероятное – гордячка Настасья Филипповна, «вся вдруг вспыхнув и закрасневшись», призналась: «Я ведь и в самом деле не такая, он угадал»(121).
Настасья Филипповна сразу и безоговорочно поверила князю: «А князь для меня то, что я в него в первого, во всю мою жизнь, как в истинно преданного человека поверила. Он в меня с одного взгляда поверил, и я ему верю» (160). Верит же человек в то, что ощущает как самое главное в своей жизни. Характер взаимоотношений князя и Настасьи Филипповны можно назвать борьбой великодуший: каждый из них готов на жертвы ради другого. «Я умру за вас, Настасья Филипповна», – прилюдно клянется князь. Однако в запутанной судьбе этой «фантастической» женщины простых решений нет.
Приняв князя душой, признав за ним право на решение своей судьбы, Настасья Филипповна вновь поверила в то, в чем начала уже сомневаться: в присутствие в жизни добра, совести, любви. Ее дух, изголодавшийся по совершенству, не видя, но желая его, не мог обмануть её. При встрече с Мышкиным почти религиозное откровение пережила Настасья Филипповна, ибо то, что не стоит веры, не стоит ни жизни, ни смерти. В этом смысле Настасья Филипповна – воплощение страдающей, ищущей, мятущейся русской души, которой и свойственны черты, оцененные Достоевским как национальные: простодушие, честность, искренность. Невозможность быть таковой всегда и является источником страданий для Настасьи Филипповны.
Характерно, что фамилия у героини – Барашкова, значит, слабая, нежная, беззащитная, приносимая в жертву. Фамилия эта в евангельском контексте ассоциируется не только с жертвенным агнцем, но и с Богородицей, что в романе подтверждено характером отношения к ней князя Мышкина.
Он имел одно виденье,
Непостижное уму, —
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему.
Отношение князя к ней – это, по сути, отношение рыцаря к богородице. Вот почему замену букв в «Рыцаре бедном» Пушкина – А.М. Д. – на Н.Ф.Б., сделанную Аглаей «с такою явной и злобной насмешкой», князь воспринял как что-то «тяжелое и неприятное», что его «уязвило». Он реагирует на «резкую и легкомысленную» выходку Аглаи как на святотатство. «Что была насмешка, в том он не сомневался», – вот почему «князь долго в чрезвычайном смущении мучился одним неразрешимым для него вопросом: как можно было соединить такое истинное, прекрасное чувство с такою явною и злобною насмешкой?» (254)
А ведь это было отчаяние проигравшей женщины. Аглая первой поняла, что не соперница она Настасье Филипповне. В самом деле, как женщине, возросшей в тепличных условиях любви и заботы, можно соперничать с совершенством, чья сила и красота прошли через очистительный огонь страданий? Чей облик воплотил иконописные черты: «…красота бледного лица, чуть не впалых щек и горевших глаз…»
Поначалу только князь относится к Настасье Филипповне как к божеству: «В вас все совершенство… даже то, что вы худы и бледны… вас не желаешь представить иначе…»(144) А в конце романа, в сцене перед венчанием, вышедшая на крыльцо, «бледная, как мертвец», Настасья Филипповна, поначалу привычно получившая целый букет пошлостей от собравшихся зевак, так посмотрела на них, «большие черные глаза ее сверкали на толпу как раскаленные угли; этого-то взгляда толпа и не вынесла; негодование обратилось в восторженные крики» (594).
Что же произошло с Настасьей Филипповной за небольшой промежуток времени? Что наделило ее такой чудной силой? – Конечно, любовь. Ведь главным источником духовного опыта является именно она. Потому-то и «пронзено навеки» сердце князя, что он этим сердцем доподлинно почувствовал: «…эта женщина, – иногда с такими циническими и дерзкими приемами, – на самом деле была гораздо стыдливее, нежнее, доверчивее, чем можно было о ней заключить» (569).
Вот почему «страдание выразилось на лице его, когда принудила его Аглая к выбору: или я, или Настасья Филипповна. Уйти «под ручку» с Аглаей, оставив за собой Настасью Филипповну с посиневшими губами, с лицом, искаженным страданием, и это после того, как она «в тебя одного поверила», – воистину выбор, достойный проклятья. Невозможно обмануть веры этой «сумасшедшей женщины, которая наделала в своей жизни столько ошибок, которая из одного ложного положения попадает в другое, еще более унизительное и мучительное, и скрывает под маской беспечности такую печаль великую, что обмануть эту впервые поверившую душу – все равно, что надругаться над святыней. И наоборот – ни одна жертва тут не будет лишней.
Аглая и Настасья Филипповна
Что касается Аглаи, то ее отношения с князем пробудили в ней качества собственника. Желание испытать, проверить его, толкнули ее на рискованный эксперимент и… на бестактное поведение. Силой принудив князя присутствовать при объяснении, Аглая в доме Настасьи Филипповны держит себя с ней нарочито грубо и обидно. «Дрожа от ненависти», она обвиняет Настасью Филипповну в том, что та паразитирует на благородном простодушии и безграничной доверчивости князя, что не способна она к высокому чувству, попросту… кривляется, что она, наконец, белоручка! И все это в присутствии протестующего князя, не принимая его в расчет, ненавидя и его вместе со своей соперницей. Бесконечная гордыня и ненависть ведут ее в этой сцене решительного объяснения, когда «самый фантастический сон обратился вдруг в самую яркую и резко обозначившуюся действительность» (566).
Реализовалось то, что подспудно давно тревожило князя в Аглае. Страстно увлекшись ею, ощущая верхом блаженства возможность «беспрепятственно приходить к ней, говорить с нею и гулять», князь эти отношения воспринимает не только как самодостаточные, но и как предел мечтаний: «… этим одним он остался бы доволен на всю жизнь!» (517) Более всего князя привлекает в Аглае качество, которое называют даром небес, – детскость: «Я ужасно люблю, что вы такой ребенок, такой хороший и добрый ребенок!» (526) Но детскость, как верно заметил С. Булгаков, есть «трудный, иногда даже опасный дар, лишь тонкая черта отделяет его от ребячливости… и безответственности».[14] Вот и в поведении Аглаи мы наблюдаем непрерывно двоящийся характер этого дара. С одной стороны, она искренне восхищается «рыцарем бедным», а с другой стороны, унижает его: «…здесь все, все не стоят вашего мизинца, ни ума, ни сердца вашего! Вы честнее всех, добрее всех, умнее всех! Здесь есть недостойные нагнуться и поднять платок, который вы сейчас уронили… Для чего же вы себя унижаете и ставите ниже всех? Зачем вы все в себе исковеркали, зачем в вас гордости нет?» (343) Как видим, это не сердечный укор, а публичный выговор.
Так, балансируя между детской непосредственностью и хамоватой ребячливостью, подошла она к организованной ею же самой развязке. Ощущения у князя перед решающей сценой объяснения двух дорогих ему женщин самые мрачные. И касается это не «больной», «сумасшедшей», «помешанной» Настасьи Филипповны, а ее счастливой соперницы – бойкой, благополучной, по-своему влюбленной в него Аглаи. К этому времени князь уже «не считал ее за ребенка! Его ужасали иные взгляды ее в последнее время, иные слова. Иной раз ему казалось, что она как бы уж слишком крепилась, слишком сдерживалась, и он припоминал, что это его пугало. Правда, во все эти дни он старался не думать об этом, гнал тяжелые мысли, но что таилось в этой душе? Этот вопрос давно его мучил, хотя он и верил в эту душу» (564) (Курсив мой – Н.Т.)
Его вере, увы, не удалось оправдаться, – и в сцене объяснения двух соперниц Аглая нравственно «падает». Именно так сформулировал Достоевский в своих планах к роману смысл происшедшего с Аглаей. Придя унизить Настасью Филипповну (красоту!), Аглая «падает» сама, утрачивая при этом и черты внешней привлекательности. Как горько заметила Настасья Филипповна: «… только все-таки я о вас лучше думала; думала, что вы и умнее, да и получше даже собой, ей-богу!..» (571) А лицо Настасьи Филипповны после пережитых унижений и страданий, как помним, приобрело иконописный оттенок. В нем теперь ощущается истовость убеждений, готовность к самоотречению; оно так «пронзает» своим совершенством, что князь, ожидая невозможного, «боится ее лица».
Напомним, что прямо с первых страниц романа заявлено, что у князя «по прирожденной болезни» могут быть только платонические отношения с женщинами. Духовная любовь есть голод души по божественному, не все могут его испытывать, и, конечно, все по-разному его утоляют. Одни благоговейно, самоотреченно, жертвенно; другие алчно, эгоистично, не заботясь о состоянии питающего источника. В этом смысл и разного отношения женщин к князю. Аглая распоряжается князем как своей собственностью, принуждая его соответствовать ее представлениям об избраннике, и превращает его при этом в «невольника». Мы помним, что на объяснение к Настасье Филипповне он пошел за Аглаей, «как невольник», и «не ему было остановить этот дикий порыв» (565). Настасья Филипповна, выстрадавшая свой идеал, воспринимает князя как источник веры. И столь глубоко это чувство, что князь именно за Настасьей Филипповной оставил право явиться в самый последний момент и разорвать «всю судьбу его как гнилую нитку» (564). И это при том, что «сердце его было чисто: он знал, кого он любил…» (564) Речь идет об Аглае.
Гибель Настасьи Филипповны
Настасья Филипповна предчувствовала кровавую развязку: «перед венчанием она вскрикивала, дрожала, кричала, что Рогожин спрятан в саду, у них же в доме, что она его сейчас видела, что он ее убьет ночью… зарежет!» Но более всего она думает о князе: «Что я делаю! Что я делаю! Что я с тобой-тоделаю!»
Страх бросил Настасью Филипповну в руки обезумевшего от ревности Рогожина. Но страх не перед ножом его, а перед неотвратимостью очередного компромисса, разрешить который измученной Настасье Филипповне уже не по силам, да и не хочется. Очевидно, что бежит она от князя и думает только о нем. Это уже не боязнь испортить князю жизнь, как было вначале («Этакого-то младенца сгубить?»), не стыд от того, что «рогожинскую» берет да уважать и любить будет недостойную. Скорее, это возмездие себе самой за то, что «пять лет в… злобе потеряла», что душу свою замутила, что устала от вечного разлада с собой. От себя, утратившей духовную значимость и внутреннюю гармонию, бежит Настасья Филипповна, устремляясь к себе, истинной.
Оценивая гибель Настасьи Филипповны только как следствие роковой страсти Парфена Рогожина, мы умаляем её личность, снижаем масштаб ее духовного самотворчества. Между тем смерть, так же как и жизнь, таинственна и значительна. И в ней самооткровение человека. Вот и Настасья Филипповна свободно выбрала единственный для себя верный путь – отречением от жизни победила муки совести и невыносимый разлад. Та божественная идея, которая заложена была в ней, преодолела «земные необходимости». Свободно выбранная смерть стала неоспоримым доказательством ее любви. Это понял и оценил даже Рогожин, приведший князя к ложу своей навсегда успокоившейся «королевы». Она показала, что ей под силу соответствовать своему призванию, своей красоте, своему имени: Анастасия – «воскресшая».
Настасья Филипповна, поступая по совести (к чему, как помним, и призывал ее князь), в своем выборе осуществляет волю к духовному совершенствованию, возносясь при этом на высоту недосягаемую. Красота, которую на земле воплощала Настасья Филипповна, ушла из жизни, и это трагедия. Но она ушла, приобщившись таинственной и прочной гармонии между Творцом и человеком; ушла, узрев свою собственную сущность, божественно отпечатавшись в жизни. А значит – ушла состоявшись. Именно этот свет победоносного духа и разлит в трагической концовке романа.
Сущность же трагедии состоит в том, что в жизни Настасья Филипповна столкнулась с неразрешимыми, непреодолимыми препятствиями, которые порождены были самыми разными причинами: и конкретно-личными свойствами людей, её окружающих, и объективной природой вещей – несогласуемостью должного и неизбежного, столкновением чуткого духа с чужой пошлостью и слепотой.
Эти же проблемы постоянно решает и князь, черпая силы в любви и терпении. Однако и он устремляется в ту же воронку, которая унесла душу раскрасавицы Настасьи Филипповны. Так подтвердилась аксиома: Дух без Красоты, так же, как Красота без Духа, существовать не могут. Последним штрихом мотивировалась связь, сознаваемая героями как неразрывная. Так трагедия покинувшей Землю Красоты стала трагедией Духа.
Видимо, прав был Лев Толстой, и «человек в своей жизни то же, что и дождевая туча, выливающаяся на луга, поля, леса, сады, пруды, реки. Туча вылилась, освежила и дала жизнь миллионам травинок, колосьев, кустов, деревьев и теперь стала светлой, прозрачной и скоро совсем исчезнет. Так же и телесная жизнь доброго человека: многим и многим помог он, облегчил жизнь, направил на путь, утешил и теперь изошел весь и, умирая, уходит туда, где живет одно вечное, невидимое, духовное».[15]
Впрочем, кроме небесного плана, в романах Достоевского всегда присутствует обыденный и даже пошловато-сниженный уровень. То автор преподнесет его в виде бытующих сплетен (особенно густой их завесой окутана жизнь Настасьи Филипповны; впрочем, и о князе Мышкине, и о Рогожине тоже довольно много судачат); то введет как «житейский» аргумент в споре; то «озвучит» его устами резонерствующих героев, Евгения Павловича Радомского, например. И тогда становится очевидно, что духовная скудость, будучи не в силах объять необъятное, выступает в качестве своеобразного «фильтра», выдающего сложнейшие нравственные перипетии в незначительном, пошлом, опустошенном виде. И тогда можно с легкостью судить и выносить приговоры, строить занимательные гипотезы, всласть сплетничать.
Присутствие этого житейски обыденного плана в полной мере удостоверяет то, что истинный смысл происходящего можно увидеть только в крупном масштабе, что так называемый здравый смысл по сути фальсифицирует происходящее, лишая его объективной значительности и божественной сущности. Так, упоминавшийся уже Евгений Павлович увещевал как-то князя: «Согласитесь сами, князь, что в ваши отношения к Настасье Филипповне с самого начала легло нечто условно-демократическое… так сказать, обаяние «женского вопроса».
Ему, доморощенному мудрецу, все ясно: князь обманул «божественную девушку» Аглаю, предпочтя "невыносимую, бесовскую гордость… и такой наглый, такой алчный» эгоизм Настасьи Филипповны. Понятно, что «виноват» в этом «головной восторг» экзальтированного князя и ничто другое. Надо только этому «бедному идиоту» все хорошенько растолковать, и тогда все может «встать на свои места». А «места» эти в сознании пошлого человека тоже определены раз и навсегда. Здесь не может быть двух «любвей», как не может быть и вопроса: «Почему мы никогда не можем всего узнать про другого?…»
В этом арифметическом мире посягают судить о священных предметах, не отдавая себе отчета в том, что речь идет об абсолютных ценностях, к каковым, прежде всего, относится сам человек, искание им добра и красоты. Именно притязательная нескромность, забвение своих границ и скоропалительность оценок приводит к опошлению человека, что, в свою очередь, выводит его за пределы абсолютных истин и толкает к личной катастрофе – он «нравственно падает».
Именно этот путь прошла «чрезвычайная красавица» Аглая. Ей многое было дано в жизни: красота, дружная семья, любовь к ней князя. Но «загадка» ее красоты разрешилась по-земному мелко и нелепо. То, что поначалу воспринималось окружающими как капризы красавицы, как дерзости домашней любимицы, постепенно приобрело отчетливый характер духовной слепоты и взбалмошного эгоизма. Ее чувство к князю носит покровительственный характер. Она, пожалуй, более стесняется его своеобразия в глазах обычных людей, чем отождествляет себя с любимым, и в качестве счастливой соперницы она не выказала ни великодушия, ни сострадания.
Вот почему всегда помнятся сказанные о ней слова ее матери Лизаветы Прокофьевны, которая хоть и любя, но грубовато-точно аттестовала дочь так: «Девка своевольная, девка фантастическая, девка сумасшедшая! Девка злая, злая, злая! Тысячу лет буду утверждать, что злая!» (322)
Гордость, самолюбие, боязнь показаться смешной – всё это свидетельства чрезмерной любви к себе и недостатка любви к другому. Чужие ценности для такого человека не становятся такими же дорогими, как собственные.
Именно это, видимо, и имел в виду Достоевский, когда устами князя Мышкина передал впечатление от красоты Аглаи и уклонился от оценки ее человеческих качеств: «Красоту трудно судить…»
И дело здесь не только в том, что Аглая намного превосходила всех своей прелестной внешностью. Дело в отношении самого князя к красоте. Его дар заключался в том, что он отыскивал в пестрой картине мира подлинные ценности, будь то их полное воплощение или бледные следы, намеки на них. Его любовный, приемлющий взгляд полон снисхождения к людям. Он всегда готов найти извиняющие мотивы даже для дурных поступков. Что уж говорить о тайне красоты, когда только Богу ведомо, какую жизненную стезю изберет ее обладатель, как распорядится своим незаурядным даром!
Вот почему к красоте у князя не только эстетическое отношение. Да, он был самым чутким ее поклонником (во всех формах и проявлениях), самым пылким ценителем, можно даже сказать, что он был Рыцарем Красоты, но созерцание красоты рождало в нем к тому же надежду на ее силу, веру в ее созидательный характер. Он потому-то и служит красоте, что она для него – божественная концентрация жизни, ее нравственный стимул. Вот отчего рождается стремление защитить красоту от грязи и унижений, вот отчего налицо безусловное служение ей. И, конечно, нельзя, невозможно предать разбуженный тобой процесс духовного самосозидания, который лишь один может привести к абсолютному воплощению красоты в ее земных пределах.
Вот почему именно Настасья Филипповна является хозяйкой его сердца, что именно в ней ощутил он готовность к духовному возрастанию, именно в ней распознал дар самотворчества. Более того, в этой красавице князь ощущал решимость пройти этот путь до конца: ее мятежное, страдающее сердце жаждало гармонии. Так открывается в полной мере смысл диалога князя и генеральши Епанчиной о Настасье Филипповне:
«– Так вы такую красоту цените?
– Да… такую… – отвечал князь с некоторым усилием.
– То есть именно такую?
– Именно такую.
– За что?
– В этом лице… страдания много… – проговорил князь как бы невольно, как бы сам с собою говоря, а не на вопрос отвечая (83).
Что касается благополучной Аглаи, то, конечно, ее духовный опыт несопоставим с жизненным опытом Настасьи Филипповны. Это в полной мере проявилось в ее отношении к князю Мышкину, и в особенностях его чувства к ней, и в событиях ее дальнейшей жизни. После трагически возвышенного ухода из разума князя и вообще из жизни Настасьи Филипповны вся последующая судьба Аглаи представляется особенно суетно-земной и досадной. Ее духовная близорукость и склонность к идолопоклонству в полной мере проявились в истории ее скоропалительного замужества – «после короткой и необычайной привязанности к одному эмигранту, польскому графу, вышла вдруг за него замуж» (614). Как и следовало ожидать, граф этот при ближайшем рассмотрении оказывается «даже и не граф, а если и эмигрант действительно, то с какою-то темною и двусмысленною историей» (615).
Более того, духовная сумятица привела Аглаю «в католическую исповедальню какого-то знаменитого патера, овладевшего ее умом до исступления» (615).
Итак, она отбилась от России, от православия, от семьи, ибо ее новые наставники «успели совершенно поссорить Аглаю с ее семейством», навели «террор», как выразилась генеральша. И все это произошло с человеком, которому встретился князь Мышкин, в чьей жизни было дружное семейство, готовое устроить ее жизнь «возможным идеалом земного рая» (41) и настроившееся для этого на самые великодушные жертвы. И все впустую. Почему? Отчего ценнейший духовный опыт не был усвоен «раскрасавицей» Аглаей?
Очевидно, не хватило ей собственной значительности, что отнюдь не равнозначно гордости, которой у Аглаи, кстати сказать, явный избыток. Не достало понимания истинного ранга вещей и людей. Не восприняла она от князя навыков сердечного созерцания, чувства ответственности, – она вообще выказала малую склонность к духовному ученичеству. Да и ее чувство к князю слишком слабо напоминает любовь – так мало в нем доброты и самоотвержения. И, как результат, Аглая поглощена жизненным вихрем, она – его жертва. Ее жизнь – «дар напрасный, дар случайный».
Это тоже трагедия красоты. Но трагедия в ее земных пределах, в которых небо благосклонного участия не принимает. Конечно, все это чуть не с самого начала было ведомо князю, давно брезжила ему эта печальная развязка. Тем большее мужество требовалось от князя, тем большая убежденность в правоте сделанного выбора, тем большая любовь к хрупким носителям красоты.
Мышкин и Ипполит Терентьев
В начале июня происходит знакомство князя Мышкина с Ипполитом Терентьевым, юношей из компании «сына Павлищева». Это был «очень молодой человек, лет семнадцати, может быть и восемнадцати, с умным, но постоянно раздраженным выражением лица, на котором болезнь наложила ужасные следы. Он был худ как скелет, бледно-желт, глаза его сверкали, и два красных пятна горели на щеках. Он беспрерывно кашлял; каждое слово его, почти каждое дыхание сопровождалось хрипом. Видна была чахотка в весьма сильной степени. Казалось, что ему оставалось жить не более двух-трех недель» (260–261).
Как видим, уже при первом знакомстве с Ипполитом бросается в глаза, что самими обстоятельствами своей жизни он поставлен в особые отношения со временем: прошлого почти нет – герой очень молод, а от будущего он отрезан смертельной болезнью. Находясь в таком состоянии, трудно не думать о времени и о жизни, впрочем, как и о смерти тоже. Именно такое – осмысленное отношение к действительности, к каждой ее утекающей минуте, мы и встречаем у этого героя. И в этом смысле сопоставление его с князем Мышкиным кажется почти неизбежным. Тем более что есть и другие временнЫе и смысловые скрепы, соединяющие этих героев.
К моменту их встречи и чтения Ипполитом своего «Необходимого объяснения» умирающий юноша шесть месяцев (как и Мышкин к этому моменту!) думал и передумал все. Ипполит признается: «Не хочу солгать: действительность ловила и меня на крючок в эти шесть месяцев и до того иногда увлекала, что я забывал о моем приговоре, или, лучше, не хотел о нем думать и даже делал дела (397).
О князе тоже сказано: «О, много, много вынес он совсем для него нового в эти шесть месяцев, и негаданного, и неслыханного, и неожиданного» (230).
И из жизни Ипполит уйдет почти тогда же, когда оставит разум князя Мышкина: «Ипполит скончался в ужасном волнении и несколько раньше, чем ожидал, недели две спустя после смерти Настасьи Филипповы» (613).
Очевидно, что между этими героями автором установлена прочная связь, позволяющая пристально рассмотреть проблемы, отражающие способы существования человека в настоящем времени. Наблюдения над этими героями позволяют выявить сложнейший характер их диалога в романе, где наряду с принципиальными расхождениями, встречается множество совпадений, которые, конечно, случайными быть не могут. Рассмотрим же их.
Обреченный на скорую смерть, Ипполит в сердцах досадует на то, что он лишний: «Согласен, что я мог тогда злиться на темный и глухой жребий, распорядившийся раздавить меня как муху и, конечно, не зная зачем…» (394) Его протест вызван «насмешливостью» природы, которая по отношению к нему продемонстрировала «темную, наглую и бессмысленно-вечную силу».
Но эти же чувства испытывает и Мышкин! «Я знаю, что я… обижен природой… в обществе я лишний…» (342–343) Ему лучше других понятно отчаяние Ипполита, потому что и он чувствовал себя такой же «мушкой» в «горячем солнечном луче», про которую чахоточный юноша в своем «Объяснении» написал так: даже она «знает свое место и в общем хоре участница".
Ипполит разбудил в князе мучительные воспоминания о том времени, в самом начале лечения, когда в Швейцарии «он раз зашел в горы, в ясный солнечный день, и долго ходил с одною мучительною, но никак не воплощавшеюся мыслию. Перед ним было блестящее небо, внизу озеро, кругом горизонт светлый и бесконечный, которому конца-края нет. Он долго смотрел и терзался. Ему вспомнилось теперь, как простирал он руки свои в эту светлую, бесконечную синеву и плакал. Мучило его то, что всему этому он совсем чужой. Что же это за пир, что ж это за всегдашний великий праздник, которому нет конца и к которому тянет его давно, всегда, с самого детства, и к которому он никак не может пристать… И у всего свой путь, и всё знает свой путь, с песнью отходит и с песнью приходит; один он ничего не знает, ничего не понимает, ни людей, ни звуков, всему чужой и выкидыш» (425–426).
Как видим, даже словесное совпадение в фиксации сходных ощущений. Вот почему, когда Ипполит подойдет к князю узнать его мнение о своей «тетрадке», тот скажет юноше, что «она искренна, и,… даже самые смешные стороны ее… искуплены страданием, потому что признаваться в них было тоже страдание и… может быть, большое мужество. Мысль, вас подвигшая, имела непременно благородное основание, что бы там ни казалось» (521).
Есть и еще одно важнейшее совпадение в ощущении жизни этими героями. Дело в том, что в текущей жизни люди обычно не задумываются, какое это сокровище – время. Ипполиту досадно, что большинство «слишком жизнью не дорожат, слишком дешево повадились тратить ее, слишком лениво, слишком бессовестно ею пользуются, а стало быть, все до единого недостойны ее!» (396)
Вспомним рассказ князя о смертной казни: «Что, если бы не умирать! Что, если бы воротить жизнь, – какая бесконечность! И все это было бы мое! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил!» (63–64)
Автобиографичность этого фрагмента сомнений не вызывает. Известно, что через много лет Анна Григорьевна Достоевская сделала к приведенному эпизоду следующий комментарий: «Для Федора Михайловича были чрезвычайно тяжелы воспоминания о том, что ему пришлось пережить во время исполнения над ним приговора по делу Петрашевского, и он редко говорил об этом. Тем не менее довелось раза три слышать этот рассказ и почти в тех же самых выражениях, в которых он передан в романе…»[16] Князь Мышкин высказал и еще одну заповедную авторскую мысль о том, что человек не может жить с твердым знанием того, что через определенное время он наверняка умрет. Вот почему бесчеловечны, невозможны смертные приговоры даже за смертные грехи: «А ведь самая главная, самая сильная боль, может, не в ранах, а вот что вот знаешь наверно, что вот через час, потом через десять минут, потом через полминуты, потом теперь, вот сейчас – душа из тела вылетит, и что человеком уж больше не будешь, и что это уж наверно; главное то, что наверно(24). А Ипполит с этим наверно живет!
Мысль о ценности человеческой жизни является очевидной до банальности, что, собственно, и дало повод сестрам Епанчиным для иронии над князем. Аглая: «С вашим квиетизмом можно и сто лет жизни счастьем наполнить». Александра: «… вы, князь, верно, хотели вывести, что ни одного мгновения на копейки ценить нельзя, и иногда пять минут дороже сокровища».
Между тем, если и «копеечка», «единичная милостыня», как называет ее Ипполит, есть факт приобщения к другой человеческой жизни, – то что говорить о брошенных семенах мыслей, душевном участие в чужой судьбе! И опять эта идея, положенная в основание образа князя Мышкина, встречает развернутую аргументацию в речах Ипполита Терентьева: «Бросая ваше семя, бросая вашу «милостыню», ваше доброе дело в какой бы то ни было форме, вы отдаете часть вашей личности и принимаете в себя часть другой; вы взаимно приобщаетесь один к другому… Вы непременно станете смотреть наконец на ваше дело как на науку; она захватит в себя всю вашу жизнь и может наполнить всю жизнь. С другой стороны, все ваши мысли, все брошенные вами семена, может быть уже забытые вами, воплотятся и вырастут; получивший от вас передаст другому. И почему вы знаете, какое участие вы будете иметь в будущем разрешении судеб человечества? Если же знание и целая жизнь этой работы вознесут вас наконец до того, что вы в состоянии будете бросить громадное семя, оставить миру в наследство громадную мысль, то…»(406–407)
Воистину трагическим светом наполняется образ чахоточного юноши, который приблизился к вековечной системе ценностей и собирался ее осуществить в своей реальной жизни. Собирался, но не смог, не успел. В порыве откровенности он признается: «Я хотел жить для счастья всех людей, для открытия и возвещения истины… Я смотрел в окно на Мейерову стену и думал только четверть часа говорить и всех, всех убедить…» (300) Но, увы… ничего не вышло. «И никакого– то воспоминания не сумел оставить! Ни звука, ни следа, ни одного дела, не распространил ни одного убеждения!..» Эта невоплощенность для него поистине ужасна. То, что ему не удалось состояться во времени, так невыносимо, что, «если бы не подвернулась эта чахотка, я бы сам убил себя…» – признается он в отчаянии.
Но одного хотения «быть деятелем» для человека мало. Действительность не всегда поддается слову. Человек мучается от невыразимости, от того, что его желание чаще всего не совпадает с логикой текущего времени, но более всего от того, что «мысль изреченная есть ложь». В этой невоплотимости человека скрыт подлинный трагизм бытия. С ним в полной мере знакомы те, кто осмысленно проживает свои дни, кто ставит перед собой задачу «быть деятелем» (Ипполит), кто «мысль имеет поучать» (князь), – одним словом, те, кто хотел бы воплотиться и в текущей минуте, и в вечности.
И снова в переживаниях князя Мышкина и Ипполита замечаем много общего. Вспомним слова князя, обращенные им к «дачному обществу»: «Есть такие идеи, есть высокие идеи, о которых я не должен начинать говорить, потому что я непременно всех насмешу… У меня нет жеста приличного, чувства меры нет; у меня слова другие, а не соответствующие мысли, а это унижение для этих мыслей» (343). По сути, об этом же говорит и Ипполит: «… во всякой гениальной или новой человеческой мысли, или просто даже во всякой серьезной человеческой мысли, зарождающейся в чьей-нибудь голове, всегда остается нечто такое, чего никак нельзя передать другим людям, хотя бы вы исписали целые тома и растолковывали вашу мысль тридцать пять лет; всегда останется нечто, что ни за что не захочет выйти из-под вашего черепа и останется при вас навеки; с тем вы и умрете, не передав никому, может быть, самого-то главного из вашей идеи» (396).
Как легко заметить, между этими двумя героями автор устанавливает прочные параллели, самая существенная из которых – ориентация на настоящее время, стремление оставить след в судьбах встретившихся людей. Но с п о с о б их существования в текущей минуте столь же различен, сколь несхожа трактовка апокалипсической формулы «Времени больше не будет». Если для Ипполита она имеет лично-трагический смысл: «У мертвого лет не бывает…»(299), – то для Мышкина эти слова отражают состояние, «когда вдруг, среди грусти, душевного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся его мозг и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его.
Ощущение жизни, самосознания почти удесятерялось в эти мгновения, равные молнии. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полной ясной, гармоничной радости и надежды, полное разума и окончательной причины» (227).
Это описание эпилептического припадка. Именно в минуты припадка Мышкин осознавал гармонию и красоту как реальнейшие явления, составляющие вместе с его трепещущей от счастья душой высшей синтез жизни. Именно в такие моменты полноты бытия открывается Мышкину смысл проживаемой секунды, которая по интенсивности переживания счастья «могла бы стоить всей жизни» (228).
В написанном позже романе «Бесы», в диалоге Ставрогина и Кириллова, Достоевский вновь вернется к мысли о соотношении времени и вечности:
«– Жизнь есть, а смерти нет совсем.
– Вы стали веровать в будущую вечную жизнь?
– Нет, не в будущую вечную, а в здешнюю вечную. Есть минуты, вы доходите до минут, и время вдруг останавливается и будет вечно.
– Вы надеетесь дойти до такой минуты?
– Да.
– Это вряд ли в наше время возможно… В Апокалипсисе ангел клянется, что времени больше не будет.
– Знаю. Это очень там верно; отчетливо и точно. Когда весь человек счастья достигнет, то времени больше не будет, потому что не надо. Очень верная мысль.
– Куда ж его спрячут?
– Никуда не спрячут. Время не предмет, а идея. Погаснет в уме».
Для Ипполита, время которого подобно шагреневой коже, оно и идея, и предмет. Его бытование в романе сопровождается самым точным хронометражем. Свое «Объяснение» он хочет непременно читать на восходе солнца, без конца спрашивая «Который час?» Нечаянно заснув, он почти в панике: «Я проспал. Долго я спал?» И когда в ответ услышал предельно точное: «Вы спали семь или восемь минут» – то вначале жадно переводит дух, а вслед за тем не без сарказма замечает: «А вы уж и минуты считали, пока я спал…"
Помните портрет Ипполита: «Казалось, что ему оставалось жить не более двух-трех недель»? И хотя на самом деле он прожил еще около двух месяцев, но и этот срок достаточным не назовешь… Вот почему свои буквально считанные дни он и в самом деле тщательно учитывает, и тут для него важно все: сколько времени ему потребовалось на написание своей «тетрадки» («Я писал это вчера весь день, потом ночь и кончил сегодня утром»).
Он думает о том, сколько времени может занять чтение («сорок минут, ну – час») и так постоянно и во всем. При этом, стремясь, если не укротить, то хотя бы угадать направление жизненного потока, Ипполит лучше других понимает, какая это страшная и безжалостная сила – время.
Категория судьбы – самая болезненная в размышлениях несчастного юноши. Он «раздавлен решением судьбы» не только в тот момент, когда монетка упала на «орел», что означало – «читать!» Для него это еще одно подтверждение: незримый режиссер окончательно решил перейти к последнему акту его драмы: "Он не побледнел бы более, если б ему прочли смертный приговор» (386). Воистину судьба имеет самые реальные очертания, «это не выдумка, а жесточайшие клещи, в которые зажата наша жизнь».[17] Ипполит так взволнован потому, что сама судьба отрезала ему путь к отступлению, и теперь ему предстояло не только выстроить логику собственной жизни и смерти, но и соединить ее с логикой текущей минуты, по собственной воле распорядиться оставшимся в его распоряжении временем.
Одним словом, ему предстояло перевести время из «предмета» в «идею». Противопоставить судьбе своё гордое своеволие.
Свой «протест» Ипполит задумывает как символический акт: он собирается покинуть этот мир, когда солнце «зазвучит» на небе. Он рад, что отвергнет жизнь в день рождения князя, когда тот «такой счастливый». Он сознательно откажется от всего, что люди почитают за «источники жизни». Именно эта последняя жертва, думается ему, и даст ему возможность быть услышанным и понятым: «Не хочу уходить, не оставив слова в ответ, – слова свободного, а не вынужденного, – не для оправдания, – о нет! просить прощения мне не у кого и не в чем, – а так, потому что сам желаю того» (414).
Вот почему с таким «диким любопытством» и горячечным волнением вслушивается Ипполит в развернувшийся между гостями спор об Апокалипсисе, в аргументы о близком конце света, развиваемые Лебедевым в его «диссертации». Ведь они как будто подтверждают правоту его собственных выводов: мир устремился по ложному пути. Цивилизация и прогресс не могут быть истинным смыслом жизни. И не «железные дороги» мутят «источники жизни», а то, что "все это настроение наших последних веков, в его общем целом, научном и практическом, может быть, и действительно проклято-с» (375). «Кредитом» нельзя спасти мир. Невозможно установление всеобщего счастья и мира из необходимости.
Между тем прежде такая связующая мысль была, "было же нечто сильнейшее костров и огней… Была же мысль сильнейшая всех несчастий, неурожаев, истязаний, чумы, проказы и всего того ада, которого бы и не вынесло то человечество без той связующей, направляющей сердце и оплодотворяющей источники жизни мысли!» (381)
Человек сам виноват в том, что утратил сокровище, что позволил дьяволу «владычествовать человечеством до предела времен», что относится как к норме, как к закону к процессу саморазрушения. Это в конечном счете влечет появление в обществе таких «друзей человечества», которые благие цели возведут на шатком нравственном основании и в угоду своему тщеславию готовы будут обратиться из «друзей» в «людоедов человечества». Вот почему горек и неутешителен главный итог дискуссии: «Богатства больше, но силы меньше; связующей мысли не стало; всё размягчилось, всё упрело и все упрели! Все, все, все мы упрели!.. (381) И это троекратно повторенное «все» не позволяет никому снять с себя ответственность за растянувшийся во времени конец света.
Не может же быть связующей идея, вынесенная в эпиграф сочинения Ипполита: «После меня хоть потоп». А между тем чтение Ипполитова «Объяснения», состоявшееся «на фоне» Апокалипсиса и под впечатлением от его трактовки Лебедевым, по сути, явилось вариантом ответа на прозвучавшие вопросы. Ипполит попытался изложить собственное представление о конце света.
И сильные стороны философии Ипполита – те, где он ближе всего подходит к князю Мышкину. Между тем его окончательные выводы о жизни, которые Ипполит сделал, абсолютно неприемлемы, и не только для князя, но и для всех свидетелей его исповеди. Они отреагировали на его «Объяснение» резко и грубо: «Ну, это уж черт знает что такое, этак расстегиваться! – заорал Фердыщенко. – Что за феноменальное слабосилие!
– Просто дурак, – сказал Ганя…
– О, мне решительно все равно! Сделайте одолжение, прошу вас, оставьте меня в покое, – брезгливо отвернулся Евгений Павлович» (418).
И даже Мышкин в момент всеобщего негодования не вступился за Ипполита, не сделал никаких «распоряжений». Он вскоре пожалеет об этом и попросит у юноши прощения, но в сложившуюся ситуацию не вмешается. И это, конечно, не было случайным. Попробуем в этом разобраться.
Бунт Ипполита
«Бунт» Ипполита, с одной стороны, основывается на «логической цепи выводов», а с другой стороны, он в полной мере отражает тот мощный процесс, который протекает в его подсознании. Не случайно в «статье» содержится описание трех снов, которые во многом раскрывают его жизненное самочувствие и, одновременно, фиксируют важнейшие импульсы, повлиявшие на это «последнее убеждение». Остановимся на них.
В первом сне Ипполит увидел «одно ужасное животное, какое-то чудовище. Оно было вроде скорпиона, но не скорпион, а гаже и гораздо ужаснее». Ипполит во всех подробностях рассмотрел противного и коварного гада, который собирался ужалить его своим смертельным ядом. Свою реакцию на это отвратительное пресмыкающееся Ипполит выразил так: «Я ужасно боялся, что оно меня ужалит; мне сказали, что оно ядовитое, но я больше всего мучился тем, кто его прислал в мою комнату, что хотят мне сделать и в чем тут тайна?» (391) То есть не столько ощущение опасности, сколько непонимание того, откуда беда исходит, доставляет юноше подлинные мучения. Явившаяся на выручку мать кликнула собаку, которая и разгрызла гада, получив при этом укус в язык. Собака во сне Ипполита тоже необыкновенная: это было животное, умершее пять лет назад.
Символический характер сновидения проявляется еще и в том, что в испуге той собаки «было что-то как будто очень необыкновенное, как будто тоже почти мистическое, и что она, стало быть, тоже предчувствует, как и я, что в звере заключается что-то роковое и какая-то тайна (392).
Обратим внимание на синонимы, которыми Ипполит обозначает свое тревожное видение: «ужасное животное», «пресмыкающийся гад», «скорпион», «зверь», «змейки». В обличье этого мистического существа явно угадывается трезубец: "На вершок от головы из туловища выходят, под углом в сорок пять градусов, две лапы, по одной с каждой стороны, вершка по два длиной, так что все животное представляется, если смотреть сверху, в виде трезубца» (391).
Если мы попытаемся расшифровать эти символы, то обнаружим складывающийся в единую картину смысл: зверь Апокалипсиса обычно изображается в виде змеи или дракона, потому что именно они являются врагами духа и извращением высших качеств. Скорпион в символике соответствует тому периоду в жизни человека, который находится под угрозой смерти.
Этот символ эквивалентен символу палача. Трезубец представляет собой искаженную форму креста, и содержит указание на порочный характер предмета, знаменуя собой утроенную враждебность.
Таким образом, Достоевскому удалось раскрыть глубины подсознательного героя, его страх смерти и при этом верно воспроизвести логику характера и скрытые импульсы Ипполитова мирочувствования.
Предельность личного времени при его всеобще-разрушительном характере вызывает у Ипполита чувство бессилия и отвращения. А потому, не найдя смысла ни в прошлой истории, ни в собственном своем существовании, решается Ипполит на демонстративный протест, присвоив себе право, которое человеку не дано. Юноша в гордой запальчивости восклицает: «Я умру, прямо смотря на источник силы и жизни, и не захочу этой жизни! Если б я имел власть не родиться, то наверно не принял бы существования на таких насмешливых условиях. Но я еще имею власть умереть, хотя отдаю уже сочтенное. Не великая власть, не великий и бунт» (417).
Выбор пути есть результат победы добра или зла, одержанной человеком над самим собой. Речь Ипполита – это еще и вызов, эпатаж. По окончании чтения «самое высокомерное, самое презрительное и обидное отвращение выразилось в его взгляде и улыбке. Он спешил своим вызовом» (417).
Как на вызов люди и ответили – встречным вызовом. Его нелюбовь к окружающим как бумеранг вернулась к нему.
Сообщение о смерти Ипполита в романе при всей его лаконичности включает те же характеристики, что определяли весь ход его жизни: «Ипполит скончался в ужасном волнении несколько раньше, чем ожидал» (613). Не удалось ему «добродетельно» умереть, не смог он выполнить совета князя: «Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье!»
Что такое идеал?
Очевидно, что одного умозрения идей еще очень мало для изменения даже одной – своей собственной жизни. Ближе всех к разгадке времени подходят те, кто имеет дар подмечать в жизни, в каждом ее предмете то, что заслуживает любви.
Вот почему человечество так чтит своих поэтов и художников, способных узреть в текущем мгновении черты вечности, ту божественную красоту, что делает каждый предмет «окном, через которое мы можем заглянуть в самую бесконечность». Здесь мы вновь приблизились к тому, что бытует в жизни под словом «идеал» и что, как мы помним, было самым трудным для Достоевского в создании образа князя Мышкина. Очевидно, что совершенная человеческая личность только эмпирически неосуществима. Мы это знаем и по собственному жизненному опыту: в воплощенном в жизнь всегда остается мучительный «остаток» возможного и должного. Если исходить из того, что наше стремление к совершенству – не химера, что цель не может быть иллюзорной, станут понятны слова писателя: «У меня свой особенный взгляд на действительность (в искусстве), и то, что большинство называет почти фантастическим и исключительным, то для меня иногда составляет самую сущность действительного» (из письма к Н. Н. Страхову от 26 февраля 1869 года). Этот же смысл и в авторском утверждении: «Может быть, в Идиоте человек-то более действителен».
Вот почему князь Мышкин в романе, кроме всего прочего, фигурирует в качестве Человека вообще, Человека в его абсолютном воплощении. Помните слова Настасьи Филипповны, обращенные к Мышкину перед ее уходом с Рогожиным: «Прощай, князь, в первый раз человека видела!». Ипполит перед попыткой самоубийства сказал то же: «Стойте так, я буду смотреть. Я с Человеком прощусь».
Человек, который не рассчитывает своих часов и дней, щедро делясь с другими временем и смыслом своей жизни, кто бы он ни был: жалкий Антип Бурдовский, случайный лакей в доме Епанчиных, страдающий Ипполит, неуправляемый Рогожин или мечущаяся Настасья Филипповна; готовый прийти на помощь и просить прощения за самую невольную обиду, – безусловно, видит в другой жизни равноценное с собой бытие. Вот почему его слова и поступки находят отклик в сердцах окружающих его людей. И если вспомнить реакцию «дачного общества "на исповедь князя, то легко заметить, что она является просто противоположной той, что возникла по прочтении «тетрадки» Ипполитом. Мышкин «видел Аглаю, бледную и странно смотревшую на него, очень странно: в глазах ее совсем не было ненависти, нисколько не было гнева; она смотрела на него испуганным, но таким симпатичным взглядом… Наконец он увидел со странным изумлением, что все уселись и даже смеются… Смеялись дружески, весело; многие с ним заговаривали и говорили так ласково, во главе всех Лизавета Прокофьевна: она говорила смеясь и что-то очень, очень доброе. Вдруг он почувствовал, что Иван Федорович дружески треплет его по плечу; Иван Петрович тоже смеялся; но еще лучше, еще привлекательнее и симпатичнее был старичок…» (548) и т. д.
Ощущение «сбывшегося пророчества» вызвало у Мышкина не только (не столько!) предчувствие, что он все-таки разобьет злосчастную вазу (что, как помним, и произошло), – сколько удовлетворение от желанной реакции на его исповедь. Вот почему князь «с наслаждением» вглядывался в лица и говорил взволновано: "Я не благодарю, я только… любуюсь вами, я счастлив, глядя на вас…» (549) Сравните: Ипполит «спешил своим вызовом. Но его слушатели были в полном негодовании… «Какие они все негодяи», – шепчет он князю в исступлении…»
Потому-то слова и помощь князя принимаются людьми, что чувствуют они в нем доброту и любовь – качества, которые во все времена нужны человеку.
Проблема финала
Финал «Идиота» – явление уникальное даже для художественной системы Достоевского, в которой концовка несет особую смысловую нагрузку. Известно, что писатель мог одним последним штрихом заставить читателя передумать весь роман заново («Преступление и наказание»), расставить важнейшие смысловые акценты, уточняющие авторскую позицию («Подросток»), наконец, именно на самых последних страницах до конца объяснить и героев, и суть происшедших событий («Бесы»). Но даже в системе подобного сюжетостроения «Идиот» стоит особняком по особой значимости финала.
По словам самого Достоевского, «сцена такой силы не повторялась в мировой литературе».[18]
Писатель подчеркивал: «Наконец, и (главное) для меня в том, что эта 4-я часть и окончание ее – самое главное в моем романе, то есть для развязки романа почти и писался и задуман был весь роман»(VI, 634). (Курсив наш – Н.Т.)
Стефан Цвейг писал о способности Достоевского шаманить, колдовать, ворожить и путать словом, чтобы одним резким финальным рывком осветить все произведение яркой смысловой вспышкой. И это, безусловно, так. Финал «Идиота» потрясает, сколько его ни перечитывай. Он оставляет впечатление острое, мучительное… и таинственное. Разум сопротивляется трактовкам, в которых событийная сторона равна смысловой: «Гибель героини, взаимное сострадание двух соперников, двух названых братьев, над трупом любимой женщины, возвещающее им обоим безнадежный исход на каторгу или в сумасшедший дом».[19] Ведь если следовать этой – внешней логике событий, тогда значит, что писался этот роман для того, чтобы вызвать у читателей ужас перед жизнью, ощущение безнадежности и уязвимости идеалов. Зачем добро, любовь и жертва князя, если завершается все смертью, трупом, накрытым американской клеенкой, по бокам которого по-прежнему дикий и стихийный Рогожин и прекраснодушный князь, перешагнувший границы разума? Совершенно очевидно, что автор преследовал какие-то иные цели, а трактовки, подобные этой, обессмысливают роман, который, конечно же, не ставил целью поселить в душах уныние и скепсис.
Для Достоевского было очевидным: нет такого зла в человеческом сердце, которое бы не приносило страдания ближнему. Переносить эти страдания можно по-разному: можно открыто выражать свои чувства и стремиться конкретным делом что-либо исправить (генеральша Епанчина); можно превратиться в фигляра («сын Павлищева») или исходить желчью (Ипполит Терентьев). Страдания могут толкнуть человека на необдуманный шаг (Аглая), а могут побудить работать над собой (Рогожин). И только одна реакция будет являть победу добра над злом, торжество жизни над смертью. Только незаслуженное страдание, перенесенное с терпением и любовью, способно загасить источник зла, остановить его дурную бесконечность.
Это не означает мазохистского стpемления к самоистязанию или амоpфного благодушия. Здесь дpугое. И Достоевский это показал в Мышкине: его геpой стpемится не к стpаданию, а к пpеодолению стpадания чеpез активное сочувствие и соучастие в судьбе встpетившихся ему людей. Он не оставляет своих попыток помочь людям даже тогда, когда обстоятельства сводят их pезультативность до минимума. Снова и снова «pыцаpь бедный» пpотивостоит тpагическому течению жизни, защищая и защищаясь от нее убеждением, увещеванием, собственной жеpтвой, наконец. Князь не заблуждается относительно «состава» жизни во всей ее суетности, скоpотечности, уязвимости, нелепости и безвозвpатности, как нет у него иллюзий и в отношении собственных возможностей. И тем не менее, не дозиpуя своего участия, не pассчитывая последствий, не заботясь о собственной безопасности, не деля стpадания на спpаведливые и неспpаведливые, Мышкин бpосается туда, где он всего нужнее. В этой безоглядной жеpтвенности и заключен источник надежды на пpеодоление хаоса жизни.
Пеpед Достоевским стояла сложнейшая задача: не только изобpазить, но и пpеобpазить жизнь, так постpоить финальную сцену, чтобы в ней, как в заключительном аккоpде, пpозвучали и все тpагические ноты бытия, и, одновpеменно, чтобы самой гаpмонией искусства были побеждены и зло, и уpодство. Гению Достоевского это оказалось под силу.
В финале его мастеpство не пpосто поднимается до высот искусства, кажется, оно вообще минует и его, и пеpед нами непосpедственно возникает явленная в слове могучая стихия человеческого духа. Вслед за художником мы ощущаем какую-то запpедельную глубину миpа, чувствуем то волнение, котоpое сопpовождает гениальные пpозpения, и, не понимая еще, как он это делает, видим, как в лучах твоpчества pаствоpяются человеческие гpехи и стpадания, и во тьме ужасной тpагедии забpезжила очищающая заpя.
Не будь этого, пеpед нами был бы либо обpазец «чеpнухи» с «свинцовыми меpзостями жизни», либо ваpиант неудавшихся нpавственных исканий «идиота».
А Достоевский оказался на уpовне своей художественной задачи. Последним штpихом он еще pаз подтвеpдил закон уязвимости и хpупкости высших фоpм жизни, тpагический удел мучеников и пpоpоков. И, одновpеменно, убедительнейшим обpазом засвидетельствовал неизменные и чудесные последствия их гибели: как pаз тогда, когда они гибнут, они выше и недосягаемей всего. «Таково свойство возвышенного – оно легко гибнет, оно не защищается, даже как бы ищет гибели, жеpтвуя собой. Пpитом если бы этой гибели не было, то и жеpтвы бы не было, не было бы поэтому и величия святости. Так что в самой слабости высших ступеней как бы удостовеpена их подлинная высота».[20] Непpеклонная – последняя! – pешимость духа является залогом бессмеpтия. Убеждения, подтвеpжденные смеpтью, обнаpуживают свое вечное качество. Нpавственный выбоp, сделанный пеpед лицом смеpти, есть победа идеала. В этом пpичина бессмеpтия геpоев, мучеников и святых. И капитальным подтвеpждением этому является само хpистианство, в котоpом кpест и Голгофа побеждаются жеpтвой Хpиста и его воскpесением.
Для того чтобы понять, почему чуть ли не с первой страницы объявленное убийство столь потрясает, обратимся к тексту финальной сцены pомана. Здесь нет ничего случайного. Каждый пpедмет, попавший в поле зpения художника, пpиобpетает хаpактеp значимый и значительный.
Во многом это пpоисходит благодаpя pитму повествования. Неpвный, судоpожный pитм метаний и поисков князем Настасьи Филипповны, передающий самые ужасные пpедчувствия и подозpения, имеет свое композиционно-стилевое pешение. Несколько адpесов, по котоpым кинулся Мышкин искать Настасью Филипповну, по возpастающей pисуют нам душевное смятение князя. Нагнетается обилие тpевожных подpобностей: запеpтые окна с опущенными штоpами в доме Рогожина, за котоpыми то ли мелькнул то ли нет их владелец; подозpительное поведение двоpника и дикое любопытство людей постоpонних. Глаз Мышкина почти машинально фиксиpует: тетка в доме взявшейся ему помогать учительши – «тощая, желтая», на ней чеpный платок. Коpидоp в гостинице, где остановился князь, – «тусклый и душный…»
То утешаясь малой надеждой, то от гоpя впадая в pассеянность, «как бы не понимая, о чем ему говоpят», то вновь, забыв пpо усталость, устpемляясь на поиски, Мышкин, кажется, механически пpихватывает недочитанную книгу Настасьи Филипповны и почему-то интеpесуется каpтами, в котоpые долгими вечеpами она игpала с Рогожиным.
Нагнетается атмосфеpа стpаха. «Летний пыльный, душный Петеpбуpг давил его как в тисках». Эти тиски сжали и душу князя:
«… совеpшенное отчаяние овладело душой князя. В невыносимой тоске дошел он пешком до своего тpактиpа» (602). Отдых в гостинице более напоминает глубокий обмоpок: «Бог знает, сколько вpемени, и Бог знает, о чем он думал. Многого он боялся и чувствовал, больно и мучительно, что боится ужасно» (602). И тогда он додумался до самого тяжелого: «Если ему (Рогожину – Н. Т.) хоpошо, то он не пpидет… он скоpее пpидет, если ему нехоpошо; а ему ведь навеpно нехоpошо…» А вот и появление самого Рогожина с его тихим пpиказом: «Лев Николаевич, ступай, бpат, за мной, надоть».
После этого эмоционального контpапункта начинается дpугое, совместное восхождение геpоев. Если до появления Рогожина Мышкин находил pазpядку своему беспокойству во внешних, физически изматывающих метаниях, то тепеpь, после лаконичного сообщения Рогожина, что Настасья Филипповна у него, князь целиком отдается пеpеживаниям: он начинает дpожать, сеpдце у него так стучит, «что и говоpить тpудно», ноги подсекаются, «так что почти тpудно было уж и идти».
Ужас князя пеpедается и нам, потому что сумpачный Рогожин улыбнулся вдpуг «хитpою и почти довольною улыбкой», в то вpемя как чуткий Мышкин отчетливо ощущал в нем» глубокую внутpеннюю тpевогу». И эти психологические несоответствия pождают самые мpачные пpедчувствия. Но подтвеpждаются они не сpазу, потому что действие вдpуг теpяет свою стpемительность. Поведение обоих участников сцены замедляется. Они начинают пеpедвигаться тихо и остоpожно. Сама темнота, цаpящая в комнате, пеpеводит события в какое-то таинственное pусло, где все самое важное пpоисходит внутpи геpоев. Собственно, даже Настасью Филипповну князь не pассмотpел как следует – это было оставлено до утpа – и в меpтвом молчании темной комнаты звучат обpывочные pазговоpы, котоpые более скpывают, чем пpоясняют обстоятельства и пpичины случившегося. Своего pода pеплики-знаки. Роль знаков пpиобpетают и все пpедметы, сопутствующие этому последнему свиданию: цветы, нож, каpты…
Символика финала
И в самом деле, если иначе смотpеть на финальную сцену, то пpосто непонятно будет, что pазумел под своим «надоть» Рогожин, когда князю «непpеменно хотел постлать… pядом», что такое он замыслил, «пpо себя пpидумал» еще утpом, когда вечеpом на скоpбное бдение всех тpоих уложил pядом? – На языке символов симметpия означает достижение цели, тpиумф, высшее pавновесие. Да и сама тpиада, обpазованная геpоями, символизиpует некую высшую гаpмонию. Известно, что число «тpи» охватывает многовековые истоки человеческой эволюции. И, конечно, не случайно, князь делает тpи попытки отыскать Настасью Филипповну, а сама геpоиня тpижды бежит из-под венца. Даже выдуманная Рогожиным отговоpка, пpоизнесенная его слугой: «Паpфена Семеновича нет и, может, дня тpи не будет» – содеpжит это сакpаментальное число.
Тpиада – это внутpенняя стpуктуpа единства, соединяющая пpошлое – настоящее – будущее; ад – чистилище – pай; дух – душу – тело. Так соединились высокий pыцаpский дух князя (кстати, pыцаpь и есть символ Логоса, духа), душевная неуспокоенность Настасьи Филипповны и буйные инстинкты Рогожина.
То, что в комнате, погpуженной во тьму, пpоисходит что-то большее, чем пpощание, ощутимо. На это указывают многочисленные аллюзии. Это, в самом деле, «легкие пpикосновения» к вечности. А иначе откуда такая тоpжественность: Рогожин «подошел к князю, нежно и востоpженно взял его за pуку, пpиподнял и подвел к постели…» Очевидно, что разворачивается какой-то важный pитуал. И здесь пpодумано все: и отсутствие цветов (символ мимолетной кpасоты); и сама тьма, котоpая в pеальном плане, как и цветы, должна до вpемени сохpанить тайну. Тьма подчеpкивает меpтвую тишину комнаты, ослабляет нечеловеческий блеск неподвижных pогожинских глаз, пpиглушает стук сеpдца князя. Тьма скpывает и саму жеpтву…
Тьма в финале – это точная психологическая хаpактеpистика, выpажающая своеобpазный «субстpат» стpастей. Вот почему лаконичный диалог Рогожина и князя оставляет какое-то жутко-значительное впечатление:
«– Входи! – кивал он за поpтьеpу, пpиглашая пpоходить впеpед. Князь пpошел.
– Тут темно, – сказал он.
– Видать! – пpобоpмотал Рогожин.
– Я чуть вижу… кpовать.
– Подойди ближе-то, – тихо пpедложил Рогожин» (607).
Мощное внутреннее движение к постижению пpоисходящего pождается из тьмы pогожинской комнаты. Вот почему эпизод у постели Настасьи Филипповны завеpшается словами: «Князь глядел и чувствовал, что, чем больше он глядит, тем еще меpтвее и тише становится в комнате». И вот уже так тихо, что можно вздpогнуть от жужжания мухи.
В смеpти Настасьи Филипповны пpоявилось стpемление к самоpазpушению пеpед лицом невыносимого напpяжения. В таком случае смеpть имеет pитуальное, жеpтвенное значение. То, что в pомане гибель геpоини несет в себе эти чеpты, несомненно. Не случайно, как уже было замечено, автоp дал ей фамилию Баpашкова.
С жеpтвой связана и символика ножа. Это тот самый нож, «довольно пpостой фоpмы ножик, с оленьим чеpенком, нескладной, с лезвием веpшка в тpи с половиной, соответственной шиpины», котоpый, как мы помним, так настоpожил князя в эпизоде бpатания с Рогожиным. Он же блеснул и в занесенной над князем pуке «названого брата». И вот им убита Настасья Филипповна. Выбpанный автоpом pазмеp ножа – небольшой «ножик» – тоже оказался важным смысловым знаком. И означает он не духовную мощь его владельца, будь так – остpие ножа было бы длинное, – а в данном случае нож олицетвоpяет пpимат инстинктивных сил в его хозяине, что, как видим, абсолютно соответствует логике хаpактеpа Рогожина.
Без понимания такого – особого, скpытого смысла случайных вpоде бы пpедметов, невозможно понять их связь и значение. Нельзя осознать, почему, напpимеp, князю так важно узнать у Рогожина о существовании каpт, в котоpые с ним игpала Настасья Филипповна:
«– Ах, да! – зашептал вдpуг князь пpежним взволнованным и тоpопливым шепотом, как бы поймав опять мысль и ужасно боясь опять потеpять ее, даже пpивскочив на постели, – да… я ведь хотел… эти каpты! каpты!.. Ты, говоpят, с нею в каpты игpал?
– Игpал, – сказал Рогожин после некотоpого молчания.
– Где же… каpты?
– Здесь каpты… – выговоpилРогожин, помолчав еще больше, – вот…
Он вынул игpанную, завеpнутую в бумажку колоду из каpмана и пpотянул к князю. Тот взял, но как бы с недоумением. Новое гpустное и безотpадное чувство сдавило ему сеpдце; он вдpуг понял, что в эту минуту, и давно уже, все говоpит не о том, что бы надо делать, и что вот эти каpты, котоpые он деpжит в pуках и котopым он так обpадовался, ничему, ничему не помогут тепеpь» (611). (Выделено нами – Н. Т.) Между тем известно, что полная колода игpальных каpт символична в самом истоке. Они знак судьбы, от котоpой не уйти. Именно они и довели до сознания князя мысль о том, что самое стpашное уже пpоизошло. И вот тогда «он встал и всплеснул pуками… Князь сел на стул и стал со стpахом смотpеть» на Рогожина. Он тепеpь понял все.
Мышкин в полной мере переживает вместе с Рогожиным это горе. Это пpоисходит потому, что любой кpизис несет хоть и скpытую, но обоснованную идею о том, что в каждой дpаме есть пpямое и косвенное чувство вины. Именно в этом пеpеживании содеpжатся pостки возpождения, пpеодоления кpизиса. Это чувство совместной вины, не названное своим именем, тем не менее pазлито в финальной сцене pомана и психологически мотивиpует поведение обоих геpоев. Князь, пpеодолевая свой стpах, чувствует себя обязанным выслушать и успокоить Рогожина. Рогожин уже в самом бдении около жеpтвы обнаpуживает ту «задумчивость», котоpая засвидетельствовала факт жизненного уpока, сполна им воспpинятого. И это тоже знак того, что жеpтва не была напpасной.
Послесловие
Достоевский всегда стремился к тесному общению со своим читателем. Всегда хотел «написать так оригинально и призывно», чтобы книгу не хотелось выпускать из рук.[21] Да, собственно, все им написанное и обладает такой исключительно заразительной силой. Многие, вслед за Н. А. Бердяевым, могли бы назвать писателя влекущей к себе духовной родиной. Через Достоевского приходили к России, к Богу, к философии. Уже при жизни видели в нем пророка, учителя, человека, знающего ответы на самые сложные вопросы. Связь Достоевского со своим читателем – прошлым ли, настоящим ли – из разряда исключительных психологических явлений. Как справедливо заметил А. П. Скафтымов, «Достоевский больше, чем кто другой, знал, что в человеке живая вода жизни глубоко течет и человек мелок только в верхнем, видимом слое».[22]
Попытки понять созданное художником не прекращаются. Каждое поколение читает Достоевского по-своему, отстаивая право на собственное видение, уверенное, что оно с высоты времени и накопленного человечеством опыта смогло рассмотреть и понять самое важное.
Между тем приходит следующее поколение и все повторяется сначала. Неизменными остаются лишь творчество писателя и интерес к нему.
Федор Михайлович Достоевский. Идиот
Часть первая
I
В конце ноября, в оттепель, часов в девять утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было так сыро и туманно, что насилу рассвело; в десяти шагах, вправо и влево от дороги, трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона. Из пассажиров были и возвращавшиеся из-за границы; но более были наполнены отделения для третьего класса, и всё людом мелким и деловым, не из очень далека. Все, как водится, устали, у всех отяжелели за ночь глаза, все назяблись, все лица были бледножелтые, под цвет тумана.
В одном из вагонов третьего класса, с рассвета, очутились друг против друга, у самого окна, два пассажира, – оба люди молодые, оба почти налегке, оба не щегольски одетые, оба с довольно замечательными физиономиями, и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор. Если б они оба знали один про другого, чем они особенно в эту минуту замечательны, то, конечно, подивились бы, что случай так странно посадил их друг против друга в третьеклассном вагоне петербургско-варшавского поезда. Один из них был небольшого роста, лет двадцати семи, курчавый и почти черноволосый, с серыми, маленькими, но огненными глазами. Нос его был широки сплюснут, лицо скулистое; тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую улыбку; но лоб его был высок и хорошо сформирован и скрашивал неблагородно развитую нижнюю часть лица. Особенно приметна была в этом лице его мертвая бледность, придававшая всей физиономии молодого человека изможденный вид, несмотря на довольно крепкое сложение, и вместе с тем что-то страстное, до страдания, не гармонировавшее с нахальною и грубою улыбкой и с резким, самодовольным его взглядом. Он был тепло одет, в широкий, мерлушечий, черный, крытый тулуп, и за ночь не зяб, тогда как сосед его принужден был вынести на своей издрогшей спине всю сладость сырой, ноябрьской русской ночи, к которой, очевидно, был не приготовлен. На нем был довольно широкий и толстый плащ без рукавов и с огромным капюшоном, точь-в-точь как употребляют часто дорожные, по зимам, где-нибудь далеко за границей, в Швейцарии, или, например, в Северной Италии, не рассчитывая, конечно, при этом и на такие концы по дороге, как от Эйдкунена до Петербурга. Но что годилось и вполне удовлетворяло в Италии, то оказалось не совсем пригодным в России. Обладатель плаща с капюшоном был молодой человек, тоже лет двадцати шести или двадцати семи, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькою, востренькою, почти совершенно белою бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные; во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь. Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже до-синя иззябшее. В руках его болтался тощий узелок из старого, полинялого фуляра, заключавший, кажется, всё его дорожное достояние. На ногах его были толстоподошвенные башмаки с штиблетами, – всё не по-русски. Черноволосый сосед в крытом тулупе всё это разглядел, частию от нечего делать, и, наконец, спросил с тою неделикатною усмешкой, в которой так бесцеремонно и небрежно выражается иногда людское удовольствие при неудачах ближнего:
– Зябко?
И повел плечами.
– Очень, – ответил сосед с чрезвычайною готовностью, – и заметьте, это еще оттепель. Что ж, если бы мороз? Я даже не думал, что у нас так холодно. Отвык.
– Из-за границы что ль?
– Да, из Швейцарии.
– Фью! Эк ведь вас!..
Черноволосый присвистнул и захохотал.
Завязался разговор. Готовность белокурого молодого человека в швейцарском плаще отвечать на все вопросы своего черномазого соседа была удивительная и без всякого подозрения совершенной небрежности, неуместности и праздности иных вопросов. Отвечая, он объявил, между прочим, что действительно долго не был в России, слишком четыре года, что отправлен был за границу по болезни, по какой-то странной нервной болезни, в роде падучей или Виттовой пляски, каких-то дрожаний и судорог. Слушая его, черномазый несколько раз усмехался; особенно засмеялся он, когда на вопрос: «что же, вылечили?» – белокурый отвечал, что «нет, не вылечили».
– Хе! Денег что, должно быть, даром переплатили, а мы-то им здесь верим, – язвительно заметил черномазый.
– Истинная правда! – ввязался в разговор один сидевший рядом и дурно одетый господин, нечто в роде закорузлого в подьячестве чиновника, лет сорока, сильного сложения, с красным носом и угреватым лицом: – истинная правда-с, только все русские силы даром к себе переводят!
– О, как вы в моем случае ошибаетесь, – подхватил швейцарский пациент, тихим и примиряющим голосом; – конечно, я спорить не могу, потому что всего не знаю, но мой доктор мне из своих последних еще на дорогу сюда дал, да два почти года там на свой счет содержал.
– Что ж, некому платить что ли было? – спросил черномазый.
– Да, господин Павлищев, который меня там содержал, два года назад помер; я писал потом сюда генеральше Епанчиной, моей дальней родственнице, но ответа не получил. Так с тем и приехал.
– Куда же приехали-то?
– То-есть, где остановлюсь?.. Да не знаю еще, право… так…
– Не решились еще?
И оба слушателя снова захохотали.
– И небось в этом узелке вся ваша суть заключается? – спросил черномазый.
– Об заклад готов биться, что так, – подхватил с чрезвычайно довольным видом красноносый чиновник, – и что дальнейшей поклажи в багажных вагонах не имеется, хотя бедность и не порок, чего опять-таки нельзя не заметить.
Оказалось, что и это было так: белокурый молодой человек тотчас же и с необыкновенною поспешностью в этом признался.
– Узелок ваш всё-таки имеет некоторое значение, – продолжал чиновник, когда нахохотались досыта (замечательно, что и сам обладатель узелка начал, наконец, смеяться, глядя на них, что увеличило их веселость), – и хотя можно побиться, что в нем не заключается золотых, заграничных свертков с наполеондорами и фридрихсдорами, ниже с голландскими арабчиками, о чем можно еще заключить, хотя бы только по штиблетам, облекающим иностранные башмаки ваши, но… если к вашему узелку прибавить в придачу такую будто бы родственницу, как, примерно, генеральша Епанчина, то и узелок примет некоторое иное значение, разумеется, в том только случае, если генеральша Епанчина вам действительно родственница, и вы не ошибаетесь, по рассеянности… что очень и очень свойственно человеку, ну хоть… от излишка воображения.
– О, вы угадали опять, – подхватил белокурый молодой человек, – ведь действительно почти ошибаюсь, то-есть почти что не родственница; до того даже, что я, право, нисколько и не удивился тогда, что мне туда не ответили. Я так и ждал.
– Даром деньги на франкировку письма истратили. Гм… по крайней мере, простодушны и искренны, а сие похвально! Гм… генерала же Епанчина знаем-с, собственно потому, что человек общеизвестный; да и покойного господина Павлищева, который вас в Швейцарии содержал, тоже знавали-с, если только это был Николай Андреевич Павлищев, потому что их два двоюродные брата. Другой доселе в Крыму, а Николай Андреевич, покойник, был человек почтенный и при связях, и четыре тысячи душ в свое время имели-с…
– Точно так, его звали Николай Андреевич Павлищев, – и, ответив, молодой человек пристально и пытливо оглядел господина всезнайку.
Эти господа всезнайки встречаются иногда, даже довольно часто, в известном общественном слое. Они всё знают, вся беспокойная пытливость их ума и способности устремляются неудержимо в одну сторону, конечно, за отсутствием более важных жизненных интересов и взглядов, как сказал бы современный мыслитель. Под словом: «всё знают» нужно разуметь, впрочем, область довольно ограниченную: где служит такой-то? с кем он знаком, сколько у него состояния, где был губернатором, на ком женат, сколько взял за женой, кто ему двоюродным братом приходится, кто троюродным и т. д, и т. д, и всё в этом роде. Большею частию эти всезнайки ходят с ободранными локтями и получают по семнадцати рублей в месяц жалованья. Люди, о которых они знают всю подноготную, конечно, не придумали бы, какие интересы руководствуют ими, а между тем, многие из них этим знанием, равняющимся целой науке, положительно утешены, достигают самоуважения и даже высшего духовного довольства. Да и наука соблазнительная. Я видал ученых, литераторов, поэтов, политических деятелей, обретавших и обретших в этой же науке свои высшие примирения и цели, даже положительно только этим сделавших карьеру. В продолжение всего этого разговора черномазый молодой человек зевал, смотрел без цели в окно и с нетерпением ждал конца путешествия. Он был как-то рассеян, что-то очень рассеян, чуть ли не встревожен, даже становился как-то странен: иной раз слушал и не слушал, глядел и не глядел, смеялся и подчас сам не знал и не помнил чему смеялся.
– А позвольте, с кем имею честь… – обратился вдруг угреватый господин к белокурому молодому человеку с узелком.
– Князь Лев Николаевич Мышкин, – отвечал тот с полною и немедленною готовностью.
– Князь Мышкин? Лев Николаевич? Не знаю-с. Так что даже и не слыхивал-с, – отвечал в раздумьи чиновник, – то-есть я не об имени, имя историческое, в Карамзина истории найти можно и должно, я об лице-с, да и князей Мышкиных уж что-то нигде не встречается, даже и слух затих-с.
– О, еще бы! – тотчас же ответил князь: – князей Мышкиных теперь и совсем нет, кроме меня; мне кажется, я последний. А что касается до отцов и дедов, то они у нас и однодворцами бывали. Отец мой был, впрочем, армии подпоручик, из юнкеров. Да вот не знаю, каким образом и генеральша Епанчина очутилась тоже из княжен Мышкиных, тоже последняя в своем роде…
– Хе-хе-хе! Последняя в своем роде! Хе-хе! Как это вы оборотили, – захихикал чиновник.
Усмехнулся тоже и черномазый. Белокурый несколько удивился, что ему удалось сказать довольно, впрочем, плохой каламбур.
– А представьте, я совсем не думая сказал, – пояснил он, наконец, в удивлении.
– Да уж понятно-с, понятно-с, – весело поддакнул чиновник.
– А что вы, князь, и наукам там обучались, у профессора-то? – спросил вдруг черномазый.
– Да… учился…
– А я вот ничему никогда не обучался.
– Да ведь и я так кой-чему только, – прибавил князь, чуть не в извинение. – Меня по болезни не находили возможным систематически учить.
– Рогожиных знаете? – быстро спросил черномазый.
– Нет, не знаю, совсем. Я ведь в России очень мало кого знаю. Это вы-то Рогожин?
– Да, я Рогожин, Парфен.
– Парфен? Да уж это не тех ли самых Рогожиных… – начал было с усиленною важностью чиновник.
– Да, тех, тех самых, – быстро и с невежливым нетерпением перебил его черномазый, который вовсе, впрочем, и не обращался ни разу к угреватому чиновнику, а с самого начала говорил только одному князю.
– Да… как же это? – удивился до столбняка и чуть не выпучил глаза чиновник, у которого всё лицо тотчас же стало складываться во что-то благоговейное и подобострастное, даже испуганное: – это того самого Семена Парфеновича Рогожина, потомственного почетного гражданина, что с месяц назад тому помре и два с половиной миллиона капиталу оставил?
– А ты откуда узнал, что он два с половиной миллиона чистого капиталу оставил? – перебил черномазый, не удостоивая и в этот раз взглянуть на чиновника: – ишь ведь! (мигнул он на него князю), и что только им от этого толку, что они прихвостнями тотчас же лезут? А это правда, что вот родитель мой помер, а я из Пскова через месяц чуть не без сапог домой еду. Ни брат подлец, ни мать ни денег, ни уведомления, – ничего не прислали! Как собаке! В горячке в Пскове весь месяц пролежал.
– А теперь миллиончик слишком разом получить приходится, и это, по крайней мере, о, господи! – всплеснул руками чиновник.
– Ну чего ему, скажите пожалуста! – раздражительно и злобно кивнул на него опять Рогожин: – ведь я тебе ни копейки не дам, хоть ты тут вверх ногами предо мной ходи.
– И буду, и буду ходить.
– Вишь! Да ведь не дам, не дам, хошь целую неделю пляши!
– И не давай! Так мне и надо; не давай! А я буду плясать. Жену, детей малых брошу, а пред тобой буду плясать. Польсти, польсти!
– Тьфу тебя! – сплюнул черномазый. – Пять недель назад я, вот как и вы, – обратился он к князю, – с одним узелком от родителя во Псков убег к тетке; да в горячке там и слег, а он без меня и помре. Кондрашка пришиб. Вечная память покойнику, а чуть меня тогда до смерти не убил! Верите ли, князь, вот ей богу! Не убеги я тогда, как раз бы убил.
– Вы его чем-нибудь рассердили? – отозвался князь, с некоторым особенным любопытством рассматривая миллионера в тулупе. Но хотя и могло быть нечто достопримечательное собственно в миллионе и в получении наследства, князя удивило и заинтересовало и еще что-то другое; да и Рогожин сам почему-то особенно охотно взял князя в свои собеседники, хотя в собеседничестве нуждался, казалось, более механически, чем нравственно; как-то более от рассеянности, чем от простосердечия; от тревоги, от волнения, чтобы только глядеть на кого-нибудь и о чем-нибудь языком колотить. Казалось, что он до сих пор в горячке, и уж, по крайней мере, в лихорадке. Что же касается до чиновника, так тот так и повис над Рогожиным, дыхнуть не смел, ловил и взвешивал каждое слово, точно бриллианта искал.
– Рассердился-то он рассердился, да, может, и стоило, – отвечал Рогожин, – но меня пуще всего брат доехал. Про матушку нечего сказать, женщина старая, Четьи-Минеи читает, со старухами сидит, и что Сенька-брат порешит, так тому и быть. А он что же мне знать-то в свое время не дал? Понимаем-с! Оно правда, я тогда без памяти был. Тоже, говорят, телеграмма была пущена. Да телеграмма-то к тетке и приди. А она там тридцатый год вдовствует и всё с юродивыми сидит с утра до ночи. Монашенка не монашенка, а еще пуще того. Телеграммы-то она испужалась, да не распечатывая в часть и представила, так она там и залегла до сих пор. Только Конев, Василий Васильич, выручил, всё отписал. С покрова парчевого на гробе родителя, ночью, брат кисти литые, золотые, обрезал: «они дескать эвона каких денег стоят». Да ведь он за это одно в Сибирь пойти может, если я захочу, потому оно есть святотатство. Эй ты, пугало гороховое! – обратился он к чиновнику. – Как по закону: святотатство?
– Святотатство! Святотатство! – тотчас же поддакнул чиновник.
– За это в Сибирь?
– В Сибирь, в Сибирь! Тотчас в Сибирь!
– Они всё думают, что я еще болен, – продолжал Рогожин князю, – а я, ни слова не говоря, потихоньку, еще больной, сел в вагон, да и еду; отворяй ворота, братец Семен Семеныч! Он родителю покойному на меня наговаривал, я знаю. А что я, действительно, чрез Настасью Филипповну тогда родителя раздражил, так это правда. Тут уж я один. Попутал грех.
– Чрез Настасью Филипповну? – подобострастно промолвил чиновник, как бы что-то соображая.
– Да ведь не знаешь! – крикнул на него в нетерпении Рогожин.
– Ан и знаю! – победоносно отвечал чиновник.
– Эвона! Да мало ль Настасий Филипповн! И какая ты наглая, я тебе скажу, тварь! Ну, вот так и знал, что какая-нибудь вот этакая тварь так тотчас же и повиснет! – продолжал он князю.
– Ан, может, и знаю-с! – тормошился чиновник: – Лебедев знает! Вы, ваша светлость, меня укорять изволите, а что коли я докажу? Ан, та самая Настасья Филипповна и есть, чрез которую ваш родитель вам внушить пожелал калиновым посохом, а Настасья Филипповна есть Барашкова, так сказать, даже знатная барыня, и тоже в своем роде княжна, а знается с некоим Тоцким, с Афанасием Ивановичем, с одним исключительно, помещиком и раскапиталистом, членом компаний и обществ, и большую дружбу на этот счет с генералом Епанчиным ведущие…
– Эге! Да ты вот что! – действительно удивился, наконец, Рогожин; – тьфу чорт, да ведь он и впрямь знает.
– Всё знает! Лебедев всё знает! Я, ваша светлость, и с Лихачевым Алексашкой два месяца ездил, и тоже после смерти родителя, и все, то-есть, все углы и проулки знаю, и без Лебедева, дошло до того, что ни шагу. Ныне он в долговом отделении присутствует, а тогда и Арманс, и Коралию, и княгиню Пацкую, и Настасью Филипповну имел случай узнать, да и много чего имел случай узнать.
– Настасью Филипповну? А разве она с Лихачевым… – злобно посмотрел на него Рогожин, даже губы его побледнели и задрожали.
– Н-ничего! Н-н-ничего! Как есть ничего! – спохватился и заторопился поскорее чиновник: – н-никакими, то-есть, деньгами Лихачев доехать не мог! Нет, это не то, что Арманс. Тут один Тоцкий. Да вечером в Большом али во французском театре в своей собственной ложе сидит. Офицеры там мало ли что промеж себя говорят, а и те ничего не могут доказать: «вот, дескать, это есть та самая Настасья Филипповна», да и только, а насчет дальнейшего – ничего! Потому что и нет ничего.
– Это вот всё так и есть, – мрачно и насупившись подтвердил Рогожин, – то же мне и Залёжев тогда говорил. Я тогда, князь, в третьягодняшней отцовской бекеше через Невский перебегал, а она из магазина выходит, в карету садится. Так меня тут и прожгло. Встречаю Залёжева, тот не мне чета, ходит как приказчик от парикмахера, и лорнет в глазу, а мы у родителя в смазных сапогах, да на постных щах отличались. Это, говорит, не тебе чета, это, говорит, княгиня, а зовут ее Настасьей Филипповной, фамилией Барашкова, и живет с Тоцким, а Тоцкий от нее как отвязаться теперь не знает, потому совсем, то-есть, лет достиг настоящих, пятидесяти пяти, и жениться на первейшей раскрасавице во всем Петербурге хочет. Тут он мне и внушил, что сегодня же можешь Настасью Филипповну в Большом театре видеть, в балете, в ложе своей, в бенуаре, будет сидеть. У нас, у родителя, попробуй-ка в балет сходить, – одна расправа, убьет! Я однако же на час втихомолку сбегал и Настасью Филипповну опять видел; всю ту ночь не спал. На утро покойник дает мне два пятипроцентные билета, по пяти тысяч каждый, сходи, дескать, да продай, да семь тысяч пятьсот к Андреевым на контору снеси, уплати, а остальную сдачу с десяти тысяч, не заходя никуда, мне представь; буду тебя дожидаться. Билеты-то я продал, деньги взял, а к Андреевым в контору не заходил, а пошел, никуда не глядя, в английский магазин, да на все пару подвесок и выбрал, по одному бриллиантику в каждой, эдак почти как по ореху будут, четыреста рублей должен остался, имя сказал, поверили. С подвесками я к Залёжеву: так и так, идем, брат, к Настасье Филипповне. Отправились. Что у меня тогда под ногами, что предо мною, что по бокам, ничего я этого не знаю и не помню. Прямо к ней в залу вошли, сама вышла к нам. Я, то-есть, тогда не сказался, что это я самый и есть; а «от Парфена, дескать, Рогожина», говорит Залёжев, «вам в память встречи вчерашнего дня; соблаговолите принять». Раскрыла, взглянула, усмехнулась: «благодарите, говорит, вашего друга господина Рогожина за его любезное внимание», откланялась и ушла. Ну, вот зачем я тут не помер тогда же! Да если и пошел, так потому, что думал: «всё равно, живой не вернусь!» А обиднее всего мне то показалось, что этот бестия Залёжев всё на себя присвоил. Я и ростом мал, и одет как холуй, и стою, молчу, на нее глаза палю, потому стыдно, а он по всей моде, в помаде, и завитой, румяный, галстух клетчатый, так и рассыпается, так и расшаркивается, и уж наверно она его тут вместо меня приняла! «Ну, говорю, как мы вышли, ты у меня теперь тут не смей и подумать, понимаешь!» Смеется: «а вот как-то ты теперь Семену Парфенычу отчет отдавать будешь?» Я, правда, хотел было тогда же в воду, домой не заходя, да думаю: «ведь уж всё равно», и как окаянный воротился домой.
– Эх! Ух! – кривился чиновник, и даже дрожь его пробирала: – а ведь покойник не то что за десять тысяч, а за десять целковых на тот свет сживывал, – кивнул он князю.
Князь с любопытством рассматривал Рогожина; казалось, тот был еще бледнее в эту минуту.
– Сживывал! – переговорил Рогожин: – ты что знаешь? Тотчас, – продолжал он князю, – про всё узнал, да и Залёжев каждому встречному пошел болтать. Взял меня родитель, и наверху запер, и целый час поучал. «Это я только, говорит, предуготовляю тебя, а вот я с тобой еще на ночь попрощаться зайду». Что ж ты думаешь? Поехал седой к Настасье Филипповне, земно ей кланялся, умолял и плакал; вынесла она ему, наконец, коробку, шваркнула: «Вот, говорит, тебе, старая борода, твои серьги, а они мне теперь в десять раз дороже ценой, коли из-под такой грозы их Парфен добывал. Кланяйся, говорит, и благодари Парфена Семеныча». Ну, а я этой порой, по матушкину благословению, у Сережки Протушина двадцать рублей достал, да во Псков по машине и отправился, да приехал-то в лихорадке; меня там святцами зачитывать старухи принялись, а я пьян сижу, да пошел потом по кабакам на последние, да в бесчувствии всю ночь на улице и провалялся, ан к утру горячка, а тем временем за ночь еще собаки обгрызли. Насилу очнулся.
– Ну-с, ну-с, теперь запоет у нас Настасья Филипповна! – потирая руки, хихикал чиновник: – теперь, сударь, что подвески! Теперь мы такие подвески вознаградим…
– А то, что если ты хоть раз про Настасью Филипповну какое слово молвишь, то, вот тебе бог, тебя высеку, даром что ты с Лихачевым ездил, – вскрикнул Рогожин, крепко схватив его за руку.
– А коли высечешь, значит и не отвергнешь! Секи! Высек, и тем самым запечатлел… А вот и приехали!
Действительно, въезжали в воксал. Хотя Рогожин и говорил, что он уехал тихонько, но его уже поджидали несколько человек. Они кричали и махали ему шапками.
– Ишь, и Залёжев тут! – пробормотал Рогожин, смотря на них с торжествующею и даже как бы злобною улыбкой, и вдруг оборотился к князю: – Князь, не известно мне, за что я тебя полюбил. Может, оттого, что в эдакую минуту встретил, да вот ведь и его встретил (он указал на Лебедева), а ведь не полюбил же его. Приходи ко мне, князь. Мы эти штиблетишки-то с тебя поснимаем, одену тебя в кунью шубу в первейшую; фрак тебе сошью первейший, жилетку белую, али какую хошь, денег полны карманы набью и… поедем к Настасье Филипповне! Придешь, али нет?
– Внимайте, князь Лев Николаевич! – внушительно и торжественно подхватил Лебедев. – Ой, не упускайте! Ой, не упускайте!..
Князь Мышкин привстал, вежливо протянул Рогожину руку и любезно сказал ему:
– С величайшим удовольствием приду и очень вас благодарю за то, что вы меня полюбили. Даже, может быть, сегодня же приду, если успею. Потому, я вам скажу откровенно, вы мне сами очень понравились и особенно, когда про подвески бриллиантовые рассказывали. Даже и прежде подвесок понравились, хотя у вас и сумрачное лицо. Благодарю вас тоже за обещанное мне платье и за шубу, потому мне действительно платье и шуба скоро понадобятся. Денег же у меня в настоящую минуту почти ни копейки нет.
– Деньги будут, к вечеру будут, приходи!
– Будут, будут, – подхватил чиновник, – к вечеру до зари еще будут!
– А до женского пола вы, князь, охотник большой? Сказывайте раньше!
– Я н-н-нет! Я ведь… Вы, может быть, не знаете, я ведь по прирожденной болезни моей даже совсем женщин не знаю.
– Ну, коли так, – воскликнул Рогожин, – совсем ты, князь, выходишь юродивый, и таких как ты бог любит!
– И таких господь бог любит, – подхватил чиновник.
– А ты ступай за мной, строка, – сказал Рогожин Лебедеву, и все вышли за вагона.
Лебедев кончил тем, что достиг своего. Скоро шумная ватага удалилась по направлению к Вознесенскому проспекту. Князю надо было повернуть к Литейной. Было сыро и мокро; князь расспросил прохожих, – до конца предстоявшего ему пути выходило версты три, и он решился взять извозчика.
II
Генерал Епанчин жил в собственном своем доме, несколько в стороне от Литейной, к Спасу Преображения. Кроме этого (превосходного) дома, пять шестых которого отдавались в наем, генерал Епанчин имел еще огромный дом на Садовой, приносивший тоже чрезвычайный доход. Кроме этих двух домов, у него было под самым Петербургом весьма выгодное и значительное поместье; была еще в Петербургском уезде какая-то фабрика. В старину генерал Епанчин, как всем известно было, участвовал в откупах. Ныне он участвовал и имел весьма значительный голос в некоторых солидных акционерных компаниях. Слыл он человеком с большими деньгами, с большими занятиями и с большими связями. В иных местах он сумел сделаться совершенно необходимым, между прочим и на своей службе. А между тем известно тоже было, что Иван Федорович Епанчин – человек без образования и происходит из солдатских детей; последнее, без сомнения, только к чести его могло относиться, но генерал, хоть и умный был человек, был тоже не без маленьких, весьма простительных слабостей и не любил иных намеков. Но умный и ловкий человек он был бесспорно. Он, например, имел систему не выставляться, где надо стушевываться, и его многие ценили именно за его простоту, именно за то, что он знал всегда свое место. А между тем, если бы только ведали эти судьи, что происходило иногда на душе у Ивана Федоровича, так хорошо знавшего свое место! Хоть и действительно он имел и практику, и опыт в житейских делах, и некоторые, очень замечательные способности, но он любил выставлять себя более исполнителем чужой идеи, чем с своим царем в голове, человеком «без лести преданным» и – куда не идет век? – даже русским и сердечным. В последнем отношении с ним приключилось даже несколько забавных анекдотов; но генерал никогда не унывал, даже и при самых забавных анекдотах; к тому же и везло ему, даже в картах, а он играл по чрезвычайно большой и даже с намерением не только не хотел скрывать эту свою маленькую будто бы слабость к картишкам, так существенно и во многих случаях ему пригождавшуюся, но и выставлял ее. Общества он был смешанного разумеется, во всяком случае «тузового». Но всё было впереди, время терпело, время всё терпело, и всё должно было придти современем и своим чередом. Да и летами генерал Епанчин был еще, как говорится, в самом соку, то-есть пятидесяти шести лет и никак не более, что во всяком случае составляет возраст цветущий, возраст, с которого, по-настоящему, начинается истинная жизнь. Здоровье, цвет лица, крепкие, хотя и черные зубы, коренастое, плотное сложение, озабоченное выражение физиономии по утру на службе, веселое в вечеру за картами или у его сиятельства, – всё способствовало настоящим и грядущим успехам и устилало жизнь его превосходительства розами.
Генерал обладал цветущим семейством. Правда, тут уже не всё были розы, но было за то и много такого, на чем давно уже начали серьезно и сердечно сосредоточиваться главнейшие надежды и цели его превосходительства. Да и что, какая цель в жизни важнее и святее целей родительских? К чему прикрепиться, как не к семейству? Семейство генерала состояло из супруги и трех взрослых дочерей. Женился генерал еще очень давно, еще будучи в чине поручика, на девице почти одного с ним возраста, не обладавшей ни красотой, ни образованием, за которою он взял всего только пятьдесят душ, – правда и послуживших к основанию его дальнейшей фортуны. Но генерал никогда не роптал впоследствии на свой ранний брак, никогда не третировал его как увлечение нерассчетливой юности и супругу свою до того уважал и до того иногда боялся ее, что даже любил. Генеральша была из княжеского рода Мышкиных, рода хотя и не блестящего, но весьма древнего, и за свое происхождение весьма уважала себя. Некто из тогдашних влиятельных лиц, один из тех покровителей, которым покровительство, впрочем, ничего не стоит, согласился заинтересоваться браком молодой княжны. Он отворил калитку молодому офицеру, и толкнул его в ход, а тому даже и не толчка, а только разве одного взгляда надо было, – не пропал бы даром! За немногими исключениями, супруги прожили всё время своего долгого юбилея согласно. Еще в очень молодых летах своих, генеральша умела найти себе, как урожденная княжна и последняя в роде, а может быть и по личным качествам, некоторых очень высоких покровительниц. Впоследствии, при богатстве и служебном значении своего супруга, она начала в этом высшем кругу даже несколько и освоиваться.
В эти последние годы подросли и созрели все три генеральские дочери, Александра, Аделаида и Аглая. Правда, все три были только Епанчины, но по матери роду княжеского, с приданым не малым, с родителем, претендующим впоследствии, может быть, и на очень высокое место и, что тоже довольно важно, – все три были замечательно хороши собой, не исключая и старшей, Александры, которой уже минуло двадцать пять лет. Средней было двадцать три года, а младшей, Аглае, только что исполнилось двадцать. Эта младшая была даже совсем красавица и начинала в свете обращать на себя большое внимание. Но и это было еще не всё: все три отличались образованием, умом и талантами. Известно было, что они замечательно любили друг друга, и одна другую поддерживали. Упоминалось даже о каких-то будто бы пожертвованиях двух старших в пользу общего домашнего идола – младшей. В обществе они не только не любили выставляться, но даже были слишком скромны. Никто не мог их упрекнуть в высокомерии и заносчивости, а между тем знали, что они горды и цену себе понимают. Старшая была музыкантша, средняя была замечательный живописец; но об этом почти никто не знал многие годы, и обнаружилось это только в самое последнее время, да и то нечаянно. Одним словом, про них говорилось чрезвычайно много похвального. Но были и недоброжелатели. С ужасом говорилось о том, сколько книг они прочитали. Замуж они не торопились; известным кругом общества хотя и дорожили, но всё же не очень. Это тем более было замечательно, что все знали направление, характер, цели и желания их родителя.
Было уже около одиннадцати часов, когда князь позвонил в квартиру генерала. Генерал жил во втором этаже и занимал помещение по возможности скромное, хотя и пропорциональное своему значению. Князю отворил ливрейный слуга, и ему долго нужно было объясняться с этим человеком, с самого начала посмотревшим на него и на его узелок подозрительно. Наконец, на неоднократное и точное заявление, что он действительно князь Мышкин, и что ему непременно надо видеть генерала по делу необходимому, недоумевающий человек препроводил его рядом, в маленькую переднюю, перед самою приемной, у кабинета, и сдал его с рук на руки другому человеку, дежурившему по утрам в этой передней и докладывавшему генералу о посетителях. Этот другой человек был во фраке, имел за сорок лет и озабоченную физиономию и был специальный, кабинетный прислужник и докладчик его превосходительства, вследствие чего и знал себе цену.
– Подождите в приемной, а узелок здесь оставьте, – проговорил он, неторопливо и важно усаживаясь в свое кресло и с строгим удивлением посматривая на князя, расположившегося тут же рядом подле него на стуле, с своим узелком в руках.
– Если позволите, – сказал князь, – я бы подождал лучше здесь с вами, а там что ж мне одному?
– В передней вам не стать, потому вы посетитель, иначе гость. Вам к самому генералу?
Лакей, видимо, не мог примириться с мыслью впустить такого посетителя и еще раз решился спросить его.
– Да, у меня дело… – начал было князь.
– Я вас не спрашиваю какое именно дело, – мое дело только об вас доложить. А без секретаря, я сказал, докладывать о вас не пойду.
Подозрительность этого человека, казалось, всё более и более увеличивалась; слишком уж князь не подходил под разряд вседневных посетителей, и хотя генералу довольно часто, чуть не ежедневно, в известный час приходилось принимать, особенно по делам, иногда даже очень разнообразных гостей, но несмотря на привычку и инструкцию довольно широкую, камердинер был в большом сомнении; посредничество секретаря для доклада было необходимо.
– Да вы точно… из-за границы? – как-то невольно спросил он наконец – и сбился; он хотел, может быть, спросить: «Да вы точно князь Мышкин?»
– Да, сейчас только из вагона. Мне кажется, вы хотели спросить: точно ли я князь Мышкин? да не спросили из вежливости.
– Гм… – промычал удивленный лакей.
– Уверяю вас, что я не солгал вам, и вы отвечать за меня не будете. А что я в таком виде и с узелком, то тут удивляться нечего: в настоящее время мои обстоятельства неказисты.
– Гм. Я опасаюсь не того, видите ли. Доложить я обязан, и к вам выйдет секретарь, окромя если вы… Вот то-то вот и есть, что окромя. Вы не по бедности просить к генералу, осмелюсь, если можно узнать?
– О, нет, в этом будьте совершенно удостоверены. У меня другое дело.
– Вы меня извините, а я на вас глядя спросил. Подождите секретаря; сам теперь занят с полковником, а затем придет и секретарь… компанейский.
– Стало быть, если долго ждать, то я бы вас попросил: нельзя ли здесь где-нибудь покурить? У меня трубка и табак с собой.
– По-ку-рить? – с презрительным недоумением вскинул на него глаза камердинер, как бы всё еще не веря ушам; – покурить? Нет, здесь вам нельзя покурить, а к тому же вам стыдно и в мыслях это содержать. Хе… чудно-с!
– О, я ведь не в этой комнате просил; я ведь знаю; а я бы вышел куда-нибудь, где бы вы указали, потому я привык, а вот уж часа три не курил. Впрочем, как вам угодно и, знаете, есть пословица: в чужой монастырь…
– Ну как я об вас об таком доложу? – пробормотал почти невольно камердинер. – Первое то, что вам здесь и находиться не следует, а в приемной сидеть, потому вы сами на линии посетителя, иначе гость, и с меня спросится… Да вы что же у нас жить что ли намерены? – прибавил он, еще раз накосившись на узелок князя, очевидно не дававший ему покоя.
– Нет, не думаю. Даже если б и пригласили, так не останусь. Я просто познакомиться только приехал и больше ничего.
– Как? Познакомиться? – с удивлением и с утроенною подозрительностью спросил камердинер: – как же вы сказали сперва, что по делу?
– О, почти не по делу! То-есть, если хотите, и есть одно дело, так только совета спросить, но я главное, чтоб отрекомендоваться, потому я князь Мышкин, а генеральша Епанчина тоже последняя из княжен Мышкиных, и кроме меня с нею, Мышкиных больше и нет.
– Так вы еще и родственник? – встрепенулся уже почти совсем испуганный лакей.
– И это почти что нет. Впрочем, если натягивать, конечно, родственники, но до того отдаленные, что, по-настоящему, и считаться даже нельзя. Я раз обращался к генеральше из-за границы с письмом, но она мне не ответила. Я всё-таки почел нужным завязать сношения по возвращении. Вам же всё это теперь объясняю, чтобы вы не сомневались, потому вижу, вы всё еще беспокоитесь: доложите, что князь Мышкин, и уж в самом докладе причина моего посещения видна будет. Примут – хорошо, не примут – тоже, может быть, очень хорошо. Только не могут, кажется, не принять: генеральша уж конечно захочет видеть старшего и единственного представителя своего рода, а она породу свою очень ценит, как я об ней в точности слышал.
Казалось бы, разговор князя был самый простой; но чем он был проще, тем и становился в настоящем случае нелепее, и опытный камердинер не мог не почувствовать что-то, что совершенно прилично человеку с человеком и совершенно неприлично гостю с человеком. А так как люди гораздо умнее, чем обыкновенно думают про них их господа, то и камердинеру зашло в голову, что тут два дела: или князь так какой-нибудь потаскун и непременно пришел на бедность просить, или князь просто дурачек и амбиции не имеет, потому что умный князь и с амбицией не стал бы в передней сидеть и с лакеем про свои дела говорить, а стало быть, и в том и в другом случае, не пришлось бы за него отвечать?
– А всё-таки вам в приемную бы пожаловать, – заметил он по возможности настойчивее.
– Да вот сидел бы там, так вам бы всего и не объяснил, – весело засмеялся князь, – а, стало быть, вы всё еще беспокоились бы, глядя на мой плащ и узелок. А теперь вам, может, и секретаря ждать нечего, а пойти бы и доложить самим.
– Я посетителя такого как вы без секретаря доложить не могу, а к тому же и сами, особливо давеча, заказали их не тревожить ни для кого, пока там полковник, а Гаврила Ардалионыч без доклада идет.
– Чиновник-то?
– Гаврила-то Ардалионыч? Нет. Он в Компании от себя служит. Узелок-то постановьте хоть вон сюда.
– Я уж об этом думал; если позволите. И знаете, сниму я и плащ?
– Конечно, не в плаще же входить к нему.
Князь встал, поспешно снял с себя плащ и остался в довольно приличном и ловко сшитом, хотя и поношенном уже пиджаке. По жилету шла стальная цепочка. На цепочке оказались женевские серебряные часы.
Хотя князь был и дурачек, – лакей уж это решил, – но всё-таки генеральскому камердинеру показалось, наконец, неприличным продолжать долее разговор от себя с посетителем, несмотря на то, что князь ему почему-то нравился, в своем роде, конечно. Но с другой точки зрения он возбуждал в нем решительное и грубое негодование.
– А генеральша когда принимает? – спросил князь, усаживаясь опять на прежнее место.
– Это уж не мое дело-с. Принимают розно, судя по лицу. Модистку и в одиннадцать допустит. Гаврилу Ардалионыча тоже раньше других допускают, даже к раннему завтраку допускают.
– Здесь у вас в комнатах теплее чем за границей зимой, – заметил князь, – а вот там зато на улицах теплее нашего, а в домах зимой – так русскому человеку и жить с непривычки нельзя.
– Не топят?
– Да, да и дома устроены иначе, то-есть печи и окна.
– Гм! А долго вы изволили ездить?
– Да четыре года. Впрочем, я всё на одном почти месте сидел, в деревне.
– Отвыкли от нашего-то?
– И это правда. Верите ли, дивлюсь на себя, как говорить по-русски не забыл. Вот с вами говорю теперь, а сам думаю: «а ведь я хорошо говорю». Я, может, потому так много и говорю. Право, со вчерашнего дня всё говорить по-русски хочется.
– Гм! Хе! В Петербурге-то прежде живали? (Как ни крепился лакей, а невозможно было не поддержать такой учтивый и вежливый разговор.)
– В Петербурге? Совсем почти нет, так только проездом. И прежде ничего здесь не знал, а теперь столько, слышно, нового, что, говорят, кто и знал-то, так сызнова узнавать переучивается. Здесь про суды теперь много говорят.
– Гм!.. Суды. Суды-то оно правда, что суды. А что, как там, справедливее в суде или нет?
– Не знаю. Я про наши много хорошего слышал. Вот опять у нас смертной казни нет.
– А там казнят?
– Да. Я во Франции видел, в Лионе. Меня туда Шнейдер с собою брал.
– Вешают?
– Нет, во Франции всё головы рубят.
– Что же, кричит?
– Куды! В одно мгновение. Человека кладут, и падает этакий широкий нож, по машине, гильйотиной называется, тяжело, сильно… Голова отскочит так, что и глазом не успеешь мигнуть. Приготовления тяжелы. Вот когда объявляют приговор, снаряжают, вяжут, на эшафот взводят, вот тут ужасно! Народ сбегается, даже женщины, хоть там и не любят, чтобы женщины глядели.
– Не их дело.
– Конечно! Конечно! Этакую муку!.. Преступник был человек умный, бесстрашный, сильный, в летах, Легро по фамилии. Ну вот, я вам говорю, верьте не верьте, на эшафот всходил – плакал, белый как бумага. Разве это возможно? Разве не ужас? Ну кто же со страху плачет? Я и не думал, чтоб от страху можно было заплакать не ребенку, человеку, который никогда не плакал, человеку в сорок пять лет. Что же с душой в эту минуту делается, до каких судорог ее доводят? Надругательство над душой, больше ничего! Сказано: «не убий», так за то, что он убил, и его убивать? Нет, это нельзя. Вот я уж месяц назад это видел, а до сих пор у меня как пред глазами. Раз пять снилось.
Князь даже одушевился говоря, легкая краска проступила в его бледное лицо, хотя речь его попрежнему была тихая. Камердинер с сочувствующим интересом следил за ним, так что оторваться, кажется, не хотелось; может быть, тоже был человек с воображением и попыткой на мысль.
– Хорошо еще вот, что муки немного, – заметил он. – когда голова отлетает.
– Знаете ли что? – горячо подхватил князь: – вот вы это заметили, и это все точно так же замечают, как вы, и машина для того выдумана, гильйотина. А мне тогда же пришла в голову одна мысль: а что, если это даже и хуже? Вам это смешно, вам это дико кажется, а при некотором воображении даже и такая мысль в голову вскочит. Подумайте: если, например, пытка; при этом страдания и раны, мука телесная, и, стало быть, всё это от душевного страдания отвлекает, так что одними только ранами и мучаешься, вплоть пока умрешь. А ведь главная, самая сильная боль, может, не в ранах, а вот, что вот знаешь наверно, что вот через час, потом через десять минут, потом через полминуты, потом теперь, вот сейчас – душа из тела вылетит, и что человеком уж больше не будешь, и что это уж наверно; главное то, что наверно. Вот как голову кладешь под самый нож и слышишь, как он склизнет над головой, вот эти-то четверть секунды всего и страшнее. Знаете ли, что это не моя фантазия, а что так многие говорили? Я до того этому верю, что прямо вам скажу мое мнение. Убивать за убийство несоразмерно большее наказание чем самое преступление. Убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство разбойничье. Тот, кого убивают разбойники, режут ночью, в лесу или как-нибудь, непременно еще надеется, что спасется, до самого последнего мгновения. Примеры бывали, что уж горло перерезано, а он еще надеется, или бежит, или просит. А тут, всю эту последнюю надежду, с которою умирать в десять раз легче, отнимают наверно; тут приговор, и в том, что наверно не избегнешь, вся ужасная-то мука и сидит, и сильнее этой муки нет на свете. Приведите и поставьте солдата против самой пушки на сражении и стреляйте в него, он еще всё будет надеяться, но прочтите этому самому солдату приговор наверно, и он с ума сойдет или заплачет. Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное? Может быть, и есть такой человек, которому прочли приговор, дали помучиться, а потом сказали: «ступай, тебя прощают». Вот эдакой человек, может быть, мог бы рассказать. Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил. Нет, с человеком так нельзя поступать!
Камердинер, хотя и не мог бы так выразить всё это, как князь, но конечно, хотя не всё, но главное понял, что видно было даже по умилившемуся лицу его.
– Если уж так вам желательно, – промолвил он. – покурить, то оно, пожалуй, и можно, коли только поскорее. Потому вдруг спросит, а вас и нет. Вот тут под лесенкой, видите, дверь. В дверь войдете, направо каморка; там можно, только форточку растворите, потому оно не порядок…
Но князь не успел сходить покурить. В переднюю вдруг вошел молодой человек, с бумагами в руках. Камердинер стал снимать с него шубу. Молодой человек скосил глаза на князя.
– Это, Гаврила Ардалионыч, – начал конфиденциально и почти фамилиарно камердинер, – докладываются, что князь Мышкин и барыни родственник, приехал с поездом из-за границы, и узелок в руке, только…
Дальнейшего князь не услышал, потому что камердинер начал шептать. Гаврила Ардалионович слушал внимательно и поглядывал на князя с большим любопытством, наконец перестал слушать и нетерпеливо приблизился к нему.
– Вы князь Мышкин? – спросил он чрезвычайно любезно и вежливо. Это был очень красивый молодой человек, тоже лет двадцати восьми, стройный блондин, средневысокого роста, с маленькою наполеоновскою бородкой, с умным и очень красивым лицом. Только улыбка его, при всей ее любезности, была что-то уж слишком тонка; зубы выставлялись при этом что-то уж слишком жемчужно-ровно; взгляд, несмотря на всю веселость и видимое простодушие его, был что-то уж слишком пристален и испытующ.
«Он должно быть, когда один, совсем не так смотрит и, может быть, никогда не смеется», почувствовалось как-то князю.
Князь объяснил всё что мог, наскоро, почти то же самое, что уже прежде объяснял камердинеру и еще прежде Рогожину. Гаврила Ардалионович меж тем как будто что-то припоминал.
– Не вы ли, – спросил он, – изволили с год назад или даже ближе прислать письмо, кажется из Швейцарии, к Елизавете Прокофьевне?
– Точно так.
– Так вас здесь знают и наверно помнят. Вы к его превосходительству? Сейчас я доложу… Он сейчас будет свободен. Только вы бы… вам бы пожаловать пока в приемную… Зачем они здесь? – строго обратился он к камердинеру.
– Говорю, сами не захотели…
В это время вдруг отворилась дверь из кабинета, и какой-то военный, с портфелем в руке, громко говоря и откланиваясь, вышел оттуда.
– Ты здесь, Ганя? – крикнул голос из кабинета: – а пожалуй-ка сюда!
Гаврила Ардалионович кивнул головой князю и поспешно прошел в кабинет.
Минуты через две дверь отворилась снова, и послышался звонкий и приветливый голос Гаврилы Ардалионовича:
– Князь, пожалуйте!
III
Генерал, Иван Федорович Епанчин, стоял посреди своего кабинета и с чрезвычайным любопытством смотрел на входящего князя, даже шагнул к нему два шага. Князь подошел и отрекомендовался.
– Так-с, – отвечал генерал, – чем же могу служить?
– Дела неотлагательного я никакого не имею; цель моя была просто познакомиться с вами. Не желал бы беспокоить, так как я не знаю ни вашего дня, ни ваших распоряжений… Но я только что сам из вагона… приехал из Швейцарии…
Генерал чуть-чуть было усмехнулся, но подумал и приостановился; потом еще подумал, прищурился, оглядел еще раз своего гостя с ног до головы, затем быстро указал ему стул, сам сел несколько наискось и в нетерпеливом ожидании повернулся к князю. Ганя стоял в углу кабинета, у бюро, и разбирал бумаги.
– Для знакомств вообще я мало времени имею, – сказал генерал, – но так как вы, конечно, имеете свою цель, то…
– Я так и предчувствовал, – перебил князь, – что вы непременно увидите в посещении моем какую-нибудь особенную цель. Но ей-богу, кроме удовольствия познакомиться, у меня нет никакой частной цели.
– Удовольствие, конечно, и для меня чрезвычайное, но не всё же забавы, иногда, знаете, случаются и дела… При том же я никак не могу, до сих пор, разглядеть между нами общего… так сказать причины…
– Причины нет, бесспорно, и общего, конечно, мало. Потому что, если я князь Мышкин и ваша супруга из нашего рода, то это, разумеется, не причина. Я это очень понимаю. Но однако ж весь-то мой повод в этом только и заключается. Я года четыре в России не был, слишком; да и что я выехал: почти не в своем уме! И тогда ничего не знал, а теперь еще пуще. В людях хороших нуждаюсь; даже вот и дело одно имею и не знаю, куда сунуться. Еще в Берлине подумал: «это почти родственники, начну с них; может быть, мы друг другу и пригодимся, они мне, я им, – если они люди хорошие». А я слышал, что вы люди хорошие.
– Очень благодарен-с, – удивлялся генерал; – позвольте узнать, где остановились?
– Я еще нигде не остановился.
– Значит, прямо из вагона ко мне? И… с поклажей?
– Да со мной поклажи всего один маленький узелок с бельем, и больше ничего; я его в руке обыкновенно несу. Я номер успею и вечером занять.
– Так вы всё еще имеете намерение номер занять?
– О да, конечно.
– Судя по вашим словам, я было подумал, что вы уж так прямо ко мне.
– Это могло быть, но не иначе, как по вашему приглашению. Я же, признаюсь, не остался бы и по приглашению, не почему-либо, а так… по характеру.
– Ну, стало быть, и кстати, что я вас не пригласил и не приглашаю. Позвольте еще, князь, чтоб уж разом всё разъяснить: так как вот мы сейчас договорились, что насчет родственности между нами и слова не может быть, – хотя мне, разумеется, весьма было бы лестно, – то, стало быть…
– То, стало быть, вставать и уходить? – приподнялся князь, как-то даже весело рассмеявшись, несмотря на всю видимую затруднительность своих обстоятельств. – И вот, ей богу же, генерал, хоть я ровно ничего не знаю практически ни в здешних обычаях, ни вообще как здесь люди живут, но так я и думал, что у нас непременно именно это и выйдет, как теперь вышло. Что ж, может быть оно так и надо… Да и тогда мне тоже на письмо не ответили… Ну, прощайте и извините, что обеспокоил.
Взгляд князя был до того ласков в эту минуту, а улыбка его до того без всякого оттенка хотя бы какого-нибудь затаенного неприязненного ощущения, что генерал вдруг остановился и как-то вдруг другим образом посмотрел на своего гостя; вся перемена взгляда совершилась в одно мгновение.
– А знаете, князь, – сказал он совсем почти другим голосом, – ведь я вас всё-таки не знаю, да и Елизавета Прокофьевна, может быть, захочет посмотреть на однофамильца… Подождите, если хотите, коли у вас время терпит.
– О, у меня время терпит; у меня время совершенно мое (и князь тотчас же поставил свою мягкую, круглополую шляпу на стол). – Я, признаюсь, так и рассчитывал, что, может быть, Елизавета Прокофьевна вспомнит, что я ей писал. Давеча ваш слуга, когда я у вас там дожидался, подозревал, что я на бедность пришел к вам просить; я это заметил, а у вас, должно быть, на этот счет строгие инструкции; но я, право, не за этим, а, право, для того только, чтобы с людьми сойтись. Вот только думаю немного, что я вам помешал, и это меня беспокоит.
– Вот что, князь, – сказал генерал с веселою улыбкой, – если вы в самом деле такой, каким кажетесь, то с вами, пожалуй, и приятно будет познакомиться; только видите, я человек занятой, и вот тотчас же опять сяду кой-что просмотреть и подписать, а потом отправлюсь к его сиятельству, а потом на службу, так и выходит, что я хоть и рад людям… хорошим, то-есть… но… Впрочем, я так убежден, что вы превосходно воспитаны, что… А сколько вам лет, князь?
– Двадцать шесть.
– Ух! А я думал гораздо меньше.
– Да, говорят, у меня лицо моложавое. А не мешать вам я научусь и скоро пойму, потому что сам очень не люблю мешать… И наконец, мне кажется, мы такие розные люди на вид… по многим обстоятельствам, что, у нас, пожалуй, и не может быть много точек общих, но, знаете, я в эту последнюю идею сам не верю, потому очень часто только так кажется, что нет точек общих, а они очень есть… это от лености людской происходит, что люди так промеж собой на глаз сортируются и ничего не могут найти… А впрочем, я, может быть, скучно начал? вы, как будто…
– Два слова-с: имеете вы хотя бы некоторое состояние? Или, может быть, какие-нибудь занятия намерены предпринять? Извините, что я так…
– Помилуйте, я ваш вопрос очень ценю и понимаю. Никакого состояния покамест я не имею и никаких занятий, тоже покамест, а надо бы-с. А деньги теперь у меня были чужие, мне дал Шнейдер, мой профессор, у которого я лечился и учился в Швейцарии, на дорогу, и дал ровно вплоть, так что теперь, например, у меня всего денег несколько копеек осталось. Дело у меня, правда, есть одно, и я нуждаюсь в совете, но…
– Скажите, чем же вы намереваетесь покамест прожить, и какие были ваши намерения? – перебил генерал.
– Трудиться как-нибудь хотел.
– О, да вы философ; а впрочем… знаете за собой таланты, способности, хотя бы некоторые, то-есть, из тех, которые насущный хлеб дают? Извините опять…
– О, не извиняйтесь. Нет-с, я думаю, что не имею ни талантов, ни особых способностей; даже напротив, потому что я больной человек и правильно не учился. Что же касается до хлеба, то мне кажется…
Генерал опять перебил и опять стал расспрашивать. Князь снова рассказал всё, что было уже рассказано. Оказалось, что генерал слышал о покойном Павлищеве и даже знавал лично. Почему Павлищев интересовался его воспитанием, князь и сам не мог объяснить, – впрочем, просто, может быть, по старой дружбе с покойным отцом его. Остался князь после родителей еще малым ребенком, всю жизнь проживал и рос по деревням, так как и здоровье его требовало сельского воздуха. Павлищев доверил его каким-то старым помещицам, своим родственницам; для него нанималась сначала гувернантка, потом гувернер; он объявил впрочем, что хотя и всё помнит, но мало может удовлетворительно объяснить, потому что во многом не давал себе отчета. Частые припадки его болезни сделали из него совсем почти идиота (князь так и сказал: идиота). Он рассказал, наконец, что Павлищев встретился однажды в Берлине с профессором Шнейдером, швейцарцем, который занимается именно этими болезнями, имеет заведение в Швейцарии, в кантоне Валлийском, лечит по своей методе холодною водой, гимнастикой, лечит и от идиотизма, и от сумасшествия, при этом обучает и берется вообще за духовное развитие; что Павлищев отправил его к нему в Швейцарию, лет назад около пяти, а сам два года тому назад умер, внезапно, не сделав распоряжений; что Шнейдер держал и долечивал его еще года два; что он его не вылечил, но очень много помог; и что наконец, по его собственному желанию и по одному встретившемуся обстоятельству, отправил его теперь в Россию.
Генерал очень удивился.
– И у вас в России никого, решительно никого? – спросил он.
– Теперь никого, но я надеюсь… при том я получил письмо.
– По крайней мере, – перебил генерал, не расслышав о письме, – вы чему-нибудь обучались, и ваша болезнь не помешает вам занять какое-нибудь, например, не трудное место, в какой-нибудь службе?
– О, наверно не помешает. И насчет места я бы очень даже желал, потому что самому хочется посмотреть, к чему я способен. Учился же я все четыре года постоянно, хотя и не совсем правильно, а так, по особой его системе, и при этом очень много русских книг удалось прочесть.
– Русских книг? Стало быть, грамоту знаете и писать без ошибок можете?
– О, очень могу.
– Прекрасно-с; а почерк?
– А почерк превосходный. Вот в этом у меня, пожалуй, и талант; в этом я просто каллиграф. Дайте мне, я вам сейчас напишу что-нибудь для пробы, – с жаром сказал князь.
– Сделайте одолжение. И это даже надо… И люблю я эту вашу готовность, князь, вы очень, право, милы.
– У вас же такие славные письменные принадлежности, и сколько у вас карандашей, сколько перьев, какая плотная, славная бумага… И какой славный у вас кабинет! Вот этот пейзаж я знаю; это вид швейцарский. Я уверен, что живописец с натуры писал, и я уверен, что это место я видел; это в кантоне Ури…
– Очень может быть, хотя это и здесь куплено. Ганя, дайте князю бумагу; вот перья и бумага, вот на этот столик пожалуйте. Что это? – обратился генерал к Гане, который тем временем вынул из своего портфеля и подал ему фотографический портрет большого формата: – ба! Настасья Филипповна! Это сама, сама тебе прислала, сама? – оживленно и с большим любопытством спрашивал он Ганю.
– Сейчас, когда я был с поздравлением, дала. Я давно уже просил. Не знаю, уж не намек ли это с ее стороны, что я сам приехал с пустыми руками, без подарка, в такой день, – прибавил Ганя, неприятно улыбаясь.
– Ну, нет, – с убеждением перебил генерал, – и какой, право, у тебя склад мыслей! Станет она намекать… да и не интересанка совсем. И при том, чем ты станешь дарить: ведь тут надо тысячи! Разве портретом? А что, кстати, не просила еще она у тебя портрета?
– Нет, еще не просила; да, может быть, и никогда не попросит. Вы, Иван Федорович, помните, конечно, про сегодняшний вечер? Вы ведь из нарочито приглашенных.
– Помню, помню, конечно, и буду. Еще бы, день рождения, двадцать пять лет! Гм… А знаешь, Ганя, я уж так и быть тебе открою, приготовься. Афанасию Ивановичу и мне она обещала, что сегодня у себя вечером скажет последнее слово: быть или не быть! Так смотри же, знай.
Ганя вдруг смутился, до того, что даже побледнел немного.
– Она это наверно сказала? – спросил он, и голос его как бы дрогнул.
– Третьего дня слово дала. Мы так приставали оба, что вынудили. Только тебе просила до времени не передавать.
Генерал пристально рассматривал Ганю; смущение Гани ему видимо не нравилось.
– Вспомните, Иван Федорович, – сказал тревожливо и колеблясь Ганя, – что ведь она дала мне полную свободу решенья до тех самых пор, пока не решит сама дела, да и тогда всё еще мое слово за мной…
– Так разве ты… так разве ты… – испугался вдруг генерал.
– Я ничего.
– Помилуй, что же ты с нами-то хочешь делать?
– Я ведь не отказываюсь. Я, может быть, не так выразился…
– Еще бы ты-то отказывал! – с досадой проговорил генерал, не желая даже и сдерживать досады. – Тут, брат, дело уж не в том, что ты не отказываешься, а дело в твоей готовности, в удовольствии, в радости, с которою примешь ее слова… Что у тебя дома делается?
– Да что дома? Дома всё состоит в моей воле, только отец по обыкновению дурачится, но ведь это совершенный безобразник сделался; я с ним уж и не говорю, но однако ж в тисках держу, и, право, если бы не мать, так указал бы дверь. Мать всё, конечно, плачет; сестра злится, а я им прямо сказал, наконец, что я господин своей судьбы, и в доме, желаю, чтобы меня… слушались. Сестре, по крайней мере, всё это отчеканил, при матери.
– А я, брат, продолжаю не постигать, – задумчиво заметил генерал, несколько вскинув плечами и немного расставив руки. – Нина Александровна тоже намедни, вот когда приходила-то, помнишь? стонет и охает: «чего вы?» спрашиваю. Выходит, что им будто бы тут бесчестье. Какое же тут бесчестье, позвольте спросить? Кто в чем может Настасью Филипповну укорить, или что-нибудь про нее указать? Неужели то, что она с Тоцким была? Но ведь это такой уже вздор, при известных обстоятельствах особенно! «Вы, говорит, не пустите ее к вашим дочерям?» Ну! Эвона! Ай да Нина Александровна! То-есть, как это не понимать, как это не понимать…
– Своего положения? – подсказал Ганя затруднившемуся генералу: – она понимает; вы на нее не сердитесь. Я, впрочем, тогда же намылил голову, чтобы в чужие дела не совались. И однако до сих пор всё тем только у нас в доме и держится, что последнего слова еще не сказано, а гроза грянет. Если сегодня скажется последнее слово, стало быть, и всё скажется.
Князь слышал весь этот разговор, сидя в уголке за своею каллиграфскою пробой. Он кончил, подошел к столу и подал свой листок.
– Так это Настасья Филипповна? – промолвил он, внимательно и любопытно поглядев на портрет: – удивительно хороша! – прибавил он тотчас же с жаром. На портрете была изображена действительно необыкновенной красоты женщина. Она была сфотографирована в черном шелковом платье, чрезвычайно простого и изящного фасона; волосы, повидимому, темнорусые, были убраны просто, по-домашнему; глаза темные, глубокие, лоб задумчивый; выражение лица страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и бледна… Ганя и генерал с изумлением посмотрели на князя…
– Как, Настасья Филипповна! Разве вы уж знаете и Настасью Филипповну? – спросил генерал.
– Да; всего только сутки в России, а уж такую раскрасавицу знаю, – ответил князь, и тут же рассказал про свою встречу с Рогожиным и передал весь рассказ его.
– Вот еще новости! – опять затревожился генерал, чрезвычайно внимательно выслушавший рассказ, и пытливо поглядел на Ганю.
– Вероятно, одно только безобразие, – пробормотал тоже несколько замешавшийся Ганя, – купеческий сынок гуляет. Я про него что-то уже слышал.
– Да и я, брат, слышал, – подхватил генерал. – Тогда же, после серег, Настасья Филипповна весь анекдот пересказывала. Да ведь дело-то теперь уже другое. Тут, может быть, действительно миллион сидит и… страсть. Безобразная страсть, положим, но всё-таки страстью пахнет, а ведь известно, на что эти господа способны, во всем хмелю!.. Гм!.. Не вышло бы анекдота какого-нибудь! – заключил генерал задумчиво.
– Вы миллиона опасаетесь? – осклабился Ганя.
– А ты нет, конечно?
– Как вам показалось, князь, – обратился вдруг к нему Ганя, – что это, серьезный какой-нибудь человек, или только так, безобразник? Собственно ваше мнение?
В Гане что-то происходило особенное, когда он задавал этот вопрос. Точно новая и особенная какая-то идея загорелась у него в мозгу и нетерпеливо засверкала в глазах его. Генерал же, который искренно и простосердечно беспокоился, тоже покосился на князя, но как бы не ожидая много от его ответа.
– Не знаю, как вам сказать, – ответил князь, – только мне показалось, что в нем много страсти и даже какой-то больной страсти. Да он и сам еще совсем как будто больной. Очень может быть, что с первых же дней в Петербурге и опять сляжет, особенно если закутит.
– Так? Вам так показалось? – уцепился генерал за эту идею.
– Да, показалось.
– И однако ж этого рода анекдоты могут происходить и не в несколько дней, а еще до вечера, сегодня же, может, что-нибудь обернется, – усмехнулся генералу Ганя.
– Гм!.. Конечно… Пожалуй, а уж тогда всё дело в том, как у ней в голове мелькнет, – сказал генерал.
– А ведь вы знаете, какова она иногда?
– То-есть какова же? – вскинулся опять генерал, достигший чрезвычайного расстройства. – Послушай, Ганя, ты пожалуста сегодня ей много не противоречь и постарайся эдак, знаешь, быть… одним словом, быть по душе… Гм!.. Что ты так рот-то кривишь? Слушай, Гаврила Ардалионыч, кстати, очень даже кстати будет теперь сказать: из-за чего мы хлопочем? Понимаешь, что я относительно моей собственной выгоды, которая тут сидит, уже давно обеспечен; я, так или иначе, а в свою пользу дело решу. Тоцкий решение свое принял непоколебимо, стало быть, и я совершенно уверен. И потому, если я теперь желаю чего, так это единственно твоей пользы. Сам посуди; не доверяешь ты что ли мне? При том же ты человек… человек… одним словом, человек умный, и я на тебя понадеялся… а это, в настоящем случае, это… это…
– Это главное, – договорил Ганя, опять помогая затруднившемуся генералу и скорчив свои губы в ядовитейшую улыбку, которую уже не хотел скрывать. Он глядел своим воспаленным взглядом прямо в глаза генералу, как бы даже желая, чтобы тот прочел в его взгляде всю его мысль. Генерал побагровел и вспылил.
– Ну да, ум главное! – поддакнул он, резко смотря на Ганю: – и смешной же ты человек, Гаврила Ардалионыч! Ты ведь точно рад, я замечаю, этому купчику, как выходу для себя. Да тут именно чрез ум надо бы с самого начала дойти; тут именно надо понять и… и поступить с обеих сторон: честно и прямо, не то… предуведомить заранее, чтобы не компрометировать других, тем паче, что и времени к тому было довольно, и даже еще и теперь его остается довольно (генерал значительно поднял брови), несмотря на то, что остается всего только несколько часов… Ты понял? Понял? Хочешь ты или не хочешь, в самом деле? Если не хочешь, скажи, и – милости просим. Никто вас, Гаврила Ардалионыч, не удерживает, никто насильно в капкан не тащит, если вы только видите тут капкан.
– Я хочу, – вполголоса, но твердо промолвил Ганя, потупил глаза и мрачно замолк.
Генерал был удовлетворен. Генерал погорячился, но уж видимо раскаивался, что далеко зашел. Он вдруг оборотился к князю, и, казалось, по лицу его вдруг прошла беспокойная мысль, что ведь князь был тут и всё-таки слышал. Но он мгновенно успокоился, при одном взгляде на князя можно была вполне успокоиться.
– Ого! – вскричал генерал, смотря на образчик каллиграфии, представленный князем: – да ведь это пропись! Да и пропись-то редкая! Посмотри-ка, Ганя, каков талант!
На толстом веленевом листе князь написал средневековым русским шрифтом фразу:
«Смиренный игумен Пафнутий руку приложил».
– Вот это, – разъяснял князь с чрезвычайным удовольствием и одушевлением, – это собственная подпись игумена Пафнутия со снимка четырнадцатого столетия. Они превосходно подписывались, все эти наши старые игумены и митрополиты, и с каким иногда вкусом, с каким старанием! Неужели у вас нет хоть Погодинского издания, генерал? Потом я вот тут написал другим шрифтом: это круглый, крупный французский шрифт, прошлого столетия, иные буквы даже иначе писались, шрифт площадной, шрифт публичных писцов, заимствованный с их образчиков (у меня был один), – согласитесь сами, что он не без достоинств. Взгляните на эти круглые д, а. Я перевел французский характер в русские буквы, что очень трудно, а вышло удачно. Вот и еще прекрасный и оригинальный шрифт, вот эта фраза: «усердие всё превозмогает». Это шрифт русский писарский или, если хотите, военно-писарский. Так пишется казенная бумага к важному лицу, тоже круглый шрифт, славный, черный шрифт, черно написано, но с замечательным вкусом. Каллиграф не допустил бы этих росчерков или, лучше сказать, этих попыток расчеркнуться, вот этих недоконченных полухвостиков, – замечаете, – а в целом, посмотрите, оно составляет ведь характер, и, право, вся тут военно-писарская душа проглянула: разгуляться бы и хотелось, и талант просится, да воротник военный туго на крючек стянут, дисциплина и в почерке вышла, прелесть! Это недавно меня один образчик такой поразил, случайно нашел, да еще где? в Швейцарии! Ну, вот, это простой, обыкновенный и чистейший английский шрифт: дальше уж изящество не может идти, тут всё прелесть, бисер, жемчуг; это закончено; но вот и вариация, и опять французская, я ее у одного французского путешествующего комми заимствовал: тот же английский шрифт, но черная; линия капельку почернее и потолще, чем в английском, ан – пропорция света и нарушена; и заметьте тоже: овал изменен, капельку круглее и вдобавок позволен росчерк, а росчерк это наиопаснейшая вещь! Росчерк требует необыкновенного вкуса; но если только он удался, если только найдена пропорция, то эдакой шрифт ни с чем не сравним, так даже, что можно влюбиться в него.
– Ого! да в какие вы тонкости заходите, – смеялся генерал, – да вы, батюшка, не просто каллиграф, вы артист, а? Ганя?
– Удивительно, – сказал Ганя, – и даже с сознанием своего назначения, – прибавил он, смеясь насмешливо.
– Смейся, смейся, а ведь тут карьера, – сказал генерал. – Вы знаете, князь, к какому лицу мы теперь вам бумаги писать дадим? Да вам прямо можно тридцать пять рублей в месяц положить, с первого шагу. Однако уж половина первого, – заключил он, взглянув на часы; – к делу, князь, потому мне надо поспешить, а сегодня, может, мы с вами не встретимся! Присядьте-ка на минутку; я вам уже изъяснил, что принимать вас очень часто не в состоянии; но помочь вам капельку искренно желаю, капельку, разумеется, то-есть в виде необходимейшего, а там как уж вам самим будет угодно. Местечко в канцелярии я вам приищу, не тугое, но потребует аккуратности. Теперь-с насчет дальнейшего: в доме, то-есть в семействе Гаврилы Ардалионыча Иволгина, вот этого самого молодого моего друга, с которым прошу познакомиться, маменька его и сестрица очистили в своей квартире две-три меблированные комнаты и отдают их отлично рекомендованным жильцам, со столом и прислугой. Мою рекомендацию, я уверен, Нина Александровна примет. Для вас же, князь, это даже больше чем клад, во-первых, потому что вы будете не один, а, так сказать, в недрах семейства, а по моему взгляду, вам нельзя с первого шагу очутиться одним в такой столице, как Петербург. Нина Александровна, маменька и Варвара Ардалионовна, сестрица Гаврилы Ардалионыча, – дамы, которых я уважаю чрезмерно. Нина Александровна, супруга Ардалиона Александровича, отставленного генерала, моего бывшего товарища по первоначальной службе, но с которым я, по некоторым обстоятельствам, прекратил сношения, что впрочем, не мешает мне в своем роде уважать его. Всё это я вам изъясняю, князь, с тем, чтобы вы поняли, что я вас, так сказать, лично рекомендую, следственно за вас как бы тем ручаюсь. Плата самая умеренная, и я надеюсь, жалованье ваше в скорости будет совершенно к тому достаточно. Правда, человеку необходимы и карманные деньги, хотя бы некоторые, но вы не рассердитесь, князь, если я вам замечу, что вам лучше бы избегать карманных денег, да и вообще денег в кармане. Так по взгляду моему на вас говорю. Но так как теперь у вас кошелек совсем пуст, то, для первоначалу, позвольте вам предложить вот эти двадцать пять рублей. Мы, конечно, сочтемся, и если вы такой искренний и задушевный человек, каким кажетесь на словах, то затруднений и тут между нами выйти не может. Если же я вами так интересуюсь, то у меня, на наш счет, есть даже некоторая цель; впоследствии вы ее узнаете. Видите, я с вами совершенно просто; надеюсь, Ганя, ты ничего не имеешь против помещения князя в вашей квартире?
– О, напротив! И мамаша будет очень рада… – вежливо и предупредительно подтвердил Ганя.
– У вас ведь, кажется, только еще одна комната и занята. Этот, как его Ферд… Фер…
– Фердыщенко.
– Ну да; не нравится мне этот ваш Фердыщенко: сальный шут какой-то. И не понимаю, почему его так поощряет Настасья Филипповна? Да он взаправду что ли ей родственник?
– О нет, всё это шутка! И не пахнет родственником.
– Ну, чорт с ним! Ну, так как же вы, князь, довольны или нет?
– Благодарю вас, генерал, вы поступили со мной как чрезвычайно добрый человек, тем более, что я даже и не просил; я не из гордости это говорю; я и действительно не знал, куда голову преклонить. Меня, правда, давеча позвал Рогожин.
– Рогожин? Ну, нет; я бы вам посоветовал отечески, или, если больше любите, дружески, и забыть о господине Рогожине. Да и вообще, советовал бы вам придерживаться семейства, в которое вы поступите.
– Если уж вы так добры, – начал было князь, – то вот у меня одно дело. Я получил уведомление…
– Ну, извините, – перебил генерал, – теперь ни минуты более не имею. Сейчас я скажу о вас Лизавете Прокофьевне: если она пожелает принять вас теперь же (я уж в таком виде постараюсь вас отрекомендовать), то советую воспользоваться случаем и понравиться, потому Лизавета Прокофьевна очень может вам пригодиться; вы же однофамилец. Если не пожелает, то не взыщите, когда-нибудь в другое время. А ты, Ганя, взгляни-ка покамест на эти счеты, мы давеча с Федосеевым бились. Их надо бы не забыть включить…
Генерал вышел, и князь так и не успел рассказать о своем деле, о котором начинал было чуть ли не в четвертый раз. Ганя закурил папиросу и предложил другую князю; князь принял, но не заговаривал, не желая помешать, и стал рассматривать кабинет; но Ганя едва взглянул на лист бумаги, исписанный цифрами, указанный ему генералом. Он был рассеян; улыбка, взгляд, задумчивость Гани стали еще более тяжелы на взгляд князя, когда они оба остались наедине. Вдруг он подошел к князю; тот в эту минуту стоял опять над портретом Настасьи Филипповны и рассматривал его.
– Так вам нравится такая женщина, князь? – спросил он его вдруг, пронзительно смотря на него. И точно будто бы у него было какое чрезвычайное намерение.
– Удивительное лицо! – ответил князь, – и я уверен, что судьба ее не из обыкновенных. – Лицо веселое, а она ведь ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят, вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек. Это гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра! Все было бы спасено!