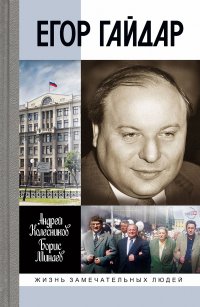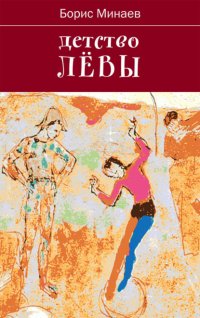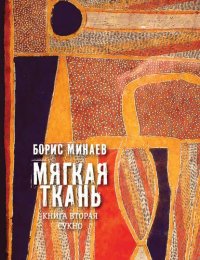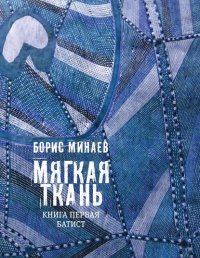Читать онлайн Площадь Борьбы бесплатно
- Все книги автора: Борис Минаев
© Б. Д. Минаев, 2021
© «Время», 2021
* * *
Часть первая
Плита
Медицинский гипс получают из гипсового камня (сернокислая известь), прокаливая его в специальных печах при температуре не выше 130°С. В результате гипсовый камень теряет воду, становится хрупким и легко растирается в мелкий белый порошок. Качество гипса зависит от ряда условий, в частности от срока пребывания в печи, температуры прокаливания, размера ячеек просеивающих сит. Хранить гипс нужно в сухом месте, так как от этого зависит степень его влажности.
Медицинский гипс должен быть белого цвета, тонко промолотым, мягким на ощупь, не иметь комков, должен быстро затвердевать и быть прочным в изделиях.
Выполняя гипсовые работы, нужно брать две весовые части гипса на одну часть воды. При излишке воды замедляется затвердение гипса. При высокой температуре гипс затвердевает быстрее, при низкой – медленнее. В некоторых случаях для более быстрого затвердения гипса в воду добавляют квасцы (20 г на ведро воды).
Благодаря своим уникальным свойствам, гипс активно используется в стоматологической практике, являясь вспомогательным средством при протезировании зубов или исправлении прикуса. И это – единственный материал, который со временем не потерял своей актуальности.
Гипс в поликлинику привозили в мешках, обломками, сухой материал, его нужно было держать в воде, чтобы получилось что-то вроде пластилина, и это была целая история – потому что если не дотерпеть, не додержать, то он расплывался в руках, и ничего не поделаешь, а если передержать, то вынимался изо рта вместе с зубом, это был непрочный, предательский, очень плохой материал. Считалось, что, перед тем как замачивать, нужно посолить воду, Ароныч страшно смеялся над этим, но иногда – Петя видел, как это происходит, – Ароныч действительно солил воду, он думал, что Петя не видит этого, если повернуться к нему спиной и заслонить от него солонку, то есть это не была солонка, он просто держал соль в эмалированной кружке, в такой же, из какой пил чай, только та для чая была, синяя, а эта – темно-синяя. Короче, он брал оттуда рукой соль, солил, как кашу, и после этого замачивал гипс.
Нужен был некоторый опыт, Ароныч называл это искусством врача, чтобы вынимать изо рта больного слепок вовремя.
– Ну вот смотри, – говорил Ароныч. – Ну вот как с бабой у тебя, ты должен почувствовать, на раз, на два, на пять, опа! – и вынимаешь… Понятно?
Петя краснел, он еще не знал, когда вынимать и что вообще имеется в виду, понял потом, а когда понял, долго смеялся, – Ароныч стоял лицом к окну и тайком от него отсыпал из кружки соль, стеснялся, на его лбу налипал всегда клок волос, оставшийся от былой шевелюры на мощном лысом черепе. И солнце ласкало его веснушки на лбу.
Ароныч в сущности был красив.
В восьмидесятых он еще работал, продолжал лечить, протезировать.
– Ты учти, – говорил он ему тогда, в 82-м, когда Петя пришел к нему на практику в поликлинику на Большой Дорогомиловской, – мы зубы не просто лечим, а заговариваем. Анекдоты знаешь?
Петя пожимал плечами.
– А должен знать… Ну вот, записывай. Брежнев…
В восьмидесятые годы Ароныч вообще любил поговорить с ним про Брежнева. Брежнев был какой-то его любимой темой, которую он тщательно обдумывал, смаковал и делился ею не со многими, только с самыми любимыми людьми.
– Смотри, Петька, – говорил Ароныч, когда они выходили на перекур или пообедать, – смотри, вот ты знаешь все это, да? Многосисячный коллектив, мирное сосу-сосу-сествование, социалиссический лагерь и так далее. Ты все это, конечно, знаешь, но смотри – ведь люди думали, что это мы ему зубы нормальные поставить не можем, да? А ведь это не так, это совсем не так. Его кто только не лечил, его сам Евдокимов лечил, Дольников лечил, у него лучшие протезисты были, к нему немцев приглашали, они ему сделали все высший класс, и он все равно звуки не выговаривал и все время ныл, ныл, ныл – сделайте мне нормальные зубы, сделайте мне нормальные зубы, готов был на любую боль, любые материалы: стеснялся, что не может говорить, ему это надо было по работе, понимаешь, да?.. И вот вдруг выяснилось, что это у него вовсе не зубы, а лицевые мышцы были не в порядке, от седативных препаратов, назначили ему в Четвертом управлении, чтобы лучше спал и не волновался.
Петя равнодушно кивал. Брежнев казался ему не совсем человеком, а какой-то сущностью (бывают такие пеньки в лесу, именно что не коряги, не пни, а замшелые пеньки, иначе не скажешь), почему-то поставленной надо всеми, надо всей практически планетой, такая вот странная, дикая прихоть бога, несчастный замшелый пенек над всей планетой, – но в рассказе Ароныча Брежнев вдруг приобретал человеческие черты, как-то неуловимо, незаметно, но приобретал.
Стоматология в восьмидесятые годы, когда Петя пришел в поликлинику, мало чем отличалась от прежней, той, что застал Ароныч еще в сороковые и пятидесятые. Это была закрытая система. Врачи, как и все, жили за железным занавесом, новые материалы и технологии вообще никак не просачивались. Лишь в середине восьмидесятых стали постепенно появляться композитные материалы чешского производства, например эвикрол – он придавал пломбе природный цвет зуба, да и вообще был гораздо лучше, на него было приятно смотреть, но его практически не водилось в Москве. Исключение составляло лишь 4-е управление Минздрава, которое обслуживало ЦК КПСС и прочие такие хорошие конторы. Там эвикрол был гораздо раньше, в то время как все обычные люди еще ходили по-прежнему с серо-буро-малиновыми или золотыми коронками, и ничего, не жаловались.
Петя хорошо знал эти золотые коронки по улыбке отца. Когда отец улыбался, все лицо преображалось, появлялось некое сияние, и Петя никак не мог понять, сияют ли его золотые мосты слева и справа, или это некое внутреннее сияние, или это то и другое вместе, было даже интересно об этом думать. А однажды отец спросил Петю, ел ли он когда-нибудь ворон, Петя даже не понял, переспросил, ну ворон, ворон, нетерпеливо пояснил отец, таких, знаешь, черных птичек с клювом, нет, конечно, оторопев, ответил Петя, а что? Да так, сказал Петин отец, просто мы во время войны их часто готовили…
И улыбнулся.
В этой золотой улыбке и вправду было что-то магическое, Петя как-то на секунду обалдевал, когда ее видел, она погружала его в транс, ему хотелось понять тайный смысл этой улыбки, – ну вот, например, эта история про ворон.
А дело было в том, что отцу незадолго до того подарили живую курицу, такое с ним во время его долгой практики случалось, в данном случае ее принесли в пустом огромном картонном ящике из-под телевизора «Темп». Было понятно, что в ящике живет что-то необычное, ящик был мятый и странно пах. Наконец папа открыл створки и расхохотался, а что мне с этим делать, сказал он, интересные дела, – да ну, возьмите, Яков Израйлевич, ответил женский голос, то ж от чистого сердца. Она еще поцеловала его в щеку в порыве чувств, мужик, который нес ящик, вежливо откланялся, надел ондатровую шапку и вышел, а тетка еще ласково потопталась, и они вместе с папой долго смотрели внутрь ящика. Ему все время что-то приносили – какие-нибудь банки с солеными помидорами в подарок, армянский или молдавский коньяк, шампанское, сухую колбасу – финский сервелат, салями, колбаса волшебно пахла, но отец брезгливо откладывал ее на дальний конец стола. Живая курица, конечно, экзотика, а это была не просто курица, а совсем молодая курица, практически цыпленок, но уже большой цыпленок, его поселили на балконе, дали миску, насыпали крупу, но на ночь решили перенести в ванну. И всю ночь в доме бегали и не спали, потому что курица (цыпленок) орала и скреблась, ей было плохо в новом месте, и тогда папа наутро грубым голосом велел ее сварить, а как я ее сварю, жалобно сказала мама, что я ей, топором голову отрублю? Щас, гордо ответил папа, пошел и быстро свернул голову цыпленку, мама закричала и даже заплакала: зачем ты это сделал, ну можно было не при ребенке, ну я же врач, сконфуженно сказал папа и посмотрел на Петю. А потом снова улыбнулся своей золотой улыбкой. Отец не был стоматологом, у него была другая специальность, Ароныча он просто знал с самого детства и говорил о нем так:
– Ну это же просто сумасшедший.
Однажды Ароныч заказал на кладбище такую плиту: мраморную, полированную, черную, с надписью – «Соловьев Михаил Аронович, 30 октября 1929…» – и пустое место для окончательной гравировки, которую сделают уже потом.
Мастер граверных дел Виктор Иванович (они с ним часто выпивали, когда Ароныч приезжал на Востряково проведать мать) спросил его с большим интересом:
– Ну и чего?
– В каком смысле?
– Куда отвезешь-то ее, Миш?
– Пока в машину отнесу, – скупо ответил Соловьев. – Кстати, у тебя грузчики есть?
Пока Ароныч договорился, пока грузчики искали пятого, поскольку плита была тяжелая и волочь ее можно было только впятером, прошло еще некоторое время – и они с Виктором Ивановичем дополнительно маленько посидели, побазарили. Пить-то было нельзя, сам за рулем, Виктор Иванович тоже на работе, ну а хотелось страшно. Уж очень момент был такой…
– Ну хорошо, отвезешь домой, а потом? – не унимался Виктор Иванович.
– Чего потом? Найду синяков каких-нибудь возле дома, в квартиру дотащат, – скупо отозвался Ароныч. – Положу куда-нибудь аккуратно. Не уроним в грязь твою работу, Виктор Иванович.
– Так… ну а потом? – не унимался мастер.
– Я не знаю, что потом… – грубовато сказал Ароныч. – Потом отдельный участок куплю, туда поставлю. У матери на могиле не буду пустой памятник держать. Нехорошо.
– Ну смотри… – пожал плечами Виктор Иванович. – Можно же у нас пока… За аренду помещения много не возьму.
Ароныч неприязненно пожал плечами и двинулся к выходу.
В багажник плита поместилась – но, правда, не вся. Торчала наружу. Пришлось приматывать ее веревкой, которая быстро нашлась в глубине багажника, но до того тухлая и промасленная, что Ароныч даже брезгливо поморщился, когда прилаживал. Сама плита была чистая, новенькая, хорошо пахла и сияла, прямо как крышка от рояля. Ну просто красота, хоть садись и играй на ней траурный марш Шопена.
Ехал осторожно, на скорости сорок-пятьдесят кэмэ, таких осторожных гаишники останавливают сразу.
– Чего везешь? – спросил первый гаишник, красномордый богатырь с рыжими глазами.
– Надгробная плита… – сухо ответил Ароныч и даже не вынул сигарету изо рта для приличия. – Близкому родственнику.
– А куда?
– Пока домой.
– А почему не на кладбище?
– Так он еще не умер…
Богатырь несколько секунд смотрел прямо – смотрел без выражения, рыжими зрачками, с выцветшими на палящем солнце ресницами…
– Ты давай на поворотах не газуй.
– Есть, командир.
Дома Ароныч поставил машину во дворе, попросил соседских мальчишек, которые чеканили мячик, присмотреть за ней пять минут (багажник-то был открыт, из него торчал край) и быстро подошел к магазину, где на заднем дворе, как всегда, ошивались двое алкашей, Вася и Сережа.
– Тяжелую вещь надо нести, на пятый этаж… – не тратя лишних слов выдохнул Ароныч. – Десятку даю.
Вася и Сережа радостно согласились, только уточнили, что за вещь.
Услышав ответ, оба тихо присвистнули. Вася при том свистел с каким-то неприятным шипением.
– Давай, Серега… сходи за ними… – попросил он товарища. – Они там, во дворе тринадцатого дома.
– Сам сходи… – зло ответил Сережа.
Кашлюна Сережу этого Ароныч хорошо помнил, и тот его хорошо помнил тоже.
Года два назад этот синяк, то есть полностью спитой мужчина, подошел к нему ночью во дворе (Ароныч возвращался из гостей) и тихо-тихо сказал:
– Слышь, сосед… Помоги, помираю я, зуб очень болит. Я заплачу. Ты же зубной, я же тебя знаю.
Кабинет у Ароныча был частный, на дому. Время было двенадцать ночи.
Каждый день у него был расписан по минутам. Ароныч помолчал, потом кивнул, и они вместе поднялись в лифте на восьмой.
Да, конечно, было немного страшно: как даст по башке. Но почему-то, глядя на этого Сережу, на его скрюченное лицо, на этот кашель и трясущиеся руки, он успокаивался все больше – нет, не врет.
Ароныч прицепил себе на нос прищепку, чтобы не чувствовать адского запаха сивухи, пота и грязи, Сережа даже не обратил на это внимания, но запах не проходил, мешал, потом распахнул пошире окно – посадил его на клеенку, включил лампу, попросил открыть пасть.
Удалил ему тогда все зубы, какие мог, здоровых там оставалось едва ли половина, может быть треть, – не хотелось, чтобы он приходил еще. С обезболиванием, все как положено. Поставил лекарство. Дал даже горсть анальгина.
– А коронки? – гордо спросил вдруг Сережа в конце. – А лечение?
– Заработаешь – приходи… – спокойно ответил Ароныч. И пошел мыть руки.
Вот с тех пор они друг друга и знали, хотя и делали вид, что не знают. Сережа через пару дней незаметно всунул ему во дворе все имевшиеся, видимо, у него в наличии деньги – трешку, два мятых грязных рубля и еще пару рублей мелочью. Треху взял, остальное вернул обратно.
…Наконец дружок Вася вернулся еще с двумя синяками.
– Точно десятка на всех? – подозрительно спросил один.
– Да. Но нам пятый нужен, друзья… – спокойно ответил Ароныч. – А то не донесете.
– Пятого у нас нет… – сказал кашлюн Сережа и подмигнул ему. – Сам вставай. Не переломишься.
Заняла вся эта история, наверное, около часа. Ароныч, конечно, просто проклял тот день, когда все это придумал и заказал плиту у Виктора Ивановича. Если грузчики на Востряковском были ребята тренированные, мускулистые, спокойные, то эти доходяги на пятый этаж волокли скорбный груз исключительно силой духа – они шатались, орали, падали на колени, часто-часто отдыхали, воняли, плакали, – он шатался и подыхал вместе с ними. Все, кто был в доме, выскочили на лестницу, чтобы увидеть, что тут вообще происходит.
Наконец занесли плиту в квартиру.
– Ну, куда? Куда ставить? – заорал под конец Вася, он был у них как бы старшой.
– Под кровать кладите, вот сюда… – прохрипел Ароныч, и они все тут же почти упали.
– Дальше двигай! Дальше!
Плиту задвинули внутрь, под кровать, насколько это было возможно. И все равно черный краешек заметно торчал наружу. Никуда она не помещалась.
Выпили водички. Покурили.
Он расплатился, и герои пошли сразу в магазин – делить десятку на четверых.
Синяк Сережа, с большими дефектами речи, давний его знакомый и, можно сказать, пациент, задержался в дверях.
– Слышь, доктор… – спросил он тихо с интересом. – А это все зачем?
– Знаешь что… – зло сказал Ароныч. – Заработал, так иди. – И потом в спину ему добавил, когда Сережа уже шагнул за порог: – Мне положиться в этом вопросе не на кого.
Синяк Сережа удовлетворенно кивнул и вышел, вежливо и тихо прихлопнув за собой дверь.
Плита лежала себе спокойно целый день, не вызывая никаких чувств, но ночью Ароныч вдруг резко проснулся. Он нащупал тапочки, пошел в туалет, потом на кухню попить водички. Плита краем вылезала из-под кровати и смутно блестела. Он испугался. Пощупал ее босой ногой, вспоминая, что и как.
Становилось по ночам прохладно, и влажный воздух на Самотеке, в низине, превращался почти в молоко.
«Ну пусть лежит, – примирительно подумал он. – Хлеба не просит. Законодательством не запрещено».
Конечно, не собирался он держать эту плиту дома вечно. Собирался купить участок получше и поставить ее там. Кому какая разница, умер владелец или нет? К тому же не сам Ароныч это придумал, плит таких, с «открытой датой», немало было в тихих углах Востряковской обители.
– Пойми, Миш… – объяснял ему однажды полузнакомый бухгалтер с Трехгорки, когда они сидели в дорогой шашлычной «Казбек» на Пресне. – Ты пойми, Миш… Ну вот я умру, да?.. Ну вот придет час икс, как говорится. И что? Похоронные я им оставлю? А кто мне гарантирует, что они всё правильно сделают? Ты мне это гарантируешь? Нет, извини. Извини. Я все сделаю заранее. Я все! Сделаю! Заранее!
Разговор этот пьяный почему-то ему запомнился.
С Верой он давно развелся. Дети собирались в Израиль. Жил он уже несколько лет с Аллой, помощницей. Ну оставит он ей похоронные, и что?
Ему даже больно становилось при мысли о том, как она, подневольная девушка, идет в мастерскую заказывать плиту – родственников-то никаких нет, бывшая жена не в счет, надо ей самой все делать, и вот идет она, и заказывает, и заказывает… Нет! Нет! Ничего хорошего из этого не получится! Все будет не так!
Плиту заказал быстро, а вот с участком попросили еще подождать.
– Ну ты же у забора ложиться не хочешь? – тихо спросил его в конторе добрый знакомый Сергей Альбертович. – Не хочешь, понятно дело… Там МКАД, там гарь, пыль… Или мы куда-то торопимся?
Да нет, решили не торопиться. Ждать, когда выделят достойный его высокого социального статуса участок.
– Мы что, куда-то торопимся? – опять спросил Сергей Альбертович, когда он пришел во второй раз.
Вновь пришлось подтвердить свою принципиальную позицию – нет, не торопимся.
Потом уезжали дети, было как-то не до того, потом наступил мутный 1989-й год, потом пошла плясать губерния, новые цены, валютное регулирование, обменники, черный вторник, он сдавал рубли, покупал доллары, опять сдавал, опять покупал…
Участок рос в цене, падал в цене, а плита все лежала и лежала у него под кроватью.
Он к ней привык. И как-то даже перестал замечать.
Иногда только просыпался, трогал ее ногой, вставал и смотрел в окно, туда, вниз, на Самотеку.
…В том доме, где жил Сима Каневский, во 2-м Вышеславцевом переулке, бывали они с ребятами довольно часто, заходили туда как-то совсем просто, даже сами не зная зачем. Он, то есть Мишка Соловьев, потом еще Яша Либерман, Шамиль Мустафин, ну еще Колька Лазарев. Мать Симы Каневского кормила их всегда. В любой ситуации. Она всегда была дома, всегда улыбчиво смотрела большими черными глазами из-под высоких бровей. Всегда велела мыть руки и усаживала за стол. Если она была больна, то вставала с постели. Если у них дома было шаром покати, она все равно усаживала за стол и открывала неприкосновенный запас – какую-нибудь селедку доставала, залом, который берегла к празднику. Но, как правило, на кухне всегда что-то варилось. Вкусно пахло. Скатерть была белая или розовая. Тарелки блестели. На столе рядом с тарелками лежали ножи и вилки из старого, черного, иногда гнутого от старости серебра. Они с ребятами сидели и молча чинно ели.
Может, благодаря этому длинному столу с белой (или розовой) скатертью Сима и застрял в их компании. Вообще он им не подходил, он был тихий мальчик, ангельского типа. Когда он собирался после обеда с ними на улицу, мама Каневская всегда кричала ему вслед:
– Сима, надень шарф!
Он возвращался и надевал шарф. В еврейских семьях всегда есть такие мамы, но не всегда их слушаются. Он слушался. Поэтому про него был сочинен стих, вернее, песня:
– Сима, надень калоши! Сима, надень пальто! Сима, не пей какао! Сима, пей молоко!
Они начинали орать эту песню, как только за ним захлопывалась скрипучая калитка и он выбегал на улицу следом за ними. Мама всегда его останавливала – на одну минуту, но останавливала: заставляла переобуваться, переодеваться.
Эта скрипучая калитка вела в сад. В саду росли яблони, вишни, кусты смородины, из грядок торчала зелень, там был дровяной сарай, возвышался старый ледник, которым пользовались все, тропинки уходили куда-то вдоль забора в укромные места, в углу участка стоял шалаш. В общем, в этом саду хотелось побыть.
А внутри сада стоял дом.
Иногда Ароныч просыпался ночью, садился на кровати и смотрел сверху вниз на плиту. Ему уже не нужно было ни включать свет, ни открывать занавески, чтобы ее увидеть. Плита стала светиться в темноте, может быть проявились свойства камня, кто его знает, откуда там набирали эту мраморную крошку, из какого радиоактивного карьера, а может, дело было в другом – в общем, она слегка светилась, и Ароныч как зачарованный смотрел на нее – на ее край, который по-прежнему вылезал из под кровати полукругом. И можно было даже ставить на нее босые ноги. И, разглядывая этот полукруглый край, он видел все довольно отчетливо.
Например, видел свою бормашину, старую, когда-то она стояла у него в стенном шкафу, за одеждой. Первые десять лет она там стояла, пока он работал «без оформления», и если приходил пациент, он сдвигал вешалки, и с некоторым скрипом торжественно выезжала на колесиках бормашина, это была особая, под размер шкафа сделанная конструкция, по его заказу, он все придумал, нарисовал, объяснил, десять раз все переделывали, но в результате бормашина стояла в шкафу, он отодвигал рубашки, пиджаки, их было три или четыре, потом отодвигал зимнее пальто на меховой подкладке, и машина красиво выезжала на колесиках, гордая и блестящая, внушая трепет и восторг. Он гордился своей идеей и гордился конструкцией, а если вдруг приходили случайные люди – скажем, слесарь из ЖЭКа проверять трубы перед отопительным сезоном, нет ли воздушной пробки, была у них такая манера, или еще агитаторы перед выборами в Верховный Совет СССР, спрашивали, хорошо ли Ароныч помнит, что в воскресенье день выборов, и точно ли знает, за кого надо голосовать, или участковый Иван Сергеич, не дай бог, каждый раз он вздрагивал при виде этой строгой милицейской формы, унимал сердце валидолом, но участковый приходил за какой-то ерундой, сверять свои длинные списки, кто прописан, нет ли посторонних жильцов, ну и так далее, – короче говоря, бормашину быстро можно было задвинуть в шкаф, а пациенту дать в руки чашку с чаем, типа вот старый друг в гости пришел, здрасьте, а что случилось?
А ничего не случилось, но чего это у друга улыбка такая кривая и вата во рту? Но никто почему-то не спрашивал.
По такой системе работали половина частных зубных протезистов Москвы. Иметь дело с фининспектором никому не хотелось, муторно, да и оформление было долгим – нужно было иметь, на секундочку, десять лет стажа, получить две рекомендации от заслуженных врачей РСФСР, справку из ЖЭКа, справку из райисполкома, справку оттуда, справку отсюда, и это к тому же никого ни от чего не гарантировало.
Это не гарантировало ни от малых, ни от больших неприятностей, даже самых больших. Поэтому лучше было так. Без оформления.
Плита светилась в темноте, и Ароныч смутно вспоминал, что все жильцы в их доме, там, на Хорошевском шоссе, конечно, знали, что именно таится у него в шкафу, какой такой «скелет», но никому было это не надо – стучать на соседа-врача, тем более на зубного врача, вдруг пригодится. Знакомый врач – это в Москве большая ценность, да и везде ценность, да и не тридцатые, чай, годы, и не пятидесятые, стукачей стало меньше, меньше стало стукачей все-таки. Но и теперь, задним числом, было Михаилу Аронычу Соловьеву очень страшно. Сидя на кровати и щупая босыми ногами осторожно эту черную плиту с золотыми буквами, он чувствовал, как бухтит сердце. Фининспекторы ведь бывали разные, одного звали Борис Григорьевич, это было потом, когда он все уже оформил как положено, платил налоги, как официальный надомник. Борис Григорьевич, жаба, приходил с большим портфелем и шелестел бумажками, Ароныч никогда в жизни не слышал ничего страшнее, этот шелест бумажек приводил его в исступление, он выходил на кухню и стучал зубами о стекло, выпивая один стакан воды из-под крана за другим, больной в это время сидел тоже на кухне с открытым ртом, весь в вате и крови, с вытаращенными от ужаса глазами. Борис Григорьевич мог шелестеть бумажками долго, так-так, говорил он, как будто лаяли овчарки и гудели сибирские ветра над сторожевыми вышками, так-так, наконец Ароныч додумался снаряжать Аллу, чтобы она переодевалась к его визиту во все короткое, а иногда даже просто накидывала халат на голое тело, прямо на лифчик, и приносила чаю, кофе на подносе, и белый халат накинутый сразу на лифчик иногда помогал, а иногда нет, и тогда опять шелестели бумажки. А дело-то было в том, что была такая история, с этим золотом: приходили люди и просили сделать золотые коронки, и вот тут он сразу вспоминал этот шелест бумажек у Бориса Григорьевича в руках, незаконный оборот, скупка-продажа так называемая, и все в Москве знали про один случай, со стоматологом, которого помиловали в последний момент и заменили на четырнадцать с конфискацией, и то только благодаря хорошему адвокату…
Ароныч ничего этого Пете, конечно, никогда не рассказывал – в те ранние восьмидесятые годы, на Большой Дорогомиловской, во время перекуров, но иногда, конечно, глухо намекал, мол, разные бывали времена…
Но ведь наступали еще более трудные девяностые годы…
Ароныч к тому времени уже лет десять как вернулся к людям, в районную поликлинику, в трудовой коллектив. Правда, частную практику он тоже не бросал, но клиентов стало у него меньше, а почему меньше: частью люди уехали за границу, частью умерли, но еще кое-кто оставался.
Ароныч был старомоден, он ненавидел всю эту металлокерамику, разорительную и тяжелую, ты пойми, говорил он, я не знал, что доживу до такого: людям ставят эту гадость на верхнюю челюсть, предположим, да? – и она крошит им нижнюю, ставят, и знают, что так будет, и даже не говорят, ну это что за врачи, ну руки оторвать таким врачам! Кругом открывались стоматологические поликлиники, с сексапильными секретаршами, кожаными диванами, фикусами и канарейками, стоматологи прорастали в городе как грибы, их профессиональный уровень падал, а количество росло, в любом подъезде любой пятиэтажки ближе к центру теперь селился частный кабинет, с лицензией на протезирование и импланты, Ароныч был от всего этого, конечно, страшно далек, один имплант тысяча долларов, что это такое! – говорил он Пете, страшно тараща глаза, и Петя с трудом удерживал лицо, чтобы не засмеяться. И все же клиенты у Ароныча были, были, приходили родные до боли старушки, их племянники, племянницы, иногда он брал даже новых людей, ты пойми, говорил он Пете во время перерывов, когда они курили или обедали, чтоб ко мне попасть, вот в те годы, нужно было иметь рекомендацию. А сейчас что – это же ужас, приходит ко мне человек, здрасьте вам, и плюхается в кресло… Милый, но я же тебя не знаю, кто ты, что ты… Раньше знаешь как бывало, приходит к тебе человек и с ходу говорит – я хочу золотые коронки, сколько у вас стоит, мы таких посылали сразу, жестко, и даже дверь потом не открывали, знаешь почему?
Петя кивал. Он знал.
У Ароныча действительно был в жизни такой случай, когда одна женщина пришла и попросила ей сделать золотые коронки, а он отказал. Верней, сначала хотел отказать.
Женщину эту звали Елена Ивановна и работала она в физиотерапевтическом кабинете, в служебной поликлинике ВЦСПС на Ленинском проспекте. Ей было тридцать семь лет, шатенка, волосы чуть-чуть подкрашивала, а вот губы красила очень ярко, ходила на каблуках и иногда неожиданно смеялась.
Пришла она сама по себе, записалась по телефону, кто дал телефон, не сказала.
– А почему вы к своим врачам не пошли? – спросил Ароныч. – Я знаю вашу поликлинику, там у вас прекрасные врачи работают.
– Не пошла… – холодно ответила она и вдруг улыбнулась.
Когда она спросила про золотые коронки, Ароныч, конечно, похолодел.
Она сидела в кресле, широко открыв рот с прекрасными зубами.
Там действительно просматривались кое-какие проблемы, но зачем ставить золото, было неочевидно. Пришла она к нему году в семьдесят шестом, кажется.
– Извините, Елена Ивановна, а вы от кого? – спросил Ароныч, вынув инструменты изо рта.
– Ни от кого… – гордо сказала она. – Я сама по себе. Так что, сделаете?
– Ну, золото ваше… – лениво сказал Ароныч.
– А где его взять? – спросила она.
– Не знаю, – ответил он. – Это уж ваши проблемы. Приносите материал.
– А можно у вас купить? – спросила она, глядя ему в глаза.
И он неожиданно для себя кивнул.
Ночью опять не спалось, плита в темноте светилась, плыли в голове, вот именно что плыли, как в тумане, мысли: первые годы с женой Верой, когда дети были маленькие, потом Лариса, короткая связь, потом Елена Ивановна, он ее сначала принял то ли за стукача, то ли за следователя по особо важным делам, то ли за наводчицу высокого полета, взял телефончик рабочий, домашний, стал наводить справочки, был у него один пациент – работал в МУРе, капитан, тот все пробил, подтвердил, что да, работает там, на Ленинском проспекте, в поликлинике ВЦСПС, все нормально, от сердца немного отлегло, потом она еще приходила, садилась в кресло, шуршала колготками, фирменными, он все никак не мог привыкнуть, что не чулки капроновые, а колготки, по новой моде, синтетика все же, хотелось спросить, как носятся, какие ощущения, но было глупо, она по-прежнему неожиданно смеялась, хотя ей было иногда больно, потом, когда настала пора расплачиваться, он сказал, что за золото не возьмет, только за лечение.
Я не понимаю, растерянно сказала она, а что же мне делать, Михаил Аронович, а ничего не делайте, рассмеялся он, платите за лечение и свободны. Она стояла и прямо смотрела на него, ну что вы смотрите так пристально, улыбнулся он, я вас начинаю бояться, а я вас, сказала она, скажите, сколько я должна? – он назвал цифру за лечение, без золота, и тут же сказал, что страшно голоден, и тут есть шашлычная недалеко очень хорошая, а у вас как раз конец лечения, можно новые зубы обновить, такая традиция, впервые слышу, сухо сказала Елена Ивановна и попрощалась.
А вечером он ей позвонил.
Она говорила обиженно.
– Вы меня ставите в глупое положение, Михаил Аронович, – сказала она.
– Поймите, – сказал он как бы лениво, – я клиентам золота не продаю, такие правила, если со своим приходят, тогда да…
– А что же вы сразу не предупредили? Я бы другого врача нашла.
Она еще как бы не хотела понять, зачем он звонит.
– Давайте поужинаем, обсудим этот вопрос, – тихо сказал он, с колотящимся сердцем. – Я вас прошу.
Она засмеялась.
– О господи. И не стыдно?
– Нет, – просто сказал Ароныч. – Где встретимся?
Пригласил ее в «Берлин», там у него было знакомый метрдотель, вокруг сидели иностранцы, в основном финны.
Один финн нажрался, пригласил Елену Ивановну танцевать, она резко отказалась, финн стоял, весь красный как рак, обиженно что-то бубнил по-английски.
Когда они выходили, на Пушечную, он сказал ей, что есть билеты на Московский кинофестиваль.
– Смешной ты.
Однажды они всей компанией – он, Яша Либерман, Шамиль Мустафин, и Колька Лазарев, это было в сорок четвертом году, – решили зайти к Симе Каневскому, было холодно, хотя уже стоял апрель, но весна только-только начиналась, снег лежал тонкой грязной кромкой, прятался в тени, вся Марьина Роща состояла из развалюх, бараков, дровяных сараев, хибар, будок, клеток, двухэтажных шанхаев с мутными окнами, откуда густо пахло супом, снег прятался в этих углах, колючий, крапчатый снег, им стало холодно, и они зашли в знакомый дом по 2-му Вышеславцеву переулку. Позвонили в звонок, идея была погреться и заодно проведать товарища, Симу Каневского, идти все равно больше было некуда.
Они позвонили в звонок, долго никто не открывал, наконец им отворила мама Надя, она стояла, кутаясь в шаль, со странным лицом, молча кивнула и впустила, идите, идите к нему, подтолкнула она в спину, хотя они уже поняли, что что-то не так, толпились в прихожей, боясь войти, но она подтолкнула, и Колька Лазарев первым шагнул в маленькую комнату, где Сима сидел на кровати, отвернувшись к окну, с перевязанной зачем-то головой. Они испугались, решили, что его побили или хотели убить, но он повернулся, губы были перекошены болью, у него флюс, сказала мама Надя, острая боль, а где я ему сейчас врача найду, поговорите с ним, надо же куда-то ехать, идти, а он не хочет. Ребята, вдруг сказал Сима, убейте меня, а? Я больше не могу, я не хочу жить. Сима не спал всю ночь, и прошлую ночь он не спал тоже, раздулся флюс, он был розовым, гнойным, заполнял весь рот, мешал дышать, не помогала горячая сода, не помогала водка, компрессы, не помогали травы, Сима встал с постели и стал двигаться, они испуганно смотрели на него, пойдемте со мной, вдруг закричал он, и они испуганно двинулись за ним, дрожащими руками он надел ботинки, намотал шарф, оттолкнул маму, выскочил во двор, там он нашел дыру, в которую быстро пролез, у него была какая-то мысль, он кого-то искал, наконец, увидев Марика, инвалида войны из семнадцатого дома, он ринулся к нему и опять крикнул: Марик, убей меня! – все в том районе знали, что у Марика, однорукого инвалида, есть именной пистолет, Марик отшатнулся, потом расхохотался…
– Постой здесь! – крикнул он, узнав в чем дело.
Дул апрельский ветер, Сима держался за лицо, вернулся Марик с финкой и бутылью спирта, он протер финку ветошью и вдруг схватил Симу за горло, тот закричал и ничего не успел сделать – финка вошла в рот и надрезала страшный нарыв, ну все, все, сказал инвалид, теперь будешь жить, все, Сима, иди, иди…
С тех пор у Симы на шее, под подбородком, оставался маленький розовый след, как от удара ножом. Марик проколол ему шею тогда, но удивительно, что не было никакой крови – один гной.
Петя спросил однажды отца, Якова Израилевича Либермана, правда ли, что на фронте у людей не болели зубы, нет, конечно неправда, откуда такая глупость вообще… но болели меньше, вдруг улыбнулся он. Некогда было об этом думать – у кого болели сильней, те просто просили взаймы спирт, дергали сами, резали сами, врачи же были на ранениях, челюстно-лицевых операциях, тогда не до золотых коронок, конечно, было. Впрочем, подумав, сказал он, были и штабные врачи, они, конечно, ставили коронки, делали мосты для генералов, полковников, в общем, для тех, кто имел такую возможность.
Потом он задумался и рассказал историю. В пятидесятые годы под Смоленском, после института, меня вызвали в штаб, а там, в Смоленске, может быть, ты не в курсе, был лагерь при еврейском гетто. Короче, меня вызвали в штаб и показали несколько чемоданов, я не помню, сколько именно, может пять, а может три, и в них лежали зубы – коронки, мосты, золотые зубы, их выдирали без обезболивания, конечно, просто щипцами, на многих были следы крови. Они думали, в штабе, может, это ценные для медицины вещи, хотели посоветоваться. Я сказал – нет.
И потом долго не мог к зубному ходить, ни к Аронычу, ни к кому, но потом это прошло у меня, так о чем ты хочешь спросить, Петя, дорогой?..
Про фронт, напомнил Петя. Да, про фронт, точно. Про фронт. Отец рассеянно улыбался.
Когда Петя уже подрос, окончил институт, выбрал стоматологию, не пошел по стопам отца, не стал заниматься мужскими болезнями, а выбрал стоматологию, отец попросил Ароныча первый год за ним присмотреть. Там, на Большой Дорогомиловской. И Ароныч действительно присматривал, давал советы, приободрял, если что, оценивал риски в сложных случаях, познакомил со «своими» – рентгенологом, зубным техником, лабораторией. Потом у Пети появились тоже все «свои», рентгенолог, техник, без знакомства было никак нельзя, тут у нас вообще, немного ворчливо говорил Ароныч, особые отношения. Ты пойми, это закон, так устроена стоматология, без рекомендации нельзя, есть рекомендация – прекрасно, нет рекомендации – извините. К тебе человек пришел по рекомендации, значит, ты чувствуешь перед ним ответственность, и наоборот, ты ему рекомендуешь специалиста, и он к нему идет со всем уважением. Петя постепенно вникал в суть этой несложной теории.
Ароныч велел ему запоминать анекдоты, говорить комплименты дамам, ну не сложные, самые простые, чтобы снять напряжение, – это очень важно.
Однажды Петя спросил отца, в чем причина, почему Михаил Ароныч Соловьев так ревностно исполняет отцовскую просьбу, помогает, учит. Он такой ответственный человек? Да нет, улыбнулся отец, и опять сверкнула его улыбка, не в этом дело, он мне должник, понимаешь? Петя молчал, пытаясь понять, отец с Аронычем не общался и не пересекался, наверное, уже лет двадцать, а то и больше, ну как тебе сказать, сказал отец, ничего тут в общем, необычного нет, просто бывает так, что вдруг в жизни определенного человека ты играешь определенную роль.
– Определенную? – спросил Петя.
Да, да, определенную, раздраженно ответил отец, что тут непонятного?
Во время этих ночных бдений, когда бессонница брала свое и не помогали корвалол, валокордин, фенозепам, димедрол, иван-чай, водка – ничего не помогало, и он бродил из одной комнаты в другую, на Ароныча нападало нелепое раздражение, он спрашивал себя, почему так получилось, что он тут ночует один, в этой крошечной двушке, где в одной комнате его зубной кабинет, а в другой спальня, и даже ноги поставить некуда, почему он ночует наедине с черной светящейся в темноте мраморной плитой, почему его жена давно живет в другой квартире, почему Алла каждый вечер тоже уходит к себе домой, почему дети уже в Израиле, а он тут сидит, на Делегатской. И чтобы не злиться на себя понапрасну, он вставал, накидывал куртку и шел по родным местам, несмотря на глухую ночь. Как-то так получилось, что в восемьдесят первом году старик-маклер, со своими карточками, исписанными мелким противным почерком, отселил его в результате родственного обмена сюда, в родные места.
Тут они встречались с ребятами и шли в парк ЦДСА, вдали громадой возвышался театр Советской армии, похожий на огромную уродливую синагогу, в праздничные дни здесь все рябило от фуражек. Тут был и театр армии, и Центральный дом офицеров: шикарный буфет, блестящие концерты, клуб, шахматы и парк с прудиком в середине, гостиница ЦДСА, офицеры со всей страны жили в этой гостинице, порой месяцами, приводили в Центральный дом офицеров дам, на танцы и на концерты, в ресторан и буфет, этот острый мужской запах в светящейся темноте парка, одеколон и табак.
Тут же рядом начиналась Селезневка, на которой ничего еще не было, ни этих огромных новомодных домов из желтого кирпича, самым крупным строением были бани, если не считать пожарной каланчи, по субботам в бани была очередь, тоже из офицеров, с березовыми вениками, с чемоданчиками, мужской отдых за кружкой пива, офицеры были красные, распарившиеся, здоровые мужчины, курили и горланили о своем, стоя под фонарем, и тут же пропадали в темноте, ныряли в темноту, со своими мокрыми полотенцами и стиранными наспех трусами.
Москва была городом темноты, фонарей было мало, ты шел, осторожно ощупывая взглядом пространство, звенел в темноте трамвай, роняя искры, из темноты на тебя выпрыгивали люди, кошки, наглядная агитация, город рано темнел, по небу шарили прожектора, офицерские шинели соседствовали с ватниками и короткими черными пальто.
После того как он в первый раз пригласил Елену Ивановну к себе, на это ушла пара месяцев упорных звонков и долгих подробных свиданий, и она, пережив случившееся, долго лежала на животе и курила, накинув на голую спину легкое покрывало, вдруг случилось странное – Елена Ивановна заговорила. Он сначала не мог понять, что случилось, но она вдруг начала болтать без умолку, не то чтобы что-то важное, какие-то обычные дрязги на работе, в поликлинике ВЦСПС. Что заведующая отделением дура, но муж у нее работает в неврологии, в академическом институте на Щукинской, профессор, и вот она нос задрала, а что задирать, это ж не она профессор, я ей говорю, давайте как-то разумно подходить, ну почему я все время в субботу должна дежурить, это же несправедливо, а ее всю трясет, глаза выпучила и молчит, – он сидел на кровати, в одной рубашке и ласково кивал, поглаживая ее по спине, на которую было накинуто легкое покрывало, а она смотрела в окно и курила, сладко так болтала, какую-то ерунду, он быстро понял, что можно особо не прислушиваться, ей хочется поболтать.
Просто он представлял ее совершенно другим человеком, а каким, не очень понятно, каким он себе ее представлял человеком, до этого момента все ее фразы казались ему короткими и значительными, например, когда он покупал цветы, она кокетливо погружала лицо в букет роз и говорила: балуете нас, Михаил Аронович, мы не заслужили, и у него кру́гом шла голова. Ну или в ресторане, она просто ела, но всегда очень мало, улыбалась, курила и коротко спрашивала – а с кем ты поздоровался, а ты не боишься, что тебя со мной увидят, за этой немногословностью ему чудилось нечто такое, чего раньше не встречалось: умная женщина, не просто красивая, с красивыми ногами и высокой грудью, самостоятельная, резкая, умеющая одеваться, умеющая шутить, но еще и умная, этого он ждал и боялся, как сам будет выглядеть на ее фоне, и вдруг она начала неудержимо, безостановочно болтать, о какой-то ерунде: расслабилась, отпустила себя, ему это и нравилось и не нравилось. Раньше он был ей благодарен за отсутствие дежурных разговоров о кинофильмах, о художниках-импрессионистах, о летающих тарелках и последних публикациях в журнале «Знание – сила». Да, он решил, что ей не нужно выглядеть умной, она и так умна, а тут оказалось, что она боялась его, но потом, когда все уже случилось, решила больше не бояться. Это было мило, но что-то заныло в душе, Ароныч думал об этом непрерывно, Елена Ивановна, со своими разговорами о поликлинике ВЦСПС и о злой заведующей отделения, была подарком в его жизни, да, конечно же, подарком, по-прежнему кружилась голова от шуршания ее колготок, синтетических, гэдээровских, по-прежнему замирало сердце, когда она брала его за руку, по-прежнему она восхитительно одевалась и раздевалась, но исчезло то, что, оказывается, их связывало – она была чем-то похожа на ту женщину, из дома отдыха, в Крыму, под Форосом, которая уехала внезапно, молчаливая женщина, с которой он просто поцеловался после танцев, и она внезапно уехала, и он думал о ней много лет, как оказалось, Елена Ивановна не была на нее похожа. Он уже не знал, куда деваться от этих подробностей, от этих двух- или трехчасовых сеансов полного погружения в ее жизнь, насыщенную всякой чепухой, безобидной, как легкая цветочная пыльца – цены в магазине, телепередачи, вся та чушь, которую ей рассказывали словоохотливые пациенты во время физиотерапевтических сеансов в поликлинике ВЦСПС, а она потом вываливала эту чушь на него. Ей страшно хотелось поговорить, но уже после этого, а он вдруг понял, что ему нечем ответить, все, о чем он думал, было попросту не для нее. Да и ни для кого. Вообще.
Она быстро все поняла. Однажды задумчиво сказала: странное дело, вот если б у тебя кабинета этого не было, то вообще и не было бы ничего? И так со всеми вами, частниками – то скульпторы, то дантисты, потом вдруг осеклась и посмотрела на него – не слишком ли много сказала?
– Скульпторы? – осторожно поинтересовался он. – Они, говорят, много получают?
Но она только пожала плечами.
Расставаясь, Елена Ивановна вдруг спросила: ну что, не жалеешь, что тогда денег с меня не взял?
– Да иди ты к черту! – рассердился он.
И она рассмеялась нагло. И опять стала прежней.
Дом, где жил Сима Каневский, стоял через забор от синагоги во 2-м Вышеславцевом переулке. Синагога была чуть выше его дома, темно-коричневое здание с большой крышей, с деревянными колоннами по фасаду, широким крыльцом и высокой дверью.
Все это было видно, если подставить деревянный ящик и подтянуться на заборе, с улицы вход в синагогу закрывали яблони, которые росли и по ту, и по эту сторону забора, огромные яблони с кривыми стволами. Осенью в траве у дома Каневских густым слоем лежали мелкие красные яблоки, которые собирали лениво и не очень охотно, чтобы сварить пару ведер компота или пару тазов варенья, остальное некуда было девать. Осенью их, детей, эти оставшиеся в траве яблоки заставляли собирать в мешок, чтобы не сгнили и не распространяли тяжелый гнилой запах, чтобы не было этой едкой коричневой каши под ногами, – и потом с их же помощью отправляли мешок на ту территорию, мешок скрывался за высокой дверью синагоги, и больше его никто не видел.
Теоретически им всем было известно – Кольке Лазареву, Мишке Соловьеву и другим – что яблоки «отдают нищим», но кто такие эти нищие, и где они живут, и как они выглядят, ни Либерман, ни Соловьев, ни их родители не знали, а вот мама Симы Каневского знала, она иногда с наступлением сумерек выходила на улицу, и в час, когда тихий раввин шел из синагоги к трамваю, чтобы ехать домой, она его окликала и разговаривала с ним на другом языке.
Родители Либермана и Соловьева тоже разговаривали дома на этом другом языке, но делали это крайне редко, и то только для того, чтобы дети ничего не поняли, но они понимали, верней догадывались, и в свою очередь, родители прибегали к другому языку все реже. А вот мама Симы Каневского говорила на нем свободно и спокойно, стоя с раввином у забора, как будто случайно остановив его на пути к трамвайной остановке. Каждый раз после этих разговоров в доме Каневских начинались какие-то странные вещи: приходили опрятно одетые, но очень бледные и какие-то невесомые мужчины и женщины, у них были очень старые, давно нечищеные ботинки, мать не ставила им белых больших тарелок, не усаживала за огромный стол с белой скатертью, чтобы они не стеснялись, просто наливала на кухне суп в миску, иногда отдавала старые вещи – детские и взрослые: прохудившиеся штаны, вязаные кофты, которые уже нельзя было носить, какие-то, с точки зрения Симы, совсем ветхие тряпки, но они забирали все с благодарностью и уходили, часто мама Каневская относила в синагогу какие-то другие дары – например, полную кастрюлю драников, приготовленных из картофельных очисток, или кисель, сделанный из черного хлеба…
Сима Каневский не понимал, почему все это происходит, и стыдился этой стороны маминой жизни.
Никому даже в голову не могло прийти – ни Лазареву и его русским родителям, ни татарину Мустафину, ни соседям, – что папа Каневский, или сестры Каневские, или вообще кто-то из нормальных советских людей может войти в эту калитку, пройти узкой дорожкой красного колотого кирпича и взойти на это широкое крыльцо синагоги. Туда ходили только ветхие старики в черных шапочках-кипах или в шляпах, их было совсем мало, и только через маму Каневскую какая-то связь с этим миром все же была, и эта связь смущала Симу, он не понимал, откуда берутся эти нищие люди, с их запахом, с их физически ощутимым голодом, кругом тоже все недоедали, всем не хватало всего – хлеба, овощей, круп, о мясе почти забыли, – но люди работали, все приносили с работы какие-то пайки, все стояли в очередях с карточками в руках, все как-то справлялись. Непонятно было, как в советском государстве, да еще в Москве, могли появиться люди, которые с этим не справлялись, он спросил отца, Даню Каневского, тот болезненно поморщился и сказал, что ничего в этом не понимает, мама Каневская в ответ на его вопросы очень коротко ответила, что эти люди, которым она носит еду или кормит их на кухне, они оттуда, где были немцы, из Белоруссии, Украины, беженцы, что пока что дома им негде жить и нечего есть, это еще больше напугало Симу, он просто не понимал, как при советской власти человеку может быть негде жить и нечего есть, наверное, это были какие-то особые люди, которые от горя немного сошли с ума. Он поделился этим открытием с Мишкой Соловьевым, и тот легкомысленно сказал, что не нужно обращать внимания на странности старшего поколения.
Ароныч вспомнил, как однажды они с Симой Каневским внезапно зашли в синагогу. В этот день, в сентябре, они стояли вдвоем на деревянном ящике и смотрели через забор, и вдруг Сима сказал, что на самом деле в синагоге никого нет, он точно это знает, а дверь открыта, по какой-то странной причине все куда-то делись, включая раввина, и тогда, повинуясь общему чувству, они выбежали на улицу и толкнули плечом соседнюю калитку, пробежали по осколкам красно-бурого кирпича и толкнули плечом уже следующую, высокую дверь. Здесь было темно, блестел огромный семисвечник, высокий потолок смыкался над их головами, и от его балок спускались вниз огромные белые бумажные свитки с русскими и еврейскими буквами, на которых он разглядел знакомое имя – «Сталин», это была молитва за Сталина, тут хлопнула дверь, они испуганно пригнулись, и раввин прошел куда-то через одну дверь в другую и исчез во внутреннем дворе, они выскочили назад, задыхаясь, проскочили обратное расстояние за две секунды и, увидев маму Каневскую, без обиняков спросили, что там могло быть написано. И она просто сказала, что надписи эти висят давно, уже больше года, и на них написана благодарность Сталину и всему советскому народу за победу над фашизмом.
Эти слова Мишка Соловьев, который не стал еще тогда Аронычем, вспомнил в день смерти Сталина. Он зашел в дом к Каневским и увидел рыдающую маму Надю, которая увидев их и смутившись, вдруг плакать перестала и твердо сказала, что при Сталине не было погромов, поэтому она плачет, а что же будет теперь, она не знает, и никто не знает, поэтому у нее навернулась «непрошеная слеза». Но это была, конечно, не непрошеная слеза, а целый поток непрошеных слез, и Сима побледнел, не зная, как реагировать, и Мишка понимал его, потому что проблема была не в том, что мама Каневская плакала над Сталиным, весь мир плакал над Сталиным, все прогрессивное человечество плакало над Сталиным, проблема была в том, что у мамы Каневской была какая-то своя, слишком особая причина плакать над Сталиным, в то время как все прогрессивное человечество плакало над Сталиным, как над вождем мирового пролетариата и руководителем мирового коммунистического движения и просто как над самым мудрым и человечным человеком, – а мама Каневская плакала о чем-то непонятном, о том, видите ли, что при Сталине не было еврейских погромов, это было не просто странно, это было даже как-то нехорошо. Ведь квартира, в которой жили Каневские, не была отдельной, хотя и располагалась в отдельном доме, там жили разные люди, и многие, услышав такую вот речь, могли бы тоже прийти в недоумение и даже оскорбиться, но, слава богу, все в этот день горевали, плакали, поминали товарища Сталина, и никому в голову не пришло обращать внимание на эти странные слова мамы Нади о еврейских погромах, какие погромы, о чем это вообще, о фашистах, что ли, но Сталин-то тут при чем…
Яков Израйлевич Либерман, отец Пети, в тот день быстро расправился с курицей, а в ответ на неприязненный взгляд сына как-то кисло улыбнулся и потом нахмурился.
А в воскресенье мать уехала на дачу, и он сказал, что научит Петю, как готовить голубей. Петя опять слушал его, как загипнотизированный. Он никак не мог поверить в то, что это происходит именно с ним, или, может быть, он не мог не подчиниться отцовскому гипнозу, это было страшно и весело. Отец поднялся на чердак, у него был ключ от их необъятного чердака, они жили в обычной девятиэтажке, на улице Павла Корчагина, на чердак он иногда, по договоренности с дворником, оттаскивал ненужные вещи. Это было вполне объяснимо, что у него оказался этот волшебный ключ от чердака, которого не было и не могло быть у других, отец знал вообще всех людей в мире, и все люди в мире знали отца, это было вполне понятно, непонятно было то, почему на этом чердаке живет так много птиц, там было какое-то море голубей, сотни, они разом захлопали крыльями, и поднялась пыль вместе с перьями, подсвеченная солнцем из узких окошек, живая клекочущая масса, отец подошел к ним на мягких пружинистых ногах и просто кинул шляпу.
Оказывается, он взял с собой шляпу, Петя этого даже не заметил, шляпу и силок – петлю на веревочке, силком он мгновенно задушил штук семь голубей, Петя даже не успел охнуть, как это произошло, потом он важно отнес их в шляпе домой и пошел на кухню – ощипывать и жарить, прокол был в одном – перья они спустили в туалет, и когда голуби с ужасом и восторгом были уже ими съедены, вдруг выяснилось, что главное условие – чтобы мать ничего не узнала – не может быть соблюдено. Пух никак не хотел отправляться вниз по канализационной трубе, отец бледнел, краснел, пыхтел, но сделать ничего не мог, этот чертов пух был легче воды, он сразу бросался в глаза, он портил весь праздник, сам запах они выветрили быстро (была осень, холодный воздух ворвался в кухню мгновенно, как вор), следы уничтожили, а вот пух болтался в унитазе предательской уликой. Отец перестал улыбаться и напряженно думал, что делать, как избежать разоблачения, и наконец додумался, спустив в унитаз полведра желтого грязного песка, который тоже почему-то (большой кучей) лежал там на чердаке.
Петя вспоминал всю эту историю со смехом, а потом, через несколько лет, уже после института, когда отец лежал в больнице и он часто приходил к нему, во вторую неврологию в Боткинскую, куда отец, конечно же, тоже попал по блату, ведь он знал всех людей в мире, и все люди в мире знали его, тот сам вспомнил и сам стал говорить про голубей. Он стал говорить, что тогда, в Марьиной Роще, в сорок третьем году, после эвакуации, было очень страшно потерять продуктовые карточки, а их, пацанов, часто посылали отоваривать карточки, взрослым было некогда стоять в очередях по три-четыре часа, они работали и отправляли их, пацанов, однажды он потерял карточки, была сырая мерзлая весна, март, противное солнце резало глаза, и он шел по улице, по 2-му Вышеславцеву переулку, и рыдал, рыдал, он никак не мог остановиться, шел и рыдал, ему страшно было идти домой. И вот тогда Яшу Либермана увидел Ароныч, то есть Мишка Соловьев, и повел к Симе Каневскому, и мама Симы Каневского дала ему картошки и написала записку его маме, он даже не знал, что в ней написано, просто бережно нес, боясь и записку тоже потерять вместе с картошкой, голос у отца как-то дрогнул, и вдруг Петя понял, что же значили для него эти голуби, да, да, сказал отец, как будто услышав его мысли, мы тогда ели все что угодно, голубей, ворон, мы бы и кошку могли съесть, только не собаку, но собак не было. Собак тогда почти не было…
Зайтаг
Светлана Ивановна Зайтаг, библиотекарь, перестала спать в 1930 году, в июне.
Это не было связано с ее личной жизнью, с жизнью страны, с каким-то особым событием, или неприятным происшествием, или вообще с чем-то психиатрическим.
Как потом выяснилось, была у нее такая болезнь, воспаление нервных окончаний где-то в каком-то отделе ее головы, не ведущее ни к каким другим последствиям, кроме одного – у нее пропал сон.
Она пролежала ночь, думая о Лешеньке, о его будущем и глядя в светлое июньское окно (ночи в это время в Москве очень короткие). Наверное, бессонница возникла в связи с его отъездом на дачу вместе с «группой». Такие «группы», поскольку детских садов не хватало, устраивали интеллигентные московские женщины, устраивали сами – и в городе, и летом за городом… Предполагалось, что их маленькая «группа» должна летом выехать и жить в поселке Кратово. Что-то вроде частного детского садика.
Совместно нанимали воспитательниц, желательно из «бывших» (Светлана Ивановна и сама могла бы стать такой воспитательницей, поскольку считала себя «бывшей», но тщательно это скрывала), то есть тех, которые могли учить французскому, например, или немецкому, прививать манеры, да и обладать неким общим пониманием, как жизнь устроена, – в этом смысле нянькам из деревни вполне довериться было нельзя.
И вот Светлана Ивановна всю ночь думала о том, не договориться ли ей и не поехать ли в Кратово вместе с Лешенькой. Библиотека в июле закрывалась на несколько санитарных недель, все как-то удачно складывалось… И вот так она пролежала до утра, не смыкая глаз.
Встала разбитая, злясь на себя – ведь можно же было накапать капли или, в конце концов, попарить ноги, ну что-то такое, теперь весь день пойдет насмарку, но утром она как-то пришла в себя, сварила яйца и кашу, отвела Лешеньку в ту самую «группу», в дом на Минаевском тупике, где проживала их бонна, Маргарита Васильевна Шнауп, у которой муж когда-то служил по жандармерии, но об этом все давно забыли, муж пропал, а она осталась, все уважали ее благородную внешность и умение одеваться, а самое главное – умение понимать жизнь; выезд в Кратово ее волновал так же, как и Светлану Ивановну и всех других мам; Зайтаг долго стояла в прихожей, сняв с Лешеньки пальто и держа его в руках, и долго с Маргаритой Васильевной говорила об этом – и то, что ночью ей виделось в каком-то тревожном, даже истерическом свете: вот Лешенька один, в темной комнате, все его бросили, все ушли жрать и пить, а он один лежит больной, с температурой, и плачет, – все это утром сразу стало смешным. Обсуждались со Шнауп и другими мамами очень важные, даже оптимистические, научно-гигиенические детали: как дети поздоровеют на деревенском молоке и твороге, будут ходить босиком (а это очень важно), что рацион их будет составлен по точным врачебным рекомендациям (бонна советовалась с педиатром)… Словом, Светлана Ивановна ушла от Шнауп успокоенная и медленно побрела в библиотеку, надеясь сегодня лечь пораньше и выспаться как следует.
Но выспаться ей не удалось.
Светлана Ивановна действительно легла пораньше, выпила горячего молока, начала считать верблюдов, но, досчитав до тысячи, легко встала и выглянула в окно.
Тихий рассеянный свет шел из июньского сада.
Она накинула шаль и, ощутив какую-то странную эйфорию, спустилась с крыльца в сад в ночной рубашке и в тапочках. В доме все, слава богу, спали, и она добрела до забора, посидела на скамейке, покурила. Летняя ночь была перед ней, и она подумала, что, может быть, и не стоит даже спать в такие ночи.
Открыла книгу, ей казалось, что она задремала, но около шести утра по улице прошли первые молочники, и она вдруг подхватилась и принялась готовить завтрак.
Молочник Кузьма приходил всегда в семь, и вот она решила, что когда он придет и принесет свежий творог и сметану, она уже попьет кофе, поджарит на сковородке горячий хлеб и будет опять читать книгу, ожидая его.
Примерно за пятнадцать минут до прихода Кузьмы Зайтаг почувствовала легкое покалывание в висках и раздражение, которое увеличивалось с каждой секундой. Зачем она встала так рано? Что она будет делать дальше, как ей усмирить свой организм?
Она буркнула Кузьме что-то невнятное, сунула ему деньги, он ушел, недоумевая, она же с отвращением разжевала ложку творога и расплакалась.
Болело все тело. Все валилось из рук, и уже следующую ночь Светлана Ивановна ждала с замиранием сердца.
Пролежав всю эту ночь в тоске и страхе, затравленно глядя в потолок и повторяя про себя, что она не боится, не боится, не боится, утром Светлана Ивановна поняла, что должна все же сходить к врачу. Потом она провела без сна еще одну ночь и наконец решилась.
Одного частного врача она хорошо знала лично. Это был женский врач Кауфман, он жил недалеко, на Площади Борьбы, в высоком кооперативном доме, который гордо возвышался над садом Туберкулезного института.
Рано утром она робко позвонила в дверь, и он принял ее.
Кауфмана она посещала к тому времени уже лет шесть, и посещала регулярно, раз в полгода, испытывая зудящий страх перед женскими болезнями, но в любом случае общаться с доктором было всегда приятно – он обладал каким-то излучением, то есть, не говоря ничего особенного, вливал в Светлану Ивановну заряд покоя и даже радости, наверное, это было из-за его глаз, больших и темных, которые всегда смотрели с какой-то библейской мудростью и прямотой, а вообще-то он был смешной, рассеянный, немного наивный, и она всегда приходила к нему безо всякого страха, а, наоборот, с надеждой. Он выслушал ее спокойно и сказал: дорогая Светлана Ивановна, это бывает, надо пить успокоительные капли, гулять, пить молоко с медом, нет, не пробовали?
Тогда она, пытаясь не рассердиться (в этот раз он впервые ее рассердил), сказала: она уже не девочка и прекрасно понимает, что такое бессонница, но это явно не бессонница – ей по-настоящему плохо, что ж, смутился он, давайте обратимся к невропатологу, и тут же набросал на клочке бумаги письмецо, с которым она отправилась в городскую больницу под названием «Медсантруд», располагавшуюся на Яузской улице, недалеко от Таганки, куда ей пришлось долго добираться на трамвае.
Ее принял доктор Вишняк, завотделением, чем-то похожий на Кауфмана, но более рыжеватый и сухой, и внимательно выслушал. (Голова у нее к концу пути окончательно разболелась.) Из коридора доносились какие-то крики, и тут она почувствовала себя еще хуже. Ей стало нехорошо.
Поймав ее взгляд, Вишняк сказал: ой, я вас умоляю, не обращайте внимания, у нас не психиатрия, ничего такого… тут молодой человек один, небольшое расстройство… а вы… скажите, Светлана Ивановна, вы сильно не простывали в последнее время?
Но нет, она не простывала, она не болела тяжелыми инфекционными болезнями, у нее не было стрессов, крупных неприятностей, драм в личной жизни (нет-нет-нет), ни у каких родственников никогда не было ничего подобного – нет, она просто не может заснуть.
Хм, сказал Вишняк и подошел к окну.
Скажите, а когда ваш мальчик уезжает в это самое Кратово? – рассеянно спросил он, не отрывая взгляд от окна, и она вздрогнула, потому что не помнила, когда успела ему это рассказать, но, видимо, когда-то успела, боже ж мой, как все напутано у нее в голове, да-да, ответил он меланхолично, видимо, почти читая ход ее лихорадочных мыслей, вы мне об этом уже рассказали, так когда? – В эту среду. – Так, сказал он… ну, знаете что, вы уж как-то дотерпите до среды, отправляйте мальчика в надежные руки на природу, а потом соберите домашнюю одежду, ложку, зубную щетку и приходите ко мне на обследование, ляжете на несколько дней, отдохнете, может, сон и наладится.
Она так и сделала.
Сама больница, с ее запахом тоски и одиночества, сами эти голые белые стены и огромные потолки, невероятных размеров окна, впускавшие солнце через грязноватые стекла и побеленные рамы (больница располагалась в огромном бывшем поместье), и то, что здесь так рано вставали и так рано ложились, ее бесконечные, просто бесконечные прогулки в больничном саду (ну не сидеть же в палате с этими старухами), скудное, невкусное, но правильное питание, наконец какие-то таблетки, которые она глотала горстями и которые действовали на нее отупляюще, снимали боль в висках (вообще она чувствовала себя здесь какой-то бесплотной, нереальной и невесомой), – все это должно было заставить ее заснуть, но она все равно никак не засыпала.
Нет. Она бродила по коридору и тихо скулила по ночам.
Потом выходила в больничный сад и думала: а может, уйти отсюда совсем?
Москва дышала рядом, шелестела редкими машинами, цокала копытами, перекликалась приглушенными голосами – там, за оградой. Она смотрела на освещенные окна больничного флигеля, где жили врачи, и думала: как же им хорошо. Они не спят, потому что не хотят! Сами!
Хм, сказал Вишняк вторично, когда она пришла к нему после трех дней такой жизни. Еще через день ее повезли на каталке, раздев донага, под чистой, выглаженной, даже еще теплой белой простыней в какой-то далекий кабинет, где лаборант, краснея от застенчивости, прилаживал ей к голове «контакты» на липучках, потом плотно стягивал металлическое кольцо вокруг ее головы, потом включал аппарат, горели лампочки, аппарат гудел, а она от страха закрывала глаза и боялась описаться.
Хм, сказал Вишняк в третий раз, когда она опять пришла к нему рано утром, до завтрака (она всегда приходила до завтрака). По дороге она посмотрела в зеркало, лицо, ей показалось, было как у ведьмы, немного синюшное и осунувшееся, торчали патлы, из домашнего халата высовывалась жилистая страшная шея, похожая на змею, может лучше не жить, чем жить в таком виде, но она открыла дверь и спокойно вошла, хм, сказал Вишняк, держа перед глазами листки, заполненные старательным лаборантским почерком, знаете, а все оказалось сложнее, чем я думал, конечно, наука пока… не может ответить на все вопросы, но, судя по всему, это воспаление нервных окончаний, кора головного мозга… дальнейшее как-то слилось в некое бу-бу-бу… которое я подозревал, к сожалению, подтвердилось. И что, задыхаясь от волнения, спросила она, какие последствия, вообще, сколько мне осталось жить? Вам? – расхохотался Вишняк, да вам еще жить и жить, нет, Светлана Ивановна, все не так ужасно, но вот спать… спать, наверное, вы все-таки будете плохо.
То есть как это – «плохо»? – холодея от неприятных предчувствий, спросила она; послушайте, развернулся Вишняк от окна и решительно сел напротив, не нужно бояться, – дальше он долго излагал теорию сна, которая вкратце сводилась к тому, что совершенно непонятно, для чего и под влиянием чего человек спит и что на самом деле с ним происходит во сне, возможно, в будущем люди смогут заполнить это совершенно пустое время чем-то другим, а возможно, бессвязные картинки, которые они сейчас видят во сне, будут воспроизводить какие-то приборы, то есть, грубо говоря, к голове человека будет подключаться какой-то экран, и он будет просто общаться с теми, кого он хочет увидеть… господи, какой ужас, непроизвольно сказала Светлана Ивановна, и Вишняк так же непроизвольно рассмеялся, одним словом, Светлана Ивановна, завершил он уже другим голосом, тише и печальней, ситуация такая: я пропишу вам все необходимые лекарства, но если через неделю вы не заснете, я настоятельно рекомендую таблетки снять и жить, как вы жили и раньше, только… Что – «только», спросила она, говорите уже наконец.
Только теперь ваша жизнь не будет так резко разделена на эти два промежутка, понимаете, вы будете как бы в одном состоянии, полусна-полуяви, но ничего страшного в этом нет, организм когда-то приспособится, и вы сами привыкнете, вам будет казаться, что вы заснули, или будет казаться, что вы проснулись, но не стоит на этом фиксироваться, углубляться в проблему, считайте, что вы такой человек, ну, скажем, не совсем обычный, вот и все, это редкая, да, но в целом заурядная болезнь, как я уже говорил, вызванная не тем, что вас кто-то за что-то наказал, что вы такая особенная, нет, вы не лунатик, не сомнамбула, не тень отца Гамлета, вы просто человек, который больше бодрствует, чем спит, понимаете?
– То есть я не буду ходить по крышам? – серьезно спросила она.
– Нет, – серьезно ответил он.
Чтобы ее утешить, в конце беседы Вишняк произнес несколько довольно загадочных, как ей показалось, фраз: он сказал, что, вероятно, она заснет однажды безо всяких усилий, сама, это произойдет под влиянием каких-то неведомых, недоступных пока науке закономерностей, накопится усталость или что-то там такое в голове… – он щелкнул пальцами, не в силах подобрать нужных слов, – и вы заснете, сами не понимая, как…
– Ну а если у вас будут вопросы… – сказал он уже обычным голосом и нервно оглянулся на дверь, там, в коридоре, наверное, давно скопилась к нему небольшая очередь, – приходите тогда ко мне.
Она сухо кивнула и вышла.
Постепенно Зайтаг поняла, что Вишняк ни в чем не ошибся и записи, сделанные лаборантом, увы, отражали истинное положение дел.
Она научилась не спать.
Пожалуй, это само по себе было похоже на сон – сон без сна, где она была одновременно и субъективным «Я», и объективным «не-Я», сама для себя – героем и персонажем, который вел себя, откровенно говоря, по-разному. Например, первое время она могла разрыдаться от напряжения, неожиданно, в любом месте, как если бы только что потеряла любимого человека: в булочной, в библиотеке, на своей службе (это чаще всего), или дома, сидя у окна, или на улице, в трамвае, или даже в театре, впрочем, всякого рода мероприятия, театры, концерты она посещать перестала, это было как бы чересчур. Мир и так стал для нее киносеансом, она видела то, чего не видела раньше, например глаза – глаза у людей стали более яркими и глубокими, всматриваясь (в ответ) в чей-то пристальный взгляд, она «застревала», настолько говорящими и порой страшными бывали эти взгляды – из глубины, такой глубины, о которой сами люди даже не подозревали, эти случайные взгляды ее затягивали, она поспешно отводила глаза, но и этих секунд было достаточно. Для нее изменились и звуки, какая там консерватория, какой «концерт для фортепьяно с оркестром»: трамвай грохотал над ней, как апокалипсис, птицы рассаживались прямо у нее в голове, чтобы поговорить о Библии или о «Капитале» Маркса, она буквально слышала их реплики, и они ее иногда ужасали, а иногда смешили. Когда приходил вечер, а за ним ночь, она начинала слышать буквально все, что происходило не только в соседних комнатах, но и во всем доме, а ведь ее отделяли коридоры, стены и квадратные метры, и другие комнаты, и опять толстые стены, но она все равно слышала, как встает ночью с постели жена капитана Новикова, как она перебирает его вещи на столе (зачем?), прижимается к горячему телу мужа, огромному здоровому телу, и заставляет его перевернуться на бок, чтобы он не храпел. Пораженная этими яркими картинами, которые она не видела, но слышала, Светлана Ивановна вскакивала в страшном возбуждении и выходила в сад, потому что слышать весь дом было нестерпимо, – но она все равно слышала: и кашель, и стон, и сладостные муки любви, и, чтобы не слышать, она стала покидать дом в ночное время.
Днем вокруг нее были хотя бы другие, официальные звуки. Они не позволяли ей так глубоко погружаться в мир человеческих отношений, а ночью этот мир открывался перед ней чересчур откровенно, и она его стеснялась и боялась, как боялась глаз прохожих и боялась теперь свинцового неба над Площадью Борьбы, над садом Туберкулезного института, она накидывала пальто, надевала туфли и шла, и шла, и шла…
Впервые выйдя ночью к Самотечному бульвару через этот самый сад, она вдохнула свежий воздух с горьковатым привкусом (шел сентябрь) и глубоко вздохнула – здесь ей было лучше!
Она шла по аллее, в темноте чувствуя взглядом и хорошо слыша шуршание травы, удивленные взмахи веток, обходя кучи мусора, принимая на себя кошачьи взгляды (все-таки они были не такие тяжелые, как у людей, хотя и светящиеся в темноте), – и понимала, что теперь так будет всегда.
Под утро, когда посветлело небо и она нашла себя уже где-то в районе Старой Басманной, Зайтаг вдруг поняла, что так теперь действительно будет всегда, что она стала отдельным человеком, который видит и слышит не как все, чувствует иначе, и у которого свое, отдельное пространство и время. Сделав это открытие, она почему-то засмеялась, но не истерически, а даже радостно, влажный холодный до озноба воздух сентябрьского раннего утра, облегавший ее фигуру, рассеивался на тонкие слои, это был слоистый, не цельный, состоящий из каких-то тонких пластин мир. Пластины были… розоватыми, наверное, да, скорее розоватыми, не каким-то нездоровым, активным, слишком телесно-розовым цветом, но слегка приглушенным, а солнце, которое выплывало постепенно из-за края крыш, было черноватым, и она могла раздвинуть этот мир рукой совершенно свободно, чтобы войти внутрь, в нишу, где было прохладно и спокойно, но она не хотела ни в какую нишу, а просто шла дальше.
Да, мир, открывавшийся в эти первые недели, был ей незнаком, он был похожим на тот, ее прежний мир, но только отчасти. Плотность звуков в нем бывала невыносимой, так же как и невесомость вещей и предметов, и только одно помогло ей в нем удержаться и к нему привыкнуть – это был Лешенька.
В начале августа он вернулся из Кратова (сама она с «группой», конечно, не поехала), и начались трудные, но важные дни привыкания, – теперь каждый шаг давался ей с гораздо бо́льшим трудом.
Именно тогда, в августе 1930 года, она ясно осознала, насколько тяжелее ей стало двигаться и делать самые простые вещи. Пол в комнатах она теперь мыла по два часа. Приготовление борща обдумывала задолго, медленно расставляя в голове привычные стадии – сварить свеклу, очистить и порезать лук, поджарить, положить в кипящую воду. Она читала по тетради рецепты, чтобы не забыть ничего, – и плакала от бессилия. Но, слава богу, сын этого не замечал.
Наконец началась школа, и ей стало полегче.
Теперь она могла просто сидеть на работе и смотреть в стену.
Ей тогда исполнилось тридцать два года. Она родилась в 1898-м. Этот хвостик в два года, зацепившийся в прошлом веке, почему-то не давал ей покоя, он казался чем-то стыдным, компрометирующим, как будто этот хвостик в два года сообщал всем о ее непролетарском происхождении…
Ее отцу, прибалтийскому немцу по рождению, Ивану Зайтагу принадлежало полдома в Вышеславцевом переулке, где они жили одни, хотя когда-то отец собирался сдавать комнаты на втором этаже, подселять жильцов, но ничего из этого не получилось – он не успел.
Отец имел маленький магазинчик на Мясницкой, вход через арку с улицы, табличка была мелкая, дешевая, отец вообще был скуповат, суховат, необщителен, в магазине, одна половина которого торговала фарфором и фаянсом, другая – кухонно-скобяными изделиями, торговля шла с переменным успехом, но магазин приносил доход, и возможно, именно благодаря скуповатости Ивана Зайтага коммерческая удача ему сопутствовала. Наконец, в 1913 году, взяв банковскую ссуду, он купил эти полдома, и они переехали из далекого пригорода – Купавны – в Москву.
В сущности, в этом и состояла его главная мечта: чтобы дочь получила образование и познакомилась с приличными людьми. Дело в том, что, будучи прибалтийским немцем, сам Иван Иоганнович Зайтаг не имел никакого наследства вообще, никакой семейной собственности, никакого родительского капитала – в годы неурожая все забрали бароны, которых он вспоминал недобрым словом, а может быть, его родители вовсе и не были немцами, а он скрывал это от нее (зачем?), а были они, например, простыми латгальцами или чухонцами, кто их там разберет.
Мать Светланы Ивановны погибла от скоротечной болезни, братьев и сестер не было, другие родственники жили не здесь – словом, они с отцом были в этом мире одни. Поэтому переезд из маленького домика в Купавне во 2-й Вышеславцев переулок стал самым главным событием первой половины ее юности. В 1913 году они переехали, и она пошла в частную женскую гимназию Алфёровых (на Плющихе) – отец сам возил ее туда на извозчике. В доме появилась новая прислуга, стали приходить гости, она подружилась с девочками из гимназии и порой гостила у них – то в Москве, то за городом.
Это были счастливые месяцы, которые быстро кончились вместе с войной.
В сентябре 1914-го начались погромы немецких магазинов охотнорядцами и другими патриотически настроенными гражданами. Отец откровенно рассказал ей о своих страхах – больше было не с кем поделиться, хотя Светлана Ивановна была еще подростком. Табличку, пусть крошечную и дешевую, патриотически настроенные граждане сорвали и разбили. Разбили и витрину, хотя она тоже была дешевая. Возможно, все это провернули соседи-купцы, отцовские конкуренты, нанявшие кого-то для грязного дела. Лавку от страха отец тут же закрыл и сразу открыл другую небольшую торговлю на рынке у Арбатских ворот – уже безо всякой вывески. Полицмейстер потребовал от него встать на учет как немца, и отец беспрекословно встал.
Жизнь продолжалась, но из гимназии Зайтаг ушла – однажды, найдя в учебнике оскорбительную записку, тоже по поводу национальности, она попросила отца придумать что-то другое с образованием, и он с облегчением согласился: Алфёровская гимназия обходилась ему слишком дорого.
Не стало у них и прислуги. Светлана Ивановна сама теперь больше времени уделяла домашним делам. К ней приходили на дом учителя – студенты, многие из которых говорили ей отчаянные комплименты, но это ее почему-то оскорбляло, и она увольняла одних и нанимала других.
Все как-то скомкалось…
В 1913 году (или в 1914-м) у Александровской площади баронесса Корф построила на своем участке огромный и неказистый доходный дом (иногда его почему-то называли «кооперативным») в пять этажей. Дом как будто бы плыл над землей, немного странной формы, отдаленно похожий на корабль, и был виден отовсюду – соответственно, с его крыши тоже была видна, конечно же, «вся Москва»: старинный шпиль Сухаревой башни, красно-кирпичные водокачки у Крестовского моста, похожие на крепость, из тех, что рисуют в детских книжках, – этот дом утопал в саду, который примыкал к мрачному зданию Туберкулезного института, и осенью шум листвы и сухих веток становился таким огромным и многозначительным, что проходить мимо сада было как-то тревожно. А рядом с этим огромным садом, в маленьком особнячке с маленьким флигельком жила сама баронесса, которая редко, очень редко выезжала в экипаже в гости или по делам, вызывая всяческие кривотолки – о своих знатных родственниках, о большом наследстве, вложенном теперь в эту дорогую недвижимость, в «кооперативные квартиры», о далеких наследниках, ради которых, должно быть, все и было затеяно… Но вскоре все эти разговоры затихли, баронесса угасла, наследники потерялись, теперь это был просто один из новых московских домов, построенных аккурат перед войной и населенных уверенными в себе людьми, твердо стоящими на ногах, – адвокатами, инженерами, преподавателями и докторами. Частично они выкупали квартиры, а другая часть жильцов платила арендную плату, только теперь все это было неважно – потому что именно тогда, в 1914 году, когда толпа патриотично настроенных горожан пошла громить немецкие заведения (а их было немало по всему городу), этот густонаселенный, свежий, даже горячий, как из печки, и очень обустроенный большой мир Москвы дал огромную трещину. И быстро засох.
Александровскую площадь переименовали в Площадь Борьбы после октябрьских событий 1917 года, во время которых и погиб отец Светланы Ивановны.
Погиб он глупо, возвращаясь домой, – он спешил, поскольку волновался за дочь (возможно, задержись он по своим делам хоть на полчаса, остался бы жив), и не дойдя до дома буквально несколько сот шагов; кооперативный дом находился от их полудомика во 2-м Вышеславцевом переулке буквально в десяти минутах ходьбы, и она никак не могла понять, почему он не взял извозчика, если было так опасно, почему спрыгнул с конки именно здесь, где звучали выстрелы, – но да, он сорвался с места, помчался, спрыгнул, а здесь пошел пешком – и тут же попал под обстрел.
Стреляли с двух сторон: рабочие отряды с окраинных заводов, повинуясь приказу Совета, пробивались через заставы в центр, а немногочисленные жандармские патрули и юнкера отбивались (никакой регулярной армии в городе не было), – и те и другие стреляли из легких пушек шрапнелью, а не снарядами, они палили из винтовок по головам и поверх голов, но и этого хватило – перестрелка в городе опасна именно тем, что здесь много каменных поверхностей. Александровская площадь была замощена брусчаткой, крупным булыжником, а возможно пуля отлетела от стены кооперативного дома, а возможно отец просто попал под шальной выстрел – теперь уже было не важно.
Светлана Ивановна искала отца недолго, урядник и вахмистр, она не разбиралась в чинах всех этих людей, которых еще не перебили поодиночке рабочие и которые еще не прятались по углам, привезли его тело из морга в пролетке, найдя в кармане какие-то документы или опознав по фотографиям, которые имелись тогда в участках, и долго сидели над телом, объясняя ей, как теперь быть. Оба они были не в силах уйти, потому что вид ее, наверное, был совершенно ужасен – она сидела в пальто, поскольку прошедшие два дня просто ходила по улицам и искала его, ничего не ела, кашляла от усталости, ей не к кому было обратиться, ну не к репетиторам же, ей было девятнадцать лет, и два этих пожилых усатых дядьки, пропахшие табаком, кожей и невыносимым казенным духом, в пыльных сапогах, при револьверах и шашках, испуганные не меньше, чем она, оказались единственными ангелами, прилетевшими на ее зов. И они быстро распорядились насчет священника, насчет похорон, и Зайтага похоронили бесплатно, за счет города. Покойники в Москве в эти дни исчислялись сотнями; юнкеров, например, отпевали в большой красивой церкви в Брюсовом переулке, красногвардейцев – по большевистскому, еще только установившемуся обычаю, без священника – на Красной площади, всех потом свезли на Братское кладбище неподалеку от Всехсвятской церкви и положили буквально рядом, тех и этих, и Светлана Ивановна ходила всюду – и туда, и сюда, и к той церкви, и к этой, после Лазаревского кладбища, где отпевали ее отца, проклятого немца, она ехала на Братское, одно время она вообще пристрастилась к этому занятию, а ведь отпевали в том октябре, а потом в декабре, а потом весной 1918 года в Москве очень многих, отпевания шли подряд друг за другом, священники скорбно махали кадилом над бледными лицами и охапками цветов, поправляли вышитые полотенца, женщины плакали под полутемными сводами – плакали везде, в Новодевичьем монастыре и в Донском, на Ивановской горке и в Замоскворечье, в Зачатьевских переулках и на Пресне, ничего подобного раньше город не знал, церкви еще не были закрыты большевиками, и в них сплошным потоком шли траурные церемонии – хоронили погибших на фронте, хоронили жертв октябрьских событий, хоронили жертв террора, и белого, и красного, хоронили умерших от тифа, хоронили эсеров, анархистов и контрреволюционеров – словом, хоронили всех.
Постепенно Светлана Ивановна устала от этих отпеваний, они перестали приносить ей успокоение, и она стала разбираться с бумагами отца, надеясь найти в них какую-то новую правду. А может быть, и помощь. Помощи никакой от этих бумаг, конечно, не было, но открылось немало любопытного. Отец состоял членом прорвы различных обществ и организаций. Он как будто нарочно собирал коллекцию этих бесполезных свидетельств и подписных листов, чтобы сводить ее с ума жуткими январскими ночами 1918 года – она перебирала их с ненавистью, но и с каким-то даже страстным любованием – боже мой, повторяла она про себя, какой же непроходимый дурак: Иван Зайтаг был членом попечительского совета Александровского института благородных девиц, наверняка имея в виду, что когда-нибудь и она вольется в их ряды, этих самых благородных девиц, он был членом московского охотничьего и московского хорового общества, хотя не занимался в жизни ни тем ни другим (или она чего-то не знала?), он был членом общества друзей Московской консерватории и давал деньги на психиатрическую клинику, он покровительствовал обществу купеческих приказчиков в Старосадском переулке и ходил на заседания Московской городской думы в качестве ее кандидата, он занимался пожарной частью где-то в Лефортове и обустраивал кладбище Донского монастыря, хотя теперь был похоронен как бездомный бедняк, и самое главное, хотя она не прочитала даже половины удостоверений, грамот и подписных листов, все это он делал совершенно зря.
Весь этот мир исчез в одно мгновенье, безо всякого следа.
Эта невероятно подробная, состоявшая из тысяч мелких деталей, цельная и могучая конструкция быстро рассыпа́лась – и хотя основное, так сказать, коренное население Москвы не верило в это, не желало верить и упорно цеплялось за прежнее, сама Светлана Ивановна поняла это раньше других, еще в тот момент, когда нашла у себя в учебнике записку с единственным словом «колбаса» (имелась в виду немецкая, конечно же, колбаса), когда услышала от отца, как два человека вошли в лавку и разбили четыре английских сервиза, взломали кассу и забрали все наличные деньги, выполняя свой патриотический долг, с тех пор как по отцовскому лицу, дорогому и теперь ненавистному (потому что бросил он ее так неожиданно), пошла эта трещина в виде кривой улыбки, – она поняла, что жизнь, какой она была раньше, больше не будет уже такой никогда. И что надеяться на это не надо.
Но, разбирая бумаги отца, найденные в его секретере, она обнаружила нечто интересное: еще один подписной лист на строительство какой-то больницы, в котором вдруг увидела знакомый адрес – один из подписантов жил на Александровской площади, в том самом доме баронессы Корф, мимо которого она часто ходила, и фамилия его была Терещенко. Он очень удивился, когда она робко позвонила в дверь, потом сказал, что с господином Зайтагом не был знаком, но глубоко сочувствует ее горю, и просто предложил ей чаю. Зайдя к Терещенко, она сразу поняла, что всегда хотела попасть в этот дом-корабль и выглянуть из его окна. Это был, как Светлана Ивановна поняла потом, не просто дом, а дом разбитых надежд, похожий на нее саму, на ее нелепую, так рано оборвавшуюся первую судьбу. Но ведь то же самое можно было сказать и обо всех остальных его жильцах, о том же Терещенко, с которым она вдруг подружилась и однажды осталась у него ночевать, поскольку ей стало страшно идти домой, – одним словом, сбылась ее мечта посмотреть на «всю Москву» из высокого окна этого дома: дом, как океанский корабль, носом врезающийся в шумящий сад Туберкулезного института, возвышался не просто над Марьиной Рощей, Новосущевской улицей, Камер-Коллежским валом, Лазаревским кладбищем, над шпилями церквей, которые почти достигали его высоты (а он был на холме и смотрел на них поэтому горделиво), нет, он возвышался и над ее судьбой – да и над судьбой любого человека, и это было странно – ведь это всего лишь дом, но трепещущая зелень садов, бесконечно уходящих к Екатерининской и Самотеке, ее поразила…
Она сидела на коленях у экономиста Терещенко и целовала его в мягкие теплые губы, как будто делала это всегда.
Назавтра она принесла из дома постельное белье и ночную рубашку.
Так – на несколько лет – она стала жилицей и узнала о судьбе многих других жильцов.
Терещенко очень поначалу ее стеснялся.
То есть да, конечно, он был очень рад и даже увлечен, но ночью, когда ему нужно было покурить или выйти по малой нужде, он, долго пыхтя, совершая нелепые медленные движения в темноте и опасаясь ее разбудить, опасаясь зажечь лампу или отдернуть штору, вдруг наталкивался на какой-нибудь стул, и все начинало грохотать, звенеть, и она окончательно просыпалась и, видя его уже в штанах и даже в накинутой рубашке, при этом с босыми ногами, потому что тапочек в темноте он найти не мог, краснела от стеснения сама, его стеснение передавалось ей, она громко шептала, чтобы он включил свет и не мучился, но он упрямо отказывался, чтобы она его не увидела. Точно так же он упрямо отказывался сохранить свет, хотя бы от ночника, от хоть какой-нибудь завалящей лампочки, хотя бы от газового фонаря за окном, и ложился вместе с ней лишь в кромешной полной темноте, плотно задернув шторы, то есть опять стеснялся… Он как-то быстро ее раскусил, он понял, что ей просто в эти месяцы было нужно куда-то ходить, выйти из дома и идти хоть куда-нибудь, он относился к этой ее острой потребности терпеливо, утром вежливо прощался, отбывая на службу (она еще была в постели), вечером вежливо здоровался, когда она звонила в дверь, не ругался, если она пропадала на несколько дней, ну и так далее, как выяснилось впоследствии, он был блестящий, крупный экономист, несмотря на молодость, один из авторов денежной реформы двадцатых годов, «соавтор золотого рубля», ну и так далее, что не помешало советской власти его расстрелять в 1930-м как соучастника так называемого «Дела Промпартии». Но когда она об этом узнала, ей уже было все равно, она, конечно, немного поплакала, передернула плечами и тут же начала думать о другом, впрочем, вся ее жизнь в том 1930 году в связи с ее странной болезнью настолько перевернулась, что оправдание своему равнодушию Светлана Ивановна нашла легко, а тогда она и думать не думала, что Терещенко станет великим человеком и что стоит поразмыслить о том, чтобы остаться в этой квартире навсегда. Нет, у нее был свой дом, и она даже не предполагала такого развития событий, в ее памяти остался главным образом звук – звук его крупных (донельзя крупных) ступней, когда он вставал ночью и шлепал босыми ногами, и крупный, резкий звук, с которым он глотал воду, жадно глотал ее, отделившись от Зайтаг – которая испуганно замирала, пройдя сквозь череду судорог, не всегда понятных и ей самой, кадык у него был крупный, и этот странный звук ее донимал.
Так или иначе, она прожила в этом доме несколько лет, потеряла невинность (видимо, в этом и был смысл нелепого и горестного разбирания отцовских бумаг, в которых она нашла адрес Терещенко) и успела многое узнать о его жильцах.
Жильцы, конечно, довольно часто менялись в те годы – в этом доме и раньше жили доктора, но в отдельных квартирах (как, например, доктор Иванов или доктор Вокач), с домочадцами и прислугой, занимая по четыре, по пять комнат; а сейчас частный доктор Кауфман – специалист по кожным и венерическим болезням – занимает с семьей лишь две комнаты из пяти, то есть живет в коммунальной квартире после уплотнения. В них он и принимал больных, и жил, это притом что поселился он в бывшей квартире своего двоюродного дяди, коммерсанта и держателя акций Мееровича, который в 1920 году выехал для поправления здоровья в Румынию. Остальные комнаты бывшей квартиры Мееровича занимали совсем другие люди – как родственники доктора Кауфмана, так и совершенно ему чужие.
Уплотнение происходило невероятно быстрыми темпами, причем в нем не было никакой системы – а только прихоть судьбы и роковая случайность. Впрочем, до середины тридцатых годов действовала система так называемого добровольного уплотнения – можно было прописать к себе в квартиру родственников, даже дальних.
Вообще же понять что-либо с этим уплотнением было невозможно.
Например, в квартире 23 по-прежнему жил инженер-архитектор Покровский – тот самый, что когда-то построил этот дом по заказу баронессы Корф, – с выводком маленьких испуганных дочерей, а буквально напротив него, в одной из комнат огромной квартиры 24, жил Володька Безлесный, это был настоящий вор-аристократ, про которого все в доме знали, что он вор, почтительно здоровались и проходили мимо, внутренне поджавшись, а он был изысканно-вежлив и холодно-внимателен. Впрочем, далеко не все его боялись в бывшем доме баронессы Корф.
Не боялся его дворник Мустафа Обляков – который продолжал ходить в фартуке и со старорежимной царской бляхой, «осколок прежних времен», как презрительно называл его вор Безлесный. Мустафа вежливо (и низко) кланялся всем врачам (Кауфману, Вокачу, Иванову), архитектору Покровскому и его жене, экономисту Терещенко, юристу Дорошу и другим людям, в которых он признавал благородство происхождения, Мустафа снисходительно кивал нэпманам и прочей «новой знати», их он не признавал, даже если они выезжали на лакированных пролетках, носили дорогие костюмы и щеголяли новенькими карманными часами, на прежних жильцов из кооперативного дома они все равно не были похожи – и Мустафа справедливо считал их богатство и положение недолговечными, а спесь излишней, но исправно кланялся, помогал этим новым господам по мелочи и охотно получал на чай, а вот к тем, кто заселился в доме совсем недавно, ко всем этим сторожам и фельдшерицам Туберкулезного института, сапожникам, ремесленникам, рабочим, людям неопределенного рода занятий, вечно пьяным и куролесящим в квартирах, их вечно беременным женам, то есть ко всем въехавшим в дом недавно – Мустафа относился по-другому, он ими брезговал, он равнодушно смотрел мимо и порой не здоровался… Они отвечали ему злой насмешкой, но он их не боялся.
Не боялся он их до такой степени, что когда вор Володька Безлесный нагло ограбил добрейшего доктора Кауфмана, забравшись к нему по карнизу (а перед этим сходив к нему с визитом, как бы посоветоваться насчет подруги, а на самом деле – запомнить расположение мебели и присмотреть вещи) – Мустафа просто вскрыл дверь в его комнату, обнаружил вещи доктора и заставил отдать.
Это было немыслимое событие, когда весь дом замер от ужаса, всем казалось, что вор зарежет дворника той же ночью, но все обошлось, Мустафа отдал вещи доктору, тот принял с благодарностью, а потом Безлесный сам зашел (во второй раз) в докторскую квартиру – и принес извинения.
– Извините, Самуил Борисович, – ослепительно улыбаясь, сказал Володька, ероша жесткую шевелюру, – бес попутал. У своих не берем, но… Мать заболела, деньги нужны, вот я и…
– Может быть, вам дать взаймы? – спокойно спросил Кауфман, а Володька покраснел и ретировался.
В чем сила Мустафы – понять было непросто.
Светлана Ивановна Зайтаг сильно интересовалась этим вопросом и не раз спрашивала мнения у сожителя Терещенко.
– Это же вопрос экономический, – меланхолично отвечал ей Терещенко, жуя за завтраком яичницу и подтверждая этим ответом, что специалист подобен флюсу. – Ну вот представь, лапочка, этих новых жильцов, которых становится все больше и больше с каждым годом, они все стены исписали в подъезде похабными словами, выкидывают мусор на лестничной клетке, спасибо, что не срут там же, в 16-й квартире уже проживает десять человек вместо трех, в 18-й – двенадцать, в 24-й – восемнадцать; представь себе, что будет с домом, если не будет в нем Мустафы, – он сгорит, превратится в руины, а куда в таком случае денется сам Мустафа, ему просто некуда будет пойти, ведь, кроме его каморки, у него другого жилья в Москве нет… Человек живет своими экономическими интересами. Мустафа не какой-нибудь там Геракл, совершающий очередной сто двадцать третий подвиг, он заботится лишь о себе… Понимаешь?
Но этот ответ, каждый раз повторяемый экономистом Терещенко на разные лады, Зайтаг совершенно не удовлетворял. Ей казалось, что в этой силе Мустафы есть что-то непостижимое.
А вот в силе Марьи Семеновны из восьмой квартиры ничего загадочного и непостижимого, конечно, не было. Она, Марья Семеновна, была доносчицей, и ее боялся весь дом. (Весь, кроме Мустафы.)
Марья Семеновна следила за всеми и обо всех все знала.
Когда Марья Семеновна слышала шум на лестнице, она просто выходила из своей квартиры, не заперев двери, и терпеливо ждала, пока этот человек пройдет мимо нее, сопровождая пристальным и даже пронзительным взглядом. Первой она никогда не заговаривала – как правило, смущенные жильцы делали это сами. Они – проходя два пролета по лестнице – успевали ей выложить буквально все: кто к кому и откуда приехал (а приезжали в Москву к родственникам многие, и оставались надолго), кто чем заболел и чем лечился, что за шум был вчера (а шуму становилось все больше), почем куплен хлеб в магазине и какие праздники собираются отмечать.
Она состояла в коротких сношениях с домоуправлением (не имея при том никакой формальной должности в нем) и строго следила за пропиской и выпиской.
Когда сапожник Васильев запивал и начинал слишком бить жену (то есть он и так ее бил, и все это знали, но в особых случаях звуки битья становились настолько страшными, а вой побитой настолько утробным и громким, что спать и жить уже не было никакой возможности) – так вот, в этих случаях вызывали дворника Мустафу, он, грохоча сапогами, поднимался по лестнице, взламывал дверь стамеской или топориком, с трудом отрывал Васильева от жены и окатывал ведром холодной воды, при необходимости несильно давал в зубы. Но иногда и это не помогало, и Васильев отпихивался и продолжал бушевать, и вот тогда из строя зевак выступала сама Марья Семеновна, зловеще шипя, произносила заветную фразу:
– Васильев, я тебя выселю, сука, учти!
И огромный страшный мужик вдруг обмякал. И Мустафа волок его в свою каморку, чтобы проспался на холодке.
Словом, Мустафа и Марья Семеновна – это были сила старая и сила новая. Но почему-то обе эти силы друг с другом не враждовали. Хотя и не любили друг друга.
Зайтаг ловила момент, чтобы увидеть, как они здороваются, и наконец у нее это получилось – Мустафа, увидев выходящую из дома Марью Семеновну, бросил подметать и картинно уткнулся подбородком в свои кулаки, сжимавшие верхнюю часть метлы, она же, несколько подбоченясь, замедлила шаг:
– Куда идешь? – спросил Мустафа, пронзив взглядом новую силу.
А новая сила ответила, кисло осклабясь, – силе старой:
– В домоуправление, передать чего от тебя?
– Я сам передам… – буркнул Мустафа и отвернулся.
Пораженная увиденной сценой, Светлана Ивановна долго размышляла над символическим значением этих простых слов, но потом ее отвлекли другие дела.
Сама она Марью Семеновну почти не боялась – но только лишь потому, что не считала себя полноправной жилицей. Ей нечего было терять, кроме своих цепей, как самому пролетариату. Когда они впервые столкнулись на лестнице (Марья Семеновна долго и терпеливо ждала, пока она дойдет до третьего этажа), – Зайтаг побледнела, опасаясь чего-то очень неприятного. Но, оглядев ее с головы до ног, Марья Семеновна просто и без выражения сказала:
– Вам нужно зарегистрироваться, женщина. Такой у нас порядок.
– Но я здесь не живу! – вспыхнула Зайтаг. – Я живу в другом месте.
Такого ответа Марья Семеновна почему-то не ожидала.
– И что же вы здесь делаете, в таком случае? – немного покраснев, спросила она.
– Прихожу в гости…
Повисла пауза.
Марья Семеновна тяжело смотрела на новую жилицу, которая явно выскальзывала из сферы ее влияния с помощью какого-то глупого фокуса.
– Смотрите у меня, – сказала она наконец и отступила. – Не нарушайте порядок.
После этого разговора Терещенко (а был он далеко не таким равнодушным или рассеянным человеком, каким казался на первый взгляд, напротив, был порой весьма горяч) пошел жаловаться на Марью Семеновну в контору домоуправления.
Поскольку в его кармане было удостоверение важного учреждения, в котором он служил, держаться он решил нагло и напористо.
Описав ситуацию, Терещенко спросил у начальника:
– А кто она, собственно, такая?
Начальник покраснел и, отведя глаза, неохотно вымолвил:
– Да никто… Общественница, понимаете?
Терещенко не нашелся, что ответить по существу, пробурчал себе под нос насчет того, что пусть не лезет не в свое дело, и захлопнул за собой дверь, а начальник домоуправления тяжело вздохнул.
В доме было пятьдесят квартир.
Уплотнение часто происходило буквально на глазах Светланы Ивановны Зайтаг. Практически раз в месяц, а то и чаще, в дом вселялись новые жильцы. Некоторые приходили сами, просто стучали в дверь и показывали свой ордер (как правило, прежние жильцы были заранее предупреждены). Иногда вместе с новыми жильцами приходил кто-то из домоуправления или милиционер.
В Москве был широко известен мрачный апокриф, или нехороший анекдот, который на самом деле имел место в жизни. Апокриф был такой. Семья рабочего-коммуниста вселилась в профессорскую квартиру и прожила в ней несколько месяцев или даже лет. В свою очередь, профессорская семья была столь угнетена этим новым соседством, беспрерывным скандалом на кухонной почве, разнообразными унижениями со стороны семьи рабочего-коммуниста, его жены, детей, матери и тещи, что не выдержала и добилась от своего главы (то есть профессора), чтобы он пошел «на самый верх» и настоял на выселении рабочего. Профессор был видным ученым, в новой системе образования и культуры тоже занимал какой-то важный пост, и это ему невероятным образом удалось.
Но когда происходило выселение, сошедший с ума от ярости рабочий-коммунист, несмотря на присутствие милиционера, выхватил свой именной пролетарский пистолет времен Гражданской войны и убил профессора наповал выстрелом в голову.
Этот трагический, почти шекспировский случай облетел всю Москву, и Светлана Ивановна Зайтаг о нем тоже знала.
Однако процесс уплотнения – который она видела своими собственными глазами – далеко не всегда принимал столь эпические формы. Все происходило незаметно, естественно, мелкими, даже мельчайшими шагами. Уже буквально через несколько месяцев после октябрьских событий 1917 года, в результате которых она (Светлана Ивановна) осталась сиротой, стало очевидно, что все эти прекрасные огромные комнаты, прихожие, спальни, столовые, невероятно роскошные коридоры, все эти кухни и комнаты для прислуги, вся эта архитектура достатка и здоровой жизни – она совсем не для этого времени.
Светлана Ивановна прекрасно помнила, как, зайдя (совершенно случайно), к своей гимназической подруге Лисицыной, в районе Арбата, где-то между 1918 и 1919 годом, была потрясена увиденным: голые пустые комнаты без мебели, которую сожгли на дрова, с детской комнатой, оборудованной в ванной, потому что там теплее и удобнее купать малыша, с бельевыми веревками, висящими в столовой, разбитыми окнами, которые были заткнуты подушками и коврами, ну и прочее, прочее, прочее. Уже тогда в этой огромной квартире профессоров Московской консерватории поселились разные люди – родственники из далеких углов империи, которые приехали в Москву, спасаясь от ужасов войны, кругом стояли их неразобранные тюки и чемоданы, было непонятно, надолго ли приехали эти родственники, или они поедут куда-то дальше, в другие страны, квартира уже тогда фактически стала коммунальной. Светлана Ивановна посидела немного и, выпив с Лисицыной чаю с морковными конфетами, благоразумно ретировалась – здесь и без нее было очень много людей.
В Москву стало приезжать все больше и больше этих новых жителей, потом хлынул полноводный целый человеческий поток, а старые люди все чаще куда-то уезжали, и процесс уплотнения пошел еще веселее.
Что уж говорить о пролетариате, который имел полное право шагнуть из бараков и рабочих казарм к новой прекрасной жизни, что уж говорить о различных милиционерах и служащих и прочих представителях власти, нэпманах и домработницах, что уж говорить о сестрах и санитарах Туберкулезного института, – все они имели (должны были иметь) в треугольном кооперативном доме на Площади Борьбы свое право.
Большие (слишком большие) комнаты были разделены перегородками, кухни – тоже разделены на некие «зоны», где стояли небольшие столики, накрытые клеенкой, и вонючие примусы. Двери на черную угольную лестницу в большинстве своем были заколочены (хотя в некоторых квартирах дровяные плиты еще работали, и возле этих квартир на черной лестнице вечно валялись щепки), стены подъезда исписаны надписями, в основном ругательного свойства, оконные стекла закоптились, а двери в квартирах и комнатах, которые то и дело ломали, вскрывали и снова укрепляли, вставляя новые замки, выглядели странно, новая беспородная мебель соседствовала со старой, породистой, но, пожалуй, главное, что произошло в бывшем доме баронессы Корф, – это страшное немыслимое смешение всех нравов, всех культур, языков и порядков.
Набожные сестры Любимовские, жившие теперь в бывшей квартире инженера Когана, ставили лампадку перед иконой и молились, в то время как Марья Семеновна подслушивала и строчила свои доносы. Все это не то чтобы очень удивляло Светлану Ивановну Зайтаг – но было любопытно.
Сама она жила тогда совсем другими проблемами: ей хотелось понять, готов ли экономист Терещенко иметь от нее ребенка? А когда Алешенька все-таки родился, она уже хотела понять, будет ли Терещенко теперь ей мужем или просто отцом ее ребенка? А ведь она по-прежнему жила у себя, во 2-м Вышеславцевом переулке, где была ее родительская квартира, а верней, теперь уже комната, потому что уплотнение, разумеется, коснулось и ее, и отношения их с Терещенко имели довольно странный характер, потому что – то он приходил к ней в гости, то она к нему, но жить вместе у них не получалось, и в одной комнате, и в другой пространство было небольшим, оно было малым, слишком малым для целой семьи, а когда она спрашивала у экономиста Терещенко, не дадут ли ему на его важной службе в важном учреждении какую-нибудь другую квартиру, соответствующую его статусу и вкладу в общее пролетарское дело, – он багровел, страшно напрягался и уходил гулять, чтобы не накричать и не сорваться. Ей тогда становилось совсем страшно и неуютно, и она убегала к себе, во 2-й Вышеславцев переулок.
В квартире 34 – там, где принимал ее доктор Кауфман, – жил Соломон Матвеевич, чудной старик с огромной черной бородой, отец доктора Кауфмана, правоверный иудей. (Она часто видела его во 2-м Вышеславцевом переулке, когда он проходил мимо ее дома в синагогу – поскольку синагога была по соседству, отделенная от их сада лишь старым деревянным забором.) Утром он молился, и это слышали все соседи. Он прикрывался шелковым талесом, распевая свои гимны и просьбы к Богу, стоя на коленях и раскачиваясь.
В доме на Площади Борьбы (несмотря на то, что это был не барак и не казарма) трудно было что-нибудь скрыть – и об этих иудейских молитвах знали все, включая, конечно, и Марью Семеновну. Марья Семеновна, разумеется, знала о вредных привычках старика Кауфмана с этими иудейскими молитвами, и про иконки и лампадки набожных сестер Любимовских, и про многих сестер и нянечек Туберкулезного института, которые также ходили в церковь – либо в храм возле Лазаревского кладбища, либо поближе, к Селезнёвке, либо совсем уж в ближайшую церковку – при больнице, все это поведение, конечно же, новой властью не поощрялось, но проступок был столь мал и ничтожен, что Марья Семеновна лишь записывала его в какие-то одной ей ведомые анналы, тетради и гроссбухи, чтобы, сложив затем все плюсы и минусы, вывести некую общую составляющую.
Старик Кауфман и без своей утренней молитвы и прочего соблюдения норм иудейской религии был жильцом весьма экзотическим.
Его высокий рост, огромная лохматая борода, серебристо-седая с вкраплениями черного, с завитушками и колтунами, с застрявшими крошками и вьющимися отдельными волосами, забиравшимися под пуговицы, с другими волосами, выходящими также из носа и ушей, – его засаленный сюртук, надеваемый по праздничными дням, и пальто с крылаткой, его трость, его ошеломленный вид, когда он переходил площадь перед трамваем в пасхальные дни, наперерез богомольцам, его навязчивый французский язык и неумение вступать в отношения с людьми – все это казалось Светлане Ивановне Зайтаг каким-то карикатурным. При этом он был неким странным связующим элементом между одной частью жильцов дома и второй, он был ни там и ни здесь, он появился в доме в двадцатых годах, но был как бы совсем из прошлого, он был над всеми и не был ни с кем, все возможные неправильности и недостатки жильцов были ничто по сравнению с его неправильностями и недостатками, с его нежеланием жить сегодняшней жизнью. Приглядываясь к старику Кауфману, она поняла, что их всех, таких разных, что-то связывало. Этот дом, этот быт – словом, что-то, какой-то клей.
И постепенно, как она чувствовала, этот клей схватывался все сильнее, постепенно они все становились каким-то общим телом, жильцы этого дома на бывшей Александровской площади, они были разнородным телом, но общим, как если бы был один человек, состоявший из разных, противоположных элементов, например из железа и дерева, и вот этот железно-деревянный человек или, скажем, человек, сделанный из бумаги и кислоты, он постепенно, изумляясь сам себе, постепенно научился бы ходить, говорить, дышать, пускать дым колечками – словом, жить. Так и дом на Площади Борьбы – вместе с Мустафой Обляковым и Марьей Семеновной, Терещенко и доктором Вокачем, Светланой Ивановной и сапожником Васильевым, – он становился все более округлым и замкнутым, становился ульем или муравейником, то есть живым естественным организмом, как бы примиряясь сам с собой, и это было невыразимо странно…
Терещенко обычно засыпал первым, а Светлана Ивановна еще долго не могла заснуть, пытаясь не шевелиться, чтобы не разбудить его, лежала на спине, перебирая в уме разные мысли: мысли были в лучшем случае печальные, а чаще тревожные и неприятные – про Алешеньку, его болезни и его будущее, про то, нужно ли ей выходить замуж (ведь Терещенко отчего-то не предлагал), про несчастного отца и про то, что он уже ничего этого не увидит (и, может быть, хорошо), и вот наконец мысли перемещались в привычную для нее область – она уже не думала, а лежала и представляла весь дом, дом-корабль, он был весь под ней (кроме последнего этажа), и вот она заглядывала в квартиры, понимая, что поступает нехорошо, но не в силах от этого избавиться.
Так вот, этот самый клей: общая жизнь жильцов, их совместный быт и совместный труд по обживанию самих себя, обживанию пространства и времени – все это проступало постепенно, и только, наверное, к концу двадцатых годов стало окончательно ясно, что помимо вопиющих различий между ними есть и общее, что они притерлись друг к другу и стали гораздо более общим телом, чем думали раньше, – как будто жители одной планеты или одного острова.
Это стало ей ясно из самых разных процедур или, скорее, навыков жизни, которые сделались у них совместными, тоже общими, и вошли в привычку – как вошли в привычку дежурства по уборке квартиры или списывание показаний электросчетчика, – ну, например, вошло в привычку у всех (почти без исключения, даже у вечно битой жены сапожника Васильева) покупать молоко, сметану, овощи у разносчиков с Минаевского рынка (они обходили квартиры по очереди, предлагая свой товар, торгуясь за копейки и оглашая двор криками), сама Светлана Ивановна обожала летними утрами вынимать из грязного ящика зеленщика свеклу или картошку или отбирать наощупь бутылку, самую прохладную, со свежим молоком; а другой общей привычкой стали похороны – чем больше становилось в доме людей, тем чаще происходили похороны, причем иногда они бывали горькими и торжественными, ведь люди уходили не только по старости и болезни, так было, когда умерла Люся, жена нэпмана Мееровича, она задушилась шарфом в шкафу, не выдержав мучивших ее болей в голове, доктор Вокач говорил, что ее вовремя не отдали в клинику, но все равно в доме ощущалось горе – Люся была совсем молода, и многие ее знали девочкой; главным образом, похороны ощущались как общее дело из-за присущих им ритуалов – катафалка, черного или красного (красного, если хоронят члена партии), с парой лошадей, украшенных плюмажем (тоже черным), и возницей в засаленном сюртуке и цилиндре. Играет духовой оркестр, выносят гроб, ставят на табуреты, заранее принесенные из дома, выходят заплаканные вдова и дети – все это не просто зрелище или ритуал, а жизнь, которая вдруг очевидно становится общей и острой.
Светлана Ивановна всегда участвовала в прощании.
Ее саму уплотняли по-разному. В зиму с восемнадцатого на девятнадцатый год (голодную и страшную, надо сказать, зиму) к ней подселяли то служащих государственной аптеки, то целую семью, бежавшую от белогвардейцев (причем в ордере так и было написано, она сама прочитала это несколько раз, пытаясь запомнить диковинную формулировку), – но они быстро съехали, вернувшись в родные места, где уже не было белогвардейцев, или вовсе расставшись с советской Россией, подселяли то рабочего, то служащего, то чекиста…
Один чекист, въехавший в ее бывшие комнаты уже ближе к двадцатому году, был невероятно предупредителен, обещал, что нисколько ее не обеспокоит, выражался буквально как персонаж Чехова или Леонида Андреева – бурно, витиевато, красиво, но в какой-то момент выяснилось, что он выпивает по вечерам и водит гостей – гостями были какие-то довольно дорого одетые женщины, которые оставались на ночь и орали то ли от боли, то ли от удовольствия, Светлане Ивановне это было нестерпимо, и она просила наутро вести себя потише, чекист краснел и страшно извинялся.
Но потом как-то вдруг взял и съехал.
В тридцать первом году к ней подселили семью Каневских… Но до этого произошли важные события в ее жизни.
Это было так – к концу двадцатых годов экономист Терещенко, отец ее ребенка, начал жить как-то заметно лучше.
В доме у них не переводились хорошие вещи – конфеты, дорогая копченая рыба, иностранные папиросы, появилась даже кухарка, готовившая разные пироги и разносолы, сам Терещенко стал одеваться в костюмы и чесучовые пиджаки, покупать ей платья и безделушки, все время хотел поехать на юг, чтобы отдохнуть, – в лице его появилось выражение расслабленного удовольствия и ленивого сомнения, и вдруг она почувствовала себя лишней.
Это продолжалось недолго, вскоре она попросила Мустафу помочь перевезти детскую кроватку и ее чемоданы, дворник взял тележку и перевез, не взяв с нее денег, а она с сыном доехала на извозчике до 2-го Вышеславцева переулка, – Терещенко больше к ней не приходил.
И вот она опять стала жить одна. Верней, не одна, а с Лешенькой.
Время, проведенное ею на Площади Борьбы, в доходном доме, она вспоминала не без горечи, но порой даже с удовольствием – ведь она тогда умела спать!
Там ей спалось действительно хорошо – иногда она приходила к Терещенко и засыпала прямо сидя на стуле. Понимая всю драгоценность этих минут, экономист буквально замирал и боялся дышать, оберегая ее слабое посапывание и мелодичный легкий свист. Он особенно любил ее в эти минуты. Светлана Ивановна обмякала, становилась чуть прозрачнее и невесомее, чем обычно, она подворачивала ступни внутрь во время сна, по ее щеке неправильно и хаотично струились светлые пряди, руки бессильно лежали на коленях, она была прекрасна не потому, что была прекрасна, – как ночью, когда она возлежала на простынях и тихо смеялась, глядя на него, приходящего в себя после соития, – нет, она была прекрасна, потому что ее покидало напряжение, она становилась текучей, как вода, бесформенной, необязательной, и это ему почему-то нравилось.
Она вообще явилась в его жизнь настолько неожиданно, что долго он воспринимал ее как случайность.
А он не очень-то ценил случайности, обладая цепким аналитическим умом, он их не уважал, впрочем, возможно именно случайный характер их связи он (не признаваясь себе) особенно ценил и не хотел с этим ощущением расставаться – он долго не знал, где она живет, вообще кто она, иногда, просыпаясь ночью и глядя на ее худую горячую руку, которой она всегда закрывала голову в глубоком сне, как от удара, он с некоторым трудом вспоминал, как ее зовут.
Но это волшебное ощущение случайности постепенно уступило место другому – закономерности того, что она появилась. В его жизни до нее была неразрешимая проблема – он не знал, чем наполнить время, свободное от вычислений, от построения графиков и написания докладов, он пробовал разное: ходил в ресторанные заведения, важно курил в бильярдной, плавал на речных судах в хорошую погоду, знакомясь с шумными и пышными дамами, которые всегда плавали по три, по четыре, не в силах выбрать какую-то одну, он ездил на Кавказ, чтобы подняться в горы, ходил на лыжах, играл в карты – все было неинтересно. Утомительная тоска не покидала экономиста Терещенко нигде, и всегда хотелось домой, забиться под торшер и читать без разбору все что угодно.
Он боялся поднять себя с дивана и даже пойти на кухню, потому что не понимал, зачем его тело движется – в чем смысл этих утомительных усилий. После того как она появилась, ему все стало легко.
Вероятно, думал он про себя, это потому что она ничего не просит взамен и не говорит с ним о долге.
Словом, когда она засыпала, он не переставал любоваться бессознательным и счастливым выражением ее молодого лица.
Просыпаясь в его квартире, Светлана Ивановна долго лежала, прислушиваясь ко всем звукам и не открывая глаз. Находясь еще внутри сна, она вспоминала, что лежит в его кровати, и всегда расплывалась в улыбке, потом она начинала слышать, как брякает чайник на общей кухне, как трамвай едет по Бахметьевской улице, как собирается на работу экономист Терещенко, она сладко потягивалась, словно выныривая из молока, вставала, накидывала халат и, чуть покачиваясь, шла по коридору…
Вспоминая теперь эти минуты, вот теперь, после того как бог лишил ее сна, она снова и снова задумывалась о том, что означает это его наказание.
В принципе, думала она, невропатолог Вишняк оказался прав – нет, она не лунатик и не ходит по крышам, она не умирает, она такой же человек, как все, только грань между явью и сном стерлась, и оттого она живет в особом, очень особом мире – но зачем? За что?
Может быть, останься она в семнадцатой квартире, с экономистом Терещенко, она бы продолжала спать?
Это было понятное, даже физиологическое объяснение, но она ему не верила; кроме того, она ушла в двадцать девятом году, а спать перестала в тридцатом, и если бы она осталась с Терещенко и даже оформила с ним отношения, то есть стала законной женой, ей пришлось бы пережить его арест, передачи в Бутырке или в другой тюрьме, пережить обыск и допрос, а потом и смерть мужа.
Возможно, тот, кто хотел лишить ее сна, заранее наметил жертву, а потом уже не смог все это переиграть?
Но кто же он был в таком случае?
Другой мыслью, сопровождавшей ее всюду, была мысль о Лешеньке – бог испытывает ее материнские чувства, инстинкты, бог решил проверить ее, и она должна выдержать проверку. Она выдерживала, как умела, – конечно, справляться с домашними делами ей становилось все труднее, и она отдала Лешеньку на пятидневку в интернат, но это ничего – ведь он приходил на субботу и воскресенье, в субботу она могла уйти с работы пораньше и забрать его часов в пять. И у них было целых два вечера!
Конечно, Светлана Ивановна совсем не была похожа на обычную мать – но, в конце концов, как мать-одиночка она вполне имела право на помощь государства в воспитании ребенка и не чувствовала, что ее осуждают товарищи по работе или соседи, нет, просто постепенно она переставала замечать эти контуры обычной дневной жизни и с ужасом ждала наступления полной темноты.
Каждый вечер в десять тридцать (кроме вечера субботы и вечера воскресенья) Светлана Ивановна аккуратно раздевалась, складывала одежду, накидывала ночную рубашку, ставила тапочки возле кровати очень ровно, взбивала подушку, выключала свет и задергивала шторы.
Каждый вечер в эти часы она вспоминала слова невропатолога Вишняка о том, что когда-нибудь заснет неожиданно.
«Может быть, навсегда?» – думала она про себя, внутренне примирив себя с таким исходом (о Лешеньке позаботится советская власть, в этом она была уверена).
Но заснуть никак не получалось.
Подводил слух. Слышно было все.
Она накрывала голову подушкой, завертывала вокруг головы шарф, но это не помогало.
Постепенно этот клей, о котором она много думала, вспоминая дом на Площади Борьбы, который склеивал воедино столь разные судьбы, иссыхал. Умер старик Кауфман со своими еврейскими песнопениями. Умер доктор Вокач. Стали исчезать другие жильцы. Светлана Ивановна ходила ночью по Москве и не понимала, почему ее не задерживает милиция. Кругом светились окна, из домой выводили людей, но почему же ее никто не трогал и никто не замечал?
Возможно, я сама исчезла? – думала она.
Дом в саду
В Москве, во 2-м Вышеславцевом переулке, через забор от синагоги (а точнее, слева от синагоги, если стоять к ней лицом) находился когда-то дом, вполне типичный для Марьиной Рощи, да и вообще для Москвы тех лет. Двухэтажный, деревянный, с открытой галереей по фасаду, солидный и вместительный, с тремя отдельными входами, скорее всего переделанный из старой купеческой дачи в обычное московское жилье; дом с дымоходом и трубой, но и с газовой колонкой, с садом и ледником в саду (ледник угадывался по деревянной рассохшейся дверце на холмике, как бы лежащей на земле и прикрытой упавшими листьями), с тропинками, уводящими в глубь сада, и пышными кустами вдоль высокого забора. Это был дом неказистый и уютный, старый, но не ветхий, милый, но с давно не чищеной крышей, заваленной прелыми листьями… дом, много повидавший и готовый вроде бы ко всему.
Именно здесь, в доме № 5, в тридцатые-сороковые годы жила семья Каневских, в квартире № 1, занимая две просторные комнаты, выданные им когда-то как временное жилье (по жилому ордеру хозупра Наркомлегпрома). Затем эти комнаты стали для них жильем постоянным в силу ряда печальных (или закономерных) семейных обстоятельств. И вот теперь, когда Даня Каневский входил в высокую калитку, вырезанную плотником Василием Матвеевичем в огромных хозяйских воротах еще до Октябрьского переворота, – он всегда вспоминал эти обстоятельства, невольно, краешком, но, конечно, вспоминал. И вот он думал, вспоминая их: а хорошо ли так получилось, что их с Надей идея когда-нибудь потом перебраться в центр, в современный каменный дом на какой-нибудь красивой набережной или на историческом старомосковском бульваре – одним словом, идея перебраться отсюда совсем в другую квартиру – им так и не удалась… и Даня пожимал плечами – а кто же его знает?
Кто знает это?..
Может, и правильно, что он остался на отшибе.
Здесь всем было хорошо – почему же? – из-за сада, наверное, то есть потому, например, что можно было выйти – или выбежать – из дома в сад, затеряться в саду, или покурить в саду, или посидеть на рассохшейся скамейке в саду, развесить мокрое белье на веревке, именно здесь развесить, а не на общей кухне или во дворе-колодце, а может быть, еще потому что нервный город напоминал здесь о себе лишь звоном трамвая и отдаленным шумом Сущёвского вала, – словом, коммунальное житье не казалось здесь, в этом доме, невыносимым, нет, оно было не только выносимо, но и привычно, и Надя была спокойна, что бы ни происходило с ними, и во время войны, и после нее, она всегда смотрела на этот мир из-под высоко поднятых, как бы удивленных бровей приязненно и терпеливо.
Этот дом примирил ее с Москвой – еще тогда, в начале тридцатых, Даня это понял и не торопился смотреть другие квартиры. Ну а потом ему перестали их предлагать.
В квартире № 1 обитали кроме них еще семья рабочих Васильевых, а также одинокая женщина с ребенком Светлана Ивановна Зайтаг, библиотекарь.
Светлана Ивановна была женщина странная, не без причуд, но тем она и нравилась Дане. Ходили слухи, что когда-то ее отцу принадлежал весь этот дом, – слухи невозможно было проверить, сама Светлана Ивановна об этом благоразумно умалчивала, но в том, как медленно-медленно она поднималась по короткой лестнице на крыльцо, чтобы пройти темным коридором к двери первой квартиры, как бродила иногда ночью по саду, как подолгу сидела на скамейке в самые темные вечера и курила, – что-то такое было, некоторая особая невысказанность, и Дане иногда хотелось подойти к ней и заговорить, но он не решался.
Отношения их оставались на уровне соседских: соль, спички, счетчик за электричество, дежурство по кухне и местам общего пользования.
С рабочей семьей Васильевых, то есть с высоким и худым токарем-фрезеровщиком Сергеем Ивановичем, с его супругой и двумя детьми у Нади и Дани были отношения вежливо-прохладные, иногда даже напряженные, но в целом нормальные, ну а тут была совсем другая история. Полная вымысла и намеков.
В 1944 году зимой, в конце февраля, на чердаке дома номер пять по 2-му Вышеславцеву переулку поселились белые мыши. Мышей купил Сима Каневский, сын Дани. Они тогда съездили на птичий рынок, вместе с Мишкой Соловьевым, как бы за кроликами – а вместо них купили мышей.
Кроликов, кстати, разводили тогда в частном секторе многие – на мясо, конечно. Например, разводил кроликов во дворе 17-го дома инвалид Марик Сергеев, ну да, он был контужен, бок у него был прострелен, инвалидность первой группы, но он работал на заводе, а тут решил еще и развести кроликов и построил у себя во дворе деревянную клетку с железной сеткой. Марик объяснял окрестным детям терпеливо, что мясо кроликов – оно диетическое и невредное, а едят эти добрые животные именно траву, зимой можно дать им сено, а одного кролика можно жрать целых два дня всей семьей, кроме того, подрощенного можно выгодно продать, ведь голубей в Марьиной Роще всех давно уже съели, собак тоже почти не осталось, их, наверное, едят какие-нибудь инородцы, или они сами убегают из голодных домов; неправда, скупо и твердо сказал Мишка Соловьев, неправда твоя, Марик, у дяди Лёни Аганбекова в голубятне еще пять сизарей живут и два белых, и собак я тоже видел, зачем ты так говоришь, Марик; сосед сплюнул и предложил вместе поехать на «Птичку» за кроликами, чтобы самим все узнать…
Сима в этот момент глубоко задумался.
Отец после возвращения из эвакуации ходил на дежурство, они с добровольной дружиной стояли на крыше с песком и огнетушителями и смотрели в небо, пока не рассветет.
Он уставал, утром надо было на работу, отгул за дежурство на крыше не полагался, а Трехгорка начинала с семи утра, как только он входил в свою конторку, сразу раздавался первый звонок – фабрика стала оборонной, вместо ткани для постельного белья теперь гнали бязь на портянки, госпитальные бинты, на солдатское нательное, ну и так далее, ткань нужна была артиллеристам, танкистам, летчикам, военным инженерам, да всем, Даниил Владимирович раньше не знал, что ткань имеет такое оборонное значение, и мягкая, и грубая, и любая, словом, производство возвращалось в Москву – по всем железным дорогам гнали станки для фабрики, гнали невообразимый вообще комплект оборудования: от технических лампочек до простых стульев, от болтов до промасленных бечевок, – за ту пару недель, что в Москве не было реальной власти, когда возникла паника и начальство сбежало из города – во второй половине октября 1941 года – разворовали тут многое, несмотря на угрозу расстрела, кордоны, патрули… Ну, словом, отец был занят, даже вечерами он говорил по телефону с блокнотом и ручкой в руках, телефон был общий, коридор был общий, а он все стоял и говорил, говорил, иногда выходил фрезеровщик третьего разряда Васильев в трусах и майке и уважительно, но требовательно басил: Даниил Владимирович, ну вы уж, пожалуйста, освободите аппарат-то, тогда отец вздыхал, тихо извинялся и шел к себе в комнаты – и было давно понятно, что никто никаких кроликов тут принимать не намерен, ни сестры, ни мама такого бы не одобрили, отец бы еще врезал подзатыльник, наверное, – но Сима все-таки решил ехать и поехал на птичий рынок вместе с Мишкой Соловьевым. Инвалида Марика они с собой предпочли не брать.
На «Птичке» продавали не только птиц, он об этом догадывался, но увиденное, конечно, его невероятно поразило: храпели лошади, которых держали под уздцы суровые, но слегка растерянные пожилые крестьяне из подмосковных деревень, шипели гуси, совершенно в золотую цену: целый антикварный шкаф можно было обменять за одного гуся, тут продавали из-под полы военную форму, толкали американскую тушенку, запчасти для трофейных машин, электролампочки, гвозди, ну и, конечно, разное-разное – павлинов, индюков, кошек самых причудливых пород, впервые в жизни он увидел тут рыбок, этих странных полумифических существ в стеклянных шарах, наполненных водой, ну и кроликов, хомяков и мышей. (Собак почему-то не продавали вообще, никаких.)
Кролики, мыши и хомяки были в одном ряду – существа с белым или серым мехом и с бессмысленными красными глазами, которых жутко хотелось потрогать.
Мишка Соловьев сразу пошел разговаривать по-деловому – сколько вообще стоит кролик, какой ему надобен корм, почем этот корм идет, сколько будет стоить кролик, если продать вот сейчас, сколько будет стоить, если через полгода, сколько они вообще живут, как размножаются, какой бывает от них приплод, нет ли каких ограничений на это в уголовном кодексе и так далее. Мишка морщил лоб, как взрослый, и, казалось, запоминал все на раз, откладывая информацию на какие-то удобные и вместительные полочки в своей голове, ну а Сима незаметно переместился поближе к мышам.
У мышей (их было много, и все они были разные) стоял на страже всего один ужасно печальный продавец, мужчина средних лет с большим острым носом и с меховым воротником старого-престарого пальто, он покашливал и сморкался в платок, на улице было не холодно, минус десять, солнце, но он все равно мерз, стоял в ботинках, все остальные продавцы стояли в валенках, а он в хлипких ботинках, чем сразу вызывал к себе жалость.
– Тебе чего, мальчик? – хрипло и недружелюбно спросил он Симу.
Тот пожал плечами и подошел еще ближе.
Мыши оказались удивительные. Особенно одна, какого-то непередаваемого серо-голубого атласного цвета, она быстро забралась Симе на плечо и ласково тыкалась в щеку.
– Ляля! – строго сказал интеллигент в ботинках. – Не приставай к мальчику! Он еще неопытный!
Сима покраснел.
– А их всех как-то зовут? – спросил он тихо.
Продавец улыбнулся.
– Нет, не всех.
– Скажите, а они умные?
Продавец немного нервно отвернулся. Он как-то по-особому прокашлялся, видно было, что ему хочется сказать что-то резкое.
– Ты в уголке Дурова был, тютя? – спросил он, посмотрев на Симу строго и как-то при том сверху и сбоку.
Сима печально покачал головой. В уголке Дурова он еще не был.
– Ну вот сходи. Там мыши делают такие трюки, самая высшая степень сложности. Они вообще, если хочешь знать, умнее слонов.
– Схожу… – печально кивнул Сима.
Помолчали.
– Ну что? – спросил продавец, нервно оглянувшись на Мишку Соловьева, который продолжал выяснять про экономику кролиководства шагах в десяти от них. – Что будем делать? Смотреть? Наблюдать?
– Не знаю… – задыхаясь от волнения, сказал Сима. – А сколько же ваша Ляля стоит?
– У тебя столько нет… – сурово ответил продавец и погладил свою атласную мышь.
– Мы кроликов хотели купить… – сглотнув слюну, ответил Сима. – Мы с собой денег взяли. Так что у меня есть.
Ляля, она, конечно, стоила баснословных денег. И самое главное, продавец в ботинках даже отказывался обсуждать цену. Ляля, очевидно, была любимицей, и к тому же работала здесь живой рекламой. Но Сима настаивал. Большая мышь вдруг нервно забегала туда-сюда.
– Ну не надо, Лялечка, не нервничай, все в порядке, – вдруг ласково прохрипел продавец. И повернулся к Симе.
– Ладно, забирай вот этих, и адью. Привет по-французски.
– Я знаю, что такое адью, – сказал Сима. – Этих?
Мышей было сразу пять. Они были белые, азиатские ангорки, так сказал продавец, они легко поддавались дрессировке, могли сидеть на сухарях до весны, иногда им стоило положить крошечный кусочек сала («ну, возьмешь у матери что-то, жилы, или требуху, то, что люди не едят, хоть один раз в зиму»), они были высокоорганизованные, удивительные существа, которые любили людей, их можно было носить в кармане, в рукаве, они никуда не могли убежать, они были ручные, только разлучать их было нельзя.
– Это семья. Понимаешь? – сурово сказал продавец. – Одного отдашь или продашь, остальные сдохнут. С тоски.
Взволнованный покупкой, Сима скупо кивнул.
Продавец погрузил мышей в маленькую клетку, насыпал корму, и Сима пошел к Мишке Соловьеву в кроличий ряд, за деньгами, деньги у них были «в пополаме», но он надеялся, что Мишка поймет.
Сначала Мишка ничего не понял.
– Ты что, с ума сошел? – спросил он сурово. – Мы же хотели деньги на кроликах делать. А ты хочешь, наоборот, деньги на фуфу. Кому ты их продашь, этих мышей? Чем ты их будешь кормить? Ты подумал?
Сима молчал и смотрел в соловьевские глаза прямо, почти не мигая.
Наконец, тот сдался.
– Ладно, бери.
Они вернулись к мышам, и Мишка Соловьев долго их рассматривал, брал на ладонь, кормил, гоготал от щекотки, подносил к своему носу, чтобы получше разглядеть, продавец с неудовольствием смотрел на эти манипуляции, но интересы сделки были дороже и, посчитав положенные рубли, он со вздохом положил их в карман.
– Не погубите только животных, ребята! – с одновременным чувством и облегчения и тревоги сказал он. – Вы вообще-то где живете?
– В Марьиной Роще! – сказал Сима.
– Ох, далековато! Ну ладно, счастливого вам пути.
Пожелание было не лишним. Ехать им было с двумя пересадками на трех трамваях, часа полтора. Они устроились на задней площадке, и Сима прижался лбом к холодному стеклу, обняв клетку с белыми испуганными существами, которые теперь были его собственностью.
Сверху клетка была прикрыта какой-то мятой тряпкой, мышей можно было разглядеть с трудом, но все равно Сима чувствовал на себе любопытные взгляды соседей по вагону: помертвевшая после зим 41-го и 42-го года Москва постепенно оттаивала, начинала дышать, и москвичи радостно принимали любую деталь этого выздоровления… Так радуются люди, когда смертельно заболевший и близкий человек принимает в себя первую ложку горячего бульона, процеженного на семейной кухне через марлю несколько раз, как с восторгом встречается его первое желание – принесите книгу, газету, подведите к окну, передайте Коле, чтобы вернул мне гаечный ключ на семь с половиной, он мне потом пригодится, а что там с фикусом, небось забыли полить, ну и так далее, важно и то, как больной перестает пользоваться «уткой» и сам доходит до туалета, как бы там далеко, в коридоре, ни находились удобства, скрипя костями и стуча костылем, все это тоже важно, хотя и не совсем удобно обсуждать, но все обсуждают.
Так и Москва на глазах становилась прежней, а вернее, становилась живой после их возвращения из Барнаула в сорок третьем году, они обсуждали это каждый вечер, приметы были у каждого свои. Вы знаете, говорил отец, а я сегодня у входа на Коминтерновскую видел, как цветы продают, живые цветы, зимой, с ума можно сойти, непонятно, может, теплицы какие-то еще остались, стоял инвалид с гвоздиками, продавал, и у него брали. Маму Надю волновали более прозаические вещи – на рынке появился свежий творог, да, золотой, да, за такие цены покупать невозможно, но ведь это первая ласточка! Сестру Розу волновали вечера в ДК МИИТ, который находился через дорогу от их дома: там, представляете себе, выступала певица, на обычном студенческом вечере, говорила она так, что все должны были умолкнуть и молча пережить высокую значительность этого момента, выступала певица, в таком платье, и с вуалькой. Сестра Этель возилась с Сенечкой и выходила к ним по вечерам редко, она кормила, пеленала, и тонкий возглас: мам, зайди! – из другой комнаты стал уже привычным, как тиканье ходиков, мама Надя металась по комнатам, счастливая, но озабоченная, как все бабушки нашей зеленой планеты. Даже у молодой мамы Этель, конечно, были свои приметы возрождения, но она о них мало кому говорила (возможно, лишь иногда сестре Розе, да и то в форме уклончивых намеков): выходя с коляской на прогулку, она частенько замечала на себе взгляды мужчин, дорога ее порой шла в парк ЦДСА, к замерзшему пруду, к екатерининской усадьбе, там количество молодых мужчин в фуражках и с погонами на плечах увеличивалось в геометрической прогрессии, к каждому хотелось подойти и спросить, не знают ли они такого товарища Штейнберга из санитарного поезда номер 17–89, но ей мешала природная стеснительность, да и не так поймут, да и зачем, если он писал ей письма каждую неделю, а то и чаще, но этот воздух Москвы – тревожный, терпкий, наполненный мужскими взглядами и твердыми шагами, воздух города, который еще жил войной, но уже и просто жил и просто надеялся, ждал, горевал и надеялся, он не мог ее обмануть – это был воздух ее юности, и она его узнавала после двух лет катастрофы, которая началась 22 июня.
Когда Сима Каневский вместе с Мишкой Соловьевым вез мышей домой на трех трамваях в Марьину Рощу, он, конечно, обо всем этом не думал, но ловил на себе любопытные взгляды и понимал, что они означают, – эх, вздохнул один дяденька на втором по счету трамвае (он вез до стадиона имени Кагановича, там они делали пересадку), дяденьку притиснуло рядом с ними, «ведь так и до рыбок недалеко», сказал он как бы про себя, Мишка улыбнулся, а Сима покраснел. Но тем не менее показывать родителям этих самых мышей было все же никак нельзя, поэтому он попросил Мишку Соловьева подержать тайком немного их у себя, до завтрашнего вечера, а это Мишка умел – «тайком», такое у него получалось всегда, он, правда, всю дорогу на трех трамваях ругался, что деньги потрачены зря и что Сима ему будет должен, пусть не забудет его, этот долг, который платежом красен, но в общем и целом было понятно, что смелостью друга и его покупкой он почти потрясен, о чем, конечно, прямо никогда не скажет, но прямо и не обязательно…
За два года до этого, в августе 1941 года зенитчики сбили над Москвой немецкий штурмовик, один из тех, которые, по легенде, летели расстреливать Кремль, остальные смогли увильнуть, может с пробитыми бортами, но сумели отбомбиться и отрулить за черту города, а этот рухнул прямо на улицу 25 Октября, за триста метров от кремлевской стены, и вот он там лежал и распространял вокруг себя запах жуткой гари, остывшего железа, запах страшный, черный, как и он сам, – москвичи несколько недель, пока его не отбуксировали куда-то там в поля, приезжали посмотреть на самолет, полюбопытствовать, как это все выглядит, где кабина, где бортовое оружие, у штурмовика поставили охрану, конечно, но оттеснить зевак или как-то вообще убрать толпу – нет, власти столицы этого не хотели: «сбитый немец» был символом сопротивления (где сам летчик, никто не знал). Сима Каневский с Мишкой Соловьевым и Колькой Лазаревым приезжали на улицу 25 Октября целых три раза, там была большая очередь, чтобы подойти и посмотреть, очередь стояла практически от бывших Лубянских ворот, где находился трамвайный круг, скромная и молчаливая очередь москвичей, желавших увидеть чудо, желавших посмотреть в глаза немцу, то есть сбитому самолету – они еще не знали, что скоро город замрет и даже вымрет, москвичи верили, что все будет хорошо, – верили и стояли в очереди.
Этот самолет-штурмовик Сима Каневский прекрасно запомнил: он лежал на брюхе посреди улицы, как упавший с неба дракон из сказки, и на месте его падения была как бы черная дыра в знакомом и привычном городском воздухе, причем дыра эта была не только на грунте, она поднималась от самолета вверх и заполняла часть неба и окружающего мира, а сам этот окружающий мир будто бы покачнулся, поплыл, и линии его искривились, некоторые предметы расширились, а некоторые сузились: ах беда, беда, беда, шептала старушка рядом, и эта «беда», конечно, была очевидна. Но это было давно, в сорок первом году, ну а теперь, после эвакуации, после Барнаула, после того как наши отодвинули фронт и разгромили немецко-фашистских захватчиков под Смоленском, да и в других городах, как сообщал голос Левитана, этот мир вновь склеивался, нет, не склеивался, а застывал, не застывал, а как бы окреп изнутри, перестал быть рыхлым, мир оледенел, он стал кристаллически-цельным, морозным, ясным, снежным и ледяным, плотным и свежим, как и сама Москва, – вся она плыла зимними дымами, сизый зимний дым шел над крышами и трубами, над деревьями и башнями, над окнами и вестибюлями метро, над рабочими поселками и сортировочными станциями, над бараками, где было страшно, и над генеральскими домами, где было чисто и уютно, он не делал различий, этот зимний дым, он обнимал москвичей, всех без разбору, как пар, застывший на холодном воздухе, пар изо рта, этот волшебный пар плыл изо рта тысяч людей, поднимался в розовое на закате морозное небо, и весь город был таким – как бы слегка подмороженным и оттого крепким, ясным и веселым.
Так человек, переживший что-то нехорошее и ставший от этого сильнее, идет по улице и свистит, хотя все помнит и все знает.
В Москву люди возвращались из эвакуации по-разному – кто в сорок втором, кто в сорок третьем, в сорок четвертом, зимой и летом, весной и осенью – узнавая свой город и не узнавая, принимая его новым и не принимая, но, в общем, всегда открывалось что-то новое, неожиданное, и для детей, и для взрослых – у Сони Норштейн, например, это «новое» оказалось совсем новым: их дом в Руновском переулке разбомбили.
На второй год войны в него попала бомба, но мама все равно решила туда вернуться – и не зря, дом на самом деле стоял, хотя и без одной стены, но стоял. Считалось, что жить в нем нельзя, но жить им больше было негде, и они поселились в своей старой квартире, просто теперь в нее было как бы два входа – один обычный, через парадное, а второй новый – через рухнувшую стену со стороны улицы, надо было только отодвинуть доску и открыть заколоченную дверь, чтобы войти в жилое помещение, от этой разрушенной комнаты, правда, почти ничего не осталось.
Соня с мамой расчистили другую, уцелевшую комнату, прихожую, ванную и кухню, вынесли на помойку мусор: куски штукатурки и три ведра черепков, электричество в доме работало, иногда вполнакала, вода из крана текла, и постепенно они привыкли к этому ополовиненному дому, в котором находилась эта разрушенная комната, но в той комнате теперь ничего не было. Мебель вынесли, посуду тоже, оставались лишь сгоревшие книги, а их-то было жальче всего – эти сгоревшие книги из отцовской библиотеки; было понятно, что мебель когда-то будет другая, хорошая, что место старых вещей и старой посуды займут новые, тоже красивые, но другие, а вот книги, они были как люди, было почему-то понятно, что старые книги на новые не поменяешь, книги приобретались один раз, и смерть их была однократной и безвозвратной, как у людей, – но постепенно, входя в эту застылую комнату и копаясь в грудах обожженных книг – сгоревших по краю, по корешку, она вдруг начала их читать и, читая, находить в этом особое удовольствие.
Порой это были книги без обложки, то бишь без названия и без автора, но Соня читала и пыталась понять, что же это за книга и нравится она ей или нет.
И было в этом что-то восхитительное – читать книги, не зная названия, просто прыгать в текст, как в воду, и плыть в нем безо всяких приспособлений, дощечек и спасательных кругов – ах, это двадцатый век, а это восемнадцатый, нет, перед ней лежала книга – и все тут.
Анонимная, но полная смысла. Или серая, фальшивая. И тогда неважно, кто ее автор. И в каком веке она написана.
Сотни томов, развеянные взрывной волной, с оторванными корешками, перепутанными и пропавшими страницами лежали под битым кирпичом и стеклянной крошкой. Попадались и совсем целые.
Соня читала.
Сначала она читала, не таясь, в любое время, но потом мама ее отругала, потому что она возвращалась из этой нежилой комнаты вся в саже и пачкала одежду, а с одеждой было очень трудно и отстирать ее тоже было трудно. И тогда Соня стала ходить в сгоревшую «библиотеку» только днем, когда мама была на работе, она надевала старое детское пальто, потому что «библиотека» не отапливалась, там было холодно, как на улице, садилась на корточки и долго выбирала следующую книгу. Выбирала она в старых перчатках, маминых, тех, которые мама больше не носила, аккуратно разворачивая книгу в середине. Прочтя страницу или две, решала, возиться ли с книгой дальше, переносить ли ее в другую, жилую комнату, или лучше пока отложить, это она определяла по случайно выбранным из середины абзацам.
Иногда книги с уцелевшими обложками были выгоревшими изнутри, это было очень обидно, и она научилась смотреть сразу не на обложку, а на тело книги, насколько оно уцелело, это тело, сколько в нем было не обгоревших страниц и как они обгорели, если по краю, то еще ничего.
Затем, выбрав себе книгу, она приводила ее в божеский вид, вытирала мокрой тряпкой, обрывала обгорелые края, выдувала пыль.
И сразу начинала читать.
«День выдался чудесный: я думаю, кроме России, в сентябре месяце нигде подобных дней не бывает. Тишь стояла такая, что можно было за сто шагов слышать, как белка перепрыгивала по сухой листве, как оторвавшийся сучок сперва слабо цеплялся за другие ветки и падал в мягкую траву – падал навсегда: он уже не шелохнется, пока не истлеет. …Картина была чудесная: около огней дрожало и как будто замирало, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение».
Само это слово – «чудесный», возникавшее в тексте применительно то к одному понятию, то к другому – надолго проникло ей в душу. Мама так тоже говорила, но редко. Автор неизвестной ей книги повторял это слово часто. «Чудесный». «Чудесное». Соня теперь смотрела на мир по-другому, понимая, что многое тут чудесно, а она об этом не знала. Чудесна была бабка, закутанная в три оренбургских платка и покрытая сверху еще цветным павлово-посадским, продававшая горячие пирожки с повидлом у Новокузнецкой. Чудесен был закат, поднимавшийся над Кремлем и тихим Замоскворечьем, закат, примирявший ее даже с противным чувством голода, всегда возникавшим перед сном (мама на ночь есть запрещала, говорила, что это вредно).
Чудесны были эти полусгоревшие книги, конечно.
Потом она узнала, что «Записки охотника» – это произведение о крепостном праве, в котором автор предвидел революционную ситуацию в России, ну а тогда он показался ей просто человеком, еще не старым, худым, немного смешным и длинным, как оглобля, с ружьем и в высоких сапогах, который бредет, не зная куда и не зная зачем, просто чтобы идти и вдыхать в себя этот чистый и свежий воздух, – ей это все было понятно.
Соня навсегда запомнила запах этих книг – остывшей золы, едва уловимый запах типографской краски, запах пожара и войны. И она навсегда, конечно, запомнила те отрывки, которые приводили ее в недоумение или восторг, заставляя перечитывать себя два, три, десять раз, чтобы вникнуть в таинственное сочетание слов, которое открывалось не сразу, а постепенно: «Вы говорите, она ходит во сне? Когда это было в последний раз? Придворная дама: С тех пор, как его величество ушел в поход, я это не раз видела. Она вставала, набрасывала на себя ночное платье, открывала свой ларец, вынимала оттуда бумагу, что-то писала на ней, перечитывала, запечатывала и снова ложилась. И все это – ни на минуту не просыпаясь».
Эти слова загипнотизировали Соню до такой степени, что сцена из трагедии стала ей сниться – она не знала, про что это пьеса и кто ее автор, но видение королевы, которая пишет письмо в летаргическом сне, и придворной дамы, которая рассказывает об этом при отблеске пламени из камина в мрачном сыром замке, не оставляли ее воображения – даже в школе, под портретами Сталина и Ворошилова, Пушкина и Толстого, она повторяла про себя шекспировские строки, еще не зная, что это Шекспир.
Позднее она поняла, что находиться в библиотеке отца, даже сгоревшей, было для нее так же важно, как для королевы было важно писать эти письма, во сне, в «несознанке», как говорила мама, то есть прикасаясь к книгам, она прикасалась к отцу, он был на фронте, вернее на разных фронтах, работая в военной газете; где он находится именно сейчас, они не знали, могли только догадываться, как у каждой московской семьи, у них на стене висела огромная карта, и, слушая по радио голос Левитана, они каждый вечер передвигали флажки с мыслью об отце, он Соне не писал, лишь передавал приветы в письмах маме, да, это было обидно, но она понимала, что ему не до писем конкретно ей, и, читая эти обожженные книги, она говорила с ним так же, как говорила королева, вставая по ночам к своим письмам.
В декабре сорок третьего года мама взяла билеты в Большой театр. Это было одно из первых представлений после возвращения труппы из эвакуации, с Урала и из Сибири, причем вернулись еще далеко не все, но театр уже работал. Купить билеты стоило немалого труда. Это был «Щелкунчик» – и мама была наполнена такой радостью, таким волнением и восторгом, что ей очень хотелось, чтобы и дочь скорей наполнилась, как воздушный шарик, этим ощущением чуда, чтобы «чудесное» передалось ей по воздуху, но оно все никак не передавалось. Огромные помещения Большого как будто немного вымерзли, в зале многие сидели в накинутых на плечи пальто.
Яркость костюмов, золотистость всей сцены и невероятная мелодичность музыки, которая Соне показалась нарочито детской и потому не понравилась (или понравилась не вполне), – как бы упирались другим краем в черную глухоту и промерзлую тишину, пахнущую сырым залежавшимся мехом и ботинками. Соню это немного смущало. Одно никак не совмещалось с другим. И только когда зажегся свет и раздались бешеные крики и аплодисменты – она поверила, что это действительно театр.
Словом, все это на сцене действовало на нее совсем не так беспощадно и сильно, как вот эти куски из сожженных книг, которые она выучивала наизусть и повторяла перед сном, как молитвы.
А в феврале сорок четвертого года ее позвали на день рождения.
Позвала Катя Мотылькова, одноклассница, которая жила довольно далеко от Замоскворечья, в районе Белорусского вокзала, где-то на Бутырском валу. Ехать туда предстояло на метро и потом еще идти пешком. От Кати ее должна была забрать мама, потому что вечерами девочкам одним ходить по Москве было опасно, это было общеизвестно и не обсуждалось.
Она приехала в гости, почти задыхаясь от волнения, с каким-то морковным кексом в виде подарка – его заранее испекла мама. На детские дни рождения ее никогда еще не звали, и она не знала, как это происходит, как все должно быть. Катя Мотылькова, отец которой работал в каком-то важном наркомате, пригласила на день рождения девочек из своей женской школы и мальчиков из соседней мужской, а соседней была школа в Лазаревском переулке.
Мальчиков было трое: Мишка Соловьев, Сима Каневский и Яша Либерман.
Ну а девочек было сразу восемь. Мальчики стеснялись, говорили скупо, больше налегали на чай с пирожными.
Все они помнили пирожные довольно плохо, еще с довоенных времен, и откусывали сначала с большой осторожностью.
– Ну чего вы стесняетесь? – неожиданно пробасила Катя Мотылькова. Голос у нее был густой, не по летам взрослый. Она чинно сидела во главе стола в зеленом платье из поплина и принимала поздравления. – Ешьте пирожные, а то они пропадут, будет очень обидно.
– Не пропадут, не бойся! – сказал Мишка Соловьев и подмигнул, откусывая большой кусок.
Все стеснялись, потому что мама Кати Мотыльковой никак не хотела уходить, с улыбкой рассматривая гостей. Для нее это тоже был большой праздник – праздник возвращения к обычной жизни: день рождения, пирожные из служебного буфета, конфеты, чай в чашках с блюдцами, принаряженные девочки, мальчики в отглаженных рубашках, – война все еще шла, но было ясно, что теперь можно на что-то надеяться.
В общем-то, все и надеялись, передвигали флажки на карте, слушали радио. Фронт был уже настолько далеко, что теперь не нужно было заклеивать бумагой стекла крест-накрест, чтобы они не лопнули от взрывной волны, не нужно было наглухо зашторивать окна, чтобы ни один лучик света не мог просочиться наружу. (Последний налет случился летом сорок третьего года.) Мама Кати Мотыльковой так разволновалась, что подходила к каждому гостю и тормошила.
– Мальчики, девочки! – громко смеялась она. – Послушайте, ну что же вы сидите? Это же праздник, праздник! Пойте, танцуйте. Ну хотя бы рассказывайте что-то!
Наконец, все как-то разбрелись, и Соня Норштейн оказалась вместе с Симой Каневским на кухне, куда они вдвоем принесли грязные тарелки и чашки с недопитым чаем. Эта квартира – отдельная и трехкомнатная – поражала его, он вспоминал их две комнаты в большой коммуналке и думал, что завидовать нехорошо, но все равно завидовал.
Наконец, эти мысли он сформулировал в вопрос:
– Соня, а у тебя есть отдельная комната? Как у Кати? – спросил он.
– Нет… – ответила та, складывая чашки возле раковины. – Нашу квартиру разбомбили.
– А где же вы живете? – удивился Сима.
– В ней и живем, – она загадочно улыбалась.
– Это как?
– Ну так. Пострадала только одна комната. Мы все вещи оттуда вынесли. Это был папин кабинет. Теперь живем с мамой во второй. А папа на фронте. Он военный корреспондент.
Она задумалась, стоит ли ему рассказывать про сожженные книги. Может быть, он захочет взять какую-то их часть?
Она понимала, что как бы ни спасала эти книги, как бы бережно ни перекладывала их с места на место, мама рано или поздно их выбросит. Они не годились для нормальной, мирной, человеческой жизни, для обычной библиотеки. А ей было их жалко.
Но Сима показался странным мальчиком, хотя и красивым, и она не стала ничего говорить.
Мама Кати Мотыльковой наконец решилась покинуть гостей. Катя быстро поставила грампластинки, все ринулись в большую комнату танцевать, а Сима остался на кухне.
Именно в этот момент ему в голову пришла шальная мысль, что этой девочке он подарит своих белых мышей, всю мышиную семью – на день рождения. Или на какой-то другой праздник, например на 1 Мая.
Девочка показалась ему необычной. Она не смеялась, когда другие ржали, только тихо улыбалась, она коротко и точно отвечала на вопросы, у нее были огромные глаза и очень красивое платье, и он понял, что влюбился. Он стал вспоминать, что знает на эту тему от друзей, обрывки каких-то дурацких грубых слов носились в его голове, но он понимал, что надо с ней поговорить, чтобы она его хотя бы запомнила.
Улучив момент, он подошел и задал еще один вопрос.
– А где вы были, когда в квартиру попала бомба?
Вопросы он задавать умел, за каждым вставала прямо-таки бездна продолжений…
– Мы в эвакуации были, в Чистополе.
– Мы тоже были в эвакуации, – сказал он. – Только в Барнауле. – И добавил: – Меня там на станции забыли.
Уже намереваясь от него оторваться, где-то забиться в этой необъятной квартире в уголок с книгой (не ожидала, что будет так скучно), она вдруг остановилась.
– Как это забыли?
Вместо того чтобы рассказывать ей откровенно и взахлеб, он пожал плечами.
– Просто забыли. Ну… потом нашли.
Она тоже пожала плечами, повинуясь безотчетному желанию его позлить.
– Не понимаю.
Он тоже пожал плечами.
– Ну просто поезд взял и отошел, а я остался, вот и все… Ну неважно… – сказал он, прервав затянувшуюся паузу. – Давай потанцуем, а?
И она пошла читать книгу, отрицательно качнув головой…
Мама забрала Соню ровно в девять, как и договаривались. Соня шла, закутанная в платок, как маленькая бабушка, трескучий мороз окутывал улицу, сизый морозный свет падал с неба вниз, мама держала ее за руку, как трехлетку, они торопились на трамвайную остановку, потому что пропустишь трамвай, а следующий когда, но ей все не давал покоя этот мальчик.
Как можно забыть человека, да еще в пути, она представляла бомбежку, немецкие самолеты, вой авиабомб, огромные толпы народа, сметающие все на своем пути, все то, о чем она его не спросила, а на самом деле все было куда проще – Розе, его сестре, захотелось чая, и она пошла, встала в очередь к титану и задумалась, а когда вдруг объявили отправление, бросилась его искать – и не нашла, а он засмотрелся на кошку, как она ворует из корзины то ли колбасу, то ли сало, и что делать, он не знал, говорить про кошку, жаловаться на нее или нет, ведь кошку могли за это убить, а она ведь тоже была голодна, он вспомнил кошку Муську в их саду, на 2-м Вышеславцевом переулке, рыжую, тощую, всегда приходившую домой ровно в тот момент, когда голодная смерть или смерть от истощения всех ее физических сил была явно близка, и сразу после того, как ее отогревали и откармливали, она рожала котят, и так продолжалось каждый год – но эта кошка на вокзале была еще более нервной, более худой и целеустремленной, он все смотрел на нее, пока Роза металась по вокзалу, не видя его в толпе, а он стоял практически у сестры на виду, она ринулась к вагону, и ее насильно втащил туда какой-то офицер, она успела только крикнуть служащему в форменной одежде: потерялся мальчик, мальчик, я вернусь за ним, Сима Каневский! Служащий тупо кивнул, махнул семафорным флажком, а Сима не сразу понял, что произошло, началась движение, все, подхватив баулы и корзины, чемоданы и тюки, в том числе и тетка с ополовиненной корзиной, все ринулись к путям, вокзал сильно опустел, это была не очень большая узловая станция на пути к Барнаулу, ехать им оставалось всего ничего, может быть, десять-двенадцать часов, но когда вокзал окончательно опустел (отправили сразу два пассажирских), он задумался и начал искать кого-то, ответственного за его судьбу.
Но ответственный за его судьбу все никак не находился, мальчик слонялся из одного угла огромного зала ожидания в другой, долго стоял у портрета Сталина, потом у портрета Кагановича в железнодорожном генеральском мундире, потом он пошел к титану, из которого слабо капала кипяченая вода и возле которого зачем-то дежурил милиционер.
Милиционер зевнул и не обратил на Симу никакого внимания. В вокзале между тем раздавался смутный шум, причем понять его происхождение было никак нельзя, сначала Сима подумал, что это храпят цыгане, которые разлеглись в самой середине зала в ожидании поезда со всеми своими пожитками, причем все они так смертельно устали, что спали действительно мертвым сном, потом ему показалось, что это разговаривает портрет Сталина с портретом Кагановича, но и эта версия была маловероятной, и тогда Симе вдруг стало немного страшно.
Он понял, что его забыли, и спросить о происхождении шума было буквально некого. И что некому будет пожаловаться, не у кого попросить еды и не с кем обсудить последние новости – на каком фронте у нас победы и сколько врагов убито и взято в плен.
Он подошел к большому замерзшему окну и тут понял, что шум доносится с улицы, верней с перрона, где высаживается из вагона воинская часть, как он уже успел выучить, на переформирование, солдаты с вещмешками выпрыгивали из теплушек, строились, отдавали честь, поворачивались и уходили взвод за взводом, и этому не было конца, их шаркающий усталый шаг, голоса командиров и даже строевая песня, которую для бодрости затянула какая-то рота – вся эта военная музыка отзывалась под высоким потолком вокзала и напугала его, но теперь он смотрел на них успокоенный и ждал.
Вскоре Сима заснул на лавочке, а когда проснулся, окончательно понял, что потерялся, и заплакал.
Он пошел к кассе (дежуривший у титана милиционер куда-то делся, и Сима его не нашел), но кассирша была занята и отказалась с ним разговаривать. Тогда он увидел надпись «Медпункт» и пошел туда, но дверь была закрыта.
Сима знал, что с цыганами общаться ему нельзя, но это единственные люди на всем вокзале, которые были доступны, и он пошел жаловаться им.
– Мальчик! – ласково сказал ему старший цыган, отгоняя жестом женщин, которые уже хотели Симу обласкать, накормить, обогреть и как-то вообще принять в свои ряды. – Дак что же мы можем сделать? Мы такие же, как ты, горемыки. Жди своего часа, мальчик! Советская власть тебе поможет.
Цыган был, конечно, прав. Несмотря на то, что в зале ожидания на первый взгляд никого из служащих не было, это все-таки было публичное пространство. Часа через два к Симе, когда он тихо хныкал, размазывая слезы по грязным щекам, подошел дежурный с красной повязкой и лениво повел его в кабинет начальника вокзала. Там выяснилось, что пришла телеграмма с просьбой немедленно найти сына ответственного работника Наркомлегпрома т. Каневского и обеспечить его безопасность (приметы сына ответственного работника прилагались). Приметы никто сличать не стал, только спросили: «Ты Сима Каневский?» – дальнейшее было и так очевидно, городской мальчик бледного испуганного вида, в городском пальтишке и в городской кепке сидел на скамейке перед замначальника вокзала т. Петровым, размазывая слезы по бледным еврейским щекам.
– Ну ладно, Сима, не реви, – сказал т. Петров. – Сейчас попробуем тебя накормить.
Симу отвели в комнату дежурного по железнодорожным войскам, посадили или даже положили на жесткую скамью, принесли две вареные картошины из личного запаса. Ну и так далее.
Жизнь стала налаживаться.
Иногда в комнате дежурного случались и допросы, и важные совещания, но Симу на этот момент из комнаты благоразумно выводили, ничего такого секретного он там не видел и не слышал.
Один раз в день ему давали даже горячий суп и позволили пользоваться служебным туалетом в любое время.
Прошел день, потом другой, а ни Роза, ни Этель, ни мама за ним все никак не возвращались.
Замаячила перспектива детприемника.
Он был готов познакомиться с другими детьми, оказавшимися в сходной ситуации, но что-то ему подсказывало, что торопиться туда не стоит.
– Хочешь в детпримник? – хмуро спрашивал его дежурный по НКВД – ОГПУ товарищ майор Ашурков и хмуро потирал кулаками невыспавшиеся глаза.
– Лучше я тут подожду, – тихо отвечал Сима, и это ему пока сходило с рук.
– Ну жди, ладно… А то еще оформлять тебя надо, волокита… – улыбался Ашурков смышленому мальчику и отсылал его дальше коротать свои сиротские дни.
Однажды Сима, который уже начал задыхаться от этой вокзальной духоты и от вонючего тепла, вышел за двери вокзала, чтобы подышать.
Вокруг простиралась бескрайняя ледяная пустыня с редкими огоньками горевших поселковых окон. В этом пейзаже было столько одиночества и бесприютности, что он замер. Лучше было ждать на вокзале.
Наконец его среди ночи разбудила Роза. Один военный поезд, кажется санитарный, сделал остановку здесь буквально ради нее.
– Глупый, глупый мальчик! – плакала она, обнимая Симу.
Но рассказывать обо всем этом Соне Норштейн в тот вечер он как-то не решился.
Зато он решился подарить ей мышей.
Мыши жили на чердаке. Мама, конечно, их обнаружила и рассказала отцу. Отец побушевал, но держать всю эту семью на чердаке разрешил. Это, разумеется, было для Симы спасением, потому что бесконечно воровать из кухни для них крупу, крошки, картофельную кожуру ему было стыдно. Теперь мама ворча, но бесперебойно выдавала ему мышиный корм. Сима расспрашивал сестер, какие фокусы показывают мыши в цирке Дурова, но никто этого не знал, никто такими глупостями не интересовался, и он начал придумывать эти фокусы сам.
Для начала он построил для них дом из старой оберточной бумаги, которую нашел на чердаке. Откуда она там взялась, он не знал. Эта была серая плотная («вощеная», как сказала мама) бумага, которая почему-то лежала на чердаке такими пластинами. Он стал ее резать, потом сделал из дощечек каркас, потом натянул на каркас эту бумагу, а потом нашел еще старое мамино платье и разорвал, хотя было страшно, но платье было такое старое, что мама наверняка бы не стала его носить.
Домик был странным сооружением. Мыши не хотели в нем жить.
Вообще чердак не был собственностью Каневских или кого-то еще из первой, второй или третьей квартиры дома номер пять. Он был общий. И хотя Сима боялся, что его обвинят в том, что он хочет устроить тут пожар, потоп или светопреставление, он часто забирался сюда.
Ему не хотелось звать Мишку Соловьева, или Яшу Либермана, или Кольку Лазарева, или Шамиля Мустафина. Здесь было хорошо именно оттого, что немного одиноко. И еще оттого, что тут, в клетке, жили его мыши.
Они не боялись, не страдали, не голодали, не тосковали, они тут жили, и смотреть на них было одно удовольствие.
Постепенно они начали понимать, кто их хозяин, кормилец, и можно было начинать их учить всяким фокусам. У него, конечно, не было железной дороги, но был, например, катер. Игрушечный катер, проржавевший насквозь, который он обнаружил в саду. Он предложил мышам стать матросами, и они послушно взобрались на палубу. Он вынимал их из клетки по одной и выпускал на корабль.
Это было упоительно. Эти их нервные быстрые движения и суетливый распорядок действий.
Но все-таки он боялся отпускать их на волю, по всему чердаку. Боялся котов, черт их знает. Боялся темноты. Боялся самих мышей, их глупого своеволия и неосторожности.
Но за их приключениями на катере он мог следить бесконечно.
Однажды он таким образом пропустил воздушную тревогу. Мама металась вокруг дома, не понимая, где он и как можно не услышать этот трубный звук, этот страшный вой. А он его не слышал. Наконец, тяжело дыша, она поднялась по лестнице и страшно на него закричала.
– Ты… мерзавец!
Они быстро оделись и побежали к автобусному депо – там в подвале было бомбоубежище.
Сима с недоумением смотрел вокруг – чего все боятся? Между тем по улице бежали люди, держа за руки детей. Это было даже смешно.
– Я их выброшу, твоих мышей! Не хочу из-за них умирать! – прошептала мама.
Он благоразумно ничего не ответил.
Но после того дня рождения, где он увидел девочку Соню, Сима вдруг понял, для чего он купил этих мышей. В чем их предназначение.
Единственным человеком в семье, кто не одобрял этих мышей и не желал ничего про них знать, была его старшая сестра Этель.
Этель училась в железнодорожном институте, так называли в просторечии МИИТ, на экономическом факультете.
В июне сорок первого года она должна была защитить диплом. Диплом назывался «Особенности работы железнодорожного транспорта в эпоху обострения классовой борьбы». За полгода она проделала огромный труд. Прочла толстенные фолианты, включая первую часть «Капитала» Карла Маркса и «Развитие капитализма в России» Владимира Ильича Ленина. Огромные труды советских политэкономистов. Тонны статистических выкладок, в том числе и на иностранных языках. Эти полгода прошли для нее как в тумане. Она страшно боялась, что не справится. Вставала в шесть утра и принималась за конспектирование того, что читала дома. Делала выписки на четвертушках, которые затем раскладывала по специальным картонным ящичкам. Сверяла цитаты с оглавлением диплома. Ставила специальные значки. Завтракала. Помогала маме отправить в школу Симу. Надевала выглаженное накануне платье. Шла в библиотеку. Занималась. Сидела на академических парах. Готовилась к госэкзаменам. Гуляла час, чтобы не сойти с ума. Шла домой и снова читала.
Ей казалось, что голова ее наполнена этими формулами и выкладками, как фаршированный пирог. Железнодорожный транспорт вместе с этапами мировой революции громыхал у нее в голове, даже когда она спала. Мама смотрела на нее с отчаянием и жалостью. Но Этель знала, что силы ее рассчитаны точно, что в июне будет конец, каким бы он ни был, – и терпела.
Сотни и тысячи километров путей, которыми нужно было покрыть эту страну в эпоху довольно жуткого, прямо скажем, обострения классовой борьбы, больше не были для нее голой абстракцией. Кубометры земляных насыпей, древесины для шпал, смолы, шлака, металла, количество вагонов и людей, – она легко перебрасывала в голове, как бы на весу, чтобы понять, как может классовая борьба изменить ход событий. Нападение японского империализма. Нападение германского фашизма. Нападение британского империализма. Нападение польского национализма. Все это требовало от простого советского человека невиданных усилий – и эти усилия нужно было на чем-то возить. Хватало рабочих рук – но не хватало паровозов. Была сталь – но не всегда подвозили уголь.
Порой, среди глубокой ночи, когда весь дом номер 5 по 2-му Вышеславцеву переулку засыпал, она вставала от настольной лампы с накинутой на нее газетой, чтобы не светила на соседнюю кровать, и, пошатываясь, шла в уборную, ощущая себя вампиром. Ей не хватало цифр и фактов, ей хотелось уже не писать диплом, а составить настоящее воззвание на имя товарища Кагановича, железнодорожного генералиссимуса, с мольбой о помощи: спасите мировую революцию! Ведь если не проложить вовремя эти сотни железных ниток по всему телу родной страны, не прошить ими безжалостно эту тихую вонючую реальность – революция захлебнется, а весь этот поганый империализм обязательно победит!
Но потом она успевала заснуть, упасть на постель, и эти бешеные мысли прекращались.
В июне началась война, а в июле им объявили, что защита дипломов отложена на неопределенный срок – институт, возможно, будет эвакуирован вместе с преподавателями и студентами.
Все рухнуло.
Она по-прежнему ходила в институт каждый день, идти было недалеко, от их дома пять минут, когда она поступала, папа посмотрел на нее с ласковой усмешкой и спросил: ну может подальше будешь ездить, Шурочка (он так ее звал), все-таки Москву посмотришь, хоть из трамвая? Но когда она обиженно вспыхнула, обнял и улыбнулся – прости…
Так вот, она ходила по инерции в институт каждый день, но там все было не так: перестала работать библиотека, всюду лежали какие-то ящики, белые никому не нужные листы бумаги тихо шевелились на полу и только иногда испуганно поднимались вверх от какого-нибудь сквозняка и снова опускались на пол.
Кафедры складывались, партком складывался, учебная часть складывалась, собрать весь архив за какие-то три недели и аккуратно уложить было непросто, да, конечно, она помогала, чем могла, но это ее не занимало – вернее, не занимало ее всю, вместе с ее вместительной душой и большим сердцем. На улице было полно военных, люди стояли у военкоматов часами, ждали объявлений, но все работало – вокруг кинотеатров, кафе, ресторанов, домов культуры клубились толпы, все хотели отвлечься, забыться, сделать вид, что все в порядке, что это ненадолго, в парке ЦДКА шли беспрерывные танцы, как-то раз, вместе с Розой, она пошла, увидела кружащиеся влюбленные пары – и зарыдала.
Она не представляла, что с ней будет дальше.
В августе начались дожди, начался набор в ополчение и на трудовые работы.
Про ополчение они с Розой боялись и заикаться. Мама могла сразу получить инфаркт или инсульт.
– Да. Но я хочу с ними драться! – сказала Этель серьезно, когда дома все заснули и они вышли с сестрой в сад покурить. Курила только Роза. Этель смотрела на нее с осуждением, но теперь уже было не до воспитательных моментов.
– Я тоже хочу с ними драться, – сказала Роза примирительно. – Но я-то еще хожу в десятый класс, а ты, как мне кажется, не рождена для разведывательно-диверсионной деятельности. – И фыркнула от смеха.
Этель не обиделась. Это был, возможно, один из последних теплых августовских вечеров сорок первого года. В саду с легким шумом падали яблоки. Это был волшебный звук, в нем было что-то тревожное и веселое одновременно.
– Мало ли кто для чего рожден! – сказала старшая сестра задумчиво.
– Талька, не думай! – вдруг почти закричала Роза. – Не нагоняй тоску! Если нам суждено погибнуть под пулями или под бомбами, это от нас не уйдет. Поверь. Скоро нам дадут лопаты, и мы будем приближать победу своими руками.
И она была права. Начались дожди, и сестры поехали в район города Сходни на грузовике вместе с другими девушками.
В ЗиС-полуторку набивалось человек по тридцать. Цепочка грузовиков шпарила по почти пустому Ленинградскому шоссе.
– А где же все? – шептала Этель в ухо Розе. – Где танки, где броневики, где солдаты? Как будто все вымерло…
– Талька, молчи! Нас арестуют…
Решили петь, чтобы не молчать и не бояться. «Нас утро встречает прохладой…» – запела Роза писклявым голосом, но уверенно. Девчонки подхватили. Этель смотрела на них с интересом. Все они были одеты одинаково – плащи, старенькие пальто, сапожки. Накрылись пыльным брезентом, сидят, поют. Но лица веселые. Дождь продолжал хлестать.
Грузовик свернул на грунтовку.
Потом еще немного дал в лес. Потом выехал на колхозное поле.
К грузовику подбежал кто-то в штатском. Сделал знак руками – выгружайтесь!
Стали прыгать из грузовика. Почва уже начала раскисать. Плюхались прямо в грязь. Из-под сапог летели комки.
Раздали лопаты.
Через поле на колышках была протянута бечевка, еле заметная в дождь. Небо еще больше потемнело, и они, растянувшись цепочкой, начали свой трудовой подвиг. Подвиг был муторный, лопата скользила в руках, тут Роза напомнила ей про забытые дома перчатки, но было поздно – мозоль уже образовалась, и стало больно. Этель втыкала в землю лопату, нажимала ногой, затем пыталась ее повернуть, но огромная, липкая, тяжелая, жирная грязь, налипшая сверху, страшно мешала.
Ей захотелось плакать уже на десятой минуте, на двадцатой она уже отплакала первые слезы, потом ее бросило в жар, потом она поняла преимущества этой работы – было настолько жарко, что про дождь, хлеставший сверху, она практически забыла, дождь перестал ощущаться, болело везде – в груди, в ладонях, в боку, болели ноги, но она продолжала рыть, сильно отставая от других, к ней то и дело подбегали девчонки с советами – Таля, смотри, ты не так делаешь, тут опять возвращались слезы, Роза стояла далеко, она благоразумно отошла от старшей сестры метров на пятьдесят, невообразимое расстояние, Таля сначала страшно обижалась, поговорить не с кем, некому сказать даже пару слов, а очень хотелось, до дрожи важно и нужно кому-то что-то сказать в этом аду, а это был ад – не только физический, но и моральный, потому что в голову лезли все эти насмешки из детства, из школы – что она жирная, что она неповоротливая, робин бобин барабек скушал сорок человек, и корову, и быка, и кривого мясника, я сейчас упаду, нет, я сейчас упаду, девчонки снова подбегали с советами, потому что она отставала от всех уже не на круг, а на целую жизнь, им нужно было выкопать настоящую траншею, двухметровую, затем укрепить ее бревнами, настилами, и все это за два дня, говорили, что на той стороне поля вполне могут появиться немецкие мотоциклисты, мобильные группы с легкими пулеметами, которые сильно опережали передовые части – разведчики, они спокойно могли расстрелять из пулемета, им даже не нужно было приближаться, сверху могли прилететь штурмовики. Трудовые отряды рыли тяжелую мокрую раскисшую землю по всему северо-западному периметру, и такие случаи уже происходили – стреляли по людям, роющим траншею, а охраны никакой, да вообще никого нет, куда же все делись, думала Таля, вонзая стальную лопату в эту жирную, тяжелую, раскисшую землю, куда они все делись, у них даже офицера нет, какой-то штатский, прибежал, убежал, говорят, инженер, она не понимала, откуда появлялись в голове все эти слова, ведь она ни с кем не говорила, ничего не слышала, вокруг был только шум дождя, хлюпающий звук земли, и все-таки это как-то просачивалось в ее голову, с дождем, что ли… она не помнила, как вернулась домой, разделась, помылась, рухнула на кровать, назавтра эти сапоги оказалось надеть невозможно, они размокли, стали какие-то страшные, жаль, что она не поставила их на кухню, возле плиты, а Этель с Розой и всем отрядом уезжали опять утром, на весь день, дождь закончился, светило неяркое, тихое осеннее солнце, и она надела туфли, обычные туфли на каждый день, в которых ходила в институт, черные, почти без каблука, удобные, к платью, причем к любому, туфли подходили идеально, почему не задержалась, почему не нашла других сапог, никто не обратил внимания – спросонок, в панике, дождя нет, в туфлях будет нормально, так они кончились, за один день, вечером она сидела у плиты и подводила итоги: копать научилась, туфли потеряла, но это нормально, все для фронта, все для победы, но туфли, туфли ей было все-таки жаль…
Туфли было жаль, но вообще все эти месяцы, когда их с Розой записали в бойцы Трудфронта, в один отряд – эти дни оказались наполнены ярчайшими событиями, впечатлениями, которые не позволяли оценивать происходящее адекватно, как катастрофу (фронт приближался, Москва сначала медленно, а потом стремительно пустела, пока не докатилась до кошмарного, неудержимого бегства 16 октября и позже), – и Таля жила этими впечатлениями, погружалась в них головой, бессознательно отодвигая от себя плохие, страшные чувства, тревогу и растерянность, – диплом не защитила, нормальная жизнь прекратилась, но было бы гораздо хуже, если бы она просто сидела дома или металась по Москве в поисках какого-то смысла, какой тут мог быть смысл, а так – почти каждое утро, собранные, утепленные мамой – под платье две кофты, на ногах зимние носки, старые прорезиненные боты, темные юбки, кокетливые береты, старые и короткие пальто, теплые и на вате, – сестры бежали на Площадь Борьбы, куда за ними приезжал автобус или грузовик, и ехали рыть траншеи под Волоколамск и на Истру, в район Наро-Фоминска или Кубинки, они определяли направление по тому, куда поворачивала машина, на какое шоссе она выезжала, заранее им не говорили почему-то, делали строгое лицо. Начальником над ними поставили мужчину, комсомольца с завода, он работал вместе со всеми, покрикивал, командовал, но часто отлучался, чтобы решить «оргвопросы», – а какие это были вопросы, да простые: горячую еду иногда подвозили, а чаще нет, девчонки доставали припасенные из дому бутерброды, яблоки, перекус занимал минут десять, потом опять появлялся их Вася с требовательным раздраженным лицом, раздражение они списывали на то, что добровольцем его не брали, заставляли командовать девчонками и лопатами, а это было ему морально тяжело, бедняжка, шутили они, как могли, хохотали порой, вгоняя его в краску, но и он в ответ не стеснялся, начинал орать, пользуясь служебным положением, копали почти до полной темноты, возвращались в Москву по пустому шоссе, освещенному только светом фар, почти неживые от усталости, постепенно их догоняли и вливались в колонну такие же грузовики и автобусы – колонна трудфронта. Но иногда бывали деньки повеселее: это если их посылали рыть щели между домами, оборудовать бомбоубежища, расчищать завалы после бомбежек, и они оставались в Москве.
Это значило, что можно отпроситься у Васи – сбегать за мороженым (мороженое везде продавали), позвонить из телефона-автомата (автоматы работали), купить пирожки, даже быстро зайти в столовую, чтобы съесть тарелку супа и пару кусков хлеба, а главное, не стоять по колено в грязи, по колено в сырой земле, под дождем или ранним снегом, что уже было счастье – Москва, родная, теплая, наполненная осенним светом, трамваями, старыми деревьями, окнами, людьми, обступала их со всех сторон, как бы заглядывая в глаза.
Щели – защиту от авиабомб и возможных артобстрелов на тот случай, если до нормального бомбоубежища добежать не удалось, – рыли с таким расчетом, чтобы удобно было прятаться в них жителям нескольких соседних домов. По сути, такая же траншея, только поуже. Московская земля суше, тверже, вся просыпана железом и камнями, рыть ее было гораздо труднее, но то, что им помогали сами жители, приносившие из дома кто бидон с водой, кто хлеба, кто яблок, давало заметное облегчение, хотя и не всегда.
Люди между тем среди простых москвичей попадались разные.
Попадались, конечно, и совсем странные субъекты. Один вполне солидного вида мужчина (в основном-то мужчины были днем на работе), вышедший из большого пятиэтажного дома на Новой Басманной им помогать, привязался настолько, что она вынуждена была назвать свое имя и даже дать телефон, и вот он названивал теперь по вечерам слабым задушенным голосом (Роза предполагала, что он закрывается подушкой, чтобы жена не слышала) и требовал встречи, хотел сказать что-то очень важное.
– Опять твой ухажер звонит, помоложе найти не могла? – звал папа из коридора, а она, только приехав из-под какой-нибудь Рузы, ничего не соображая, не поев толком, со страшной ломотой во всем теле, была вынуждена все это выслушивать и вежливо отшивать этого почти старого уже человека.
В один из моментов этого нелепого телефонного романа (слава богу, на Новую Басманную их больше не посылали) он, этот самый Тимофей Васильевич, вдруг сказал ей такую вещь:
– Таля, только я вас умоляю, скорей уезжайте из Москвы! Передайте вашему отцу, что оставаться здесь смертельно опасно. Хотите, я всей вашей семье достану купе? На следующей же неделе?
Когда она передала этот разговор папе, он побледнел и усмехнулся, серьезные, мол, у вас отношения, я вижу, а Таля вспыхнула и обиделась.
В этой истории странным было то, что Тимофей Васильевич углядел ее во всей этой нелепой одежде, старой обуви, в пальто на вате, смешном берете, видно, глаз был у него на такие вещи зоркий, даже чересчур – и не только углядел, но и угадал, что она не будет его отшивать резко, то есть уловил ее мягкую душу, и в этой его прозорливости, жадности было что-то неприятное.
Или приятное тоже?
В общем, она не знала.
Но это было еще ничего – как-то жалко, нелепо, смешно, такие дурацкие ухаживания во время войны, но понятно, объяснимо, а вот когда во время рытья щелей ей вдруг сказали, что все это мартышкин труд, потому что немец все равно будет в Москве через неделю или две, она пошла с лопатой наперевес и потом пожаловалась Васе. Он поправил красную повязку на рукаве, как и отец, побледнел и спросил грозно, кто это сказал.
Но того дядьки и след простыл.
Дело было, конечно, не в этих ядовитых мерзких словах, а в том, как они были сказаны – не для того, чтобы оскорбить, ударить, а с полным сознанием своей правоты, уверенно, как будто священником с амвона.
Но она оглянулась, выдохнула, вслушалась в звон трамвая и забыла.
Увы, такие счастливые московские дни у трудфронта бывали не всегда – горком партии делал все, чтобы решить оборонные задачи своими силами: дежурные по дому, подъезду или району выгоняли оставшихся жителей на трудовые подвиги каждый день, а их посылали подальше – причем после первой линии обороны они начали рыть траншеи второй линии, гораздо ближе, и это уже пугало.
Порой им находили ночлег, на три дня, на четыре они оставались там, где-нибудь в Лобне, ни помыться, ни постираться, было страшно и грязно в этих общих комнатах – общежитие опустевшего завода, казарма, пионерский лагерь, пугала темнота, пугало отсутствие ясной перспективы, то есть когда обратно домой, пугало черное поле и какие-то глухие звуки.
С Розой они шептались по ночам.
Роза ничего не боялась.
– Мы победим! – шептала она, засыпая.
Так ли?..
Да, да, да, но все это было возможно тогда, в сорок первом году, той страшной и вместе с тем прекрасной осенью, но теперь, в морозном феврале сорок четвертого, когда они вернулись из Барнаула, слава богу, насовсем, навсегда, все стало иначе, и, что особенно важно, теперь она уже не девчонка, а взрослая женщина, молодая мать и одновременно невеста, и без новых туфель ей никак нельзя. Ну вот никак нельзя.
Папа сильно задумался, когда она ему об этом сказала.
– Надо изучить вопрос, – сказал Даня Каневский своей дочери Этель и начал его изучать.
…Туфли скоро купили, но не ей.
Площадь Ногина
Даниил Владимирович Каневский, которому исполнилось в январе сорок первого года ни много ни мало сорок девять лет, стоял на крыше пятиэтажного дома на Площади Борьбы и смотрел оттуда вниз.
Он осторожно нагнулся, чтобы посмотреть вниз, даже схватился за небольшой железный барьерчик, крыша была слегка поката, ладонь ощутила неприятную сырую ржавчину. Сощурившись, он пытался высмотреть что-то в глухой темноте – там во дворе тихо перемещались какие-то тени, приглушенно звучали шаркающие шаги, иногда даже слышался сдавленный смех, – но все окна в доме (и в окрестных домах) были темны, наглухо задраены, свет везде выключен, уличные фонари потушены, и непривычная темнота ощущалась как плотность воздуха, как густая взвесь, от которой было трудно дышать.
Ночное пасмурное небо вдруг осветили прожектора. Белые бледные пятна медленно перемещались там, деля туманное пространство на сектора и на квадраты, кромсая его гигантскими ножницами, и вот между этих разрезов вдруг метнулся силуэт самолетика, который казался игрушечным, на самом деле гудящий штурмовик летел почти над домами – и глухо застучали зенитки (батарея, судя по частым бликам, стояла где-то в самом центре). А здесь – на Площади Борьбы, на их дежурной крыше – «районные противопожарные расчеты номер восемь, семь и шесть», то есть мужчины среднего возраста в пиджаках и кепках, плащах и шляпах, выстроились по тихому свистку старшего, заняв свои места. Даня, плотнее надвинув кепи на лоб, глупо улыбнулся в темноте – давно, ох, давно не вставал он по росту и не отвечал коротко: «Я!» – на вопрос: «Каневский?»
Дом этот был очень странный – изогнутый таким образом, как если бы великан взял гигантскую кочергу и согнул ее, но не скрутил, а лишь согнул, демонстрируя собственные бицепсы, еще кто-то говорил, что дом похож на корабль своей треугольностью, но нет, он был похож именно на изогнутую великаном кочергу, он резко возвышался над слабо шелестящим садом Туберкулезного института, над уходящей вниз, как бы даже прыгающей вниз Самотёкой, и дом этот был, конечно, очень хорошей мишенью для бомб.
В эти осенние дни Москва горела сразу во многих местах.
Страшный пожар был в районе Кудринской площади. Говорили странное, что вроде бы за несколько дней до пожара ночью приехала команда военных строителей и возвела непонятные, бессвязные деревянные конструкции, которые с воздуха должны были напоминать московский Кремль.
И что именно поэтому туда был направлен массированный удар, невзирая на встречный огонь зенитных орудий.
Пресня пылала всю ночь и следующий день, догорая в вечерней тьме. Пострадало много домов и много людей. Но Кремль, конечно, был спасен.
Гораздо страшнее были сообщения с Мытной улицы – там на всех не хватило подвалов каменных домов (хотя именно там каменных домов было куда больше, чем здесь, в Марьиной Роще), и поэтому для жителей вырыли глубокие подземные укрепления, настелили бревна, засыпали сверху землей, навалили мешки – но фугасная бомба пробила все это и попала внутрь. Погибли все, кто сидел в бомбоубежище, никто не выжил вообще, так говорили в очередях и на остановках.
Многие москвичи после этих слухов решили оставаться во время тревоги дома. Хотя это и было строго запрещено.
Неизвестно, сколько именно их было, погибших на Мытной улице, говорили тогда про сорок человек, потом про сто сорок, цифры назывались разные, в газетах, конечно же, ничего об этом не писали.
Горели вагоны и склады в районе Белорусского вокзала.
Проезжая на трамвае знакомыми маршрутами, Даня отмечал (с каким-то чувством вины) следы новых и новых бомбежек – например, сгорели деревянные или полудеревянные дома в районе Гранатного переулка; обычные московские дворы и кварталы, мимо которых он проходил сто раз, превратились в руины и продолжали тлеть, на Овчинниковской набережной тоже снесло и разворотило немало домов, в Руновском переулке снесло один и разворотило полдома, люди ходили мимо стен, покореженных бомбой, даже не оглядываясь (привыкли?), но, конечно, особенно страшно было смотреть на памятник Тимирязеву у Никитских ворот: каменный академик в своей строгой шапочке уныло глядел на московскую землю, лежа на земле, уткнувшись в нее щекой и носом, его огородили заборчиком, что-то там вокруг уже ремонтировали, строили, но как символ наступающей беды он – поваленный Тимирязев в шапочке и со сложенными на причинном месте руками – был, конечно, весьма печален, рядом зияла огороженная яма – воронка от бомбы, чудовищно глубокая. Окна во многих домах вылетели, жильцы занавешивали их одеялами, тряпками, оставшиеся целыми заклеивали крест-накрест, дома имели от этого больной вид. Даня пытался понять, отчего же возникает у него острое чувство вины – оттого, что его не убили, что не его семья пострадала? – нет, это странно, это не так, но чувство вины определенно было – неожиданные толчки в груди: холод неизвестности подступал отовсюду.
В то же время Даниил Владимирович с удивлением ощущал в себе и некоторые благотворные перемены.
Он почему-то стал легче дышать с начала войны. Ему нравилось дежурить на крыше в эти ночные часы. Он стал с аппетитом есть, чего с некоторых пор за собой не наблюдал, и охотней разговаривал с сослуживцами, замечая что-то новое – этот, оказывается, тоже рыжий, как и он сам, у того четверо детей, с этим можно поговорить о шахматах.
Стоя сейчас на крыше, Даня подумал, что воздух тут все-таки очень чистый, ясный, свежий, хотя и чересчур густой от темноты, и такой воздух теперь всюду вокруг него – воздух покоя, а смысл этого покоя в том, что он теперь такой же человек, как и все остальные.
Возможно, так организм пока еще здорового человека (пока еще, усмехался Даня) реагировал на острое ощущение новой жизни Москвы. Витрины магазинов, заложенные мешками с землей. Траншеи, прорытые прямо посреди улицы. Метро на площади Маяковского, ночами превращавшееся в огромное бомбоубежище, где вповалку спали люди. Десятки военных патрулей, целые колонны солдат, бесцельно, на взгляд постороннего, но очень деловито шагающих по Москве в разных направлениях, все с винтовками, некоторые с вещмешками, то есть при полной выкладке. Баррикады из бревен и противотанковые ежи, удивительные сварные конструкции, повитые колючей проволокой. Стены домов, обильно заклеенные строгими листовками и плакатами.
Даня такого не видел со времен Гражданской войны.
Это ощущение неизвестности – гигантской неизвестности, нависшей над городом, над миром, над ним самим и его жизнью, – было ему когда-то хорошо знакомо.
Однажды он шел в районе улицы Герцена. Вдруг люди остановились. Он тоже остановился и посмотрел в ту сторону, куда смотрели все. Над домами медленно плыл аэростат. Он уже их видел – продолговатые, в форме дирижабля, воздушные шары, которые висят над крышами домов во время ночных бомбежек. Вблизи аэростат оказался серым, брезентовым, похожим на раздувшуюся плащ-палатку. Его волокли на тросах четыре девушки. Вернее, это он волок их – так казалось: огромный, могучий, он плыл над крышами, над улицей, а они вели его, как лошадь или верблюда, направляли умело, держа с четырех сторон, иногда упираясь ногами и покрикивая друг на друга, с напряженными спинами, но все-таки хорошенькие, в юбках до колена, кокетливых пилотках и отлично сидящих гимнастерках.
– Дайте дорогу, товарищи! – крикнула одна из них.
Даниил Владимирович стоял довольно далеко, но, повинуясь безотчетному чувству, чуть попятился – и немедленно упал в траншею.
Это была, собственно, даже не траншея, а яма – траншею только начали рыть, а потом бросили, потому что концепция изменилась – и ее решили рыть в другом месте, сейчас вся Москва была в этих неожиданных ямах, слава богу, вырыли неглубоко, но темнота, вдруг повалившаяся на Даню, заставила его слегка испугаться, и потом, он сразу вымазался, пока вылезал, и пока летел тоже; слава богу, ничего не сломал, не вывихнул – словом, случай был смешной, пришлось в таком непотребном виде ехать в трамвае домой, а ехать было далеко, на него с недоумением смотрели, а он только молча разводил в ответ руками – такое дело, товарищи!
Возле дома его, грязного с головы до пят, остановил постовой и спросил, что случилось. Пришлось объяснять.
– Что ж, товарищ – время военное! – сказал постовой милиционер и отдал ему документы.
Именно в этот момент Даня, как показалось ему, понял смысл происходивших с ним изменений. Случись это с ним – проверка документов на улице – еще три-четыре месяца назад, то есть до начала войны, Даня несомненно пережил бы это иначе. А сейчас он засмеялся и пошел дальше. Страх – как будто навсегда – исчез.
Тот страх, который жил с ним постоянно с момента ареста младшего брата Мили. Тот страх, с которым он прожил в Малаховке больше года, который сопровождал его всюду – на работе, дома, на улице, – этот страх вдруг ушел. Возможно, он был вытеснен другим – перед неизвестностью, перед бомбежкой, перед смертью, перед войной – но он ушел.
Этот прежний страх был страхом одинокого человека, на которого любой может показать пальцем – держите его!
Нынешний страх – да и можно ли было назвать его так? – это было ощущение общей беды и общей жизни.
Отныне Даня жил вместе со всеми и вместе со всеми боялся – или не боялся. Нет, скорее не боялся.
Кстати, придя домой тогда, весь в грязи, с порванной под мышкой рубашкой и в изгвазданных штиблетах, он переоделся и пошел за чайником на кухню. Там он встретил Светлану Ивановну Зайтаг, свою загадочную соседку.
– Вы знаете, Даня… – сказала она внезапно. – А я опять начала спать… Все сплю, сплю, сплю… Даже не знаю, надолго ли это… – И радостно коротко засмеялась.
Он сразу вспомнил, что когда-то давно Светлана Ивановна говорила ему, что не может заснуть, вообще не может. Какое-то воспаление в голове.
Теперь, глядя в ее светлые глаза, он понял, что она тогда говорила чистую правду.
Но именно в эту ночь Даниил Владимирович не смог заснуть.
Он все время думал про этих четырех девушек с аэростатом. Вот они идут и тянут эту надутую махину на тросах. Он вспомнил, что их всегда четыре… не три, и не пять, и не восемь. И что это какое-то ангельское число. (Почему ангельское? Он не знал.)
Он лежал в темноте и думал, что случится, если вдруг аэростат их унесет.
Вполне возможно, что в какой-то момент он поднимется чуть повыше, поймает воздушный поток и дернет их за собой.
Сначала с них начнут падать сапоги, а потом первая из них упадет с большой высоты вниз и разобьется.
Но потом он вернулся к первой мысли – об ангельском числе – и представил, как крылья прорастают у них за спиной, и они летят, летят…
– Тебе принести воды? – тихо и сонно спросила Надя.
– Да нет, спасибо, – ответил он. – Я сам.
Надя, и это было естественно, спрашивала его: что они делают во время этих ночных дежурств на крыше? Сначала ей было очень страшно, но потом она привыкла, что муж так часто уходит по ночам из дома. Даня смеялся и отвечал односложно:
– Ловим бомбы!
– Да ну тебя! – обижалась она. – Куда вы их ловите? В ведро, что ли?
Однажды Даня, кстати говоря, услышал, как рассказывает об этих дежурствах его новый знакомый (коллега по дежурному противопожарному расчету № 6) Сергей Яковлевич Куркотин, ответственный товарищ из какой-то газеты.
Они возвращались ранним утром (тревога не прекращалась, и их не отпускали до конца комендантского часа, до семи), и Сергей Яковлевич на улице встретил свою знакомую.
Он не упустил случая, произнес целую речь перед ней, и эффектная молодящаяся дама стояла и слушала, глядя на него восторженными глазами:
– Зимой… – говорил Сергей Яковлевич, смешно и значительно насупив брови, – зимой, Валечка, наш дворник, стоя у самого края крыши, сбрасывал вниз снег. Я смотрел на него как на существо фантастическое, как на человека неописуемой храбрости. И вот, Валечка, мы стоим там же, где в мирное время стоял дворник, в брезентовых рукавицах, вооруженные лопатами и щипцами. Теперь это место называется «Пост № 6, 7, 8». К нам выведены концы пожарных шлангов. Отсюда превосходно видно, что делается на крышах других зданий. И вот, Валечка, представьте себе… гул самолета, его сопровождают мечущиеся по небу лучи прожекторов, зенитки торопливо бьют, вспышки разрывов рвут темное небо. Наши руки напряженно сжимают щипцы для зажигательных бомб, которые нужно бросить туда, если что… вы понимаете, Валечка, бросить мгновенно! – мы на посту, мы готовы их хватать за стабилизаторы и сбрасывать вниз, чтобы не дать поджечь наше жилье, нашу Москву… И вот… Немецкий самолет, преследуемый прожекторами, поспешно поворачивает. Он успевает сбросить бомбы на соседние дома. Нам хорошо видны вспышки огня на крышах. Представляете, Валечка? Какой-нибудь бухгалтер одного из бесчисленных трестов, пожилой мужчина с животиком, хватает щипцами огонь, упавший с неба, и сует в ведро с водой. Или сбрасывает во двор и, наклонившись, кричит:
– Туши там, внизу!..
Дама слушала со слезами, и было видно, что ей хочется броситься Куркотину на шею.
– Да вы поэт, Сергей Яковлевич! – смущенно сказал Даня.
– А вот этот человек! – вдруг вскричал Куркотин, показывая на Даню. – Нет, я вам говорю истинно, вот этот человек – он заряжает нас всех своей молчаливой уверенностью, своей немногословной иронией, он душа боевого расчета! Мой друг… – гордо сказал Куркотин. – Мой друг, Даниил Владимирович Каневский.
– Очень приятно, – зардевшись, сказала Валечка.
– Хочется сказать – давайте отметим нашу встречу! Но, увы, рестораны в этот час еще закрыты, – попытался снизить этот невыносимый пафос Даня.
Но Куркотин и Валечка посмотрели на него с несколько брезгливым недоумением, как будто он икнул в опере.
Вот так рассказать Наде или девочкам о своем боевом дежурстве он бы никогда не сумел.
Впрочем, тут был нужен особый дар – которым, безусловно, обладал Куркотин.
Несмотря на возраст – а он был старше Дани, Куркотину было далеко за пятьдесят, – несмотря на одышку, нездоровую полноту, боли в суставах, несмотря на все признаки надвигающейся старости, Куркотин обладал даром зажигать и зажигаться. Это был удивительно вдохновенный тип. Он был настолько искренен в этом своем вдохновении, что Даня проникся необычной для него симпатией – ведь, в сущности, он совсем не знал этого человека, они виделись только во время дежурства. В сущности, он совсем не знал этого человека.
Впрочем, однажды рано утром их, пожилых мужчин, ответственных работников разных ведомств и комиссариатов, погнали на строевую подготовку куда-то в район Красных казарм, где был огромный плац. Там им выделили место, и они тренировались, печатая шаг и выполняя команду «раз-два, кру-угом!».
У Куркотина это никак не получалось, и тогда он отошел от строя и начал тренировать свой поворот сам. Было слышно, как он себе подсчитывает шаги:
– Раз, два, кру-угом.
Потом они стреляли из винтовки по мишеням.
Даня попал два раза, Куркотин три.
Возвращались в центр вместе на трамвае.
Куркотин вдруг спросил:
– На Гражданской воевали?
Даня неохотно кивнул.
– Где?
Вопрос не предвещал ничего хорошего. Такие вопросы задавали на партийных чистках. Ну и в другом месте. Но тут вроде бы иная ситуация была, не чистка и не допрос.
– На Юго-Западном фронте воевал, – коротко ответил Даня.
– Ясно, ясно… – торопливо кивнул Куркотин. – А я в политотделе Екатеринославского чека. Помнят еще руки, как заряжать винтовку, помнят…
Проехали еще некоторое время молча, и вдруг Куркотин сказал, задумчиво глядя в окно (и не глядя на Даню):
– Понимаете, Даня, – сказал он. – Таким людям, как вы, с вашей биографией… лучше всего сейчас пойти на фронт. Война все спишет. Это сейчас спасение для многих. Может быть, и для вас. Поверьте мне, опытному газетному волку.
Даня помолчал.
А потом ответил сухо и ясно:
– От судьбы не убежишь, Сергей Яковлевич.
Тот смутился и покраснел.
Приближение фронта – а фронт приближался к Москве со страшной, нечеловеческой скоростью – заставило многих задуматься о своем прошлом.
Фронт должен был залатать воронки, бреши и прорехи, которые в ином случае зияли бы почти в каждой биографии: коммунисты, прошедшие сквозь чистки, ссылки и иные наказания, но все же оставшиеся в живых и даже на воле, мечтали о фронте как о спасении своей репутации, если не жизни. Мечтали «искупить кровью» несуществующую, но ощутимую и как бы повисшую снова в воздухе вину. Перед ними стоял сейчас этот выбор. И они делали его в пользу фронта.
Выйдя тогда из трамвая, Даня почувствовал себя так, будто объелся жирного, дышать было трудно, его даже чуть подташнивало.
Он сошел с трамвая много раньше, где-то в районе Покровки. И решил шагать до дома пешком.
Сначала он осторожно обдумал – а с какой стати Куркотин вдруг пристал к нему с этим? Может, не случайно? Может, он знает гораздо больше, чем говорит? Даня прекрасно изучил эту скользкую манеру напугать и ошеломить, как бы между прочим, невзначай зацепившись за какое-то слово, за мелочь. Но здесь было не то. Не так.
Да и похож ли Куркотин на стукача?
Нисколько не похож. Важный, и вместе с тем смешной, вечно голодный, но гордый и напыщенный, как воробей на бульварной дорожке, сидящий в ожидании хлеба от скуповатой старушки.
Тогда почему? Откуда возникла эта тема?
«Ну неужели так трудно сообразить, – уговаривал сам себя Даня. – Гражданская война, мои явно неохотные ответы, да господи, просто опытный человек все понял, обо всем догадался».
Он медленно шел вверх по Покровскому бульвару.
Мимо прошел один патруль, потом второй. Процокала подковами лошадь под конным милиционером.
Прогрохотал трамвай. От Яузы поднимался густой молочный туман. Он зримо висел между ветками, рассыпаясь от соприкосновения с чем-то твердым – с птицей, стволом дерева, с его рукой.
Кора молодого тополя влажно блестела. В лужице плавал желтый помятый лист.
Стены домов были в сырости, в плавающем воздухе октября. Он сладко вдохнул этот северный воздух, который так и не успел еще до конца полюбить. Горький и сладкий одновременно. Предательский воздух.
В сущности, Куркотин говорил правду. Но и сам Даня тоже говорил правду: от судьбы не спрячешься ни на фронте, ни в тылу. От неизвестности не убежишь. Торопиться с этим не стоит. Смерть или жизнь – она найдет его сама. Поможет ли он фронту с винтовкой в руках?
Навряд ли.
Вот Миля торопился, он всегда хотел все решать сам. Великий, могучий и непобедимый Миля.
На Цветном вновь встретил девушек с аэростатом. Зашел в столовую, чтобы согреться. Заодно съел борщ. Есть уже хотелось.
Мародерство в Москве началось сразу после первых бомбежек. Квартиры стали обчищать как раз во время тревоги, когда все хватали детей, документы и бежали в убежище. Участились грабежи дач. Сергей Яковлевич Куркотин, с которым они продолжали радостно общаться (а что еще делать долгими часами на крыше, когда самолетов нет?), очень беспокоился за свою писательскую дачу в Удельном по Казанской дороге. Говорил он, что грабежи дач теперь стали постоянными и что они приобретают все больший размах – воры выбивают стекла, выносят мебель, вещи, портят обои, ничего не боятся.
Вначале Даня беспокоился за двоюродного брата Моню в Малаховке, но потом, съездив к нему пару раз и оценив обстановку, беспокоиться перестал: дачи с жильцами не трогали, лихие набеги угрожали домам, что были покинуты хозяевами, стояли наспех заколоченными – а таких становилось все больше и больше, люди потихоньку уезжали из Москвы, складывали вещи, частенько отдавая дворникам и лифтерам на хранение самое ценное, закрывали квартиры, заколачивали дачи, идея борьбы с беглецами уже тогда захватила умы, и московские воры, пока уклонявшиеся успешно от армии, и зеленые юнцы, бывшие в услужении у воров, этим пользовались. Иногда они прямо вступали в сговор с лифтерами и дворниками (случались ведь и среди них нечестные или слабые люди), иногда взламывали пустые квартиры, а еще чаще – выезжали на богатый дачный промысел.
В двадцатые и тридцатые годы Москва вновь начала обрастать дачным жирком – привозили сюда и мебель, казенную и свою, привозили то, что хотели скрыть от чужого глаза: картины, книги, иконы, антиквариат, дорогие реликвии, альбомы с фотографиями, репродукции, клубки шерсти и катушки ниток, швейные машинки, дачную утварь; все это теперь осиротело и ждало новых хозяев – мародеры, ничуть не стесняясь, подгоняли к дачам грузовики и, вынося содержимое деревянных особняков, работали порой целый день, а потом сбывали оптом.
Куркотин, опасаясь за свою дачу, наведывался в Удельную с Казанского вокзала чуть ли не через два дня на третий, ночевал в абсолютно промерзшем помещении, греясь от взятой напрокат у соседа буржуйки, вывозил потихоньку самое ценное обратно в Москву – словом, оборонял рубежи своей малой родины как мог – но и это не помогло.
Однажды он пришел на крышу совершенно подавленный, не в силах даже начать разговор.
– Что случилось, Сергей Яковлевич? – спросил Даня, не выдержав этой гнетущей тишины.
– Даже не спрашивайте.
В темноте скорбно белело лицо ответственного секретаря газеты «Московский большевик», и хотя черты этого лица едва угадывались, Даня понял: у Куркотина неприятности, и пожалел его про себя.
– Я приезжаю на дачу, в пятницу… Ну, в Удельную. Как всегда, на ночь глядя, в городе же у меня много дел, освобождаюсь поздно. Готовим антивоенный митинг в Парке Горького, выступления писателей. Кстати, приглашаю вас с супругой. В следующее воскресенье. Там бывает интересно, очень яркие боевые выступления. Так вот, приезжаю уже в темноте, и что же вы думаете?..
Он горестно вздохнул.
Когда Куркотин сильно волновался, в голосе его явно начинали слышаться родные южно-русские интонации. Одесса, Николаев, Харьков. Может быть, Даня полюбил его за это? Больше было не за что…
– И что вы же думаете… – Куркотин нервно прошелся по крыше, загрохотало кровельное железо, все оглянулись, он остановился испуганно и как-то неуверенно, жалко оглянулся на Даню.
– Я раньше дачу всегда недолюбливал, а тут, понимаете, подхожу и сердце сжалось, прямо вот сдавило: все, и дом, и сарай, и забор – все вроде цело, но в заборе выломано два проезда, как ворота для телеги или для грузовика, из дома все вытащено, все разграблено, остались только одна кровать без матраса на втором этаже и простые столы да мой канцелярский стол, вот и все, причем, что интересно, негодяи хулиганили, часть посуды побили, осколки валяются между грядок, а я же, как вам сказать, я же приезжал и чтобы придать этому делу какое-то осмысленное выражение, ну, я доставал садовый инструмент, тут окопаешь, тут прикроешь, холода же уже, и вот, достаю из сарая инструмент, начинаю окапывать, окапываю и плачу, окапываю и плачу, вот нет сил сдержаться, Даниил Владимирович, верите ли…
Куркотин всхлипнул.
Он плакал тихо, скромно – так, чтоб никто не слышал и не видел, Даня же в этот момент испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, это был стыдный момент – они стояли на крыше в ожидании налета, бомбежки, враг подходил к Москве, тяжелая зима наступала в столице, война уже сейчас отнимала миллионы жизней, и хотя об этом не говорили по радио, не называли цифр, слухи ползли по городу, и каждый раненый, каждый прибывший с фронта рассказывал – вполголоса – о кошмаре первых месяцев, о гибели и пленении едва ли не большей части армии, а тут человек стоит и плачет о каких-то дурацких вещах, вынесенных с дачи, о постельном белье, посуде, всяких безделушках, но Даня почему-то хорошо понимал его: страшна именно та беда, которую не ждешь, и вот это ощущение человеческой подлости, совершенно неминуемой, – все это было понятно, он приобнял Куркотина за плечи и тихо велел замолчать.
И тот испуганно замолк.
На работе теперь часто объявляли внеочередные собрания, люди выходили в коридор, курили торопливо, спрашивая друг друга, а что случилось, и понуро шли в актовый зал, где висели огромные портреты Сталина и Молотова и где постоянно что-то докладывали, объясняли и провозглашали. Впрочем, многим это нравилось, люди с удовольствием бросали работу и, оживленно переговариваясь, шли слушать новости.
На одном из собраний (это было, кажется, в сентябре) объявили, что начинается сбор народных средств для танковой колонны «Красный текстильщик». Каждый сдает в оборонный фонд сколько может, но потом все отделы обошла секретарь Аглая Семеновна и пояснила, что меньше тысячи рублей нельзя, это «нижний предел», начальник их отдела хвастливо объявил, что сдает четыре тысячи, «все свои сбережения», – врет, подумал Даня, но ничего не сказал и после работы пошел в сберкассу.
На книжке лежало девять тысяч. Даня решил, что снимет ровно тысячу, потом вздохнул и снял две.
Уже пошли неприятные слухи об эвакуации всех подразделений Наркомлегкпрома. Шепотом (паника – дело подсудное) обсуждали, действительно ли придется уезжать из Москвы. Начальника, который сдал аж четыре тысячи, в первом отделе ознакомили с генеральным планом эвакуации – в той части, что касалась их ведомства.
Он пришел жутко мрачный и ни с кем не разговаривал целый день. Все поняли, что дело серьезное, в дальнейшем стало известно, что в плане обозначили точку – Барнаул.
Даня твердо решил про себя, что оборонный займ – дело правильное, хорошее, но больше двух тысяч он не даст, потому что, по всей видимости, семью скоро придется обустраивать на новом месте. Хоть какие-то наличные деньги с собой иметь нужно.
К тому же он хорошо помнил оборонный займ первой германской войны, этот прекрасный патриотический порыв, и как люди покупали царские облигации. Эти красочные плакаты, агитирующие их покупать – тогда, в 1914 году, на глаза общества впервые явилась Родина-мать с распущенными волосами, тогда она, правда, звалась на плакатах по-другому: «Россия» – и была одета в нарядное платье, но он помнил, как отец бережно считал эти облигации военного займа и потом прятал их в комод.
Ничего не пригодилось. Ни займы, ни мобилизации, ничего. И войну проиграли. Правда, выиграли затем революцию…
Но тем не менее в профкоме выделили некоего человека по фамилии Свиридов, который, начиная с 15 сентября, снова стал собирать деньги на танковую колонну «Красный текстильщик». Этот Свиридов был маленький, в коротком пиджачке, стоптанных штиблетах, он бочком заходил в их отдел и, поправляя галстук-селедку, тихо и как бы просительно предлагал сдавать деньги. Когда он подходил к столу товарища Каневского, Даня так же тихо, с тем же выражением настойчивой просительности отвечал Свиридову:
– Я уже сдал две тысячи на «Красный текстильщик», посмотрите в записях, пожалуйста.
– Ой, сдали, правда? – изумлялся Свиридов и начинал смертельно долго листать свой пухлый блокнот, испещренный записями.
– Да-да, да-да… действительно, – с выражением крайнего удовлетворения говорил он и потом спрашивал еще тише: – А на следующий «Красный текстильщик» не хотите, значит?
– Я позже сдам, – твердо говорил Даня и утыкался в бумаги.
Как-то раз в столовой Даня подсел к главному бухгалтеру Виктору Матвеевичу и спросил, что он думает насчет того, как учитываются эти средства и как узнать конкретно, на какой танк или самолет что потрачено.
Виктор Матвеевич испуганно оглянулся.
– Да бог с вами… – наконец сказал он тихо. – У вас же такой профессиональный опыт. Никто там не считает, красный текстильщик или юный ленинец. Ваши там деньги или чьи-то еще. Это всего лишь конфискационный налог. Без этого сейчас нельзя. Нельзя допустить инфляцию, понимаете? Иначе из магазинов исчезнет последнее.
Между тем Свиридов все никак не успокаивался, и было видно, что в этом тщедушном скромном человеке загорелись подлинные страсти и в душе его кипела настоящая буря, может быть, потому, что впервые в жизни он выполнял такое важное и ответственное поручение партии и правительства.
И больше того, в отказе Дани он видел не просто отказ, с кем не бывает, а попытку отнять у него эту важную миссию, обесценить ее в глазах коллектива, унизить его человеческое достоинство, поднявшееся теперь на небывалую высоту.
– Так что, товарищ Каневский, вы по-прежнему в займе не участвуете? – теперь спрашивал он, войдя в кабинет и приняв некую позу, наподобие той, что принимает футболист, готовясь пробить пенальти – нагнувшись и глядя исподлобья.
– Товарищ Свиридов, всему свое время! – улыбаясь, говорил Даня, но внутри у него все дрожало от нервного гнева. Ну какой же паршивец.
Не выдержав, он рассказал об этом Наде, и та, смертельно напугавшись, строго-настрого велела ему немедленно снять со счета оставшиеся семь тысяч и отдать их на «Красный текстильщик», иначе будут неприятности.
У Дани порой случались странные, неожиданные реакции на бурные выражения ее чувств – страха, гнева или веселости, – он как-то внутренне замирал и пытался «поймать секунду», так он называл это про себя. В ней, в этой самой секунде, все было прекрасно – и эта белая сорочка, спадавшая с плеча, и глаза, сверкавшие, как угли, в темноте, и волосы, рассыпанные по плечам, и главное, вот это ощущение общего уюта, бедного, но родного, который растекался по жилам – все эти выглаженные салфеточки, уютно пахнущие пряностями комоды, тарелки, видневшиеся из-за витражного стекла, ходики, тикавшие над головой, – все это вместе рождало в нем ощущение немыслимого покоя, всегда животворно действующее на душу, истомившуюся в поисках смысла, и он смеялся над ней, обнимал и успокаивал как мог.
Потом она засыпала, сначала вытирая слезы по щекам, заставляя его пить капли валерианы, ходила, шаркая тапочками, и вновь успокаивалась, а он долго лежал в темноте этой комнаты, служившей им и спальней, и гостиной, и кабинетом (в другой комнате спали трое их детей), – и думал о том, что же ждет их впереди.
Не то чтобы он прислушивался к Надиным советам, но всегда имел их в виду.
Вот и тогда, в сентябре сорок первого года, он все-таки решил снять все деньги со счета и большую их часть отдать на «Красный текстильщик-2», денежная конфискация так денежная конфискация, как вдруг произошло неожиданное – оказалось, что Свиридов погиб при бомбежке.
Взрыв на площади Ногина не остался так ярко вписанным в анналы московского героизма, как другие какие-то эпизоды обороны, наверное, потому, что в нем не было воинского подвига, – это было большое горе, ограниченное в себе самом: тогда образовалась огромная воронка и вокруг все было в кровавой грязи, в обломках небольших зданий…
Так случилось, что личный состав практически всех противопожарных расчетов (то и есть и Даню, и Куркотина, и всех их товарищей) прислали на «санитарную обработку» района бомбежки, им выдали лопаты, носилки, нехитрые респираторы, ведра, и они таскали грязь с развалин в течение пяти часов, иногда подзывая санитаров, если видели человеческие останки.
Куркотина пару раз вырвало, но Даня держался…
В конце они уже ничего не соображали от усталости и разъехались по домам в унылом молчании. Даня лег на кровать, не раздеваясь, и заснул. Надя молча сняла с него грязные ботинки и попыталась подоткнуть хотя бы сбоку старым покрывалом, чтобы он не пачкал белье.
Все то время, все пять часов, пока Даня таскал на носилках мусор, выворачивал из земли залепленные грязью бревна и отгонял прохожих, некоторые из которых искренне плакали, он непрерывно думал об этом Свиридове и почему именно так получилось. Он, правда, погиб не совсем здесь, бомба попала прямо в горком партии, но сейчас это была одна общая воронка, общая яма.
И опять эта глупая мысль сидела в башке – а может, Свиридов погиб вместо него?
Таких людей Даня не любил – они всегда слепо подчинялись воле большинства, а иногда не только слепо, но и радостно, испытывая восторг или злорадное торжество, когда казнили и уничтожали кого-то другого, они жили в мире странных слов, выученных ими невесть где, они трудно думали и говорили чужими фразами, но сейчас, разгребая завалы на площади Ногина, Даня не то что устыдился этих своих старых мыслей, он подумал о Свиридове по-другому – все-таки у него, где-то глубоко внутри, было чувство собственного достоинства. И потом (Даня это знал), у него была семья, он ею гордился, женой и маленькой дочерью, и потом (Даня впервые об этом задумался), у Свиридова был в глазах какой-то проблеск, какая-то вера в человечество, когда он шел по коридору со своими бумажками и собранными на строительство танковой колонны «Красный текстильщик» чужими рублями, а теперь этого ничего нет, и возможно, вот этот страшный ком глины с торчащими из него рваными ботинками – это все, что осталось от Свиридова.
Даня сдал все деньги, какие у него были, и попросил Надю что-то продать на барахолке, чтобы было что-то на черный день.
И она продала мамино столовое серебро. Не все, но кое-что. И еще мамину брошь.
В те же сентябрьские дни Данин старый друг еще по Одессе – Иван Петрович Гиз – твердо решил пойти в московское ополчение. Он работал в системе Наркомпроса, был методистом и там же был парторгом. Гиз позвонил Дане по служебному телефону и пригласил зайти к нему домой попрощаться. Каневский сел на трамвай и поехал на Потылиху.