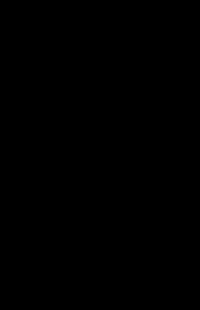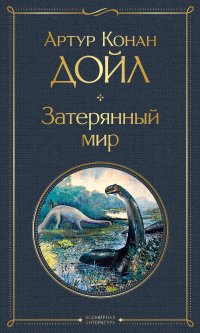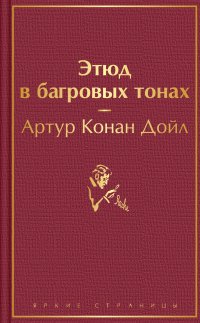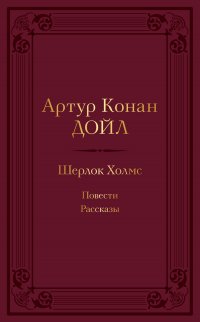Читать онлайн Опасная работа бесплатно
- Все книги автора: Артур Конан Дойл
© in introduction and texyual ps, 2012 by Jon Lellenberg and Daniel Stashover
© in Arthur Conan Doyle's dairy, 2012 by the Conan Doyle Estate Ltd All rights reserved.
© 2018, Paulsen, перевод, макет
* * *
Предисловие
«Я повзрослел на 80-м градусе северной широты»
Мартовским днем 1880 года молодой студент-медик по имени Артур Конан Дойл, повинуясь внезапному порыву, решил прервать учебу и записаться судовым врачом на китобойное судно, отправлявшееся в Арктику. Шестимесячное плаванье открыло ему новые места, дало возможность увидеть невообразимой красоты пейзажи и пережить необыкновенные приключения, бросившись в горнило кровавой и опасной работы среди арктических льдов.
Он находился в тяжелейших условиях, о которых ранее не имел и понятия, он вел философские и религиозные диспуты со своими товарищами-моряками и не один раз был на волосок от гибели. По его собственному признанию, это стало «главнейшим и удивительнейшим приключением всей моей жизни».
«Вот каким образом все это началось, – писал он годы спустя в своих автобиографических «Приключениях и воспоминаниях». – Одним ненастным днем в Эдинбурге, когда я был с головой погружен в подготовку к очередному испытанию в ряду других, так омрачающих жизнь студента-медика, ко мне заглянул некто Карри, коллега-студент, едва мне знакомый.
Вопрос, которым он меня ошарашил, моментально заставил забыть об экзамене. „Хочешь через неделю отправиться врачом на корабле, с жалованьем два фунта 10 шиллингов плюс три шиллинга с каждой тонны китового жира?“ „Почем ты знаешь, что меня возьмут?“ – высказал я свое естественное сомнение. „Потому что меня туда взяли, а в последний момент выяснилось, что плыть я не могу, вот я и хочу найти себе замену“.
„А снаряжение для Арктики?“
„Возьмешь мое“.
За секунду все было решено и улажено, и жизнь моя, совершенно изменив направление, потекла по новому руслу»[1].
Конан Дойлу было тогда всего двадцать, и он учился на третьем курсе Эдинбургского университета. «Что касается моих университетских занятий, – вспоминал он, – я был в числе середняков: не отставал, но и особыми успехами не отличался: 600 – вот мой обычный балл на экзаменах». Эта характерная для Конан Дойла самоирония мешает нам по достоинству оценить те усилия, которые потребовались ему для преодоления житейских обстоятельств того периода, и его достижений на этом пути. Позднее он с обычным своим юмором писал, что рос «в суровой и бодрящей атмосфере бедности». За этим замечанием скрывается скудная и полная неустроенности жизнь, которую вела семья, вынужденная за первые десять лет детства писателя пять раз менять место жительства. Хоть бедность поначалу и не была вопиющей, однако алкоголизм и недуги отца, Чарльза Дойла, лишили его работы, когда ему было всего сорок четыре года.
Новоиспеченный бакалавр медицины Артур Конан Дойль. (С разрешения Музея медицины в Эдинбурге).
Однако на хорошее образование для Артура денег каким-то образом все же раздобыли: мальчик смог поступить в школу иезуитов в Стоунихерсте (Англия). Окончив ее, он ощутил потребность заменить семье отца и взять на себя часть его обязанностей по обеспечению благосостояния большого семейства. «Может быть, трудности в тот период и были мне полезны, – писал он, – ибо я был необуздан, горяч и несколько сумасброден, обстоятельства же требовали от меня энергии и упорства, так что поневоле мне приходилось с этим считаться. Моя мать была так добра и великодушна, что не оправдать ее надежд было бы немыслимо. Было решено, что я стану доктором – как мне это представляется, главным образом потому, что Эдинбург славился своим медицинским факультетом».
К тому времени в почву были уже брошены семена, из которых впоследствии выросли рассказы о Шерлоке Холмсе. Еще мальчишкой Конан Дойл открыл для себя Эдгара Аллена По, этого «превосходнейшего и оригинальнейшего новеллиста на все времена», и порою «завораживал наш маленький семейный круг» чтением вслух его рассказов. В Эдинбургском университете Конан Дойлу посчастливилось стать ассистентом доктора Джозефа Белла, проницательного врача, обладавшего уникальным даром диагноста. Часто Белл, едва бросив взгляд на пациента, мог не только определить его болезнь, но и угадать подробности его жизненной истории.
«Аудитории, состоявшей из Ватсонов, – как шутливо говорил впоследствии Конан Дойл, – это казалось чудом, но после объяснения становилось простым и понятным».
Будущий создатель Шерлока Холмса к двадцати годам успел опубликовать мистический рассказ. Плата в три гинеи, которую он получил за него, привела автора в восторг: ему часто доводилось оставаться без обеда, чтобы сберечь два пенса на покупку подержанной книжки.
Решение присоединиться к арктической экспедиции, несомненно показавшееся деловитой и бережливой матери Конан Дойла внезапным и опрометчивым, на самом деле открывало перед ним редкие перспективы. Конечно, в дорогу его позвала не только пробудившаяся тяга к приключениям, но и возможность заработать. Однако шесть месяцев на корабле стали шансом удовлетворить честолюбивые устремления молодого автора.
Перед тем как отправиться в шотландский порт Питерхед, где ему предстояло сесть на борт китобойного судна «Надежда», он добавил к предоставленному ему Клодом Карри морскому снаряжению несколько книг – поэтических и прозаических, трудов по философии, – а также две пустые тетради для записывания впечатлений и ведения дневника плаванья.
Можно лишь пожалеть, что Конан Дойл не записал в дневник своих впечатлений до момента отплытия «Надежды» из Питерхеда, поскольку нам было бы любопытно узнать и о бурных днях, предшествовавших плаванью. Например, о том, как отнеслась труженица-мать к решению ее двадцатилетнего сына прервать обучение медицине ради сомнительного морского приключения.
«Мало кто имеет представление об опасностях, которые подстерегают китобоев в арктических морях, – писал в 1876 году натуралист Фрэнсис Бакленд, – работа их очень рискованна, а судам их сплошь и рядом приходится выполнять роль тарана, пробивающего путь и сокрушающего льдины, дабы не оказаться затертыми во льдах или запертыми в ледовой темнице на все время ужасной полярной ночи»[2].
Не менее интересно было бы ознакомиться с первыми впечатлениями Конан Дойла от встречи с капитаном и командой арктического китобойного судна, которому предстояло стать его домом в последовавшие семь месяцев[3].
«Надежда» была построена корабелами «Александр Холл и Компания» из Абердина в 1873 году и имела 45 футов и 5 дюймов в длину, 28 футов 1 дюйм в ширину и 17 футов осадки. В 1882 году судно было выбрано для отправки в опасную спасательную экспедицию в Арктику как «во всех отношениях отвечающее задачам экспедиции. Прочное, с двойной обшивкой по ватерлинии, укрепленное железом по бортам и на носу, даже среди китобоев оно славилось за необыкновенную способность выдерживать крепкие льды и сопротивляться им. Те, кто плавал на нем, были совершенно убеждены, что лучшего судна для поставленной задачи и быть не может»[4].
Схематическое изображение судна «Надежда», построенного фирмой «Александр Холл и Компания» в Абердине, «в период процветания фирмы и расцвета ее славы как едва ли не самой успешной кораблестроительной компании в мире». (Бэзил Лаббок «Арктические китобойные суда», Глазго, 1957).
Команду судна, как утверждает Конан Дойл, составляли пятьдесят шесть человек. Список не сохранился, но экипаж сопоставимого с «Надеждой» и приписанного к Данди китобойного судна «Арктика» включал в себя пятьдесят восемь человек: капитана, первого и второго помощников (выполнявших также функции гарпунеров), судового врача, стюарда, старшего механика, второго механика и кузнеца, трех кочегаров, плотника и его подручного, «обдирщика», ведавшего извлечением из туши жира (он же выступал и гарпунером), двух старших мастеров-гарпунеров и двух «подсобных», еще только перенимавших это искусство, бондаря (опять же по совместительству гарпунера), восьмерых «мотальщиков» (от их мастерства в разматывании и свертывании каната напрямую зависели жизнь и смерть членов экипажа), шестерых рулевых на ботах, боцмана и «укладчика», распределявшего жир по бочкам в трюме (и тот, и другой могли выступать в качестве штурвального), кладовщика, кока и поваренка, десяток здоровяков-матросов, пять рядовых матросов и трех юнг[5]. Команда «Надежды» делилась на питерхедцев и шетландцев в пропорции два к одному.
Строилась «Надежда» для уроженца Питерхеда капитана Джона Грея. Память Конан Дойла навек сохранила его облик – румяное обветренное лицо, седоватые волосы и бороду, очень светлые голубые глаза, привыкшие вглядываться в морскую даль, прямую мускулистую фигуру капитана. Конан Дойлу запомнились его молчаливость, сардонический юмор, иногда суровость. Но, как вспоминал он, в глубине души капитана таилась доброта, никогда не оставлявшая этого в высшей степени порядочного, хорошего человека. Джон Грей, так же как и его старший и младший братья, Дэвид и Александр, были отпрысками известной в Питерхеде семьи, промышлявшей китов в течение трехсот лет. «Несокрушимые» Греи занимались делом, расцвет которого пришелся на середину столетия, и к концу XIX века постепенно угасавшим, что очень беспокоило и огорчало местных китобоев. Греи сопротивлялись эпохе как могли, используя передовые технологии и оснащая свои парусники паровыми двигателями, что позволяло им продвигаться дальше на север. К 1880 году обозначился окончательный упадок промысла, но, как указывает местный хроникер, «Питерхедские китобои держались дольше, чем могли бы, благодаря упорству Греев. Возможно, правильно будет даже сказать, что причиной окончательной гибели китобойного промысла в Питерхеде стал не общий упадок отрасли, а ухудшившееся состояние здоровья Греев»[6].
Джон и Дэвид Грей продали свои суда и отошли от дел в 1891 году. Но в 1880 году, когда готовилась экспедиция, до этого грустного финала было еще далеко. Конан Дойл с первого взгляда почувствовал расположение к капитану, который до знакомства с ним, по-видимому, и не предполагал, каким человеком будет его новый судовой врач. «Я быстро обнаружил, – писал Конан Дойл, – что первейшей обязанностью судового врача должно было стать дружеское общение с капитаном, которого принятые на китобойных судах правила этикета отдаляли от прочих командных чинов, сводя его общение с ними лишь к кратким деловым распоряжениям.
«Хорошие, красивые люди и притом очень крепкие». Команда «Надежды» в Кейт-Инч в Питерхеде в 1880 году (© Aberdeenshire Heritage).
Джон Грей (1830-1892), капитан «Надежды», «Превосходный малый, отличный моряк и настоящий шотландец, глубокомысленный и серьезный» (Публикуется с разрешения фонда «Конан Дойл Эстейт»).
Плаванье было бы невыносимо для меня, окажись капитан плохим человеком, но капитан „Надежды“ Джон Грей был превосходным малым, отличным моряком и настоящим шотландцем – глубокомысленным и серьезным, между нами сразу установились дружеские отношения, и дружба эта оставалась неизменной на всем протяжении нашего долгого tete-a-tete», – пишет Конан Дойл.
Хоть пребывание его в Питерхеде и было кратковременным, Конан Дойл сумел уловить, до какой степени все надежды на процветание города и его жителей зиждятся на сохранности хиреющего китобойного промысла. Статья в эдинбургском «Скотсмене» за 1902 год содержит меланхолическую реминисценцию из времен «славы почтенного ремесла китобоев»: «В городе еще оставались те, кто помнит время, когда на причалах стояло не меньше 31 промыслового судна, а торговцы богатели на том, что привозили из года в год эти суда. То была, как понимает каждый, славная пора для жителей Питерхеда. В 40-е – 50-е годы прошлого века мало кто из них не был связан тем или иным способом с промыслом – будучи либо судовладельцем, либо матросом на судне, либо рабочим или грузчиком на верфи, занятым упаковкой и транспортировкой жира, либо торговцем. С приходом весны население города массово устремлялось на пирс провожать китобоев и желать им счастливого пути на север, а к концу лета все с жадностью ждали вестей от моряков, и когда наконец испытанные штормами суда возвращались в гавань, тяжело нагруженные добычей, их встречали восторг и всеобщее ликование»[7].
Исследователи британского китобойного промысла подсчитали, что за три столетия в Арктику было направлено не менее 6000 китобойных экспедиций из тридцати двух портов. Китов били в гренландских водах – т. е. между восточным побережьем Гренландии и Норвегией до Шпицбергена, а также в Девисовом проливе к западу от Гренландии, включая Гудзон и море Баффина.
«Надежда» вела промысел в гренландских водах, сосредотачиваясь вначале в местах обитания гренландского тюленя возле острова Ян-Майен к северу от Исландии, а затем переместившись севернее – в места, где водились киты. «Основной целью охоты были такие виды, как гренландский кит, Balaena mysticetus, а также белуги, Delphinaplerus leucas, нарвалы, Monodon monoceros, северный бутылконос, Hyperoodon ampullatus, моржи, Odobenus rosmarus, и тюлени нескольких подвидов[8]. Китобои каждый год уходили в море месяцев на шесть-семь, и так с самого отрочества и до смерти, либо до оставления своего ремесла – ни одного лета не проводили они иначе, чем за Полярным кругом.
Леруик, главный город Шетландских островов. Вид с моря: «Грязный городишко с простодушными и очень гостеприимными жителями».
Стоя на шканцах «Надежды» и наблюдая в 1880 г. выход в море кораблей, Конан Дойл был захвачен этим традиционно красочным зрелищем. «Как явствует из моей дневниковой записи от 28 февраля, из Питерхеда мы отчалили в 2 часа дня «при большом стечении народа и к вящей радости всех собравшихся»[9].
«Надежда» в Леруикской гавани. «На днях мы переместились и теперь стоим поодаль от других судов рядом с «Недосягаемым». (С разрешения Шетландского музея).
Свой суровый нрав море обнаружило очень быстро. Еще не дойдя до главного порта Шетландов, Леруика, судно попало в жестокий шторм. Как вспоминал Конан Дойл в «Автобиографии», ветер был таким сильным, что когда бросали якорь, судно кренило под опасным углом. «Замешкайся мы на несколько часов, и «Надежда» потеряла бы шлюпки и боты, а в них – вся жизнь китобойного судна».
Шторм утих лишь спустя неделю. За это время Конан Дойл смог в полной мере оценить уединенность и изолированность Шетландского архипелага. «Я разговорился со стариком, спросившим у меня, что слышно нового на материке. Я ответил: „Мост через Тей рухнул“. Мост был очень старым и ветхим. „Ну а бриг-то для переправы через Тей они построили?“ – осведомился старик». Леруик Конан Дойлу не очень понравился, хотя в те одиннадцать дней, что он провел там в марте, порт предстал перед ним в наилучшем виде – бойким и кипящим жизнью, которой наполняла его ныне ушедшая эпоха расцвета шотландского китобойного промысла.
В 1923 году хроникер и историк города писал так: «Сколько людей еще помнят февральские и мартовские дни, когда гавань пестрела многочисленными китобойными судами-бригами, барками, бригантинами, в основном трехмачтовыми, пароходами и парусниками. Некоторые из них щеголяли причудливо разукрашенными, как у боевых кораблей, орудийными портами. Флаги трепещут на ветру, набережную оживляет моряцкий люд, веселящийся напропалую, но становящийся серьезным, когда приходит время наниматься на суда, которые осаждают приезжие с материка. В лавках тоже царит толчея – матросы закупают все необходимое для плаванья в Арктику»[10].
К 11 марта погода наладилась, и с отплытием «Надежды» из Леруика курсом на север Конан Дойл всерьез приступил к своим врачебным обязанностям.
«Учитывая… мои медицинские познания, глубину которых определял мой статус рядового студента третьего года обучения, можно считать удачей, что к услугам моим как медика за все время плаванья прибегали не так часто». Так шутливо Конан Дойл пытается впоследствии отогнать от себя тяжелые воспоминания о печальном случае из его врачебной практики – первой смерти пациента от тяжелого кишечного расстройства, в борьбе с которым на борту корабля юный медик оказался бессилен.
Еще до этого случая Конан Дойлу пришлось столкнуться с травмами, причиной которых стал он сам. «В студенческие годы, – вспоминал он, – излюбленным моим развлечением стали занятия боксом, ибо я пришел к выводу, что никакой другой спорт так быстро не снимает усталость от напряженных умственных занятий, помогая расслабиться, как это делает боксирование. Поэтому среди моих вещей находились две пары боксерских перчаток, потертых и выцветших. Оказалось, что и стюард не чужд бокса. Поэтому, когда я распаковал свои вещи, он, по собственной инициативе вдруг нацепив перчатки, недолго думая предложил мне сразиться»[11].
Стюард проявил себя хорошим бойцом и вскоре снискал большое расположение Конан Дойла, выделявшего его среди всей команды. «Мысленно я вижу его перед собой – голубоглазого, светлобородого, невысокого, но широкоплечего, чуть кривоногого, но очень мускулистого парня». Конан Дойл едва успел надеть перчатки, как стюард ринулся в бой. «Наш поединок был неравным, так как руки у меня были длиннее, стюард же был не очень искушен в спарринге, при этом не сомневаюсь, что в уличных драках он был противником весьма серьезным. Я держал его на расстоянии, отбивая каждую его атаку, но он все не унимался, и мне пришлось в конце концов довольно жестко послать его в нокаут».
А вскоре:
«Часом позже, сидя за книгой в кают-компании, я нечаянно подслушал разговор в смежной с этим помещением каюте помощников: «Ей-богу, Колин, врача-то мы какого отхватили – экстра-класс! До синяков меня отколошматил!» Синяки, которыми он наградил стюарда, сделали Конан Дойля в глазах матросов лучшим из докторов: «Это явилось первым (и последним) признанием моих профессиональных способностей».
Поначалу Конан Дойла удивлял рыжебородый гигант Колин. Ему казалось странным, почему капитан на должность первого помощника взял «хилого инвалида, совершенно не способного выполнять эту функцию», в то время как мощный гигант Маклин числился поваренком. Но «едва корабль покинул гавань», как все стало на свои места – Маклин приступил к обязанностям первого помощника, а «маленький увечный помощник капитана» перебрался в кухонный отсек. Оказывается, все объяснялось просто: Маклин не умел ни читать, ни писать, и потому не мог получить квалификационное удостоверение, что не мешало ему быть отличным моряком.
Не прошло и недели после отплытия из Леруика, как «Надежда» достигла льдов. «Что меня изумило, – отмечает Конан Дойл, – так это быстрота, с которой мы достигли Арктики. Я и понятия не имел, что находится она совсем рядом, буквально у нашего носа». Дата, которую он указывает – 17 марта. «Проснувшись утром, я услышал „тук-тук“ – это бились о борт льдины. Выйдя на палубу, я увидел воду, до самого горизонта покрытую льдинами. Они были не так уж велики, но располагались так густо, что по ним можно было бы передвигаться, прыгая с одной на другую. Их ослепительная белизна оттеняла синеву воды, как бы делая, по контрасту, еще ярче и ее, и небеса над нею, и вся эта совершенная синева и восхитительная свежесть арктического воздуха, хлынувшая через ноздри и заполнившая легкие – вот что навсегда запомнилось мне из этого утра».
Согласно договоренности между британскими властями и властями Норвегии охота на тюленей запрещалась до 3 апреля, так как в марте самки тюленей рожают и выкармливают детенышей, и до начала охоты китобоям ничего не оставалось, как выслеживать тюленей и наблюдать их лежбища, каждое из которых представляет собой «поразительную картину».
«Со смотровой площадки главной мачты видно лежбище, которому нет конца. Даже на самой дальней из видимых на горизонте льдин можно различить черные точки, похожие на рассыпанный перец».
Погода в очередной раз нарушила планы командования «Надежды». Конан Дойл так комментирует события: «„Надежде“ в том году одной из первых удалось обнаружить стадо, но до начала разрешенной охоты мы пережили ряд сильных, следовавших один за другим штормовых ветров и волнений на море, подвинувших плавучие льды и заставивших тюленей раньше времени устремиться в воду. Поэтому когда определенный законом срок наконец настал, Природа сильно ограничила нам возможности охоты».
Тем не менее 3 апреля экипаж судна, вооружившись дубинками, все-таки вышел на лед. Конан Дойл был преисполнен решимости последовать примеру остальных и присоединиться к охотникам, но капитан приказал ему оставаться на корабле, посчитав лед слишком ненадежным и опасным для новичка. «Сопротивление мое оказалось бесполезным, – пишет Конан Дойл, – и я расположился на фальшбортах. Свесив ноги и болтая ими в воздухе, я попытался унять свою досаду и даже гнев. Так я и качался бы вместе с кораблем, если б не оказалось, что сижу я на тонкой полоске льда, образовавшейся на дереве фальшборта. И, когда судно качнуло посильнее и накренило, я полетел прямиком в воду в просвет между двумя глыбами льда». Вскарабкавшись обратно на борт, Конан Дойл обнаружил, что произошедший с ним несчастный случай неожиданно послужил ему на пользу: «Капитан заявил, что, раз уж я все равно падаю в воду, то пусть уж я спущусь за борт».
Непривычный к передвижениям по льду Конан Дойл упал в воду еще дважды за этот день, который и завершил «позорным лежанием в постели, в то время как моя одежда была отправлена в машинное отделение для просушки… Довольно долго с тех пор я именовался величайшим ныряльщиком Севера».
Несмотря на не слишком обнадеживающее начало, Конан Дойл освоился на льду и стал, наряду с другими членами команды, даже охотиться в одиночку. Однажды, во время одной их таких охотничьих вылазок, освежевывая тюленью тушу, он чуть не погиб. «Случилось это, когда от команды я находился довольно далеко и никто из моих товарищей не видел, что произошло. Льдина была настолько гладкой и ровной, что уцепиться мне было не за что, а тело мое в ледяной воде быстро немело, и я его уже не чувствовал. Однако в конце концов я смог ухватить руками мертвого тюленя за его задние ласты, и начался кошмар противоборства: вопрос был в том, удержит ли туша меня, либо я стащу ее в воду». Мало-помалу Конан Дойлу удалось «упереться коленом о край льдины и выкатиться на лед». И вновь «великому ныряльщику Севера» пришлось закончить тот день в постели. «Когда я добрел до судна, одежда моя была тяжелой, как рыцарские доспехи, и прежде чем мне разоблачиться, надо было растопить шуршащую льдом ледяную корку на ней».
Позднее Конан Дойл признавался в двойственных чувствах, которые вызывал у него тюлений промысел: «Деятельность эта, конечно, бесчеловечная, страшная, но не страшнее всякой другой, поставляющей нам на обеденный стол продукты. И все же лужи алой крови на ослепительно белых льдах под мирным безмолвием синего арктического неба кажутся бесцеремонно грубым вторжением в Природу. Но неумолимая потребность заставляет длить и расширять охоту, а тюлени гибелью своею дают средства к существованию длинной череде поколений мореходов и портовых грузчиков, обдирщиков и дубильщиков, рабочих свечных заводов и торговцев кожами и жиром – всех, кто стоит между убийцами живого, с одной стороны, и щеголем в мягких кожаных сапожках или ученым, протирающим жиром свой тонкий исследовательский инструмент – с другой».
В июне «Надежда» возобновила движение на север; началась охота на китов. «Мало кто имеет понятие о стоимости каждого кита. Цена взрослого большого кита достигает двух или даже трех тысяч фунтов. Такая высокая цена в большой степени объясняется высочайшей стоимостью китового уса, продукта редкостного и вместе с тем крайне важного для многих отраслей производства». Имея долю в получаемой командой прибыли, Конан Дойл, естественно, был заинтересован в успешной охоте. На «Надежде» имелось восемь ботов, но за китом обычно отправляли семь, оставляя на борту так называемых «бездельников», в обязанности которых охота не входила. Однако в данной экспедиции, возможно не без подстрекательства со стороны Конан Дойла, «бездельники» вызвались составить команду восьмого бота, которая, по оценке писателя, проявила себя наилучшим образом. «Все мы были парни молодые[12], крепкие и смышленые, – утверждал впоследствии Конан Дойл в беседе с интервьюером, – и, по моему мнению, бот наш был не хуже прочих»[13].
Предшественник «Надежды» китобойное судно «среди льдов и торосов» в 1869 году. (Из книги «Просторы Арктики» Уильяма Бредфорда, Джона Л. Дранмора и Джорджа Крикерсона. Лондон. Сэмпсон Лоу, 1973).
«Преследовать кита, – пишет Конан Дойл, – увлекательнейшее занятие. Сидишь ты к нему в лодке спиной и все, что происходит, узнаешь только по лицу рулевого. А он глядит поверх тебя, следя за тем, как туша кита медленно и неуклонно разрезает волны. Время от времени рулевой поднимает руку, давая знак бросить весла, когда кит поводит глазом в сторону лодки, и возобновить осторожное преследование, когда кит продолжает путь. Кругом так много плавучих льдин, что, если грести потише, то движение льдин само по себе не заставит кита нырнуть, вот лодка и ползет, медленно приближаясь, пока наконец рулевой не решает, что теперь можно успеть подойти к киту прежде, чем он нырнет, потому что на то, чтоб сделать движение и уйти в глубину, огромной туше требуется хоть малое, но время. Ты видишь, как вспыхивают щеки рулевого, видишь блеск в его глазах. «Посторонись, ребята, дай дорогу! Налегай!». Наводится гарпунная пушка. Пена летит из-под весел. Каких-нибудь шесть взмахов весла, и с тяжким глухим звуком нос лодки ударяется обо что-то мягкое, и ты, как и все в лодке вместе с веслами, разлетаетесь в разные стороны. Но на это никто не обращает внимания, потому что, едва лодка коснулась кита, слышится грохот пушки, и вы знаете, что гарпун вонзился прямо в свинцово-серый бок животного. Оно камнем уходит под воду, нос лодки плюхается вниз… и со свистом стремительно бежит, разматываясь, линь – под сиденьями, между раздвинутых ног гребцов, через носовой выступ.
Третий слева Артур Конан Дойл. 12 июля 1880 г. (фотография WJ.A. Grant, публикуется с разрешения Hull Maritime Museum)
Тут и скрыта единственная опасность – ибо случаи, когда кит бросается на преследователей, крайне редки. Линь замотан очень аккуратно специальным человеком, так называемым мотальщиком, и не должен образовывать петли, но если это все-таки происходит, то в такую петлю может угодить нога или рука кого-нибудь из команды, и в этом случае потерпевший гибнет так быстро, что товарищи его даже не успевают понять, что происходит. Перерубить же линь значит потерять добычу, которая находится уже на глубине в сотни фатомов.
„Убери руку, парень! – крикнул один гарпунер, когда его товарищ, заметив, что несчастный уходит под воду, занес над линем руку с топором, – киту этому вдовушка моя будет рада!» Это может показаться грубым бесчувствием, но в подобных словах заключена целая жизненная философия“.
Конан Дойл стал опытным китобоем, опытным до такой степени, что капитан предложил ему на следующий год место на корабле не только в качестве врача, но и гарпунера. Сравнивая охоту на кита с «королевской забавой», ловлей лосося, Конан Дойл пишет, что ловля «рыбины» весом в добрых две тысячи фунтов на леску в палец толщиной, свитой из пятидесяти надежнейших манильских веревок, – удовольствие, перед которым меркнут все другие.
Но, как и на тюленьем промысле, охота на китов заставляет Конан Дойла подчас мучиться раскаянием. Он не может не сочувствовать несчастному животному, в чьих маленьких, «немногим больше, чем у буйвола» глазах он однажды прочел мольбу и укор, в то время как глаза эти уже подернулись смертной пеленой.
Конан Дойл описывает и случай, когда кит чуть было не отомстил своим убийцам: «Мне не забыть, как однажды нам пришлось выбираться из-под нависшего над нами гигантского плавника и как каждый загораживался от него рукой, словно мог помыслить тягаться с чудовищем, если б тому вздумалось опустить плавник ему на голову».
В начале августа «Надежда» вернулась домой со «скудным» грузом, состоявшим из двух китов, примерно 36 ооо тюленей, а также изрядного количества нарвалов, белых медведей и морских птиц. Команде ввиду столь небольшого улова экспедиция должна была казаться мало чем примечательной. Конан Дойл же оценивал ее совершенно иначе и другими мерками. «Я поднялся на борт судна, – вспоминал он в мемуарах, – долговязым нескладным юнцом, а на берег сошел сильным взрослым мужчиной. Не сомневаюсь, что здоровье мое во все последующие годы обеспечила восхитительная свежесть арктического воздуха, что источником моей энергии в немалой степени стало это плаванье».
Не суждено было Конан Дойлу забыть и то чувство одиночества, оторванности от цивилизации, которое он, как и другие члены команды, переживал все долгие месяцы плаванья. «А ведь отплывали мы во время, насыщенное событиями. Шла афганская кампания. Назревала война с Россией». Но чувство оторванности от мира, тоска по обычной жизни выражались не только в жажде вестей из дома. Когда уже возле северной оконечности Шотландии у маяка показалась женская фигура, «все матросы высыпали смотреть на нее – первую женщину, увиденную за полгода».
В Питерхеде Конан Дойл распрощался с товарищами, после чего отправился в Эдинбург на встречу с матерью, обрадовавшейся не только сыну, но и жалованью, которое он привез, и долей его в выручке за китовый жир. Пятьдесят фунтов, которые он внес в копилку семьи, были далеко не лишними. «После всего этого, – пишет он, – я мог заняться подготовкой к экзаменам, которые и сдал зимой 1881 года, сдал вполне прилично, став бакалавром и доктором медицинских наук и тем ступив на стезю успешной профессиональной деятельности».
На какое-то время Конан Дойл позабыл об арктическом дневнике, но жизненный опыт, там отраженный, не пропал, став одним из ключевых факторов для формирования его личности. Написанный 130 лет назад на борту «Надежды» дневник открывает читателю оконце в далекое прошлое. Это не только история взросления юноши, но и история освоения Арктики, и хроника жизни, давно исчезнувшей. «Когда находишься на самой грани неведомого, – писал уже на склоне лет Конан Дойл, – то каждая подстреленная тобой утка несет в своем зобе камушки с берегов, еще не отмеченных на картах. Это плаванье явилось самой необычной и восхитительной главой всей моей жизни».
Йон Лелленберги Дэниел Стесоуэр
Журнал промысловой экспедиции
за китами и тюленями на судне «Надежда» 1880
Суббота, 28 февраля
При большом стечении народа и к вящей радости всех собравшихся, в 2 часа мы отчалили. Предводительствуемый Мюрреем[14] «Недосягаемый» отбыл раньше. Команды «право руля» – «лево руля» Мюррей ревел, как Васанское чудище[15], мы же отошли от причала тихо, по-деловому. Судно наше сверкает чистотой, как яхта благородного джентльмена. Выскобленные палубы белы как снег, медь блестит и переливается. Молодая дама, которой я был представлен, но чье имя я при знакомстве не расслышал, махала мне платком, стоя на краю пирса. Сняв шляпу, я помахал ей в ответ, хотя кто она такая – один Бог ведает.
На палубе пробирал ветер, и давление в барометре быстро падало. Несколько часов мы шли вдоль бухты и закусывали, поднимая тосты за Бакстера[16] и прочих именитых гостей «Надежды». Наконец прибыл лоцманский катер и увез их всех на берег вместе с незадачливым «безбилетником», пытавшимся спрятаться в твиндеке[17].
Мы взяли курс на Шетланды и шли туда под крепким ветром; барометр устремлялся книзу вроде ложащейся на дно устрицы. Мое намерение – оставаться на палубе как можно дольше.
Воскресенье, 1 марта[18]
В 7.30 пополудни прибыли в Леруик. Нам чертовские повезло: надвигался шторм, и, если б мы не успели пришвартовать ся вовремя, могли бы потерять шлюпки и фальшборты. Мы очень этого опасались, но в 5.30 на горизонте обозначился Брессейский маяк. Капитан радовался, что добрался до порта прежде «Недосягаемого», вышедшего пятью часами ранее.
Понедельник, 1 марта
Ураганный ветер. «Недосягаемый» прибыл в 2 часа ночи. Весьма своевременно. Гавань – сплошная пена. А на судне очень спокойно и удобно. У меня маленькая уютная каюта. Телеграфное сообщение между нами и Питерхедом нарушено. Ну и дыра.
Вторник, 2 марта
Барометр показывает 28.375. Капитану еще не случалось наблюдать столь низких значений[19]. Сделал инвентаризацию нижнего белья[20]. Тейт, наш шетландский представитель, рассуждает о религии и атеизме. Он вовсе не так глуп, как кажется[21].
Среда, 3 марта
Погода хорошая, но давление все еще низко. После завтрака ходил на берег с капитаном. Набирали матросов-шетландцев. В тесной конторе Тейта жуткое столпотворение. Прибыли «Ян-Мейен» & «Виктор». Мюррей с «Недосягаемого», по-видимому, неплохой парень. Капитан [Грей] и я выходили от Тейта, когда какой-то пьяный шетландец бросился к капитану: «Капитан (ик!), я иду с вами в поход! Такое судно! Прелесть! Огромное! Мы таких не видывали. Я вам (ик!) принесу удачу!» Грей нехотя повернул назад, в контору. Он казался раздраженным, и я сказал: „Могу его прогнать, если позволите!“ Он ответил: „Вижу, доктор, у вас руки чешутся задать ему хорошую трепку. Я и сам бы не прочь сделать это, но так не годится“. Мы затолкали соискателя в заднюю комнату и заперли дверь, но тут в стекле наверху двери показалась рука. Бах! – во все стороны полетели осколки вперемежку со щепками, и в образовавшейся дыре появился неукротимый шетландец с изрезанными в кровь руками: „Меня не удержать, капитан Грей, ни деревом, ни железом! Я буду с вами на вашем корабле!“ На протяжении всей этой сцены капитан не шелохнулся и продолжал невозмутимо курить трубку, стоя у окна. Упиравшегося и отбрыкивавшегося забулдыгу скрутили и поволокли, по всему судя, в кутузку, хотя лечебница подошла бы тут куда больше. Типичный случай delirium tremens («белой горячки»). За обедом принимали Мюррея с «Недосягаемого» и Тейта. Говорили о масонстве, китобойном промысле и прочем. Спорил с Мюрреем насчет действенности лекарств. Вино лилось рекой, и притом хорошее. Остаток вечера провел в приятном обществе капитана. Между прочим, обнаружился еще один «безбилетник» – несчастный, перепуганный. Капитан сначала стращал его отправкой на берег, но окончилось все подписанием договорного документа.
Четверг, 4 марта
Утром выдавал табачное довольствие[22]. Потом спал, к вечеру сошел на берег. Сперва мы со вторым помощником и стюардом[23] завернули в «Квинс»[24], где, по выражению последнего, «маленько вздрогнули», затем отправились к миссис Браун[25]. Там я потерял своих спутников. У миссис Браун я был желанным гостем и получил заверения, что ее дом навеки останется моим домом. После чего я переместился в заведение на Коммершл-стрит[26], где шла гульба. Слушал хорошие песни и сам распевал «Джекову байку»[27]. Беседовал с капитаном о принце Жероме[28].
Пятница, 5 марта
Капитана и меня пригласили на обед у Тейта. Мы сочли это безрадостной перспективой. Отправились в «Квинс», где сыграли в бильярд. Потом потащились к Тейту. Там застали Мюррея с «Недосягаемого» и некоего Гэллоуэя, мелкого, но жутко напыщенного стряпчего – мерзкого типа. Провели томительный вечер за тяжелым ужином со скверным шампанским. Старина Тейт изобразил крайнее удивление, когда я сказал, что прихожусь племянником Р. Д.[29]. Вот обормот, – позднее я узнал, что капитан ему об этом все уши прожужжал. Он приучил свою собаку к почитанию Наполеона. На того, кто ненароком произнесет имя «Наполеон» с неодобрительной интонацией, она кидается стрелой, рвет зубами и одежду, и тело. Мюррей развлекал нас рассказами о трех матросах, провалившихся под лед, десяти – убитых в уличной драке, а также другими интереснейшими историями. В девять за нами пришла шлюпка, и мы с облегчением отправились к себе на корабль, где можно спокойно вытянуть ноги и расслабиться у себя в каюте.
Поднимался ветер. Разглядывали сооружение, которое капитан счел развалинами римского лагеря. Я же думаю, что то была круглая башня пиктского периода.
Суббота, 6 марта
Дождь и сильный ветер. Весь день ничего не делал. Колин Маклин[30] и еще несколько человек, отправляясь вечером на берег, потребовали шлюпку, которую мы были вынуждены отрядить, хотя море и было неспокойно. Начал биографию Джонсона Босуэла[31].
Воскресенье, 7 марта
Ничего интересного, если не считать прибытия почтового парохода «Сент-Магнус», привезшего мне письмо из дома и еще одно – от Летти[32], а также «Скотсмен» за неделю. Новости неплохие. Вчера мы переменили место стоянки и теперь, как и «Недосягаемый», стоим в стороне от других судов.
Вечер помощник Колин провел в «Квинсе», где услышал, как два жителя Данди прохаживались насчет «тех двух гребаных питерхедцев, что ни с кем знаться не хотят, а сами надутые, как индюки». Колин вскочил и с криком, что он тоже с «Надежды», растолкал всех и, как бешеный, кинувшись на доктора из Данди[33], сильным ударом сбил его с ног.
Наутро, когда я обрабатывал раны Колина, он сказал: «Счастье еще, что я был трезв, доктор, не то не миновать им было бы настоящей драки». Интересно, что Колин понимает под «настоящей дракой». Леруик – грязный городишко, жители его – простоватые и очень гостеприимные. Главную улицу его, видать, строил какой-то косоглазый, потому что дома сильно наклонены, а улица извивается, точно штопор.
Обратил внимание на то, что на некоторых стоящих в гавани судах развиваются флаги с масонскими символами. У Мюррея на вымпеле – циркуль на синем поле[34].
Здешние рыбаки продают треску по 5 фунтов за центнер, а улов их за ночь составляет центнеров 25. Между прочим, механику с «Недосягаемого» машиной повредило два указательных пальца, и перед завтраком мне пришлось отправиться туда и делать перевязку. В порту насчитал двадцать китобойных судов.
Понедельник, 8 марта
Порядочных перьев, чтобы делать записи в журнале, здесь нет, так что пишу этим – черт бы его побрал. Сегодня ходили на берег и, пошатавшись там, я набрел на футбольный матч между оркнейцами и шетландцами – зрелище довольно-таки жалкое. Повстречал капитанов с «Ян-Майена» (Денчерс), «Новой Земблы»[35] и «Эрика», а также доктора Брауна с «Эрика» – тоже лондонца. Вшестером мы по окончании матча отправились в «Квинс», где сначала выпили дурного виски, после чего перешли на кофе. Затем Браун заказал бутылку шампанского, и Мюррей, как и я, последовали его примеру. Сигары и трубки. Думаю, со спиртным мы немного перебрали.
В прошлом году Браун на судне «Воронья скала» попал в кораблекрушение. Говорит, что отлично стреляет[36]. Мы с капитаном вернулись на судно в полдесятого.
Письмо от этого же дня, направленное писателем в Эдинбург, матери, Мэри Фоли-Дойл.
С борта судна «Надежда». Леруик. Понедельник
Драгоценная мэм!
С помощью все того же птичьего пера и бутылочки чернил сообщаю тебе новости с Севера: вчера прибыл почтовый пароход, привез письмо от тебя и очень милую весточку от Летти, которая, по всей видимости, имеет весьма смутное представление о том, зачем я отправляюсь в Гренландию – то ли держать экзамен перед медицинской комиссией, то ли что-то в этом роде (судя по ее пожеланиям мне успеха и выражениям надежды, что вернусь я уже дипломированным доктором)! Ну и забавная же она девчонка! Привезли «Скотсмен» и нужный мне пинцет. Теперь насчет твоих вопросов, постараюсь ответить на них как можно лучше.
Вопрос 1. Я получил – письма, посылки и прочее.
2. Мой [?] не получил и продолжаю его желать.
3. Я здоров.
4. На письмо миссис Хор[37] я ответил.
5. В качестве доброго и послушного мальчика (каким являюсь) я навестил Роджеров[38], виделся с ними, видел и малышку – по крайней мере, видел два огромных светло-голубых глаза, уставившихся на меня из вороха пеленок.
Похожа на спрута женского пола и с четырьмя щупальцами (подвид: спрут-пышка). Однако безмолвной ее не назовешь: «Son et oruet et prosterea nihil – голос и глаза, а больше ничего – искаж. лат.), если не считать не очень приятного запаха. О да, Вельзебуб – прошу прощения, Кристабель – прекрасный младенец. А теперь, когда я успокоил твою мятущуюся душу столь целительными ответами, разреши мне изложить что-нибудь более интересное. Во-первых, тебе приятно будет узнать, что никогда в жизни я еще не был так счастлив. Во мне есть явная цыганская жилка, и теперешняя моя жизнь, по-моему, как нельзя более мне подходит[39]. Вокруг меня хорошие, красивые люди, и притом очень крепкие. Ты удивишься, насколько хорошее образование смогли самостоятельно получить некоторые из них. Вчера вечером старший механик, поднявшись из угольного трюма, затеял со мной на палубе под звездами диспут о дарвинизме. Я положил его на обе лопатки, но он взял реванш, рассуждая о замечаниях Колензо[40] по поводу Пятикнижия… В этом вопросе он меня обскакал. Капитан тоже человек ученый. В Леруикской гавани сейчас почти 30 китобойных судов, но только два из них приписаны к Питерхеду – «Недосягаемый» и «Надежда». Два лагеря недолюбливают друг друга. Грей и Мюррей считаются аристократами. Колин Маклин, наш первый помощник, в субботу заглянул в «Квинс», где полдюжины матросов из Данди стали поносить «Надежду». Колин – этот здоровенный и рыжий бородач-шотландец – не привык болтать попусту, так что он сразу поднялся и, объявив, что он тоже с «Надежды», без лишних слов дал волю кулакам. Он пригвоздил к полу их доктора и изувечил капитана, после чего триумфально покинул помещение. Наутро он сказал мне: «Счастье еще, доктор, что я был трезв, а не то не миновать бы им было настоящей драки». Я же призадумался насчет того, что Колин понимает под настоящей дракой. Леруик – это городишко с кривыми улицами и некрасивыми девушками. Унылое захолустье, где есть две гостиницы и один бильярдный стол. Остров голый, без деревьев. В пятницу был на обеде у Тейта, нашего представителя. Обилие вкусной еды, шампанское и все прочее, но скучновато. Кстати, мы взяли на борт и отличное шампанское, и вино, и едим до отвала, как призовые свиньи. Уже долгое время я не знаю, что такое хотеть есть. Что мне нужно, так это физические упражнения. Я боксирую понемножку[41]