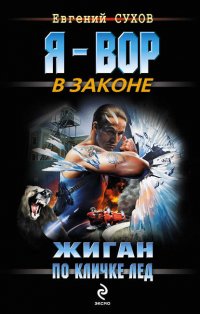
Читать онлайн Жиган по кличке Лед бесплатно
- Все книги автора: Евгений Сухов
Пролог
ИЕРИХОНСКИЕ ТРУПЫ
Желтогорск, октябрь 1927-го
Был поздний вечер. Горели желтовато-серые фонари, свет которых отражался от выпавшего первого снега. Человек в потертом сером реглане бесшумно скользил вдоль темных домов. Неровная улица, цепляющаяся обочинами то за мертвые виноградные изгороди, то за слепые заборы, вела в 1-й Кривой тупик, утыкающийся прямо в крутой склон холма, расположенного на берегу Волги. Здесь, в давно присмиревшей после буйства ранних 20-х Иерихонке, жил Лева Паливцев – прекрасный, честнейший человек, крупный комсомольский вожак, новый хозяин старинного купеческого особняка с мезонином и небольшим садом. К этому дому и направлялся высокий человек в сером реглане.
Снег хрустел, а ему казалось, что под ногами хрустит раздробленное стекло. Наконец человек добрался до нужного ему места: покосившийся фонарь, последний в этой нескончаемой череде, дырявая чугунная ограда, высокая, в нескольких местах залатанная железными щитами и растрескавшейся широкой доской с надписью «Причалъ № 6». Калитка. Засов, жирно смазанный солидолом. Новый хозяин, честный Лева Паливцев, не боялся, что к нему придут непрошеные гости, вынут его из теплой постели, оторвут от женщины, которая только что стала ему женой. Он не боялся, что его бросят на шершавый пол, ударом ноги выбьют все зубы, а потом сунут в «Форд» на разболтанных рессорах и увезут в тюрьму. Нет-нет! Новый хозяин был уверен в своем праве на спокойную жизнь. Он крепко стоял на ногах и не сомневался в своем будущем, потому что учение Маркса и Энгельса всесильно, ибо оно верно.
…Правда, в данный момент лев комсомольского актива Желтогорска был не особо доволен происходящим, отчего на его желтоватых, тяжелых скулах проступали красные пятна. Глаза сощурились, а кончики измызганных, давно не мытых усов, в которых повисли бледные ленточки вареной капусты, шевелились.
Лева Паливцев гулял на собственной свадьбе. В гостиной расположились три десятка человек. Лева с женой восседал во главе праздничного стола. Торжество же портило то, что на нем присутствовал один из руководителей местного ОГПУ Лагин. По крайней мере, по недовольной физиономии молодожена можно было подумать именно так. Семен Андреевич Лагин был человеком милейшим во всем, что не касалось саботажа и контрреволюции, но в последние годы у него появился один недостаток: он не выносил спиртного. Товарищ Лагин был трезвенник и всецело поддерживал замечательно складывающуюся традицию «молочных» комсомольских свадеб. Так что торжество было, увы, безалкогольным… Возмутительно, но это начинание поддерживала добрая половина гостей.
– Слава Интернационалу! – поднимая граненый стакан с молоком, провозгласил глава желтогорской «чрезвычайки». – За молодых!
Комсомольский вожак Паливцев был не то чтобы молод: ему уже стукнуло тридцать (а выглядел на сорок), наметились залысины, а от борьбы за счастье народа, которая, как известно, ведется круглосуточно, под глазами набрякли тяжелые мешки. Он сидел во главе стола, одутловатый, широкоскулый, облизывал перепачканные подливой пальцы и нес ахинею:
– Всех… в кулак!.. У нас еще много работы, тов-ва!.. Эх! Алька, поцелуемся, шоль!
Молодая жена его, Александра, в комсомольском просторечии Алька, оттеняла неказистость супруга: статная, с тонкой талией, высокой грудью и хрупкой, не по-рабочекрестьянски изящной линией хрупких плеч. У нее был слегка вздернутый нос, капризно изогнутая верхняя губа и глаза цвета морской волны. Она была на десять лет моложе Левы-вожака. Нельзя сказать, что Алька-комсомолка была в восторге от союза с товарищем Паливцевым, однако, будучи девушкой ответственной, она говорила себе, что он – ее прекрасное коммунистическое будущее.
Тут же сидели и друзья молодого: Ленька-активист, в прошлом учившийся в интернате для дефективных подростков и, кажется, промышлявший воровством и сдачей на блат краденого барахла; розовощекий Прутков – сын местного паромщика, а рядом с ним зампред желтогорского Союза совторгслужащих Жека Лившиц, еще один «свадебный генерал», впрочем, тощий и субтильный, как новоиспеченный лейтенант. Все перечисленные лица наливали из чайника темный напиток и белили его молоком. Физиономии гостей раскраснелись. Кто-то говорил спич. Лева Паливцев, прекрасно отдававший себе отчет в том, что в чайнике вовсе не заварка, время от времени ухмылялся. Он пока не пил, но по большому счету ему было плевать на Лагина, который не вызывал у него такого уж пиетета (в конце концов, он отлично знаком со вторым секретарем обкома Барановым).
– Пойду покурю, – наконец объявил молодожен посреди какого-то глупого «молочного» тоста.
– Иди, – благожелательно отозвался Лагин.
Кое-кто из гостей собрался составить Леве компанию, но Паливцев не стал дожидаться и покинул гостиную. Страшно хотелось выпить. Осталось потерпеть совсем немного. Молодожен вышел из дома. Подмораживало. Лева вынул папиросу и прикурил. Большая тень проползла будто по выгрызенному диску луны. По бортику большого, давно вышедшего из строя каменного бассейна, разбитого во дворике, шел, как привидение, тощий серый кот. Лева Паливцев выпустил дым через ноздри. Потом он все-таки подумал, что стоит выйти на улицу, а не курить во дворе, в двух шагах от этой чертовой безалкогольной свадьбы.
Между тем в доме продолжалось веселье. Товарищ Лагин отошел куда-то, и по стаканам наиболее передовой части гостей живо разошелся ядреный, с запахом подгнившей свеклы самогон. Наливали из того самого чайника. Невеста, у которой еще оставались какие-то иллюзии по поводу безалкогольной свадьбы, смотрела на это действо чуть расширенными глазами цвета морской волны, а потом встала и хотела выйти в соседнюю комнату, но ее удержали. Ленька-активист, не выпуская запястья девушки из цепких своих пальцев экс-марвихера[1], предложил:
– Айда по чуть-чуть? Всадишь стольничек, сестренка? Да что ты так от меня?.. У нас твой муж вообще в свое время в интернате преподавал… физкультуру!
– Товарищ Леонид хочет, пока наше ОГПУ назад не подгребло, замутить коктейль «Смерть буржуям», – сказал Прутков и икнул. – Вещица истинно про… ик!.. летарская!
Алька выдернула руку из кисти нахального Леонида и, бесцельно послонявшись по дому минут пять, отправилась в свою комнату, находившуюся напротив гостиной. Окна выходили в сад: выгнувшиеся, облепленные комьями мокрой листвы деревья, разбитая статуя и черная, покосившаяся под собственной тяжестью голубятня. Альку трясло. Будь рядом кто из гостей, он удивился бы странному поведению невесты. Она рывком распахнула створку окна, не обращая внимания на то, что мартовский ветер тотчас забрался под платье и ожег кожу, оперлась на подоконник и подалась вперед. Стало видно крыльцо.
Девушка увидела распростертое на нем тело, раскинутые ноги в дурацких брюках-дудочках и желтые ботинки. Она заметила даже такую мелочь, как развязавшийся на одном из них шнурок. А еще Алька увидела кровь.
Лева Паливцев.
И, судя по тому, сколько крови набежало у основания лестницы, лежал он там не первую минуту…
Над ним стоял второй. Его лицо тонуло в тени, которую отбрасывала опорная колонна. Алька не видела, не различала черт человека, но стоило ему пошевелиться, только сделать зябкое движение плечами, как она тотчас узнала его.
И издала длинный, тонкий придушенный вопль.
Снова и снова.
Она еще кричала, а Ленька-активист, Прутков и Жека Лившиц уже выскочили из дверей дома. Оказалось, что они были поблизости: распивали в прихожей. Лева простонал и дернул левой ногой – он был еще жив, – а его убийца сорвался с места и бросился туда, к калитке, в темноту. Луну заволокло облаками, желтые пятна фонарей давали мало света, и трое друзей молодожена уже подумали, что подлый убийца ушел, растаял без следа в черной ночи – так нет!.. У ограды раздался крик, и неведомая сила вышвырнула беглеца на освещенное место. Он упал вниз лицом. Растянулся буквально в пяти шагах от окровавленных ступеней. Леонид, Прутков и Лившиц подскочили к нему, и мощнейший пинок под ребра перевернул убийцу на спину. Нанесший этот удар Прутков вдруг попятился и сел прямо на ступени крыльца. Тщедушный Ленька-активист открыл рот и промычал:
– Илюха… к-ха… Х-холодный!.. – пробормотал он. – Ты?.. А ты, Илюха! Чего ж ты, падла, натворил? Зачем… т-такое? Он и так не жилец был…
Последняя загадочная фраза не нашла должного отклика. Весь праведно-комсомольский лексикон разом выветрился из голов протрезвевших товарищей. Тот, кого назвали Илюхой Холодным, вскочил на ноги и скрипнул зубами, схватившись руками за бок.
– Бери его! – скомандовал Ленька-активист и первый стал выполнять собственную команду. Он широко шагнул на Холодного и нанес тому, казалось бы, неотразимый удар в челюсть. Несмотря на незначительные габариты, Леонид всегда славился лихостью в драке. Но Илюха, верткий, жилистый девятнадцатилетний парень, поднырнул под руку Леньки и ткнулся тому головой прямо в правое подреберье. Активиста сломало пополам от боли. Холодный оттолкнул Леньку, пружинисто выпрямился и, глянув себе за спину, произнес с расстановкой:
– Я – не мочил – его. Я чистый!
– Ты тут не баси, помойка! – рявкнул Лившиц. А в руках Пруткова появился длинный, хищно поблескивающий стилет. Не заточенный из ложки, как то делают уркаганы, а самый настоящий, трехгранный, итальянского образца, с прямой крестовиной. Артиллерийский, верно, трофейный.
– Я не убивал, – машинально повторил Илья.
– Ну да! Ы-ы-ы… А ты, вроде, заблудился… бродишь тут, по гр-р-рибы, п-по ягоды? – простонал Ленька-активист, пытаясь разогнуться.
Из дома выскочили еще трое мужчин. Илюха Холодный рванулся с места, и тотчас же отчаянный Прутков прыгнул на него. Сцепив пальцы обеих рук в замке, предполагаемый убийца Левы Паливцева грохнул прямо по кисти Пруткова, сжимающей стилет. Лившиц, подобравшись к Холодному со спины, удачно перехватил в мощном локтевом захвате шею парня. Прутков, выронив из ослабевших пальцев модный итальянский стилет, остервенело тряс отбитой кистью. Один из выскочивших, быстро сориентировавшись в ситуации, на ходу расстегивал кобуру «маузера»: еще бы, ведь подчиненный самого товарища Лагина, сотрудник ОГПУ, не может ходить без оружия!
– Да стреляй, черт побери! – сдавленно выговорил страдалец Ленька. – У него перо… ща попишет, как Леву! Совсем с катушек спрыгнул, как я ему в Москве про Альку сказал… н-на свою голову!
Грохнул выстрел. Товарищ Лагин не держал в числе подчиненных людей нерешительных и колеблющихся в вопросе применения оружия. У Жеки Лившица, который теперь не пережимал шею Холодного, а повис на нем, болезненно запрыгала нижняя губа, а из угла рта, пузырясь, хлынула кровь. Ибо за какие-то доли мгновения до выстрела Илюха успел развернуться на сто восемьдесят градусов и прикрыться упитанным телом совторгслужащего, как щитом…
Наконец Лившиц разжал руки и упал наземь. Кто-то подпрыгнул, кто-то заревел: «Убили-и-и!» Раздались крики: «Стой, падла!», «Подрезай его!», «Слева заходи!»
Через несколько секунд дело было сделано: Холодный лежал на животе, с лица его текло, и возле вывернутых губ на грязную землю набежала уже небольшая лужица крови. Илюху держали трое, хотя он и не сопротивлялся, а четвертый – это был как раз Прутков – со свойственной ему рассудительностью и методичностью тыкал парня носком сапога под ребра и повторял на одной ноте: «Попался, сука!.. Попался, выжига!» Мертвый Лившиц уставился в небо уже остекленевшими глазами. Пошел снег, и снежинки еще таяли на его остывающей коже.
Из темноты появилась небольшая, но основательная и ладная фигура. Скрипя новеньким кожаным френчем, товарищ Лагин – это был как раз он – спросил:
– Что тут такое?
– Убийство, Семен Андреевич, убийство, – быстро ответил Ленька-активист, – Лившица убили и вот Паливцева пописали пером…
– …И меня подрезали, – пыхтя, перебил Прутков. Его пальцы в самом деле были перемазаны в крови, но сложно было судить, чья именно это кровь. – Семен, нужно этого Холодного паковать – и в ДОПР. А там с ним толкуй по-свойски, ну ты уж знаешь как.
– Ну-ка, поднимите его, – скомандовал Лагин.
Илью бесцеремонно встряхнули и, саданув еще раз по печени, чтобы тот составил себе более четкое представление о неминуемом пролетарском возмездии, поставили лицом к лицу с представителем закона. Лагин, сощурившись, рассматривал продолговатое юношеское лицо с едва заметно вздернутым носом, с широко расставленными темно-серыми глазами, которые сейчас казались глубоко запавшими и почти черными. Вдоль левой скулы тянулась длинная, оплывающая кровью ссадина. Из левого угла рта, пузырясь, выбивалась темная струйка, опадала каплями на одежду. Левая бровь была рассечена, глаз заплывал. Семен Андреевич Лагин проговорил почти доброжелательно:
– Ну и что скажешь, Илья? Собственно, ты можешь даже не отвечать на мои вопросы. Будет еще время. Много мы с тобой говорили по-хорошему, по душам, а ты все-таки не образумился. Ну что же… тогда, наверно, придется по-плохому.
Холодный молчал. На его выпуклом лбу выступил пот. Товарищ Лагин понимающе кивнул:
– В самом деле, что тут разговаривать? С такими, как ты, Илья, вообще не принято разговаривать при лишних свидетелях, не так ли?.. Ну, собственно, чего я тебе рассказываю? Ты и так видел нашу контору в деле. Та-а-ак, – сощурив и без того узкие, с монгольским прищуром глаза, Лагин обвел взглядом всех присутствующих, – интересное нам тут блюдо подали… Очень гнилое дело. А кто стрелял?
Ответ на сей занимательный вопрос, быть может, и прозвучал бы, но в этот момент распахнулась дверь дома, и выскочила Алька. При ее появлении Лева Паливцев пошевелился, и слова об убийстве тотчас потеряли актуальность или, по крайней мере, перестали всецело соответствовать истине. Молодая жена скользнула глазами по его мучнистому, с испариной лицу. Присела на корточки, схватила пухлую руку, нащупала неровный пульс. Двери остались открытыми, и из них все валили и валили любопытствующие гости. Они обступили Альку и ее мужа, кто-то бесцеремонно наступил на край платья девушки. В этот момент по телу Левы Паливцева прошла судорога, он задрожал, прогнулся и широко раскрыл глаза. Изо рта хлынула кровь. Лева хотел что-то сказать, но у него искривились и запрыгали губы, а в следующее мгновение он издал сдавленный стон и обмяк.
Пульса больше не было.
– Ничего себе женился! – послышался голос одного из гостей.
– Да тут черт знает что… Эгей! Прямо как несколько лет назад! Узнаю старую добрую Иерихонку. Бывало, до пяти трупов за ночь находили, – сказала толстая баба в блузе в горошек. – А Холодного мы все знаем. У многих судьба непростая, в том числе и у тех, кто здеся, – и что? Все ж за ум взялись, но только не он. Песье племя, как он до сих пор живой-то ходит по земле, недобиток? Ты уж, товарищ Лагин, с ним по всей строгости пролетарского закона.
– Тебя не спросил, – задумчиво отозвался Семен Андреевич. – Говорил я тебе, Илья: возьмись за ум. Такое время, такие возможности для вас, дармоедов, Советская власть дала!
– Вот только не надо… – угрюмо отозвался Холодный, морща лоб. – Говорили вы со мной по душам… Если бы я сказал, что вы со мной по душам говорили, тут никто бы не поверил в подобную контрреволюцию. Я никого не убивал. Нужен мне ваш Лева тысячу лет! Я хотел просто поздравить…
– Ты хотел только по морде дать, поди? – прищурился Лагин.
– Хотел… Я отвечу, а вы мне, Семен Андреевич, тотчас припаяете: ага, дескать, где по морде, там в подреберье, а где кулаком, там и на перо можно посадить, чтобы увидел небо в алмазах! – Илья искривил рот в ухмылке. – Хотя вы и так напишете все, что надо. Да что вы в меня вцепились? Не убегу.
– Убежит… Держите. А он как Леву…
– Нужен мне ваш Лева тысячу лет, – куда менее уверенно повторил парень.
– Ну, тыщу не тыщу, а двадцать своих законных получишь! – выкрикнул многострадальный Ленька, проявивший такую инициативу в задержании предполагаемого преступника. Ну, а, как известно, инициатива наказуема…
– Да нет, – возразили ему, – какая двадцатка, тут дело посерьезнее, вышкой попахивает…
– Хватит болтать! – перебил Лагин. – Ведите его пока что в дом, а ты, Андрей, вызови машину, – кивнул он одному из своих подчиненных, высокому рябому парню – тому, что стрелял и случайно убил Жеку Лифшица.
Илюху подтолкнули к входу в дом. Он замедлил шаг только на последней ступеньке, когда поравнялся с Алькой. Она уже не сидела у тела молодого супруга, а прислонилась к дверному косяку. На подоле светлого платья красовался отпечаток чьей-то подошвы. Алька прикусила нижнюю губу и не смотрела на парня, который замер в шаге от нее и что-то пробормотал. Никто не расслышал, но девушка вдруг тряхнула головой и ответила звонко, яростно:
– Не верю!
Лицо Ильи исказила гримаса боли – так, как если бы он все-таки получил пулю сотрудника ОГПУ. Однако усилием воли он растянул углы рта в кривой усмешке и ответил:
– А зря.
Часть I
ЛЕД В ОГНЕ
1
Крым, август, 1950 год
Человек по прозвищу Лед сидел на каменистой площадке за скромным дощатым столиком, пил грузинское вино из оплетенной соломой высокой бутыли. Рубашка с мягким воротом, не застегнутая на две последние пуговицы, открывала загорелую шею. Лед что-то негромко говорил своему собеседнику, загорелому молодому мужику, беспрерывно жующему и сплевывающему себе под ноги. Десятью метрами ниже накатывали на берег ласковые волны, пенились, гладили мелкие камешки. И когда Лед говорил, жилы на его шее напрягались так, словно он кричал или пел на долгой мучительной ноте, а не говорил тихим и спокойным голосом. И жилы на его шее были похожи на трубки какого-то диковинного духового инструмента, маленького органа.
– Когда он придет, Сережа?
Сережа, здоровенный детина тридцати пяти лет от роду, снова сплюнул себе под ноги и, с шумом отпив из бокала, отмахнулся:
– Не боись, Лед. Все путем. Че ж, он по твоему вызову не притащится, шоль? Я б на его месте в такие игры не играл бы. Нет, Сава – правильный мужик. На баб он того, конечно, был падок, но кто ж по сладкому делу не ходóк?
– Достукался он уже разок на бабской теме-то, – сказал Лед.
– Да куда ж!.. Он говорил, у него сам генерал Василий Сталин этого… в последышах был. Значит, была у Савы… когда его еще не раздуло, как гнилой бурдюк… одна красотуля, буфетчица. Такая витрина у нее была, эх! Аппетитная, что твой аппер… кот.
– Антрекот…
– Во! Умеешь ты мощно задвинуть, батя. – Сережа широко осклабился, показывая человеку не намного старше себя колоритные, через один, зубы. – В общем, поймал ее Сава на обаяние, с целый месяц у нее ошивался только так, пока чуть было не сгорел на ночной работе: хату он брать взялся…
– Слышал и про Сталина Василия, и про буфетчицу.
– И когда ту хату…
– И про хату. Ты вот лучше что мне ответь, Сережа: как вышло, что ты оказался тогда в Калуге? А то у нас все как-то не было времени вернуться к этому разговору.
Лед, как обычно, говорил очень спокойно, почти монотонно. Однако его собеседник, по всей видимости, совершенно не ожидал услышать эти слова, произнесенные просто, буднично, доброжелательно. Он заморгал, под грузным его телом скрипнул стул:
– А че ты мне про то в Калуге задвигаешь, как будто это какая подлянка?
– А что ты тогда всполохнулся, если все ровно? – заметил Лед. – Я, собственно, не из любопытства спрашиваю. У тебя там родственники?
– Да не, – сказал Сережа, и глубокие морщины, залегшие было у него на лбу, разгладились. – Братишка там у меня знакомый, вместе тянули в солнечной Мордовии… Сводит судьба и разводит, два раза на пересылке, но это так, по-рыхлому, а вот третий – на «цапле»… на железной дороге под Салехардом… Пять лет. Ну ты ж знаешь, Лед. До нынешнего с ним кентуемся, проверенных корешей мало сейчас.
– Особенно таких, кто не ссучился.
– Особливо… Это – да… – без выражения отозвался мордатый Сережа и глянул назад, туда, откуда подходил к нему раскачивающейся косолапой походкой толстый грузин Лаша Гогоберидзе, небритый, с радушной физиономией в складочку и длинным, в двух местах переломанным носом. Лаша держал скромную шашлычную прямо на берегу моря, официально находящуюся на балансе недавно открытого в километре отсюда пансионата «Волна». Рассказывал про себя Гогоберидзе, что родом он из Гори, то есть земляк самого товарища Сталина. И странно, что с таким родством – точнее, со щедрыми россказнями об этом замечательном «родстве» – не загремел Гогоберидзе ни разу куда следует. В места, далекие от этого моря, от свежего воздуха, напоенного запахом жареного мяса и ароматами трав.
– Э, все готово, уважаемые, – заговорил он. – Пальчики оближешь! В «Волне» разве готовят? В «Волне» только Гогоберидзе завидуют.
В его руках подпрыгивал жестяной поднос с несколькими горшочками и большим блюдом, на котором благоухал посыпанный зеленью, политый красным вином шашлык с баклажанами. Лед кивнул. Гогоберидзе смачно прищелкнул языком и поставил поднос на стол. Откуда-то появилось еще вино. У грузина были очень быстрые для просто шашлычника пальцы. Льду отлично было известно, что в свое время Лаша подрабатывал каталой на трассе Москва – Симферополь (и на других, конечно, тоже, но эта была любимой). Так он зарабатывал на жизнь, пока в один прекрасный день не стал, как говорят в воровской среде, «порченым» – зная шулерские приемы, зарекся играть в карты. С этим решением Лаши Гогоберидзе удивительным образом совпало исчезновение с его правой руки двух пальцев.
Льда он знал давно. Тот, видимо, знал причину волшебного перерождения Гогоберидзе. Именно поэтому Лед всегда был желанным гостем в маленькой шашлычной на берегу моря, в километре от недавно открытого для советских трудящихся санатория.
– Еще вина!.. – торжественно объявил Гогоберидзе, одну за другой открывая две бутылки вина.
– По мне, так уж лучше водяры или газолина хватануть, – высказался Сережа. – А то винище не согревает. Компот. Лед, плеснем под жабры?
– Э-э, не умеете вы, русские, пить, – отозвался словоохотливый Гогоберидзе, имевший замечательную привычку разговаривать с посетителями своей закусочной на равных. – Вам лишь бы окосеть.
– Я вообще-то мордвин, – сообщил Сережа.
Грузин поднял облепленный бородавками толстый указательный палец и важно начал:
– Я хотел сказать…
– Лаша, иди! У тебя наверняка осталось немало дел, – поднял голову Лед. У него были невыразительные тускло-серые глаза. Гогоберидзе тотчас почувствовал себя неуютно. Он помнил и то, что эти глаза способны быть и яркими, и живыми. Страшными. Он пробормотал что-то по-грузински и ретировался.
Лед взглянул на мясо. Потянул ноздрями воздух и спросил:
– Ну, так что там с Калугой и с братишкой, с которым вы железку под Салехардом вместе клали?
Наверно, все-таки ответил бы что-то внятное мордатый Сережа, потому как побагровел от натуги, ища наиболее удачный ответ, но тут Лед, перебивая его бормотание, выговорил:
– Я тебя жду, Леонидыч!
И встал.
Сережа, который вспоминал свое отчество (Михайлович, кажется) исключительно в те моменты, когда очередной следователь читал вслух его личное дело, разом понял, что обращаются не к нему.
К столу, за которым сидели Сережа и Лед, шел высокий худой человек с продолговатым лицом и длинным подбородком. Одет он был в серый пиджак, в брюки военного образца. Возраст вновь пришедшего определить было затруднительно: этому человеку с тусклыми глазами и малоподвижным лицом могло оказаться и тридцать пять, и шестьдесят лет. На ходу он зябко втягивал голову в плечи. С его нарядом и повышенной чувствительностью к холоду совершенно не вязался ни теплый алеюще-розовый закат над морем, ни плюс 28 градусов. Высокий и худой человек, рассеянно щурясь, смотрел куда-то поверх голов сидящих на площадке мужчин. Можно было бы предположить, что он ищет их взглядом среди прочих посетителей, однако же дощатый столик был только один, а двое расположившихся за ним отдыхающих – единственные клиенты Лаши Гогоберидзе.
– Леонидыч, иди-ка ты сюда, что ты там мерзнешь? – позвал мужчину Лед. – Давненько не виделись.
– Батя, а что это за фраер? – вполголоса спросил Сережа, в котором, верно, опять проснулись сыновние чувства. – Я его нигде раньше, случаем, не видел? Хотя такого где угодно срисовать можно… Распространенный типаж, – сподобился он на четкое определение.
Лед не ответил. Высокий, похожий на печального аиста человек приблизился к их столику и произнес:
– Приветствую. Не помешаю?
– Отчего ж! Поляну и на троих разбомбить можно! – весело отозвался Сережа, искренне довольный тем, что ему повторно не пришлось отвечать на неприятный вопрос Льда про Калугу. – Не пунцуйся, греби хавку.
– Сережа, выражайся по-человечески. Борис Леонидович не понимает по-нашему, – сказал Лед.
– Да, в самом деле, если можно, – все так же рассеянно присматриваясь то ко Льду (словно видел он его в первый раз), то к Сереже, хватившему «грыжу» (полстакана виноградного самогона), отозвался тот, кого называли Борисом Леонидовичем. – Честно говоря… я рад нашей встрече. – Эти слова предназначались уже Льду. – У меня не так много времени. Мы куда-то поедем?
– Да, мы куда-то поедем. А отчего у вас мало времени, Борис Леонидович? Раскопки?
– И чего копают? Жмуров? – осклабился Сережа. – А, ну да… В смысле – роете древних воров? А что, я однажды был у одного ученого бобра, так он говорил, что нарыли золотишка, разных культурных бебех, показывал мне – я ахнул! Вообще я всегда в полном интересе, как оно там, у стариков-то, было… Я – уважительный, – непонятно к чему заявил он и стал с аппетитом поедать шашлык. По подбородку потек мясной сок.
– Да, мы занимаемся раскопками Неаполя Скифского, – сказал Борис Леонидович. – Работы ведутся вот уже лет пять. Очень важная задача! Даже в этнополитическом аспекте.
На лице Льда появилась усмешка:
– Борис Леонидович, выражайтесь по-человечески. Сережа вот не понимает…
– Охотно. Я имел в виду то, что работы на городище Неаполя Скифского, то, чем я и мои коллеги сейчас занимаемся, – дело всесоюзной важности. Сам товарищ Сталин давал соответствующие указания. Чтобы не распадалась цепь времен, перекинутая от скифов к славянам. Товарищ Сталин, – с неподражаемой серьезностью продолжал археолог, – ратует за то, чтобы наша история была максимально ясна. Без прошлого нет будущего, что ж вы хотите?.. Вот и товарищ Сталин того же мнения.
Сережа невольно перестал жевать. Легкость, с которой Борис Леонидович показательно ссылался на отца народов, в чем-то живо воссоздавала в памяти словесные обороты Лаши Гогоберидзе. Однако Сережа уже прилично выпил и был не прочь пообщаться с неизвестным человеком, несмотря на то что его не покидало ощущение, будто он уже где-то видел Бориса Леонидовича, и тот до омерзения напоминал ему одну энкавэдэшную гниду, сотрудника следственного отдела НКВД по Вологодской области Альберта Станиславовича Орленко: то же вытянутое лицо, прилизанные волосы, та же длинная нескладная фигура. Только добрый следователь Орленко все время старался доверительно заглянуть в глаза, а Борис Леонидович, этот ископаемый знакомец Льда, щурил глаза и глядел куда-то в сторону, словно ему неприятно было лицезреть тех, с кем судьба уготовила ему место за одним столиком.
– А что, золотишко-то нашли? – спросил Сережа. – Верно, скифы не босяки были. Мне один знакомый на пересылке говорил, что…
– Конечно, не босяки, – перебил археолог, и его беспокойные глаза перебежали от блюда с мясом на широкое, тронувшееся расплывчатыми багровыми пятнами лицо Сережи. – Мы находим артефакты ценности необычайной. Думаю, даже вам, Сергей, с вашим опытом сбыта серьезных драгоценностей едва ли удалось бы получить за некоторые вещи их реальную стоимость. К примеру, за одну услугу я подарил нашему общему товарищу, – он выразительно взглянул на мрачного Льда, – очень ценную вещь. Ее нашли в Самарканде. Перстень. По некоторым данным, его мог носить один из эмиров Тамерлана, если не сам властитель. Я понимаю, что все это лишь красивая сказка. Однако вот он, на руке у нашего друга.
Сережа, который не привык к подобным откровениям, удивился и перевел глаза на положенную тыльной стороной вверх левую ладонь Льда. Он много раз видел на левой руке Льда тусклый и довольно-таки невзрачный перстень, но никогда не задумывался о его ценности. Перстень и сейчас был на пальце Льда. С каких пор он его носит? С тех самых, как освободился? Сережа захмелел, глаза его затуманились.
– Сережа! – зазвучал голос Льда.
Мордовский вор встрепенулся. Крепкий, крепкий самогон!.. Ох, повело. Сережа потянулся всем телом вперед и, с наслаждением уцепив челюстями ароматный кусок мяса, промямлил:
– Тут! Лед, а этот твой перстень… че, в самом деле?
– Да, старинный. Борис Леонидович не заливает. Он вообще правдивый человек, – выговорил Лед. – В отличие от многих. А! Вот идет еще один правдивый человек. Привет, Сава!
Вновь явившийся был непомерно толст. Говорили, что Саву раздуло за последнюю пару лет – после того, как ему проломили голову, профессора развели руками и сказали что-то о патогенном факторе в области обмена веществ. Все, кто при мозгах, поняли, что кончился Сава, что скоро задавит его дурное сало. Словно приближая свой конец, Сава ел за троих. Едва успев поздороваться, Сава повалился на стул, налил себе вина, бросил взгляд на ядреный самогон, подогнанный расторопным Гогоберидзе. Выпил, закусил, перевел дух.
– Ну, зачем звал? – осторожно спросил он.
– Есть дело.
– Какое еще дело? – недоверчиво отозвался Сава. – Я от всех дел отошел уже, в полной завязке, ты же знаешь, Лед.
– Не хочешь прокатиться с ветерком?
– Это еще куда?
– До Воркуты не доедем, не бойся.
– Ну так поехали, чего ждать тогда? У меня времени не столыпинский вагон.
– Сейчас подождем еще одного человечка, – с хитрым видом сказал Лед и закрыл один глаз. На его лице появилась веселая кривоватая усмешка. Кажется, за все годы, что они были знакомы, толстяк не видел на лице этого человека настоящей улыбки.
Борис Леонидович, словно подхватив обрывки разрозненных мыслей толстого Савы, произнес безотносительно к происходящему:
– Говорят, что испанский король Филипп Второй ни разу не улыбнулся за всю свою жизнь. А Тамерлан, по свидетельству очевидцев, не улыбался то ли тридцать, то ли сорок лет.
– Был у меня один знакомый по имени Тамерлан, – не убирая с лица усмешки, подхватил Лед и ловко налил себе и Борису Леонидовичу вина, – хромой… Отличный был шнифер[2]. Зарезали его года два назад. Отдыхать ездил. До сих пор вот и отдыхает.
– Все там будем, – с готовностью откликнулся Сережа.
– Совершенно верно, – сказал Борис Леонидович, глядя на Льда.
Сава сопел и обливался потом. Затем он налил всем еще выпить; разговор, ставший более торопливым, скоротечным, словно некоторые его участники боялись не успеть сказать друг другу все, что хотели, окончился тотчас же, как подъехала к заведению Гогоберидзе машина, серый «Опель Кадет», сверкающий на солнце. К тому времени Сереже было все равно, куда ехать и на чем. У него вытянулась нижняя губа, и он поминутно хмыкал, выражая свое положительное отношение к репликам Савы и археолога. Его смущало только одно. Чушь, мелочь, маленький штришок… его отчего-то встревожила манера общения Льда и длинного и тощего археолога Бориса Леонидовича. Он перебрал все обстоятельства этого разговора, состоявшегося на каменной террасе высокого крымского берега, и понял, что его смущало: за все время беседы Борис Леонидович ни разу не назвал Льда по имени. По прозвищу. Такая безымянность всегда тревожила захмелевшего Сережу. Все-таки в воровском мире привыкли очень четко позиционировать людей согласно обращениям к ним…
2
Серый «Опель Кадет» шел по горному серпантину вдоль русла узенькой речки с галечным дном. Речка пузырилась справа от неширокой – в некоторых местах не разъедешься – ухабистой дороги, а слева шел вниз крутой, неровный склон. Дорога из мелкого гравия петляла: то уходила вниз, то взмывала вверх. Сидящий на переднем пассажирском сиденье Лед повернул голову, разглядывая стоявшую на огромном бугристом камне металлическую будку, всю в ржавых подпалинах.
– Я слышал, – подал голос Сережа, – что где-то в здешних местах вот с такого серпантина слетела целая немецкая колонна. Валяются где-то тут… внизу. Партизаны их того… подстрелили.
– Ну, неудивительно, – подал голос шофер, болтливый, как большинство рыцарей колеса и баранки, – тут выследить и подстрелить ничего не стоит. Места тут знатные… пропадешь, никто и не найдет сто лет, – оптимистично подвел он черту своему высказыванию.
– Это да… – мечтательно отозвался кто-то. Кажется, это был Сава. Он был сентиментален и залюбовался открывавшимся видом (этой умиленной расслабленности в немалой степени способствовал и коньячок, которым Сава обильно прополоскал горло). – Хотя горы тут игрушечные. Вот, помню, на Алтае…
Что именно помнил Сава, осталось невыясненным. Из-под днища машины вдруг выметнулись два клинка пламени, вспышка мгновенно разрослась в ветвистые огненные кусты. «Опель» подлетел, вздыбился, на мгновение словно завис в клубах повалившего дыма и стал разваливаться. У Савы клацнула челюсть, и он испустил сиплый вопль. Отлетело и проскакало по каменному бордюру, отделявшему горную дорогу от пропасти, загоревшееся колесо. Перевернувшись в воздухе, машина упала вверх колесами. Шоферу раздавило рулем ребра. Из-за ржавой будки, замеченной Льдом, выметнулась бутылка с зажигательной жидкостью – такими пускали «на факела» огромные фашистские танки. «Опель» с четырьмя людьми в салоне вспыхнул, как бумажный кораблик. Сережа, страшно ударившись головой сначала о стойку, а потом и о крышу раскачивающегося на краю серпантина опрокинутого автомобиля, закричал:
– Су-у-уки! Это… это – они!..
– Кто?
Сережа не понял, кто спрашивал. То ли Лед, который должен быть где-то там, спереди, то ли Сава, чья огромная жирная туша колыхалась рядом. То ли шофер… Хотя нет, последний только мычал.
Стало нестерпимо больно. Сережа заорал и боднул головой стекло автомобиля. Гудящее пламя проглотило перевернутый автомобиль целиком. Сережа изловчился и выбил-таки стекло. Не обращая внимания на то, что осколки глубоко пропороли ему правую щеку и рассекли висок, он полез из машины. Сава придавил ему ноги, и мордовский вор стал лягать того ногой, целя в лицо, в здоровенную багровую ряшку. Ему удалось вылезти из машины на гравий дороги, он даже попытался встать, но тут же рухнул навзничь, от дикой боли в левом бедре. Сережа поднял голову. За его спиной корчился в огне чернеющий остов «Опеля», а перед глазами, задернутая серой пеленой, вырастала какая-то скала, очертаниями напоминающая контуры человеческой фигуры… Или – человек, контурами напоминающий скалу?.. Вору вдруг вспомнилось изречение какого-то древнего зануды, которое привел в недавнем разговоре этот археолог, Борис Леонидович: «То ли Лао-цзы приснилось, что он стал бабочкой, то ли крохотной бабочке приснилось, что стала она Лао-цзы…» Никогда Сереже не лезла в голову подобная чушь. Значит, в самом деле – пришло время умирать?.. Оторвав от гравия тяжелеющее лицо, с которого стекала струйками кровь, он увидел в нескольких шагах от себя коротко стриженного серого человечка с узкими миндалевидными глазами. Человечек кротко улыбнулся и, подняв руку с зажатым в ней «ТТ», выстрелил Сереже в голову.
И все остановилось.
Человечек перешагнул через труп, хотя его вполне можно было обойти, и направился к горящему «Опелю». Пахнуло жаром, но убийца даже не поморщился. Из огня вынырнула чья– то обожженная, совершенно лишившаяся волос дымящаяся голова. Рот был разверзнут в беззвучном вопле. Потом крик этот все-таки прорвался, налитый силой и неистовой болью. Человек выбросил вперед руку, и на пальце сверкнул, распадаясь бликами, старинный перстень. Убийца задумчиво смотрел, как ворочается в огне обладатель этого перстня. Губы человечка шевельнулись, что-то шепча, и он вскинул пистолет и выстрелил, избавляя бедолагу от мук.
Из салона слышались гаснущие стоны заживо изжаренного Савы. Человечек с кроткой улыбкой, сделавший свою страшную работу, убрал оружие и зашагал по серпантину. За его спиной запоздало грохнул бензобак…
– И это пройдет, – выговорил убийца, не оглядываясь. Он сел у речки на корточки и зачерпнул всей пятерней облепленные белыми пузырьками галечные камешки. Ему вспомнилось, как семь лет назад примерно в этом же месте он и его товарищи остановили и уничтожили автоколонну гитлеровцев. Теперь пришлось убивать своих. Русских.
3
Ялта, три дня спустя
– Мы не можем оставить этот беспредел без ответки! – хрипло выговорил Мастодонт. – Не бывало такого, чтобы жарили уважаемых воров вот так, как курей! Падлы, курвы!..
– Брат, не горячись… – начал было вор по прозвищу Грек.
– Твои братья в овраге гнилую лошадь доедают! – заревел Мастодонт и хватил стакан водки, хотя всем было известно, что больше рюмочки он себе не позволял вот уже несколько лет. – И тебе туда дорога, если ты не желаешь понять, что только кровью можно замазать эту гниль, эту гнусность. Понимаешь, его с близкими зажарили, как поросенка! Пропасли и угробили, как тухлого фраера! А ты мне тут втюхиваешь!
У Мастодонта горели глаза. Черные, неистово сверкающие, они были похожи на две оливы в кипящем масле. Откинувшись на спинку жалобно скрипящего стула, он тяжело, шумно дышал. Георгий Мастриди, он же вор в законе Мастодонт, он же Большой Маст, вцепился пальцами в массивный подбородок, пытаясь успокоиться, наконец обвел глазами застывших по обе стороны длинного стола воров. Смотрел он так внимательно, словно видел этих тертых, проверенных авторитетов впервые. Многие из них приехали сюда, в Крым, специально для того, чтобы принять участие в важной сходке. Вот одноглазый Джага; расторопный и лихой Гавана; обманчиво грузный и неповоротливый Гурам Кутаисский; а вот Ваня Бахча; молчаливый Макинтош; задорный Грек, сейчас закусивший нижнюю губу; краснолицый Саня Кедр пьет чай, напоказ отодвинув водку; длинный и тощий Сулима, брат сгоревшего Сережи, вертит в пальцах вилку…
Мастодонт откашлялся и заговорил:
– Нужно решать с ответкой. Кто это сделал, должен гноем умыться. Вычислить и замочить гниду. Но не валить сразу – хотел бы видеть его живым, чтобы он тут, на полу, валялся, а мы взглянули бы ему в глаза по очереди. Хотя чего там глядеть?
– Правду говоришь, Большой, – отозвался со своего места Саня Кедр. – Там не один Лед, которого все мы уважали, там еще были наши. Саву я с малых знаю, мы с ним еще на малолетке топтались. Сережа-мордва, хоть и дурковал порой, но все равно правильный вор был – вот его брат сидит, я при нем, да и при всех, честно говорю. И нечего тут больше базлать! Я сам ездил с Гаваной, видел, что там от них осталось. Льда по зубам да по перстню только опознали, да еще роспись на плече я видел – его роспись, верно. А еще тряхнул бы я Лашу Гогоберидзе – есть такой «порченый» шустрик, он теперь барыгой подъедается. Это у него Лед с близкими тогда сидел – верняк. Только у него об этом хорошо нужно поспрошать, с пристрастием, как говорится, сами знаете где. Так-то вот. Мы первыми подъехали, мусора после нас через часок только подгребли.
– А что ж вы только Льда забрали, а остальных?..
– Были обстоятельства, – проговорил Гавана, который вертел в пальцах коричневую сигару, добытую по извилистым, одному ему известным каналам. – Вы бы видели тех мусоров. Большой, ты что, сам первый раз по беспределу ведешь разбор? – кивнул он Мастодонту. – Нам бы решить, КТО на мокрое дело пошел, кто душегубец. А это можно сделать, только перебрав всех, кто со Льдом погиб. Может, и от них какая ниточка потянется.
Последовал ответ:
– Сава был, еще Сережа, а еще шофер.
– А кто шофер?
– Славик.
– Какой Славик? – Большой Маст глянул на Макинтоша, который знал все обо всех.
– Слава был честный вор, – отозвался тот. – Баранку крутил по призванию, а так он со Льдом в близких был лет пятнадцать, еще с Воркуты. Нет, с Вологодской пересылки. Так что не о чем тут базарить. Нужно назначить ответственного, кто и поведет разбор.
– Правильно Макинтош говорит, – угрюмо сказал Джебраил Гатагов, больше известный как Гавана. – Нечего скопом лезть.
– Вот ты и веди разбор, – сказал Мастодонт. – А мы поддержим.
– Я с Гаваной, – подал голос тощий сутулый Сулима, – все-таки Сережа мой брат был, хоть у нас отцы разные.
– Нет, не надо, – недоверчиво качнул головой Гавана, – горячки напорешь, мертвяков накидаешь, как пять лет назад. А разобрать нужно четко, без непоняток.
– Да. Решено, – сказал Мастодонт и тяжело, по-бычьи наклонив голову, обвел взглядом всех присутствующих. – Гавана ведет разбор. С него и спросим, если что.
– Не подведу, Маст, – негромко отозвался Гавана и, закончив аккуратно подрезать ножичком сигару, закурил, – найдем. Хотя есть у меня такое чувство, что концы не в Крыму надо искать и не сейчас.
– А что будем делать с телом Льда? – проговорил со своего места Грек. – Его похоронить надо.
Мастодонт качнул массивной головой и откликнулся:
– Обождем несколько дней. Вот у них Ленин сколько уже чалится в своей мертвецкой на Красной площади… Обождем.
Уточняющих вопросов не последовало.
4
Нельзя сказать, чтобы товарищ Лагин был особенно доволен выбором – очередным уже – своей дочери. В конце концов, она могла бы найти себе мужа и в Москве. Собственно, могло быть и хуже, когда три года назад она хотела уехать в Польшу с тем типом… товарищ Лагин не взялся бы теперь припомнить его фамилию, но она определенно навевала ассоциации с вонючим жуком, хрустнувшим под сапогом. Теперь вот этот крымский хам… Товарищ Лагин усмехнулся в усы: он считал себя остроумным человеком, и словосочетание «крымский хам», прикрепленное к персоне новоиспеченного зятя, ему определенно нравилось. Хотя тот не был ни хамом, ни крымским: Ростислав Розов, как и всякий сотрудник МГБ, не выбирал мест для несения службы, а принимал назначения как данность. Собственно, товарищ Розов не питал особых иллюзий: в Крым он был переведен через два месяца после того, как женился на Розалии Лагиной, дочери высокопоставленного чиновника Госконтроля СССР, – и едва ли считал это простым совпадением. Его супруга охотно поменяла фамилию. И в придачу к капризной физиономии и дородной фигуре, обеспеченной отличным питанием, получила еще и прихотливую двойную фамилию: Розова-Лагина. Роза Розова – это уж слишком!.. По крайней мере, так сначала решил товарищ Лагин, но даже он, железобетонный государственник, не сумел совладать со вздорным характером дочурки, которая прославилась тем, что довела до фактического самоубийства двух предыдущих своих мужей. Один, имея броню и место в руководстве важного оборонного завода, ушел в 1944 году на фронт, чтобы не вернуться, а второй даже не стал затруднять себя такими обременительными мелочами, как мобилизация, и пустил пулю себе в висок.
И вот теперь – этот бедолага Розов, следователь Ялтинского угро. «Посмотрим, на сколько хватит его», – подумал Семен Андреевич, даже не думая привстать в кресле навстречу входящим в гостиничный номер.
Появились двое – высокий неопределенного возраста мужчина с бесцветными волосами, бесцветными же глазами и носом-уточкой, одетый в узкий серый пиджак; пышная тридцатилетняя женщина в платье и шляпке, приколотой к волосам. Последняя широко раскинула пухлые руки и заключила товарища Лагина, обошедшегося без ответных проявлений эмоций, в объятия:
– Папа, молодец, что приехал! А мы ждали тебя еще третьего дня.
– Дела, – неопределенно ответил Семен Андреевич и, мягко отстранив Розу, погладил лысеющую голову и мятый, в морщинах, лоб и протянул руку «крымскому хаму»:
– Ну, здравствуй.
– Как доехали, Семен Андреевич? Очень хорошо сделали, что к нам. Погода сейчас отличная.
– В самом деле? А я вот не успел приехать, как уже узнал, что тебе должно быть не до погоды.
Розов скривил угол рта и сделал вид, что не понимает прозрачного намека высокопоставленного тестя.
– Слава, доставай коньяк! – произнесла Розалия. – Выпьем за встречу.
– Последний раз ты выпила за то, чтобы поскорее ухать из Москвы, насколько я помню, – отозвался Лагин. – Что, товарищ Розов, действует на нее крымский воздух? А то, помнится, еще три месяца назад она готова была моими мозгами вымостить Красную площадь.
На круглом лице Розалии, на пухлых щеках, проступили два нежно-розовых пятна, она всплеснула руками и укоризненно произнесла:
– Папа, ну как ты можешь так говорить. Просто я немного устала… мне нужно было сменить обстановку, ну и, в конце концов, я еще находилась под впечатлением от смерти Бори… да-да, Ростислав, мой второй муж был не чета тебе – достойный человек, изобретатель-рациона… ли…
– Наливай, зять, – перебил дочь Лагин.
Плеснули в бокалы. Мужчины пригубили, зато Розалия Семеновна охотно и разом опрокинула фужер. Ее глаза маслено заблестели. Товарищ Лагин неодобрительно качнул головой, но заговорил совсем о другом:
– Как служба, Слава?
– Работаем, Семен Андреевич. Сейчас, конечно, совсем не так, как в первые годы после войны. У нас опытные кадры, так что я имею представление о том, что тут творилось в 45– 46-м.
– Ну, тебе ли после Перми и Иркутска привыкать…
– Это – да. Но тут все-таки – объекты союзного значения. Недавно вот был сам товарищ Меркулов…
– Я знаю. Я сейчас не об этом хотел. О товарище Меркулове, если очень потребуется, я могу поговорить и с самим товарищем Меркуловым. – Тут Семен Андреевич, конечно, преувеличивал, однако не следователю Ялтинского угро было с ним спорить. – Насколько я знаю, сейчас в обстановке строгой секретности ведется следствие по одному очень любопытному делу. Я говорю о деле так называемого Льда.
– Вас действительно это интересует? Семен Андреевич, мне казалось, что…
– Что это слишком мелкий масштаб для человека моего положения, так сказать? – без особых церемоний перебил Лагин, и Розов тотчас же узнал эти нотки нетерпения и нетерпимости, проскакивающие в голосе, как маленькие пузырьки в начинающем закипать жирном бульоне. Ведь у его жены были точно такие же. – И все же. Мне кажется, что будет лучше, если вы сами познакомите меня с деталями этого дела, товарищ следователь. Все-таки ведете его вы. И не надо забывать, что оно может стать важной ступенькой в вашей служебной лестнице.
«Чего ему надо? – промелькнуло в голове Розова. – Зачем он приехал? Действительно ли навестить дочку, проконтролировать – или?.. Но это совсем не его дело. С другой стороны, черт его знает, где оканчивается граница полномочий этого мутного борова… Приехал ведь – смотрит, спрашивает этак по-родственному… Сучара. Хотя меня так просто не проймешь».
– Да, серьезный инцидент. В машине обнаружили три трупа. На самом деле, как удалось установить по результатам экспертизы, там было четверо. Один труп похищен. Не шутка. Автомобиль «Опель Кадет», на котором ехали эти четверо, подорвался на мине военного образца. У одного из погибших – пуля в черепе.
– Выходит, не особо скрывались те, кто убивал…
– Именно так, Семен Андреевич.
– Ты не удивляйся, Слава, что я интересуюсь твоей работой. Я ведь тоже не всегда бумажки перекладывал. В свое время приходилось и ночные допросы вести, и показания добывать, и в перестрелках случалось участвовать. Если ты не знаешь, если Роза не рассказывала еще.
«Роза в основном рассказывает про свою холеную тушу, – подумал Ростислав Ростиславович, – и про то, что у нее мало нарядов, а в ялтинских ресторанах дешевле, чем в московских, потому надо туда почаще ходить…»
– Да, я знаю, что вы работали еще в ЧК и ОГПУ, Семен Андреевич, – спокойно ответил Розов. – Ну, что я могу сказать? Все трупы уже опознаны. Есть основания полагать, что тело, которое пропало с места происшествия, в самом деле… кхе-кхе… действительно принадлежит некоему Илье Холодову, то есть Илье Каледину, более известному как вор в законе по прозвищу Лед. Я дал дополнительный запрос в места заключения Льда и думаю, мои подозрения будут подтверждены. Вам в самом деле интересно, Семен Андреевич?.. Все-таки… э-ээ…
– Да. Интересно. Просто в свое время мне уже приходилось пересекаться с этим Льдом, – не разжимая зубов, сдержанно ответил товарищ Лагин. – Продолжай, Слава.
– Остальные трое – те, что остались на месте происшествия, – также из воровской среды. Сергей Фрязин по прозвищу Сережа-мордвин. Некто Сава, он же Геннадий Савин, тоже тертый калач. За рулем сидел Вячеслав Калинников, этот самый «чистый», но из числа близких Льда.
– На чем же основывается твоя уверенность в том, что в машине сидел именно Лед? – прищурился товарищ Лагин. – Ну, раскрывай свой оперативный метод, что ли.
Вот тут и вмешалась Розалия. Странно, что она не сделала этого до сих пор, потому как не в ее правилах было молчать более полуминуты:
– Папа, в конце концов, ну неужели нельзя поговорить о работе в мое отсутствие, в другое время или… или вообще не говорить об этих мерзких уголовниках? Такое впечатление, что у нас в стране живут одни зэки. Ну или хотя бы каждый третий, что ли. Я слышу о них от Ростика или его сослуживцев, когда они приходят к нам в гости, – постоянно. Теперь не хватало еще, чтобы я слышала это от тебя!
– А вот представь себе, – опустив веки так, что его лицо отяжелело и приняло надменное выражение, отозвался товарищ Лагин, – а ты только представь себе, Роза, что – да, каждый третий житель СССР имеет отношение к этой системе. С той или другой стороны – но имеет. Хотя не с твоими куриными мозгами об этом думать.
Розалия оторопела: давненько отец не позволял в отношении ее такие обидные, а главное, настолько близкие к истине выражения. Не найдя в своем небогатом словесном запасе достойного ответа, она фыркнула и, быстро плеснув себе еще коньяку, выпила. Семен Андреевич проговорил:
– Ну и что дальше, Слава? Как мне кажется, дело очень непростое.
Розов, решив, что из этого интереса тестя к данному делу все-таки можно извлечь пользу, принялся излагать, уже не обращая внимания на заметно охмелевшую жену, которая лепетала себе под нос какие-то благоглупости и время от времени придерживала мужа за локоть.
– Лед – московский вор, и, что он делал у нас в Крыму, еще требуется выяснить. Но, по отдельным сведениям, будет или уже было воровское прави́ло, сходняк, на котором блатные обсуждали, как решать вопрос. Думаю, это именно они посетили место взрыва машины Льда и забрали тело.
– Я так понимаю, есть свои внедренные люди?
– Обижаете, Семен Андреевич. Конечно, есть. Только вы не совсем верно подбираете термины. Не внедренные – завербованные.
– Завербованные? Каким образом? – резко спросил тесть, подавшись вперед.
– Конечно, это непросто и опасно. Но нужно знать подходы, смотреть на ситуацию глазами самих блатных – тогда можно подобрать немало ключиков к та-а-аким замочкам! Думаю, вам приходилось слышать про так называемые сучьи войны?
– Ну… – уклончиво отозвался товарищ Лагин. – Доводилось. Разумеется, доводилось. И что?..
– Папа, Слава, а когда мы пойдем на прогулку?
– Да, тебе уже пора освежиться…
Розалия встала и, поднеся руки к лицу, переместилась к окну. В пальцах сверкнул бокал с коньяком. Розов продолжал:
– Сучьи войны, как вам известно, ведут с того времени, как окончились боевые действия. В штрафных частях воевало много уголовников. По их представлениям, по понятиям «честного вора», взять в руки оружие, да еще на стороне государства, – западло. Прошу прощения за словечко. Это четко не по понятиям. «Правильные» воры сразу же после сорок пятого года принялись отслеживать ссученных, вернувшихся с фронтов… ну и… Всякое бывало. Да и сейчас имеет место, чего уж греха таить.
– Знаю. Сам в сорок седьмом ездил в Устьвымлаг и в Соликамские лагеря. С компетентной комиссией… Попросили, так сказать, разобраться, назвать виновных, – протянул товарищ Лагин.
– Многим блатным из числа тех, что воевали, а потом снова отправились в места заключения, удалось скрыть от своих, что они – «суки», – продолжал Розов. – Ну, а органы такой информацией владеют. И эти сведения можно использовать, если по уму, с солидной приваркой: в конце концов, какая разница, за что свои же посадят на перо? За то, что ты воевал за страну – и, стало быть, сотрудничал с властями и ссучился, – или же за то, что ты, так сказать, взаимодействуешь с органами уже в мирное время и сдаешь информацию в обмен, скажем так, на некоторые послабления? То есть – опять же ссучился? То-то и оно. Я не буду посвящать вас во все детали работы, Семен Андреевич, да оно вам и ни к чему. К общей картине ничего не добавит. Скоро у меня встреча с нужным человеком – тогда многое прояснится. В том числе и то, куда дели труп Льда и что намерены предпринять воры в ответ. Ведь, по их понятиям, они обязаны найти виновного.
– Это да…
– Хотя уверен, что многие только рады смерти Ильи Холодова.
– Тоже – да.
Следователь Розов склонил голову к плечу и осторожно спросил:
– Давно знаете этого Льда? Успел насолить?
– Да как тебе сказать, Ростислав… По крайней мере, у меня есть все основания сожалеть, что он умер так скоропостижно. Не повидавшись со мной, – произнес заместитель министра Госконтроля СССР, человек, который в принципе не должен интересоваться отдельными людьми вне его системы. – Это был отличный враг.
Последняя фраза, в особенности тот тон, каким она была произнесена, заставила Ростислава Ростиславовича Розова издать коротенький гортанный звук и, налив себе коньяку, промочить пересохшее горло.
5
Лаша Гогоберидзе вертел в руках колоду карт. Однажды отказавшись от промысла каталы, он унимал неизбывный зуд в пальцах очень простым способом: обыгрывал в карты собственного двоюродного брата Реваза, помогавшего ему по кухне, а иногда и жену – хотя последнюю привлекали в компанию очень редко. Ну, во-первых – баба, а во-вторых, Лаша иногда подозревал, что шустрая Нина обращается с этими опасными кусочками картона едва ли не виртуознее, чем он сам.
В тот самый момент, когда он все-таки решил предложить Ревазу сыграть на то, кто будет мариновать мясо в котле, в харчевню вошли четверо. Сначала Гогоберидзе подумал, что это очередная комиссия, проверяющая заведение Лаши на соответствие нормам советского общепита, но тотчас же узнал в человеке с резкими чертами лица Джебраила Гатагова – Гавану – и проговорил:
– Гамарджоба! Какими судьбами, дорогой? Последний раз виделись, если не ошибаюсь… в Гурзуфе?
– И тебе здравствовать. Как, стало быть, жизнь? Как торговля? – угрюмо спросил тот. – А то ты мне доставал, помнится, отличные контрабандные сигары.
– Какая контрабанда? Какие сигары? Давно уже от этого дела отошел. Тебе ли не знать. Но если хочешь, могу по старой дружбе предложить, – лукаво проговорил Гогоберидзе.
– Дружба твоя, раз так, для другого бы мне сгодилась. – Гавана снял с головы кепку и аккуратно выбил ее о колено. – Слышали мы, что любят у тебя хорошие люди посидеть. Вот в пятницу, говорят, Лед сидел, которого потом на серпантине погасили… Было дело? По глазам вижу, что врать не хочешь и не будешь. Ну так какие промеж нас секреты?
Лаша Гогоберидзе положил карты на стол. На его массивном лице появилось плохо скрываемое выражение досады и нетерпения.
– У меня много посетителей, – ответил он. – Всем рад. И нечего мне скрывать. Если человек спрашивает, отчего ж ему не ответить. Тем более не вы первые спрашиваете. Наведывались тут и до вас.
– Угро?
– Да, оттуда. Любезные такие, э! Я думал, что меня сразу мордой в брусчатку за старые-то мои заслуги. Ан нет.
– Чего ты нам тут стрекочешь? – вмешался один из бывших с Гаваной громил, которого среди своих называли Погребом. – Дай мне его, я быстро освежую. А то он нам тут прогоняет! Я себе давно клал зарубку, чтобы его, носорога, прижать!
– Остынь, Погреб, – отмахнулся Гавана. – Не лезь. Ну так что, Лаша? Если запамятовал, о ком я, то вот тебе – срисуй, – он протянул грузину фотокарточку, на которой красовался хмурый Лед в криво заломленной набок шапке-ушанке. – Ну? Ты же всех наперечет помнишь, не дуркуй.
– И не думал даже… Был он у меня, – Лаша мельком взглянул на фото, – был, и не один – с товарищами. Могу описать, если надо. Один толстый…
– Этот?
Фотокарточки в пальцах Гаваны сменились с быстротой, достойной карт в руках самого… э-э Лаши Гогоберидзе.
– Этот. С ним еще двое. Первый – здоровый, краснорожий… э-э, с зубами через один. Чачу пил все больше. Я, говорит, мордвин.
– Понятно. Ну, а второй?
– Он, кажется, попозже подошел. Длинный такой, на аиста похож. Посидели. А потом машина за ними пришла. Серый «Опель», да. Номеров не помню, если тебе это нужно, уважаемый. Да, тот самый, который сгорел, наверно. Вся Ялта уже знает.
– Если бы только Ялта, – пробормотал Гатагов. – Э-ээ…
– Ясна поляна, они это и были, – буркнул Погреб. – А хобот я этому барыге все равно открутил бы. Борзый.
Гавана задал еще несколько наводящих вопросов, но его чутье опытного вора подсказывало ему, что Лаша Гогоберидзе говорит чистую правду, что он и не думает выкручиваться, изворачиваться, лгать, ему попросту не с руки играть в молчанку. Однако что-то было не так, что-то ускользало, хотя лежало на поверхности и было одним из ключиков к решению загадки… Все совпадало, описания всех троих бывших со Льдом людей соответствовали внешности тех, кто погиб там, в «Опеле» на серпантине. Толстый – Сава; краснорожий с редкими зубами, к тому же заявляющий, что он мордвин – понятно, Сережа-мордвин и есть; Худой – водитель Славик, который…
Гавана пробормотал себе под нос невнятное ругательство. Ну, конечно! Водитель. Лед и трое с ним сидели в заведении Гогоберидзе, когда за ними заехал «Опель». А стало быть, в нем уже был водитель… И худой – не Славик вовсе. А… кто?
– Длинный, тот, что на аиста смахивал… Какой он из себя? Давай, кацо, я ж по-доброму спрашиваю.
– А никакой он! Длинный, серый, в пиджаке, хоть и жарко было. Глазки бегали. А так – по виду – ничего особенного сказать не могу. Только вот кажется мне, что он не из блатных. Фраер мутный, – весомо высказался Гогоберидзе. – Хотя мне, конечно, все едино, лишь бы покушали с удовольствием да расплатились аккуратненько.
– Если увидишь того мутного фраера – узнаешь его?
– Отчего ж не узнать? Подгонишь – срисую, – окончательно перешел на доверительную манеру общения Гогоберидзе. – Мне, уважаемый, прятаться не от кого. И скажи своему молодцу, чтобы он на меня глазами так не сверкал, – выразительно глянул он на насупленного Погреба, – а то ведь и огорчить могут до невозможности. Не я – люди.
6
Следователь Розов ждал своего человека в условленном месте. Это была очень важная встреча, однако мысли у Ростислава были не о ней: из головы не выходил разговор с высокопоставленным тестем. Насколько Розов успел изучить товарища Лагина, Семен Андреевич был человеком сдержанным, скупым на слова и эмоции, а главное – чрезвычайно неохотно шел на откровенность. А уж чтобы прямо указать на то, что какой-то вор сыграл значительную роль в его прошлом, – это было нечто из ряда вон выходящее. Розов подумал, что всплеск отцовских чувств в товарище Лагине по срокам странно совпал с громким убийством на серпантине, по поводу чего уже успели позвонить из Москвы. Правда, начальство Розова убедительно заверило москвичей, что они справятся собственными силами и никакого оперативного усиления из столицы им не нужно.
Ростислав знал, что преступлений, подобных этому, в Крыму не было с 1947 года. Тогда в первые послевоенные годы у населения изъяли огромное количество разошедшегося по рукам оружия. Были случаи изъятия даже противотанковых ружей и противотанковых мин, а в одном из сел у местной жительницы отобрали немецкий бронетранспортер: его она заботливо хранила в сарае на случай возобновления военных действий. Много оружия было изъято у крымских татар, которых переселили за массовое пособничество врагу во время войны. Сейчас ситуация в Крыму была спокойной и стабильной, полагал Розов. С большой долей уверенности можно было утверждать: убийство Льда и его людей, обставленное так, чтобы о нем говорило как можно больше людей, совершили гастролеры. То есть неместные. Мастодонт и Джага, решающие вопросы в воровской среде здесь, в Крыму, – не враги себе, убивать авторитетного московского вора на своей земле – глупость.
«И все-таки, – размышлял Розов, – почему Лагин вдруг заинтересовался этим делом? Где он вообще мог пересекаться со Льдом? Мало информации. Нужно подождать. А вот и человек, с кем назначена встреча…»
От пирамидального тополя, тонувшего в предночном сумраке, отделилась фигура сутулого, коротко стриженного человека с папироской в руке. Некоторое время он, стоя боком, присматривался к Розову, потом бухнулся на скамейку рядом с ним и выговорил:
– Ну?
– Ну – это я тебе скажу. Что нового? Было?..
– Да, было. Сходняк постановил закрепить Гавану.
– Гатагова?
– Его самого. Меня прокатили: Гавана сказал, что трупов накидаю. Все-таки моего братуху убили, – отозвался Сулима, брат Сережи-мордвина, и его глубоко посаженные, обведенные жирными тенями глаза вспыхнули в тусклом лунном свете.
– Нет, с трупами ты поостерегись, – саркастично отозвался Розов. – Сдается мне, и без того немало дел наворочают.
– Мастодонт большой крови не желает. Он хочет тишком, да по-быстрому. А уж если сам замазан…
Розов повел плечами:
– Ой, боюсь, не получится тишком. Слишком много людей в курсе.
– Это уж точно. Могли бы ведь загасить по-тихому, мало ли в горах укромных мест, где никогда не найдут? Так нет же, нужно было валить так, чтобы кипеж на весь Крым был. Да что там Крым – бабахнуло на пол-Союза. В Москве чинари, поди, грызню затеяли, не говоря уж о наших… – выговорил Сулима.
– Это точно, – кивнул Розов и снова вспомнил тестя, его напряженные металлические интонации в голосе. Сощуренные внимательные глаза. – Ты вот что, Сулима… Ты чего-то недоговариваешь. Я ж тебя давно знаю. Папироска в пальцах прыгает… Оно понятно, брата убили, но…
– Да прав ты, начальник! – подался к собеседнику блатной. – Тут такое дело… Мастодонт не сказал, но на сходняке потом меж себя шептались: не один Лед ушел, и общак с ним. Лед был держателем общака…
– Чьего? – резко подался вперед Розов.
– Много от меня ты хочешь, начальник. У нас так часто бывает, что и не знаем, кто именно общак держит, – отметил тощий Сулима. – Базлали, что Лед всегда носил на руке перстень, а перстенек тот как раз и был из общаковского актива – ну, вроде «маячка» для посвященных, что, дескать, это Лед за общий котел отвечает. Тот перстенек на руке у него и был, когда нашли их.
– Что, перстень – главный опознавательный знак? – усмехнулся Ростислав. – По нему уверились, что именно Лед в машине был? А то ведь с одной руки на другую перстенек перекинуть – не велика премудрость, верно?
– Да ну… – уклончиво выговорил Сулима. – Да много там было всего… примечательного. И перстень, и по зубам глянули, по наколочкам уцелевшим… Рука у него была в одном месте переломана – это тоже было.
– Рука?
Сулима крякнул.
– Да… левое запястье, – нехотя сказал он.
– Значит, он? – нажимал Розов.
– А ты что, не веришь, начальник? Хотя у тебя работа такая – никому не верить. Ты ж – барбос. Ну-ну, не зыркай. У нас, правда, тоже: не верь, не бойся, не… Ну, да ты знаешь. Ты у нас все знаешь… Лед, конечно. Он это был. А из-за общака теперь многие в большой печали. Не одна башка заболит, не одну снесут. Там не руки ломать будут, не запястья – а головы полетя-ат… Ладно, я все сказал, – встряхнулся блатной. – Если что нужно будет, не ищи, а подай весть, я сам всплыву. Сейчас будут большие разборы… Под раздачу может попасть кто угодно; да что я – даже Большой Маст, он сейчас не у всех воров в фаворе, а нынешние замутки кого угодно могут из авторитета выбить… – пробормотал Сулима, и только сейчас следователь Розов понял, что вор сильно пьян. – Светиться нет резона, – добавил Сулима и сплюнул себе на штанину.
– Как будто в более спокойное время тебя за работу на органы не поставили бы на перо, – сказал Розов, вставая. – Ну, я понял. Бывай. Не пей больше. Хотя кому я говорю…
– А ты, чтоб учить, подстрелил бы мне пару «вошек» на убогость, – буркнул Сулима.
– Чего?
– Я говорю: пару десяток дал бы мне… здоровье поправить. А то… всем нам жить осталось – самую малость.
– Проспись! Хотя ладно… вот тебе.
Две купюры перекочевали в потный кулак Сулимы. Следователь Розов давно уже ушел, растаял в наваливающемся на землю влажном сумраке, а шатающийся Сулима все еще стоял, сминая пальцами деньги, и бормотал:
– Да… Началось. Неспроста… Вот и брат покойный мне говорил: подожди, скоро начнется… Даже лед расплавится…
7
Три дня спустя
Вор в законе Мастодонт, он же Большой Маст, был пьян. С ним это случалось крайне редко, но сейчас был хороший повод крепко выпить. Похороны Льда прошли скромно, и даже не в Ялте. Большой Маст прилично выпил на них, продолжил уже по возвращении и вот теперь никак не мог разобраться, радоваться ему или печалиться по поводу смерти Льда. И вот эта неопределенность нагоняла на гражданина Мастриди еще большее желание залить в глотку очередную дозу «керосина» и отойти на боковую, чтобы не забивать голову проклятыми вопросами. Конечно, он прекрасно отдавал себе отчет в том, что рано или поздно ответить придется. И на вопросы, всплывающие прямо сейчас, в момент этих не совсем твердых и трезвых размышлений… а быть может, придется ответить и за что похуже. В конце концов, кем бы ни являлся Лед, сколь бы ни был он в авторитете (и куда поавторитетнее найдутся), но вместе с ним ушли не только те трое, о которых можно и позабыть, – вместе с ним ушел общак! А о том, что составляло ядро общака, Маст никогда не забывал. Искать и вернуть придется. Мастодонт сжал кулаки и толкнул в бок посапывающего рядом на диване Ваню Бахчу, но тот уже был пьян и даже не пошевелился.
Большой Маст налил себе еще и выпил в одиночку. Нельзя сказать, что у него было много оснований печалиться о смерти Льда. Были у них и терки; были и ситуации, когда окружение Мастодонта и Льда думало о том, что непременно прольется кровь. Так было на пароходе, на котором этапировали их в Севлаг уже после войны, так было и в Тайшетлаге… Большой Маст прекрасно помнил ту самую – единственную – драку, которая прошла между двумя ворами четыре года назад. Мастодонт объявил Льду о том, что тот еще обязательно поцелует нож и с того момента, как его губы коснутся железа, примет новый, неворовской, закон и станет ссученным. Огромный и грузный Мастодонт при всей своей комплекции был очень ловким в обращении с ножом и в кулачной драке, казалось, должен был быстро смять высокого, жилистого Льда, уступающего Большому Масту в весе никак не меньше полуцентнера. Ничуть не бывало! Сначала Лед с легкостью уклонился от выпада Вани Бахчи, который уже тогда числился в близких у Мастодонта, и опрокинул его одним тычком – а потом добавил так, что Бахча не мог подняться полтора часа. А позже сумел выдрать нож из пальцев самого Мастодонта. Большой Маст все-таки сломал ему руку в запястье и вернул свой нож, но прежде лишился левого клыка и несколько дней страдал потом от боли в печени. А ведь Большой Маст хвастался, что учился ножевому бою в Одессе еще до революции у признанных мастеров жанра, что называется.
После этой стычки поползли слухи о том, что кто-то из воров в скором времени отправится на тот свет и это будет, скорее всего, Лед. Но произошло непредвиденное: Мастодонт и тот, кого он хотел назвать «сукой», заключили мир…
В комнату вошел одноглазый Джага, приземистый, широкоплечий тип с длинными руками, свисающими до колен. У него была тяжелая нижняя челюсть, небритый и шершавый, как рашпиль, подбородок и низко нависшие надбровные дуги, под одной из которых бегал маленький черный глаз. Если антропологическая теория Ломброзо о том, что преступные склонности заложены в человеке с рождения и отражаются на его внешности, и верна, то именно Джага был отличнейшей к ней иллюстрацией.
– Маст, там стучат.
– Кто… на кого?
– Хорош шутковать, батя. В дверь стучат. Каких-то бесов нелегкая занесла. Открыть?
Мастодонт приподнял тяжелые веки:
– Кого там?..
– Вот я и говорю – открывать? Подавать голос? Никто же не знает, что у нас тут лежка-времянка.
– Ну, некоторым я шепнул… – отозвался Мастодонт. – Спроси, кто. Если свои, впускай. Если чужие – тоже впускай, раз нашли. Встретим. Поговорим.
Джага уставил на мрачного вора единственный глаз:
– Невесело толкуешь… Мож, свет потушить?
– Не… Открывай уже, – буркнул Маст, его массивная кисть скользнула меж подушек, лежащих на диване, и в руке вора появился вороненый «вальтер». М-да… Хозяин не любил, когда к нему приходили в гости без предупреждения.
Это были свои. Вошел Гавана в сопровождении своего борзого молодняка, а также и те, что постарше: брат покойного Сережи-мордвина – Сулима, а также Саня Кедр и сухой, быстроглазый Грек. Всего семь человек. Подручные Гаваны и угрюмый, бледный, явно с похмелья Сулима столпились у входа в комнату, дожидаясь, пока Большой Маст позволит им войти; а вот Грек, Кедр и Гавана, не дожидаясь приглашения, подошли к столу. «Вальтер», который еще несколько мгновений назад был в руках Большого Маста, исчез, а вместо него оказалась рюмка водки.
– Присаживайтесь, наливайте, что по душе, – сказал он. – Что за срочность приспела?
– Нужно одну тему тут обкашлять, – осторожно сказал Гавана.
– А кашель твой не терпел до утра? Сядь, выпей.
– Я-то выпью. Только прежде перетереть надо, Маст.
– Поддерживаю, – сказал Грек. – До утра с нами много чего может произойти. А бухать потом будем, если что.
Большой Маст отставил так и не выпитую рюмку. На диване рядом с ним зашевелился Бахча. Гавана оглянулся на Грека (тот скривил рот, обозначая ободряющую усмешку) и начал – издалека и очень сдержанно:
– Я так понимаю, что ты не очень рад нас видеть. Последние несколько дней выдались у тебя и у всех нас очень непростыми. На самом деле все еще хуже и гнилее, чем можно было подумать. Но ты сам присутствовал на правилке, когда меня поставили на разбор полетов… Так что все в ажуре… и…
Джебраил Гатагов определенно был не в своей тарелке, однако очень умело это скрывал. Впрочем, Большой Маст отлично умел читать по глазам, по неуловимым движениям лица – да хотя бы по тому, как Гавана, говоря, быстро глянул на стоявшего рядом Грека и, кажется, на тех, кто стоял у него за спиной, – на Сулиму с молодыми. Большой Маст прервал его:
– К делу!
– Лады… – кивнул Гавана. – Нам тут людишки весточку принесли, что в городе всплыло кованое рыжье из общака. Золотишко меченое, а с ним и часть общаковского бабла. Базар был, конечно, не верняк, но мы все равно решили пошарить.
– О! – с удовлетворением протянул Мастодонт и выпил отставленную было водку. – Это в цвет. Ну и что нашли?
Гавана снова переглянулся с Греком. Он явно не решался сказать то основное, что подвигло его прийти в ночное время на секретную хазу Мастодонта, о которой мало кто знал – но поди ж ты, узнали. Нерешительность была совершенно не в характере Гаваны. Мастодонт наклонился вперед:
– Ну? Что я должен выуживать из тебя каждое слово? Ты бросай свои бубновые заходы. Пришел – говори.
– Просто он хочет сказать, что не все, что ты тут услышишь, покажется тебе приятным, – вдруг сказал прямолинейный Саня Кедр и наклонил лобастую голову.
При этих словах Гавана почувствовал облегчение. Он выдохнул и, хватанув воздух растопыренной пятерней, заговорил – быстро и эмоционально:
– Я не знаю, откуда ноги растут. Я даже не пробил, кто цинканул, кто донес весточку такую. – В руке Гаваны появился крошечный клочок бумаги, но он не торопил ознакомить с его содержимым Большого Маста. – Только мы действительно нарыли часть общаковского добра – бабло, бебехи[3], паутинки[4]. Как я и говорил. Немного, малую часть, но это точно оттуда. Грек, покажи.
В руке Грека появился нож. Он аккуратно снял с себя куртку (только сейчас Мастодонт вдруг понял, что куртка – не по плечу щуплому вору и явно не принадлежит ему) и умело вспорол подкладку. Его быстрые пальцы забегали по краю взрезанного шва. Аккуратно извлек оттуда несколько золотых украшений. Несколько старинных золотых монет. Браслет с изумрудом. Толстую пачку купюр, перетянутых ленточкой.
Последним достал серебряный перстень. При виде этой вещицы Большой Маст поднял брови: он точно знал, что точно такой же перстень он лично снял с руки убитого Льда, а всего их было три – старинных, с грубо заделанным в оправу драгоценным камнем. В мозгу Мастодонта искрой даже проскочило воспоминание о том, при каких обстоятельствах были внесены в общий котел эти ценности, чтобы в любой нужный момент быть выменянными на дензнаки… Гавана проговорил:
– Собственно, вот. Что скажешь, Большой Маст?
– А что я скажу? Это по-любому наше. ОТТУДА. То, что пропало после смерти Льда, – добавил он, ловя холодный взгляд Грека. – Все мы помним, что в свое время он внес в общак вещицы из древнего клада. Такие, что любой жид из ювелирки без раздумья даст под них хорошую сумму. Только Лед, как держатель, не торопился менять этот актив. И вдруг – такое… – закончил Мастодонт.
Гавана кивнул:
– Тут мы с тобой согласны. А вот в остальном, я боюсь, может промеж нас согласия не быть. Мы ж не за-ради страха, а за-ради чести воровской рыли носом. А так выходит, что…
– И что? Что? – сорвавшимся на визг голосом выкрикнул одноглазый Джага, давно смекнувший, что дело приобретает неожиданный и неприятный оборот.
– А то, – не обратив внимания на одноглазого и глядя в упор на Мастодонта, медленно выговорил Гавана, – а что ты сказал, будто ушел ВЕСЬ общаковый воздух, все бабло. И что ни единой цацки и ни единого баллона[5] не уцелело.
– А выходит иначе, – обронил Грек.
Большой Маст медленно встал из-за стола. Он был большой, очень большой, вдвое шире в плечах, чем сухой Грек, и почти на две головы выше, чем невеликий ростом Гавана. Его тяжелое, отекшее от трехдневного пьянства лицо задрожало.
– Я что-то не понял, – негромко произнес он, – ты что тут мне парафинишь, Гавана? Ты мне предъявляешь, что ли? И предъява в том, что я крысил долю из общака?
– Даже не так, – отозвался Гавана, – все может статься еще гнилее. Мы пока что ничего не предъявляем. И буром не прем. Мы хотим разобраться. Чтобы все было четко и по понятиям.
– Че ты буксуешь? – наершился Джага. – Не гони порожняк! Если притаранил предъяву, то объяви при всех, нам скрывать нечего.
– Не о тебе речь, задрай хайло, – осадил его Грек. – Гавана, давай.
– В прошлом году появился у тебя в городе домик, – сказал Гатагов. – Дело хорошее, о домике в Крыму всякий мечтает. По нашему воровскому закону ты им владеть, конечно, не можешь, только даже не в этом суть. Бебехи и бабло из общака нашли как раз в домике, который ты себе облюбовал. А в маляве, которая у меня вот сейчас в руке, написан точный адрес той хазы и подробненько прописан схрон, где часть общего добра, стало быть, была припрятана. Мы бы не поверили, но вот ливером почуяли, что что-то тут нечисто.
Большой Маст побагровел.
– Это… что же, ты на меня тянешь, что я – притырил?..
– Да нет. Не притырил. Мелко берешь. По всему болтается, что ты – СУКА, Мастодонт, – грозно прозвучал в полной тишине голос Джебраила Гатагова, который только сейчас окончательно успокоился и овладел ситуацией. – И уж не знаю, кого ты ждал – а дождался нас! – но вот что у тебя в кармане ствол, так это уж по-любасу.
– Ну, что скажешь? – спросил Грек.
Тенями застыли у дверей Сулима, борзый Погреб и те двое, что с ним; а одноглазый Джага сдавленно матерился себе под нос, но со своего места тоже не сходил.
Мастодонт снова сел на диван. Он выложил из кармана «вальтер», сунув его туда, где взял – меж подушек. Ноздри его толстого носа задрожали от плохо скрываемого бешенства. Однако он еще сдерживал себя. В низком голосе заклокотала глухая ярость, когда он ответил на брошенное ему в лицо обвинение:
– Не в чем вам меня прищучивать. Если вы думаете, что я открысятничал, оставил себе часть общака, то это ваш косяк. Вы кого пришли валить? Меня, вора в законе?
– Лед тоже был вором – и где сейчас Лед? – откликнулся Гавана. – Не о том базар. Только ты не отписывайся, Маст. Если мы попусту на тебя подумали, то нам и ответ на правиле держать. Только сначала расскажи людям, как так вышло, что ушедший со Льдом общак, о котором только он да ты знали, оказался у тебя на хате в схроне?
– Этого я не знаю, – последовал ответ. – Моего слова уже недостаточно?
– Где твое слово и где эти бебехи из общака?! – вдруг крикнул от дверей Сулима. – Твоя воля – можешь идти в отказ, только не прокатит! Все знают, что у тебя случалась грызня со Льдом; может, ты его и погасил?
– Точнее, сжег… – пробормотал себе под нос Гавана.
Последние несколько дней Сулима, сам того не зная, ходил под ручку со смертью. И вот сейчас она взглянула ему прямо в лицо, но отвела ему еще целую минуту. Мастодонт снова поднялся из-за стола, мгновенно протрезвевший, подобравшийся, с отвердевшими скулами. Он направился к визитерам: поравнявшись с Греком, криво усмехнулся, тяжело похлопал по плечу Гавану (тот невольно отстранился), никак не заметил Саню Кедра и наконец подошел к Сулиме. Тощий вор полубезумным взглядом смотрел на огромного законника и покачивал головой из стороны в сторону, выставив нижнюю губу. Гавановские бойцы во главе с Погребом в непосредственной близости от Большого Маста сбились в кучку. Не всем из них доводилось видеть вживую знаменитого Мастодонта, про которого наворотили прорву баек и легенд. Огромный законник взглянул в лицо Сулиме и выговорил:
– Веселые слова говоришь. За них и ответить можно. Только насчет меня нет у тебя, как говорят мусора, никакой доказательной базы. А к чему это я про мусоров заговорил? Да к тому лишь, что тебя, мил-человек, видели со следаком из угро, видным таким фраером в корочках со скрипом, и мел ты этому красноперому арии о сладкой жизни воровской, верно? И даже не думай крутить бабочку – не отбрешешься. Тебя Джага срисовал. В нашем мире оно ж как – все всплывет на поверхность. Особенно такое дерьмо, как ты, дружок вафельный!
Сулима выпучил глаза и охнул: в тот момент, когда Мастодонт еще рассуждал об особенностях поведения некоторых субстанций в водной стихии, обычный столовый нож, которым резали колбасу и мясо, уже вошел в бок стукача по самую рукоять. Со стороны это выглядело так, как будто Сулиме сделалось нехорошо, а Большой Маст заботливо обнял и придержал занедужившего товарища. Потом он выпустил Сулиму, и несколько раз дернувшееся в конвульсии тело скользнуло на пол и замерло. Мастодонт повернулся к Греку и Гаване и произнес:
– Это был стукач.
– А кто же тогда ты? – произнес Грек, и его глаза вспыхнули, а рука скользнула по боку. Но даже отточенному этому движению не хватило быстроты: кончики пальцев только коснулись маленького трофейного «маузера», а Большой Маст уже отдал едва уловимый знак Джаге, и тот, выхватив из расщелины меж диванных подушек «вальтер», всадил Греку пулю точно промеж глаз. Тот повалился замертво, не пикнув.
– Тварь… – уронил Гавана, и вороненое дуло «вальтера» уставилось на него. Пистолет прыгнул в руках Джаги, но одноглазый не успел попасть в намеченную цель: Гатагов успел ничком упасть на пол, пытаясь уйти от пули, а вот Саня Кедр метнул в бандита нож и угодил под левую ключицу. Джага вздрогнул всем телом, закашлялся и машинально надавил на спусковой крючок. Упал сраженный выстрелом Кедр: пуля из заходившего ходуном ствола попала ему в ногу и раздробила шейку бедра.
Через мгновение повалился на пол и мертвый Джага. Ужом метнулся к нему Гавана, пытаясь достать до пистолета, но пока он силился разжать сомкнувшиеся на рукояти пальцы, Мастодонт настиг его и отшвырнул двумя мощными ударами по корпусу. Гавана отлетел, как легкий окурок. «Вальтер» остался в стынущей пятерне Джаги.
Большой Маст остался один против четырех. Конечно, ни один из этих четверых, даже верткий и умелый Гавана, даже здоровенный, злой Погреб, не годился ему и в подметки в рукопашной схватке или в ножевом бою. Но все-таки он был один, а противников – четверо. Противников?.. Они стали врагами по молчаливому, не требующему слов уговору, который, как подумалось сейчас Гаване, возымел силу тотчас же после того, как они всемером перешагнули порог этой проклятой хазы, где Большой Маст заливал похороны Льда. Гавана подобрался и рывком вскочил на ноги – встретился глазами с Мастодонтом. И ничего не увидел он в этих черных глазах, кроме самого беспощадного приговора.
Такого не прощают. И уже неважно, кто прав. Быстро пришедший в себя Гавана, схватив со стола нож – невероятно, но на серьезный разговор к Большому Масту он пришел безоружным, – метнулся к противнику, пытаясь достать того лезвием в подреберье, но снова отскочил. Потому что сделал широкий замах, и только быстрая реакция спасла Гавану от смерти. На его шее проступила и набухла неглубокая рана, взрезанная кончиком ножа Мастодонта. Гавана тяжело задышал, отер проступившую кровь ребром ладони и махнул рукой своим подручным, которые в опасном оцепенении застыли у входа в комнату.
Первым решился напасть на Мастодонта даже не громкоголосый Погреб, а тихий, неприметный Балабан. Насадив на пальцы кастет, он практически бесшумно подскочил к вору в законе сзади и ударил того в основание черепа. Если бы удар прошел чисто, то несдобровать Большому Масту. Но в самый последний момент он качнул головой, слегка изменил положение корпуса – и кастет прошел вскользь, лишь оцарапав кожу. Огромный, разящий наповал водочным запахом и внешне неуклюжий законник развернулся, однако же, как балерина – легко, непринужденно, без видимого усилия. Он прянул всем телом на остановившегося, словно парализованного, Балабана и поймал в локтевой захват шею бедолаги. В следующее мгновение шейные позвонки Балабана хрустнули, и он, мертвый, упал на пол с головой, безжалостно свернутой куда-то под мышку.
– А-а-а! – заорал Погреб и бросился наконец на страшного Мастодонта, но получил такой ужасающий удар в лицо, что на полном ходу рухнул спиной оземь и испустил вопль дикой боли. Не выдержала и треснула лицевая кость, вмятая внутрь. Мастодонт поднял ногу в огромном подкованном сапоге и хотел добить Погреба мощным ударом в переносицу, но тут сзади на него кинулся Гавана. Он прыгнул на спину Большого Маста, целя левой растопыренной пятерней в глаза, а правой рукой накрепко обвив толстую шею врага. Гавана был невысок, но жилист и весьма силен, а хватка у него была мертвая. Маст метнулся, как раненый буйвол, и попытался скинуть с себя Гатагова, но тот сидел, как пиявка, а его указательный палец с корявым ногтем, разодрав веко, впился в глазное яблоко Мастодонта.
Большой Маст нашел в себе силы молчать две или три секунды, пока наконец не заорал во весь голос и не сбросил с себя Гавану с такой силой, что тот отлетел, будто котенок, и распластался на столе, подминая под себя посуду. В нескольких местах ему глубоко порезало руки и грудь, но он не обратил на это никакого внимания и снова живчиком вскочил и вытянулся в длинном прыжке, стараясь достать, дотянуться, добить…
Мастодонт стоял посреди комнаты, приложив ладонь к изуродованной глазнице, и промеж пальцев пробивались ручейки крови. Второй, выкаченный от боли, глаз невидяще уставился на Гавану. С пола уже медленно поднимался Погреб, а третий подручный Гаваны, еще не принявший участие в бойне тип по прозвищу Кролик, в самом деле – ушастый и красноглазый, выдернул из трупа Джаги нож, брошенный Саней Кедром, и хладнокровно засадил под лопатку Большому Масту. В первое мгновение тот, казалось, даже не заметил раны. Промедли он еще пару мгновений, Кролик нанес бы и второй, и третий удары, а Гавана пощекотал бы ему печень в подреберье своим ножом… Но Большой Маст успел. Не отнимая ладони от поврежденного глаза, он повернулся и схватил Кролика за грудки. На него уже летел Гавана – и вот тут, крякнув и чуть присев, Мастодонт одной рукой перекинул Кролика через голову, и тот налетел прямо на Гатагова. Оба рухнули на пол, а сверху с ревом навалились все семь или восемь пудов Большого Маста. Он с силой впечатал Кролика лицом в пол так, что затрещали кости и тот отключился. Сзади на него накинулся Погреб и принялся душить, но Маст, неистово хрипя и широко разевая громадный перекошенный рот, пузырящийся темной кровью, перехватил того за шею и сумел стащить с себя. Оглушенный, ворочался под ним Гавана. Погреб же, получивший второй удар в проломленную лицевую кость, потерял сознание.
Гавана, преодолевая тошнотворную багровую муть, обволокшую глаза, лежал под огромной окровавленной тушей Мастодонта и тяжело дышал, чувствуя, как горят огненной дугой обломки смятых чудовищным весом врага ребер. Не сходя с него, Маст дотянулся до скатившейся на пол бутылки водки, сделал огромный глоток, разбил посуду о голову Кролика и сунул розочку прямо под нос Гаване:
– Ну… сука… понял, какую дешевую копейку жизнь твоя стоит?
– О суках я не спешил бы базлать, Маст, – бесстрашно ответил Гатагов. – Ты и живой не стоишь и полушки, раз мочишь своих, ссышь в глаза своим, давишь своих и подло отначиваешь от общака своих! Так что сука кровавая – это как раз ты, выродок.
– Ты первый начал, – произнес Большой Маст. – Я вор в законе, и меня за всю жизнь никто так не оскорблял.
– Какой ты вор, чучело? Жучило ты парашное, беспредельщик, – хрипло выговорил Гавана. – Своих режешь? Только даже если мы отсюда не выберемся живыми, ты думаешь, никто не узнает?
– Не узнает – ЧТО?!
Большой Маст был страшен. Его лицо, по которому стекала кровь – своя и чужая, изуродованное провалом глазницы, задрожало, нижняя губа отвалилась, открывая ряд желтых крупных зубов.
– Что не узнает? – повторил он. – Кровь этих бродяг, Гавана, упадет на твою, а не на мою голову. Тебе все равно не жить, поэтому я скажу тебе правду. И она будет куда страшнее, чем та, что ты тут себе нагородил, босяк. Так вот, если ты углядел тут крысу, которая у своих отначивает, и ссученную тварь, так это точно не я. Жить тебе минуту осталось, Гавана, и мне жаль, что все так получилось. Я себе этого не прощу. Я не знаю, кто впарил тебе ту маляву с наводкой, я не в курсах, кто надыбал и слил часть общака на мою протухшую теперь хазу. Но это не я. И я теперь туда не сунусь, потому что будет не по понятиям. Не скалься! Не скалься, удод! У меня действительно были терки со Льдом, но я его не гасил. Это – не я!!!
– П-почему я должен тебе верить? Только потому, что тебе нет резону заливать? – вызверился Гавана, извиваясь, как червь.
Большой Маст шумно вздохнул и зашевелился. Плеснула острая боль в покалеченных ребрах Гаваны. Грузный вор качнул головой и, вжав розочку в горло Гатагова так, что острые края прорезали кожу, произнес, взвешивая каждое слово:
– Значит, так, жмур. Я никого не убивал за пределами этой комнаты вот уже много лет. Лед – не мой грех, если ты не врубился с первого раза. Пусть меня укантуют на парашу, если я сбрехнул хоть слово. Я сказал. Кто подставил меня? Лучше бы спросил об этом, скажем, у гнойного стукачка Сулимы – хотя едва ли это он. Слишком мелок для такого дела.
– Ты уж очень спешил подсадить его на перо, Маст, – зеленея, выдохнул Гавана. – Ты спешил, и он ничего не успел сказать.
– Да он и так был не жилец. И если бы я думал, что он действительно знает что-то – я бы не торопился его сажать на перо. Ладно. Разбор по Льду теперь буду вести я сам, а ты уж не обессудь. Ну, прощевай.
…Нежданно грянул выстрел. Забытый всеми Саня Кедр, барахтаясь в луже собственной крови, хлещущей из бедренной артерии, все-таки нашел в себе силы вырваться из липкой дурноты и вытянуть пистолет. Саня Кедр не был вором в законе, и запрет на ношение огнестрельного оружия не считал распространяющимся и на свою персону. Он выстрелил повторно, но уже не попал, а потом, уже в смыкающейся тьме, все жал и жал на спусковой крючок до тех пор, пока не расстрелял всю обойму. Еще одна из пуль угодила вслед за самой первой – в плечо Мастодонта. Раненый гигант, лишившийся глаза, получивший нож под лопатку, только сейчас задрожал всем телом и стал заваливаться назад. Но – снова! – совладал с собой и хотел было добить Гавану, однако…
Только на мгновение ушла эта чудовищная тяжесть – и одним слитным, хищным движением вырвал свое тело, выдрался Джебраил Гатагов из-под туши Большого Маста и, шатаясь, ринулся к дверям. Он споткнулся о труп Балабана со сломанной шеей, начал падать, но все-таки устоял на ногах. Ослабевший Большой Маст, разом почувствовавший боль со всех сторон, обессиленно смотрел ему вслед единственным зрячим глазом. Хлопнула дверь. Гавана все-таки ушел! Ушел… А вот Мастодонт не чувствовал в себе силы даже встать на ноги. Несколькими сумбурными движениями подтащил он слабеющее тяжелое тело к Сане Кедру, глядящему на него мутными, ничего не выражающими глазами, и сказал:
– Как все нехорошо вышло-то. Не одна сука мусорская еще порадуется, что мы вот так, по чьей-то прихоти, тут друг друга покрошили. Ну уж сейчас-то ты мне веришь, что я не крыса и не ссученный?
Кедр облизал языком сухие губы. Слова, казалось, раздирали ему гортань.
– Сейчас… ве-рю.
– И на том спасибо.
Большой Маст вздохнул и, положив тяжелую пятерню на горло Кедру, печально улыбнулся и резким движением вырвал ему кадык.
В той бойне повезло лишь Ване Бахче. Он не только уцелел, но и остался без царапины. Бахча, пока длилась смертельная схватка между ворами, так и проспал мертвецки пьяным на диване.
8
Следователь Розов осторожно – словно устанавливая готовый захлопнуться капкан – раскрывал дело Льда. Изо дня в день оно распухало и ширилось, Ростислав Ростиславович подшивал к нему все новые и новые материалы, среди них чрезвычайно любопытные и неоднозначные. Такие, что поддаются правильному осмыслению и анализу только в общем массиве данных, приведенных в систему. Ростислав Ростиславович ненавидел ничем не подкрепленные версии, но сейчас он никак не мог отделаться от одного парадоксального предположения, от одной гипотезы, которую заботливо взлелеяла и выносила его интуиция, его наитие. Чутье сыскаря. Именно сегодня в Ялтинский угро прибыла очередная партия документов.
– Быть может… – бормотал Ростислав, перебирая края листов дела. – Быть может…
Пестрая жизнь, следы которой разбросаны по территории всего великого и необъятного Советского Союза. Школа-интернат. Несколько побегов. Два убийства в девятнадцать лет – и долгий-долгий срок. Война… По документам что-то не сходилось. С одной стороны, имелась справка о досрочном освобождении. Непонятно, на каком основании: по ТАКИМ статьям не освобождают. К тому же при наличии двух побегов, которые срок отнюдь не сокращают… С другой стороны, не было ни одного свидетельства того, что Лед воевал. Где он был эти четыре года, с 41-го по 45-й? В конце сорок пятого все-таки всплыл. Загремел на три года – по отдельным данным, пошел намеренно, чтобы сесть. Повезло и тут: Лед получил срок еще до знаменитых указов 1947 года «Об охране социалистической собственности» и «Об охране личного имущества граждан», по которым за мелкую кражу могли легко впаять двадцатку – и айда в один конец в Сибирь! Так что освободился уже году в сорок девятом; и вот, спустя одиннадцать месяцев – погиб. Красивая и страшная смерть, ничего не скажешь: подорваться на горном серпантине на мине – это тебе не ножичек, зажатый в чьей-то потной пятерне, в печень в темной подворотенке получить. «Это был отличный враг», – всплыли в мозгу слова тестя.
В деле Льда появлялись и дополнительные сложности, уже не связанные напрямую с тем злополучным взрывом «Опеля Кадет» на серпантине. Исчез чертов Сулима, главный и верный источник свежей информации прямо из котла блатного мира. Розов, впрочем, давно задумывался над заменой осведомителя и над тем, что Сулима – застоявшийся кадр, а уж после смерти брата и связанного с ней длительного запоя стал и вовсе профнепригоден, если, конечно, такое слово употребительно в отношении человека, никогда не работавшего и ничем, кроме краж и гоп-стопа по лихой юности, не занимавшегося. Собственно, Розов и так дивился тому, как Сулима вообще до сих пор жив. Так что его возможная гибель стала бы лишь запоздалым подтверждением смутных предположений следователя Розова.
«Зачистили? Раскрыли и порезали, как это у них принято, отвезли и свалили куда-нибудь в ущелье, где его найдут уже какие-нибудь археологи построенного коммунизма лет через… ммм? Быть может… У этих блатных нюх – что у твоей овчарки, а Сулима, кажется, совсем страх потерял, как зенки заливать взялся. Впрочем, он свое отработал. Не нужен. К черту! Есть люди куда нужнее… Вот хотя бы… А почему нет?»
Ростислав Ростиславович принял непростое решение и потянулся к телефону.
Сняв трубку, он медленно покрутил диск. Дождался ответа телефонистки и попросил соединить с отелем «Ореада». Именно там остановился товарищ Лагин. Через минуту в трубке зазвучал недовольный, сонный бас:
– Лагин слушает!
– Семен Андреевич, – заговорил Розов, – вы не могли бы приехать ко мне на работу? Я извиняюсь, что беспокою вас в такой час, но вы так живо интересовались убийством Льда… Есть новые материалы.
Пауза.
– Может, лучше ты ко мне? – наконец отозвался Лагин.
– Я не повезу материалы дела в гостиницу. Вы сами понимаете.
– Хорошо, я приеду.
– Я могу прислать за вами машину…
– Да что ты там пришлешь? – усмехнулся Лагин. – Через полчаса буду, говорю.
– Хорошо. Жду.
Следователь Розов положил трубку и поднял глаза на стену, где часовые стрелки подбегали к трем часам ночи и честь честью красовался большой портрет вождя. Иосиф Виссарионович смотрел на Ростислава с явным неодобрением. Розов мотнул головой и рывком обеих рук придвинул к себе и лампу, и пухлое дело. В который раз открыл на первой странице. В который раз глянули на него широко поставленные, чуть прищуренные светлые глаза человека, которого больше нет.
– Да уж, – пробормотал Розов. – Или – все-таки?..
Очень просто. Без дураков. Ответы, как это ни банально, следует искать в прошлом этого Льда.
9
Человек, который принимал участие в последнем обеде Льда в заведении Лаши Гогоберидзе, но не был найден мертвым и сгоревшим в авто на серпантине – Борис Леонидович, – обедал и на сей раз. Он вообще любил поесть, хотя являлся отличной живой иллюстрацией к поговорке «не в коня корм». Глядя на этого жилистого, худого человека с рассеянными близорукими глазами, сложно было поверить, что за его плечами – белый и красный Крым 20-х, сенсационные раскопки в Средней Азии и здесь, в древней Таврии, годы лагерей по забойной 58-й статье, годы войны. Несмотря ни на что, он сохранил человеческое лицо и тонкую интеллигентскую натуру. Годы и бедствия даже не состарили этого человека. Сейчас ему можно было дать не намного больше, чем в году этак двадцать втором. Борису Леонидовичу в жизни приходилось кушать разное: и тщедушную арестантскую пайку, и тошнотворную выжимку из абрикосов, пересыпанную узбекским песком, хрустящим на зубах – и ароматное мясо по-грузински, щедро заливаемое молодым вином; многоцветные пловы древнего Самарканда, белогвардейскую солянку. Но больше всего любил Борис Леонидович ядреные русские щи, аристократически-бледную семгу и холодные котлетки с зеленью, аппетит к которым, и без того немалый, разжигает огненная водочка со льдом. Всю жизнь он мечтал быть кулинаром, а вместо этого стал лишь историком собственной жизни, в которой было куда меньше еды, чем об этом можно было мечтать.
Обедал он не один. Напротив него сидел человек с миндалевидными глазами. У человека было много прозвищ. За миндалевидный азиатский разрез глаз звали его Китайцем. На фронте в свое время его звали Сугроб. Иван Снежин был снайпером, и даже его фамилия имела прямое отношение к фронтовому прозвищу. А если приплюсовать сюда тот факт, что в зимнее время (несравненно более урожайное для снайпера Снежина) уложил он около 120 гитлеровцев, то прозвище получало дополнительную аргументацию. Получил бы Иван за свои армейские подвиги и трофеи – звание Героя Советского Союза, да вот только было одно обстоятельство: зацепил он еще до войны две судимости, одна краше другой, обе – за страшные преступления. Во-первых, клеил Иван обои у директора фабрики, оказавшегося врагом народа, и получил за это дело 8 лет лагерей. Ну а во-вторых, когда искупил он свою страшную вину перед трудовым народом и вышел, то на воле случайно наступил на ногу доброму сотруднику НКВД, после чего произошел небольшой конфликт. Энкавэдэшник получил расстройство кишечника и синяк под глазом, а Иван – 5 лет лагерей. На его счастье, началась война, и Снежину представилась возможность искупить вину кровью. Крови 120 «зимних» фашистов плюс 63 «летних» для списания прежних грехов наверняка было бы достаточно. Но тут Снежин на три дня попал в плен. На выходе – еще 25 лет, что, учитывая послевоенное состояние здоровья Ивана, равнялось смертной казни, лишь непомерно растянутой.
Ему удалось бежать благодаря помощи человека по прозвищу Лед. Меньше всего ожидал Снежин этой помощи, и больше всего хотел он рассчитаться за добро, сделанное ему тогда.
Случай представился четыре года спустя. Расчет за помощь вышел очень своеобразным…
– Не стесняйтесь, Иван, – сказал Борис Леонидович, – кушайте. Я, если честно, очень рад с вами познакомиться. У меня до сих пор перед глазами стоит роскошная сцена, когда вы работали там, на серпантине. Я очень мирный человек, но те люди, что там были…
– Особенно Лед, – тихо сказал Снежин.
Борис Леонидович помедлил.
– Ну, вы сами должны понимать специфику, – наконец сказал он. – Все-таки вы вполне отдаете себе отчет в том, что это сделано во благо. Помните, как у классика: «То, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказанию и для блага государства. Ришелье»?
– Нет, не помню.
– Ну, это и неважно, – кашлянув, сказал Борис Леонидович.
– Я бы не стал так говорить.
– У вас приступ рефлексии?
– Не понимаю…
– Да будет вам, в самом деле. Вы убили почти две сотни немцев. Без малейшего угрызения совести.
– Это были враги.
– Ну, хорошо. Я понимаю, что вам сложно перестроиться. Мне самому непонятно, кто и с кем воюет в этой стране после того, как кончилась страшная война. Возьмите вот это, пожалуйста, очень вкусная штука. Выпейте.
– Я не пью.
– Давно ли?
– Да практически с июня 41-го, – ответил Снежин. – Наркомовские сто грамм не считаются… Да вы не расстраивайтесь, Борис Леонидович, компанию я поддержу. И насчет тех, кого я убил на серпантине, мне тоже не страшно. В конце концов, эти люди сами убили куда больше своих, чем я. По крайней мере, когда я зашел на эту тухлую малину, заваленную трупами, то почувствовал себя… э-э…
– Гуманистом.
– Ну, что-то вроде того.
– Вы, Иван, настраивайтесь на лучшее. У нас еще много дел. По крайней мере, ТОГО, кого мы хотели там увидеть, мы не увидели.
Иван Снежин по прозвищу Сугроб решительно взял рюмку водки и, загипнотизировав ее взглядом, вылил себе в рот. Именно вылил, не выпил – механически, бездумно, без настроения и блеска в глазах.
– Да уж, – сказал он. – Я давно хотел спросить вас, Борис Леонидович: как вы завоевали такое доверие Каледина? Вы давно с ним знакомы? Насколько я понял, вы знаете его с малых лет?
– Своеобразный у вас интерес, Иван. Да, я его знаю вот уже больше тридцати лет. За это время многое случилось промеж нас, – с философской ноткой заключил слегка захмелевший Борис Леонидович. – Бывало всякое: и хорошее, и плохое. Доводилось и жизнь друг другу спасать. Да… бывало… Гм… Со стороны выходит, что мы вспоминаем, сколько раз выручал нас человек, которого мы… э-э…
– Я знаком с ним куда меньше, чем вы, – прервал его Снежин, – поэтому обязан жизнью всего ОДИН раз. Смешно, что это случилось уже после войны, хотя нам довелось вместе воевать. Вы ведь знаете, что он воевал?
– Да. А почему вы спрашиваете? Конечно, знаю. Там, правда, по документам получается иначе… – с расстановкой выговорил Борис Леонидович, пристально глядя на Снежина. Тот откликнулся:
– А вот Большой Маст и прочие уголовные твари не знают. Вам, конечно, известно, кто такие «суки» и что такое сучья война?
– Да известно ему, известно… – донесся до слуха Снежина глуховатый голос человека, по слову которого и был взорван и сгорел в огне Лед с близкими. – Приятного аппетита, друзья.
Снежин поднял на вновь вошедшего узкие глаза и слегка принужденно улыбнулся:
– Я все-таки не до конца понимаю, зачем…
– Это долгая история, Ваня. И началась она почти тридцать лет тому назад. Когда мы были молодыми, яростными и порой носили другие имена.
– Ну отчего же, – вступил в разговор Борис Леонидович, – я сохранил свое имя в неизменности. И документ имеется. Вот, пожалуйста: Вишневецкий Борис Леонидович, русский, 1894 года рождения…
– Да уж, вы не меняетесь. Все тот же вечно молодой учитель истории. Нестареющая мумия нашей юности, – усмехнулся его собеседник. – Плесните и мне немного. Есть что вспомнить, есть что запланировать на будущее.
Часть II
УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ
1
Желтогорск, 1922 год
Он вошел в класс так осторожно, словно боялся подорваться на фугасной противопехотной мине. Высокий, высохший, в пиджаке не по плечу, который, однако же, когда-то был ему впору. Через плечо была перекинута сумка, из которой исходил устойчивый запах переваренного мяса. Это мгновенно ухватили десятки чутких ноздрей тех, кто находился в классе. Под ногами вошедшего тихо поскрипывали дощатые полы. Двадцать пар глаз, юных, злых, задорных, жестоких, впились в это длинное лицо, ощупали всю нескладную фигуру, задержались на переносице, на которой неверно сидели сильно старящие нового субъекта очки. Кто-то крикнул:
– О! Мумия! Только у тех очков не было!
– Дядя! Чихни песочком, мля!
– Ты не рассыплешься? А то ты такой… историчный!
Староста группы, косоглазый Юрка Рыжов по прозвижу Пыж, чье слово было едва ли не в главном авторитете во всем интернате, навалился своей тушей на парту и веско произнес:
– Гы! А че, и правда! Мне тут Гнус на днях журнальчик приносил с прогулки, так там такие же из Ебипта…
– Следует говорить: из Египта, – вдруг сказал очкастый «мумия» таким спокойным тоном, словно все вышесказанное его не касалось. – Здравствуйте, ребята. Будем знакомиться. Меня зовут Борис Леонидович, я ваш новый учитель истории. Директор интерната хотел меня сам представить, но у него не выдалось свободного времени: уехал в губкомпрос.
– Гы, – сказал Рыжов. Это междометие вообще лидировало в его речи по количеству употреблений. – Борис Леонидыч… Мумия ты! Ип, скажи!
Ленька Ипатов, к которому прицепилось данное кем-то из медперсонала дурацкое и неведомое подавляющему большинству воспитанников интерната прозвище Ипохондрик (сокращенно – Ип), маленький, вертлявый, со смешным кнопочным носом, вскочил и выговорил, слегка шепелявя:
– А чему это вы нас будете учить… Мумия Леонидыч? Рассказывать про Петров Первых и Иванов Грозных? Царь и великий князь всея Руси? А мы эту буржуйскую историю учить не желаем!
Прозвище решительно не шло такому бойкому и задорному малому.
– Мой папаша на заводе на такого кровопийцу горбатился, – поддержал его Сеня-бородавочник, угрюмый, неразвитой подросток, ссутулившийся на первой парте, – на Грозного!..
– В таком случае, выходит, твой родитель человек весьма почтенного возраста, – спокойно отпарировал Борис Леонидович и ловко уклонился от брошенного в него плотного бумажного шарика, – если он трудился в царствие Ивана Грозного. Словом, начнем урок. Поближе познакомимся по ходу занятий. На чем вы остановились с предыдущим учителем?
– На том, что Пыж сломал ему три ребра, а Сеня высадил передние зубы этими… каминными щипцами, – донесся голос с последней парты. – Вот на этом остановились. С вами – продолжать?
Учитель истории прищурился и глянул на того, кто это сказал, поверх очков.
– Гы… А что? – пробасил Пыж и встал из-за парты, обнаруживая рост и вес, совершенно непомерный для 14-летнего подростка. – Илюха все правильно сказал. Тот, который до тебя был, накатывал на нас начальству и вообще… Гнилой такой. А ты…
Юрка Пыж, почесывая задницу, которая вообще была наиболее выдающимся во всей его конституции местом, приблизился к новому учителю истории. Его маловыразительные свинячьи глазки, меж которых вскочил мощный прыщ, поедали лицо Бориса Леонидовича. Тот приспустил очки на кончик носа.
– …а тебя мы еще прощупаем, – наконец вынес вердикт староста класса и, не желая разводить слова с делом, протянул руку и схватил историка за ухо. Шантрапа в классе с готовностью захохотала, а Борис Леонидович, выставив нижнюю губу, отчего его лицо приобрело недоуменно-капризное выражение, вдруг схватил Юркино ухо, развесистое и мясистое, и стал выкручивать. Пыж запыхтел и принялся тянуть ухо историка, но тот, казалось бы, и не чувствовал здоровенных пальцев старосты, которыми тот, бывало, бахвалясь, на спор гнул девятидюймовые гвозди. Оба побагровели. Что-то захрустело. Класс замер. Тщедушный Ип даже забрался с ногами на парту, чтобы лучше видеть. Дело шло, что называется, до первой слабины, и дал ее Пыж. Он простонал и, отняв руку от уха Бориса Леонидовича, схватился за собственное ухо поверх кисти учителя истории:
– А-а-а!!!
Подскочил Сеня-бородавочник, тот самый, что высадил зубы каминными щипцами предыдущему историку. На этот раз он решил обойтись без подручных средств и, забежав сзади, ударил учителя кистями обеих рук, сцепленными в замок. Борис Леонидович покачнулся, и тотчас же Пыж, рывком высвободившись, пнул того под коленную чашечку. У историка искривились губы, по лицу поехала болезненная гримаса.
– Бей его! За наших! За Юру-у!
– Тю-у!
– Темную ему!
Метнулась по классу, вспорхнув из-за парт, как стая рассерженных воробьев, орда подростков. Кто-то сорвал с окна тяжелый пыльный занавес и набросил на голову Бориса Леонидовича, который повалился еще под одним предательским ударом. Правда, до того как на него опустилась пыльная, пропитанная затхлостью тьма, он еще успел вытянуть худую жилистую руку и так приложить тяжеловесного Рыжова, что староста класса почувствовал себя нехорошо, попятился и осел у парты.
…Впрочем, темная не удалась. Высокий темноволосый подросток, кажется, тот самый Илюха, что так мило рассказал Борису Леонидовичу о выбитых зубах предыдущего учителя истории, вмешался в бурно развивающиеся события. Он с ходу осадил Сеню-бородавочника, оттащил разошедшегося волосатого Бурназяна по прозвищу Абрек, кого-то пнул, а Ипа наградил такой затрещиной, что тот чижиком слетел с парты и столкнулся с выщербленным бюстом Пушкина.
– Ты че, сука? – заверещал Ипохондрик. – Пы-и-иж!!
Однако его покровитель ворочался на полу, не в силах встать и помочь рупору класса. Борис Леонидович уже поднимался с пола, и как раз в этот момент в класс вошли двое: один – здоровенный, еще совсем молодой, но уже с усами, неестественно висящими под красноватым носом; второй – постарше, плотный, подтянутый, в кожаном плаще и новых хромовых сапогах. Больше всего он походил либо на проверяющего из числа членов высокой губкомовской комиссии, либо на сотрудника ВЧК, то бишь ГПУ. Ну, или на оба варианта сразу.
– В чем дело, товарищи? – недоуменно произнес он, разглядывая всех присутствующих. Кто-то лежал на полу, рдело ухо Бориса Леонидовича, пережатое мощными пальцами Пыжа, а один из воспитанников интерната сжимал в руках невесть откуда взявшуюся статуэтку – воина с пикой.
Человек в кожаном плаще повернулся к усатому типу и обратился уже к нему:
– Что тут происходит, товарищ Паливцев?
– Урок истории, – моргая, поспешно ответил тот. – Это новый учитель, и…
– …и у новых учителей, товарищ Паливцев, вполне может быть свой новый метод преподавания, – вдруг подхватил Борис Леонидович, растирая рукой ухо. – В конце концов, старые обучающие методики не всегда действуют на подрастающее пролетарское поколение, товарищ… э-э-э… – Он выразительно посмотрел на кожаного проверяющего, но тот и не подумал представиться.
– Что же вы им преподавали? – усмехнулся он. Тут с пола начал подниматься Пыж и чуть все не испортил своей непроходимой тупостью:
– Да ты, падла, сейчас у меня по полной отхватишь! Хряйте на него все разом, босота! И ты…
– И ты, Брут! – перебил его Борис Леонидович. – Товарищи, все очень просто: я уже говорил, что я сам – сторонник новых методик преподавания истории. Темой нашего урока стала жизнь и деятельность Гая Юлия Цезаря, на примере смерти которого мы рассматриваем пагубность тирании. Вот этот молодой человек, – с любезным видом указал он на ярко-красного от бешенства старосту Рыжова, – пытался в меру своих способностей и знаний объяснить нам суть претензий, которые предъявили Цезарю его убийцы. В общем-то, в целом он трактует все верно.
Усатый товарищ Паливцев, выражение лица которого до этих слов нового учителя истории оставалось довольно кислым, тут рассмеялся и проговорил:
– Це… зарь? Гай? Да эти олухи не могут отличить Пушкина от Керенского, а вы тут – Цезарь! Даже как-то… не…
– Довольно странно, уважаемый товарищ Паливцев, что вы так критикуете воспитанников интерната, в штате которого числитесь и интересам которого должны, следовательно, служить, – сухо проговорил проверяющий. – «Олухи». Гм… – Его взгляд упал на тупейшую физиономию Юры Пыжа, на бессмысленное лицо Сени-бородавочника, украшенное длинное ссадиной, и на пыхтящего Бурназяна-Абрека. – Та-а-ак… – протянул он и вдруг спросил резко, с оттяжкой в нос: – И кто же такой – Брут?
