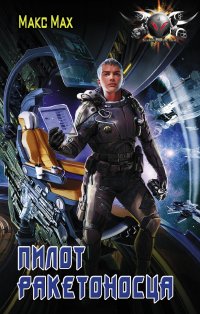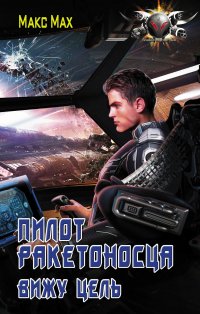Читать онлайн Командарм бесплатно
- Все книги автора: Макс Мах
© Макс Мах, 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019
Предуведомление
Автор считает своим долгом предуведомить доверчивого читателя и объяснить вдумчивому, что все имена и фамилии, а также географические названия и исторические факты, упомянутые в книге, – суть вымышленные. Любое их совпадение с реальными именами и фактами – случайно, как непреднамеренны и случайны совпадения с обстоятельствами жизни и деятельности, чертами внешности и характера реальных исторических персонажей. Описываемые в книге местности, пейзажи и строения также скорее являются плодом авторского воображения, чем кропотливым описанием реальных мест и архитектурных объектов. И еще раз: все описанное в этой книге является авторским вымыслом. Это АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ, а значит, все было не так…
Часть I
1921
Политическая борьба есть по самой своей сути борьба интересов и сил, а не аргументов.
Л. Троцкий
Глава 1
Жизнь моя…
1
Ему нездоровилось. Томило сердце, и еще голова… Голова кружилась, словно бы он сдуру забрался на карусель. И никак не открыть глаз, и не вспомнить, хоть убей, что там случилось накануне – вчера, позавчера? – и отчего так плохо… Отчего?
Кравцов задумался, но куда там! Разве есть время на пустое? Вокруг ад и огонь! Над степью пыль, и черное солнце слепо глядит сквозь выцветшие добела облака.
– Где девятая дивизия?! – орет он сорванным голосом. – Где этот долбаный Мухоперец?!
Связи нет, девятой дивизии нет, и счастья нет, как не было. А артиллерия белых знай себе лупит. И возникает вопрос, откуда у Кутепова столько стволов? А снаряды?
Вопрос без ответа. Риторический вопрос, но факт: белые выстрелов не считают. Бьют наотмашь. Земля дрожит, и песок скрипит на зубах.
– Товарищ командарм! Товарищ Кравцов! То…
– Ну?! – оборачивается он к вестовому. – Ну! Не молчи, товарищ! Телься, твою мать!
– Начдив Журавский! – кричит посыльный тонким «детским» голосом.
Он весь в крови и грязи. Глаза сумасшедшие.
– Начдив…
– Ну!
– Начдив того, – вдруг растерянно говорит боец. – Убит товарищ Журавский… Комиссар теперь… товарищ Богорад, но… нас все равно скоро… посекут всех. Патронов не мае…
И все.
«Не мае», – сказал боец, и время остановилось.
Кравцов увидел черный силуэт связного на фоне вспышки дикого белого огня и умер. То есть он вроде бы подумал тогда…
«Интересно девки пляшут…» – с удивлением, но без страха подумал Кравцов.
Его остановил толчок в грудь. Толкнуло. Он встал, в смысле – остановился, и вдруг увидел себя со стороны. Вернее, сверху. Увидел немолодого мужчину, каким как-то совсем неожиданно успел стать за последние несколько лет. Мужчина… Ну, что там! Роста среднего, животик, под глазами мешки, и волосы давно уже – он рано начал седеть – не перец с солью, а скорее, соль с перцем. И соли много больше, чем перца. Где-то так.
Кравцов посмотрел на себя с сожалением. Равнодушно отметил, что оставил машину в неположенном месте – ну, так кто же знал! «На минуточку» же остановился, сигарет в ларьке купить. Но теперь, разумеется, оштрафуют…
Ну и хрен с ним! – решил он и поднялся выше, охватывая взглядом проспект, площадь, памятник Ленину…
– Проходите, Максим Давыдович! Душевно рад вас видеть!
Владимир Ильич выглядел неважно. Видимо, не оправился еще от прошлогоднего ранения. Кравцов попытался поставить диагноз, но куда там. Ни опыта, ни знаний настоящих, да и то, что знал, успел позабыть. Но, с другой стороны, сам семь раз ранен и, что такое железо в собственном мясе, знает не понаслышке.
А с Лениным тогда проговорили долго. Совсем неожиданно это было. Все-таки предсовнаркома… Но нашлось о чем поговорить, и Владимир Ильич не пожалел на старого партийца времени. И потом нет-нет да присылал весточку или парой слов обменивался, когда сводила их вместе неспокойная жизнь. На Восьмой партконференции, например, или в ЦК, где Кравцов, впрочем, бывал лишь наездами. Но Ильич его помнил. И в декабре прислал телеграмму, опередившую официальное назначение на армию буквально на несколько часов…
Кравцов вспомнил. Заболел Григорий Яковлевич Сокольников, и Восьмая армия в разгар боев осталась без командующего, но у Троцкого, разумеется, в обойме не холостые…
– Товарищ Кравцов!
Ну что же ты так кричишь, Хусаинов! Зачем?! Разве не видишь, я умер уже…
Умер…
«Умер?» – спросил себя Кравцов, поднимаясь куда-то под облака. Но подумал об этом «без нерва». Просто констатировал факт.
Умер. Эка невидаль…
– Товарищ Кравцов? – голос тихий, осторожный. Женщина, словно бы и сама не уверена, зачем спрашивает.
Но она спрашивает, и Макс понимает вдруг, что жив, хотя и плохо, нехорошо. Голова кружится, и в горле сухо, как летом в степном Крыму, на солончаках…
– Пить…
Ну, то есть это он думал, что произносит эти звуки, но на самом деле вряд ли даже замычал. Однако женщина его услышала и поняла. Или просто догадалась…
Вода оказалась удивительно вкусной. Он попил немного, но быстро устал и заснул.
2
Врачу, исцели себя сам. Где-то так и есть, только не в переносном смысле, а в самом что ни на есть прямом. Прямее некуда, но не в этом дело.
Кравцов чувствовал себя скверно, что не удивительно. После комы и органического слабоумия – доктор Львов сказал, dementia е laeaione cerebri organic, – когда почти семь месяцев никого не узнавал, ни на каком языке не говорил, пускал слюни и самостоятельно даже не пил, ничего лучшего ожидать не приходилось. На руки и ноги, на бедра и живот, то есть на все, на что можно было посмотреть без зеркала, второй раз, собственно, и смотреть не хотелось. Кожа да кости. Мощи. И кожный покров под стать определению: темный, сухой, морщинистый. Встать с кровати удалось только на десятый день, да и то шатало, что твой тростник на ветру. Свет резал глаза, тихие звуки отдавались в висках колокольным боем. Ноги не держали, руки тряслись, как у старика. Впрочем, стариком он теперь и был. Тридцать два года, восемь ранений, последнее – смертельное…
Но и доктор Львов, судя по всему, не жилец. Выглядит ужасно, чувствует себя наверняка еще хуже.
– Ну-с, батенька! – бородка, как у Ильича, и картавит похоже, но не Ульянов. – Как самочувствие?
– Ну, что вам сказать, Иван Павлович, – сделал попытку усмехнуться Кравцов, – хотелось бы лучше, но это теперь, как я понимаю, только с божьей помощью возможно, а я в бога не верую. Так что…
– Атеист? – прищурился Львов. – Или агностик?
– Вы член партии? – в свою очередь спросил Кравцов. – Большевик?
– Социал-демократ, – устало ответил Львов. – В прошлом. Теперь, стало быть, беспартийный.
– Тогда… – Кравцов все-таки смог изобразить некое подобие улыбки. – Но только между нами. Скорее, агностик.
– Ну, и ладно, – согласился доктор Львов. – Что делать-то теперь станете?
И в самом деле, прямо-таки по Чернышевскому. «Что делать?» Вопрос, однако. Поскольку, вернувшись из небытия, очнувшись и несколько оклемавшись, на что ушло три с лишком недели, оставаться и дальше в интернате для инвалидов войны Кравцов не мог. Даже если бы захотел. Но он, разумеется, не хотел.
– Не знаю, – покачал головой, размышляя одновременно о превратностях судьбы. – Не знаю пока, Иван Павлович. Наверное, в Питер поеду. Доучиваться…
Идея интересная, спору нет, но прийти могла только в такую больную голову, как теперь у Кравцова. Впрочем, что-то же делать надо, ведь так?
Максим Кравцов окончил гимназию в девятьсот седьмом. Не гладко, но уверенно, хотя и с двумя исключениями за «слишком длинный язык» и «неправильные знакомства». Тем не менее окончил, и совсем неплохо, хотя и без медали, на которую мог рассчитывать. Начал учиться на врача в Петербурге, но в десятом году вылетел из университета и чуть было не сел. А ведь мог, и если бы действительно сел, то надолго, и хорошо если не на каторгу загремел. Имелись в его деле нюансы, о которых лучше не вспоминать: известное дело, молодость и революция кружат голову похлеще вина. Спасибо, родственники порадели да помогли деньгами, и он уехал в Италию. Почему туда, а не в Париж или Базель, куда стремилось абсолютное большинство политэмигрантов, вопрос занимательный, конечно. Вот только ответить на него сложно. Вернее, не столько сложно, сколько стыдно. Революционер-то он, конечно, революционер – партийный стаж аж с «Обуховской обороны»[1] – но по пути в Швейцарию Кравцов банально встретил женщину. Ну, как водится, молода, красива, и южная кровь играет в округлом во всех правильных местах теле. Любовь, страсть, и Кравцов неожиданно для самого себя оказался в Падуе.
Анна Мария была замужем и успела к двадцати годам родить двух детей, но об увядании не могло идти и речи: гладкая чуть смуглая кожа, словно тончайший шелк. И старый богатый муж в стиле комедии дель арте. Просто Карло Гольдони какой-то. «Слуга двух господ» или, скажем, «Трактирщица». И, следует сказать, Кравцова – вероятно, по молодости лет – это нисколько не смущало. Напротив, по ощущениям, все обстояло просто чудесно. Красавица с огромными миндалевидными глазами цвета прозрачной морской сини и с черными, словно южная ночь, вьющимися волосами, чудесный город и старейший в мире университет. И легкое белое вино, и терпкое – красное, и граппа в приличных для русского человека количествах под не совсем привычную для жителя Севера, но вкусную закуску… Однако в четырнадцатом году грянула война, и в Кравцове стремительно проснулся русский патриот. Возможно, причиной тому стала некоторая географическая оторванность не только от Святой Руси, но и от многочисленной и разнообразной русской диаспоры. Хотя и политические взгляды сбрасывать со счетов не следует. В эсеровской идеологии все это содержалось в латентном состоянии, как зерно в оттаивающей после зимы земле. Впрочем, некоторые эсдеки при упоминании о «подлых германцах» демонстрировали никак не меньшую ажитацию. Интернационалисты, понимаешь!
Тем не менее сам-то Кравцов в феврале пятнадцатого оказался уже на фронте. И получается, что за вычетом нескольких коротких отпусков, госпитальных перерывов и недолгого периода безвременья зимой с семнадцатого на восемнадцатый прожил он на войне едва ли не лучшие годы своей жизни. И совсем не очевидно, что вспомнит теперь забытую за ненадобностью латынь или анатомию. Отнюдь нет. В конце концов, уже долгих пять лет умение правильно выбрать артиллерийскую позицию, поднять матом бойцов в штыковую или произнести пламенную речь перед голодными и оборванными солдатиками были куда важнее, чем методы пальпации или перкуссии.
– Наверное, поеду в Питер. Доучиваться…
3
Со стороны, вероятно, их встреча выглядела весьма мелодраматично. Хоть сейчас записывай в роман, но, если разобраться, на хороший роман тянула и вся жизнь Кравцова. А уж этот день выдался и вовсе из ряда вон. Он весь был как бы соткан из литературных реминисценций. От и до.
Интернат помещался на богатой даче кого-то из «бывших». Впрочем, за годы революции и гражданской войны комплекс зданий, состоящий из двухэтажного, в псевдоклассическом стиле, особняка, кирпичного флигеля и нескольких деревянных построек, сильно обветшал и выглядел скорее руинами, чем медицинским учреждением. Жизнь в Советской России в 1921 году была на самом деле не просто бедная, а, прямо сказать, нищенская. И «дом призрения», в котором собрали увечных воинов и безнадежных доходяг, которых больше некуда пристроить, соответствовал времени и небогатым возможностям молодого пролетарского государства. Тем более приятно было покинуть это унылое место, где царит отчаяние, давящее на психику почти физически ощутимой тяжестью, и где вечно пахнет карболкой, известью, нечистотами и мышами.
До города Кравцова довез ехавший за продуктами завхоз интерната Жовтов. Не на бричке и не в автомобиле, а на простой крестьянской телеге, но и за то спасибо. Кравцов все еще был слаб, напоминая полутруп не только внешним видом. По ощущениям, впору в гроб ложиться, но кто ж его такого в «домовину» пустит? Говорят, туда и то краше кладут. Однако, так или иначе, а о том, чтобы дойти до города на своих двоих, не могло идти речи. Не ходок был нынче Кравцов, нет – не ходок…
Телега тащилась медленно, со скрипом и стуком: дорога разбитая, а лошадка – ледащая, едва способная передвигать ноги. Но за разговором ни о чем и под весенним, неожиданно теплым солнышком, под крепкий дух махорки и аромат «просыпающейся» земли, почему бы и нет? Ехали помаленьку, и Кравцов с любопытством изучал окрестности. Все как будто знакомо, но как бы и ново одновременно. Все – любая глупая мелочь – привлекает взгляд, вызывает неподдельный интерес, а то и удивление. И все время мерещилось что-то, остававшееся, впрочем, на самом краю сознания, словно бы видишь его, да никак не ухватишь. Кравцов даже не пробовал, предполагая причиной «мании» свое нездоровье. Только все время ощущал нечто похожее на скорбь.
Чувство утраты?
Возможно.
Однако Кравцов никак не мог вспомнить, что же он потерял и где? Но он даже предположить что-нибудь разумное по этому поводу не мог. Не получалось придумать.
Между тем завхоз – добрая душа – довез его почти до места. Там и идти-то уже всего ничего. Метров двести по проспекту, среди несколько пообносившихся, но все еще как бы «нарядных» зданий, через площадь и по улице. Но там уже действительно – совсем рядом…
Кравцов понял, что задыхается, и остановился, опершись на теплую стену дома. Цокольный этаж был облицован гранитом, а с невысокого крыльца на Максима Давыдовича с укоризной смотрел часовой. Ну, куда ж ты, мил человек! Тебе не в горком партии идти надо, а прямиком к товарищу Лешко в комитет помощи раненым красноармейцам и инвалидам войны… Оглянулась проходившая мимо женщина, покачала головой. Матросы в черных расклешенных штанах, шедшие навстречу, вопросительно глянули, мол, не нужна ли помощь, братишка? Однако Кравцов помощи не хотел. У него, в тощей «цыплячьей» груди, еще жила настоящая «эсеровская гордость». Почти бравада, но только почти. И, пересилив слабость, на дрожащих, но все-таки идущих ногах, он продолжил путь. Оттолкнулся от шершавого гранита, кивнул успокоительно матросикам, да и пошел. Дошел до ступеней крыльца, отдышался, хоть и не без труда, и стал подниматься. Пять ступеней, а показалось, что всю Потемкинскую лестницу бегом осилил.
«Труба дело!»
– Предъявите, товарищ, партбилет!
Вот напасть-то. Он же и пришел сюда, собственно, чтобы партийность свою подтвердить.
«Ох, ты ж!»
В партию большевиков Кравцов вступил еще в июне семнадцатого. До июльских событий, что, как он знал, весьма ценилось не только в орготделе, но и вообще в партии. А позже, в восемнадцатом, ЦК принял решение исчислять партстаж бывшим членам левых партий с момента вступления в оные. И получилось, что Кравцов, примкнувший к эсеровской боевке во время революции 1905 года, разом оказался одним из немногочисленных старых большевиков. Но старый или новый, никакого документа, подтверждающего членство в РКП(б), у него на руках не было.
– Может быть, это сгодится? – Кравцов сунул руку в карман висевшей на нем, как на пугале, шинели и достал грязноватую тряпицу, некогда служившую носовым платком. Развернул на ладони, и глазам враз обалдевшего часового предстали два ордена Красного Знамени.
Орденоносцев, как предполагал Кравцов, в Советской России за время его болезни сильно не прибавилось. А два ордена на тот момент, когда его шарахнуло по башке, кроме Кравцова, имели только Гай да Корк. Может быть, еще кто-то, кого он по слабоумию вдруг забыл, но по-любому немного. Один или два, никак не больше.
– Э-э… товарищ… – выдавил часовой и заперхал, подавившись слюной. – Э…т…то что? Эт-то ор-р…дена?!
«Ордена, ордена…» – с тоской подумал Кравцов, вспомнив теперь, по случаю, своего солдатского «Георгия» и «Святого Станислава, и «Святую Анну».
Но ордена свое дело сделали, и через пять минут буквально сидел Максим Давыдович в кабинете инструктора городского комитета РКП(б) Рашели Кайдановской и пытался объясниться с партийной женщиной по существу.
– Моя фамилия Кравцов, – говорил ей Кравцов, стараясь не думать, каким чудовищем он должен выглядеть в глазах этой молодой красивой женщины. – Командующий Восьмой армией…
– Вы меня извините, товарищ, – возражала ему Рашель Семеновна. – Но командарм-восемь Кравцов, это даже я знаю, погиб во время штурма Новороссийска!
«Ну да… Живой труп!»
– Да не погиб я! Егорова спросите! – вспылил Кравцов, еще более сердясь на эту женщину за то, что она такая молодая и красивая, а он беспомощен, словно тень. – Лашевича, Берзина! Да, Ленину, черт вас подери, телеграфируйте! Меня Владимир Ильич лично знает!
«Чушь, – понял он вдруг. – Бред и глупость».
Он увидел себя со стороны – живые мощи, лихорадочно горящие глаза маньяка, седые космы на обтянутом темной кожей черепе – и ему стало стыдно.
– Ладно! – махнул он рукой. – Извините, товарищ. Погиб, значит, погиб… – Он встал со стула.
«И в самом деле! Может быть, так и лучше? Погиб, похоронен, и дело с концом!»
Кравцов повернулся и пошел к двери, чувствуя, как уходят последние силы.
– Стойте! – крикнула женщина ему в спину. – Да куда же вы! Постойте! Я сейчас телефонирую в штаб… Если вы Кравцов, вас же Якир знает, ведь так?
«Якир? А он тут при чем?»
Иону он знал неплохо, помнил по девятнадцатому году и по Реввоенсовету Восьмой армии… Но…
«Зачем?»
– Да, стойте же! – женщина обежала его кругом и закрыла собой проем двери, так что Кравцов едва в нее не врезался.
Пришлось остановиться. А инструктор горкома стояла так близко, что дух захватывало от запаха женщины.
«Идиот! – одернул он себя. – На себя посмотри!»
– Якир? – спросил он хрипло.
– Якир, – подтвердила женщина. – Он в Одессе сейчас. Так я…
– Телефонируйте, – согласился Кравцов, мгновенно забыв, что только что собирался гордо удалиться в небытие и изгнание.
4
Как ни странно, Якир приехал сам, и случилось это на удивление быстро. Рассматривая вопрос философски, следовало бы спросить, а с какой стати? Кравцов попробовал представить, как поступил бы в такой ситуации он сам, и с сожалением должен был признать, что в лучшем случае прислал бы порученца.
«В лучшем…»
Он все-таки решился закурить. Бог весть сколько времени не курил, да и не хотелось вроде. А тут вдруг заскучал, сидя в крошечном кабинетике инструктора Кайдановской. «Поплыл», и проснулась в почти умершем организме давно забытая страсть.
«Плоть смертна, – подумал он с тоскливой иронией. – Лишь душа…»
Но что есть привычка, если не эманация души?
– Не угостите табачком? – спросил он, матеря себя в душе за просительный тон. Словно мальчишка какой! Попрошайка рыночный…
– Конечно! – улыбнулась женщина, а улыбка у нее получалась не от мира сего, живая и светлая, от которой тут же начинала кружиться голова. – Курите на здоровье!
И она подвинула к нему по столешнице кисет и тонкую пачку настоящей папиросной бумаги.
Кравцов тронул верхний листок кончиками темных узловатых пальцев. Бумага оказалась по-настоящему качественной, тонкой и рыхлой с шероховатой поверхностью…
«Рисовая бумага? Однако!»
Кравцов оторвал листик и развязал кисет. Ну, он, в принципе, знал, что случится, поскольку товарищ Рашель успела подымить при нем два или три раза, но все равно удивился. Такого качественного табака бывший командарм давно не курил. То есть в прошлой жизни, разумеется. В этой он не курил пока вовсе.
– Богато живете!
– Да уж… – смущенно улыбнулась инструктор. – Контрабанда… Нехорошо, конечно, но…
– Все путем, товарищ Кайдановская.
Пальцы не слушались, но это полбеды. Его вдруг посетили опасения. А что если Иона его не признает? Или не захочет признать…
В Гражданскую много чего происходило даже и между своими. Впрочем, «свои» – понятие относительное, а не абсолютное. Возможны изменения. Иногда серьезные. Во всяком случае, во время августовских событий 1919-го партийный командир Кравцов весьма скептически отнесся к «директиве» наркома Подвойского. Ему совсем не очевидными казались причины, по которым один бандит, Григорий Котовский, может стать комбригом в сорок пятой дивизии Якира, а другой – Винницкий-Япончик – не может быть у первого командиром полка. Убийство Япончика дурно пахло. Так Кравцов и сказал начдиву – сорок пять Ионе Якиру. Но это в августе девятнадцатого, а после были еще осень и зима, и отношения с Якиром словно бы пошли на лад… Впрочем, тогда Кравцов был командармом, а теперь он – никто.
Он все-таки свернул самокрутку и с грехом пополам закурил. Но лучше бы этого не делал. Горло как наждаком продрало, и легкие словно бы схлопнулись, перестав вмещать воздух.
– Вы… Вы как, товарищ? – вопросы перепуганного инструктора не сразу дошли до обеспамятевшего Кравцова.
«Я?» – он с удивлением обнаружил себя на полу. Перед глазами плыли цветные круги, и встревоженное лицо Рашели Кайдановской расплывалось и ускользало.
– Я… – собственный голос показался скрипом ржавых петель.
– Живой! – облегченно выдохнула Кайдановская. – А то я уж испугалась. Вы так глаза закатили…
Но тут за тонкой дверью послышался быстро усиливающийся шум. Голоса, громкие звуки шагов от подкованных сапог. В дверь стукнули, и она тут же – почти без паузы – распахнулась.
– Показывайте покойника! – потребовал кто-то перетянутый ремнями, и Кравцов наконец нашел в себе силы сесть.
– Здравствуйте, Иона Эммануилович, – через силу сказал он, узнав военного.
Якир практически не изменился. Такой же молодой, энергичный, черноволосый… Впрочем, рассмотреть детали Кравцов пока не мог. Приходилось исходить из общего впечатления, а оно именно таким и было: Якир.
– Так… – лицо Якира, по-видимому, дрогнуло. Во всяком случае, Кравцову показалось, что вид «живого трупа» произвел на начдива – сорок пять некое сильное впечатление.
– Та-ак… – Правда жизни открывалась перед Якиром медленно, с трудом и не без боли, что говорило в его пользу. – Максим Давыдович? Ведь я не сплю?
– И не надейтесь, – Кравцов встал, с трудом выпрямив слабое, немощное тело. – Но если не признаете, по гроб жизни являться буду…
И тут Кравцов «вспомнил», когда и как умрет Якир, и встревожился. Знание было неправильное, но главное – неуместное и несвоевременное, и его следовало на время убрать подальше.
«На какое время?» – очень по-деловому спросил себя Кравцов и мысленно пожал плечами. Ответа не нашлось, имелось лишь ощущение, что «с этим всем следует погодить».
«Погожу», – решил он, глядя Якиру в глаза.
– Значит, действительно живой, – покачал головой Якир и, шагнув к Кравцову, крепко обнял его, прижимая к широкой груди.
Порыв выглядел искренним. Объятие – крепкое. Запах пота и табака узнаваемый, солдатский…
«Не ссучился, – решил Кравцов, позволяя бывшему начдиву тискать себя в дружеских объятиях. – Пока».
– Рассказывайте, – предложил Якир.
– Да, нечего вроде, – пожал плечами Кравцов. – В марте двадцатого, выходит, меня «убило», а очнулся я только месяц назад. Значит, тоже в марте. Год списан вчистую, как не было. Так о чем говорить?
– Пенсию инвалидную хотите? – прямо спросил Якир.
– Так врачи навряд ли… – хотел возразить Кравцов, не желавший никого обманывать.
– А кто их спрашивать будет? – пожал широкими плечами Якир. – Вы были ранены. Это факт, но «что и как» – это дело командования. Полагаю, я могу решить это своей властью.
– Если я выгляжу так же, как себя чувствую…
– А я вас на дивизию и не поставлю, – отмахнулся командующий Киевским округом. – Да, мне никто и не позволит. Начдив – номенклатура цэка. Дивизиями Лев Давыдович ведает, а вот в штаб округа, «для особых поручений»… почему бы и нет?
– В строй?
– В строй, – подтвердил Якир, внимательно рассматривая Кравцова, словно увидел его впервые. – Отъедитесь маленько, придете в норму. А там, глядишь, и на дивизию выдвинем или на корпус. Вы ведь, Максим Давыдович, в Красной Армии не последний человек. Тем более здесь, на Украине. Здесь вас многие помнят!
– Григорий Иванович, например, – осторожно предположил Кравцов.
– Котовский в Бессарабии, – как бы невзначай обронил Якир. – Вроде бы недалеко… От Одессы рукой подать. Но все-таки не здесь. Но вас и в Москве кое-кто помнит, и вообще!
– Кое-кто, – согласился Кравцов, подумав о Михаиле Михайловиче Лашевиче и о Егорове, с которым был скорее дружен, чем наоборот. Впрочем, за время Гражданской с кем только ни сводила судьба! Но если в отношении некоторых – Гиттиса, например, или Серебрякова – это был всего лишь факт их и его биографии, то с другими – как, скажем, с Уборевичем – Кравцова связывало чувство настоящего боевого товарищества. Ну, и репутация, разумеется, у него имелась тоже. Как без нее!
– Значит, согласны? – расставил точки над «i» Якир.
– А вы, стало быть, сомневались? – поинтересовался Кравцов.
– Не так чтобы очень, – улыбнулся командующий округом. – Но кто вас знает?
«Увечного», – мысленно закончил за Якира Кравцов.
– Тоже верно, – сказал он вслух, гадая, что же теперь?
– Тогда так, – мягко, но властно положил ладонь на стол Якир. – Сейчас вас отвезут на одну из наших дач. Есть у нас тут несколько строений на Фонтанах, для разных надобностей. Паек усиленный, морской воздух и газетные подшивки… Вы, мне помнится, языки знаете, Макс Давыдович?
– Знаю, – пожал плечами Кравцов. – Итальянский, французский… немецкий похуже, английский и латынь – через пень-колоду…
– Ну, вот и славно, – кивнул Якир. – У нас тут после эвакуации интервентов масса книг по военной тематике осталась, читать только некому и некогда. А вы вроде бы в отпуске, – снова улыбнулся он, – но и на службе. Почитайте! Вдруг что дельное найдете. Опять же партийные документы, газеты… Свежим, так сказать, взглядом. Мне было бы интересно услышать ваше мнение. Или, скажем, прочесть. Ну, как?
– Звучит заманчиво, – усмехнулся Кравцов. – Мне ли привередничать?
5
Дачкой оказался вполне обжитый каменный дом, окруженный оставленным в небрежении фруктовым садом и лоскутным забором, кое-где кирпичным, а кое-где и дощатым, но неизменно высоким. При воротах, в сторожке, находилась вооруженная охрана, а в самом особнячке обитали несколько солдат и младших командиров, своими повадками, возрастом и речью живо напомнивших Кравцову старорежимных фельдфебелей. Впрочем, к нему они касательства не имели. Только если печь истопить – ночи все еще были прохладные – или покашеварить: питались все вместе из одного котла, но не так и плохо по нынешним не слишком сытым временам. Суп какой-никакой, каша, отварная картошка, и мясо перепадало, хотя чаще все-таки рыба. А в остальном – благодать. Красноармейцы сами по себе, но и Кравцов предоставлен своим собственным страстям. Комнату ему выделили большую, светлую – с эркерным окном. Кровать – с настоящим постельным бельем, подушкой и шерстяным одеялом – стол, пара стульев да пошедший трещинами старый гардероб с вделанным в центральную створку мутным, «поплывшим» от возраста и жизненных невзгод зеркалом. В шкафу Кравцов до времени хранил всего лишь две смены белья, шинель да кое-какие мелочи, вроде иголки и мотка ниток, подаренных ему по доброте душевной странной командой не поймешь какого военного учреждения, помещавшегося на «дачке». Впрочем, уже на следующий день после вселения один из «вахмистров» свел Кравцова в обширный подвал и, сделав широкий жест тяжелой крестьянской рукой, предложил брать все, что потребно. Под низкими арочными сводами, выведенными из красного кирпича на растворе, стояли ящики и плетеные корзины, заполненные весьма разнообразным добром, в том числе и книгами. В тот же день Кравцов помаленьку и с передышками, а то и вовсе с помощью «господ старослужащих» перетащил к себе наверх три десятка книг на четырех языках, немецкую пишущую машинку «Рейнметалл», богатый письменный прибор, остававшийся пока, правда, без чернил, и замечательную бронзовую пепельницу, которая на самом деле ему была совершенно не нужна.
А уже вечером приехал на бричке порученец из штаба. Привез два комплекта формы, новую шинель, нижнее белье и сапоги, а еще портупеи, наган в кобуре, четыре пачки патронов – «Тут за домом можно пострелять», – стопку писчей бумаги, чернила и перо. Да ещё огромный фибровый чемодан с подшивками «Правды», «Известий» и каких-то местных, украинских, газет, а также мешок с «усиленным пайком». Якир не обманул: в посылочке нашлись сало, сыр, буханка белого хлеба, полголовки сахара, чай, табак, две бутылки красного вина с выцветшими до нечитаемости этикетками, изюм и курага.
А жизнь-то налаживается, – покачал головой Кравцов, рассматривая доставленные ему богатства, но он даже представить не мог, насколько был прав.
«Сон в руку», – подумал он, увидев следующим утром за завтраком новое лицо.
Невысокий, крепкого сложения темноволосый командир отрекомендовался Миколой Колядным и рассказал, что прибыл прямо из Харькова, где закончил кавалерийские курсы.
– Кравцов, – представился бывший командарм. – Максим.
Колядный, которому на вид было лет двадцать пять, нахмурился озабоченно, взглянул пытливо в лицо Кравцова, но, видимо, не узнал и сразу же расслабился. И с чего бы узнать? Фамилия, разумеется, знакомая, но в последний раз виделись они в девятнадцатом году. И это была их первая и единственная очная встреча, после которой Кравцов успел изрядно измениться.
– Военспец? – почти равнодушно поинтересовался Колядный. – Из офицеров?
– Вроде того, – отмахнулся Кравцов, соображая, мог ли знать товарищ Эдельвейс, что Будда не просто «поставил командование в известность», но и завел на «товарищей бывших анархистов» целое следственное дело?
«Мог и не знать», – кивнул мысленно бывший командарм, но решил понапрасну не рисковать.
Он ведь теперь снова жив, и оказалось, что жить куда лучше, чем не жить. Ну а дальше все понятно и без того, чтобы размазывать манную кашу по чистому столу. Береженого бог бережет, даже если «береженый» – социалист-революционер или, прости господи, целый большевик. Поэтому, потолковав с новым знакомцем о том о сем, Кравцов убыл к себе «в нумера» и почти до полудня наслаждался изысками французской военной мысли. Полковник Монтень снова, как и в молодости, приятно удивил Максима Давыдовича энергичностью письма и оригинальностью тактических идей. Впрочем, увы, в наличии имелось лишь сжатое изложение доктрины французского офицера в вышедшей в 1913 году книге «Победить». Чисто случайно Кравцов знал, что в ответ на «всеобщее одушевление и глубокий интерес публики к предмету» несколько позже издательство опубликовало в трех томах исходный текст книги, но этого издания в собрании «вражеских» раритетов не оказалось. Что ж, за неимением гербовой… Впрочем, если по совести, писать Монтень умел ничуть не хуже, чем его знаменитый однофамилец.
«Или они родственники?» – задумался Кравцов, рассматривая варианты дальнейшего чтения.
Возможности поражали воображение и заставляли вспомнить о некоем пирате – «Как бишь его? Бромлей[2], что ли?», которого как раз и погубили его возможности. Ну а Кравцову предлагалось на выбор почитать новье от мэтра Фоша – книга маршала «О принципах войны» была действительно свежая, всего лишь девятнадцатого года издания, – или взяться за «истинного гения артиллерии» Ланглуа. Не менее интересным представлялся и труд бригадира Коне, рассматривающий вроде бы мобилизационный потенциал Франции перед Великой войной. Все так, но жизнь не стояла на месте, и в районе полудня бывший командарм решил, что выждал достаточно времени и может уже отправляться «по делам». Он проверил наган, сунул его в карман галифе, болтавшихся на нем как на скелете, каким Кравцов теперь и выглядел на самом деле, и, набросив на плечи шинель, вышел из своей светелки.
– Съезжу в город, – сказал он дежурному по «дачке». – Зайду в горком партии и обратно, но, может быть, и загуляю.
– Ну да, – серьезно кивнул краском Чуднов, обстоятельно скручивавший из газетного обрывка приличных размеров козью ножку с ядреным украинским самосадом. – Вам только в шалман и по бабам.
– Так и я о том же, – хмыкнул Кравцов. – Прощевай, товарищ Чуднов. Не поминай старика лихом.
– Много не пейте, – напутствовал его между тем краском, физиономия которого едва ли не из чугуна сваяна, – и бабе своей определенно накажите, чтобы по-верховому перлась, а то, не ровен час, откинетесь от усердия, и все.
– Я учту, – кивнул Кравцов и вышел из дома.[3]
Колядного он не заметил, но это не являлось доказательством «присутствия отсутствия». Однако так или иначе, лучше идти и «что-то делать», чем сиднем сидеть и ждать, пока товарищ Эдельвейс сопоставит простые истины и решит, что нет человека, нет проблемы.
Фраза неожиданно заставила задуматься. Она звучала, как цитата из книги, но вот из какой, Кравцов вспомнить так и не смог. Зато в ходе поисков напоролся еще на пару фраз, которые ему скорее понравились, чем наоборот.
«Ничего личного», – звучало лаконично и со смыслом.
«Я сделал ему предложение…» – а вот это стоило обдумать. И притом самым тщательным образом.
«А куда он денется?» – мысленно пожал плечами Кравцов, подходя к конечной остановке трамвая.
С апреля месяца восстановили движение восемнадцатого маршрута до Восьмой станции Фонтана. Кравцов в этой жизни на трамвае еще не ездил, но знал, что на линии бегают четырехосные «пульманы» производства бельгийской фирмы «Нивелис», и имел при себе четыре разовых билета, приобретенных его «организацией» с двадцатипятипроцентной скидкой. Впрочем, денег Кравцов за билеты – хоть со скидкой, хоть нет – не платил, так получил. Задаром. Вместе с усиленным пайком и пропуском.
На круге Максим Давыдович простоял почти полчаса. Небо – чистое, солнце жарило, похлеще товарища Троцкого на митинге. Только пыльно и жарко, но тощая плоть Кравцова, едва обтягивающая сухие, словно мощи святых, выставляемые в церквах, кости, тепло почти не впитывала и еще хуже сохраняла. Временами его знобило даже на такой жаре и в тяжелой шинели. Вероятно, и выглядел он не слишком хорошо. Во всяком случае, скопившиеся перед прибытием трамвая обыватели попридержали прыть и дали «увечному воину» почти беспрепятственно залезть в вагон и сесть на одну из деревянных лавок, установленных поперек вагона.
– Неправильно сел, мил человек, – сказал дядька в канотье. – Этот поезд не идет в Ланжерон.
Он подмигнул Кравцову и, перекинув спинку сиденья, усадил командарма лицом по ходу движения.
Кондуктор дернул за веревку. Прозвенел колокольчик, и вагон тронулся.
– Далеко собрались? – поинтересовалось канотье.
– До Александровского участка, – улыбнулся Кравцов, предвкушая продолжение.
– Так это, знаете ли, через весь город. А вы, извините за вопрос, не из местных?
– Нет.
– Так я вам сейчас расскажу за нашу Одессу! – радостно сообщил дядька и тут же перешел к делу: – Эта дорога на Аркадию. Но вы ведь не знаете, что такое Аркадия, или все же да? Вот в том доме, вот в том, том – с мансардой – жил раньше Майорчик… Не слышали?
Не слышал. Читал глазами. Будда, Валдис Будрайтис – оперработник Особого отдела Восьмой армии – составил довольно-таки подробное досье на людей, замешанных в убийстве Моисея Вольфовича Винницкого. Была в том уголовном деле и справка на Мейера Зайдера по кличке Майорчик, служившего адъютантом командира 54-го имени Ленина Советского революционного полка…
– Большой человек! – говорил между тем добровольный гид. – Говорят, у самого Котовского…
Котовский вроде бы дружил с Япончиком. Будрайтис считал, что дело не только в том, что они вместе сидели в тюрьме. Особый отдел располагал многими интересными фактами из биографии комбрига.
«Комкора, – поправил себя Кравцов. – Теперь он на корпусе. А интересно бы узнать, где нынче находится та папочка?»
Но сейчас Кравцова живо интересовал совсем другой вопрос. Знал ли товарищ Колядный о существовании этого самого дела и, если знал, догадывался ли, что Кравцов тоже читал собранный Будрайтисом материал?
Смерть Япончика была совсем не так проста и незатейлива, как рассказывали потом. Однако Кравцов доподлинно знал, что Никифор Урсулов не сам придумал расстрелять комполка Винницкого. Но бог с ним, если все еще жив. Дело в другом. В кровавом следе, протянувшемся через всю эту историю. Стрелял Урсулов, выполняя приказ то ли Подвойского, то ли Котовского. Но Будрайтис был уверен, интересы коммунистов и анархистов в этом конкретном случае сошлись. Речь, как прокуковала одна разговорчивая «кукушка», шла о больших тысячах, возможно, и миллионах в золоте и валюте. Хотя существовала и другая версия: Япончик просто слишком много знал, а кое-кто – тот же Котовский – уже начал подчищать биографию, готовясь войти в «новый светлый мир» совсем не тем человеком, каким был при «проклятом царизме». И вот Япончик застрелен, отпет в Одесской хоральной синагоге и похоронен на еврейском кладбище. Зачем же примчался в Одессу комиссар полка Фельдман? Почему потребовал вскрыть могилу? Что он ожидал там увидеть? Этого Будда узнать не смог. Секретаря Одесского Совета Сашу Фельдмана убили на Привозе налетчики, мстившие за смерть своего «короля». Такова была официальная версия. Фельдман прибыл в Одессу осенью девятнадцатого по заданию штаба Махно, был опознан на базаре и убит бандитами. Позже именем комиссара – видного украинского анархиста – назвали Приморский бульвар. Вот только стрелял в Фельдмана не какой-нибудь паршивый налетчик, а бывший подпоручик Стецько – известный в то время как отчаянный боевик анархистской дружины Эдельвейс. Стрелял он, а свалили на бандитов. Но Будда много чего тогда раскопал, и не все это исчезло вместе с Особым отделом расформированной армии. Кое-что твердо запечатлелось в больной голове бывшего командарма. И было среди этого «кое-чего» много такого, что и сейчас – и даже без документов – могло стоить Стецько, так быстро сменившему фамилию и партийную ориентацию, головы. Разумеется, он мог работать в ЧК или быть оперативником Региступра[4], но крепло у Кравцова подозрение, что это не так. И, следовательно, Эдельвейс оставался «открыт для предложений, от которых невозможно отказаться…». Никак, нигде и никогда!
К тому времени, как Максим Давыдович добрался до горкома; перевалило за два пополудни. Тем не менее Кравцов все еще был жив, а инструктор Кайдановская оказалась – по крайнему случаю, как выяснилось чуть позже, – на месте.
– Здравствуйте, товарищ Кайдановская, – сказал Кравцов, входя в кабинет.
– Максим Давыдович?! – вскочила из-за стола женщина, но выражение ее лица говорило скорее об удивлении, чем о радости. Впрочем, чего еще мог ожидать Кравцов? Если он и был когда-то видным мужчиной, то времена те давно миновали.
– Помешал?
– Да нет! Что вы! – она явно искала взглядом ордена на груди, да и нашивки какие-нибудь, наверное. Однако ни того, ни другого Кравцов пока не носил.
– У вас есть сейф? – спросил он, проигнорировав немой вопрос и переходя прямо к делу.
– Сейф? – удивилась Рашель Семеновна.
– Ну да, сейф, – кивнул на стоящий в углу несгораемый шкаф Кравцов. – Мне, видите ли, один документ надо бы в надежном месте сохранить, а сейфа у меня нынче нет.
– А что за документ? – озаботилась вдруг инструктор Кайдановская. – Если…
– Ничего, что могло бы вас скомпрометировать, – перебил ее Кравцов. – Слово коммуниста. Верите?
– Ну…
– Это мое завещание, – сказал тогда Кравцов, протягивая Кайдановской запечатанный сургучом пакет.
– Завещание? – подняла брови женщина.
– Вроде того, – кивнул Кравцов. – Но читать его пока не надо. В смысле, пока я жив.
«А потом и вовсе незачем…»
Это был всего лишь «риторический жест». Попытка создать условия, чтобы, говоря со Стецько, чувствовать себя увереннее. На самом деле на трех листочках плохой писчей бумаги была изложена краткая версия «материалов Будды», и одному богу известно, сколько еще таких историй припрятано в сейфах, тайниках и нычках здесь, в Советской России, и там, за ее кордонами. За плечами у многих ныне здравствующих товарищей оставались годы подполья, революция и гражданская смута, и много чего такого, что, как говорится, только война спишет. Но спишет или нет, это ведь вопрос случая, не так ли?
Комментарий
Совершенно очевидно, что «погиб» командарм Кравцов еще в ходе боев против Белой армии генерала Деникина в марте 1920 года, а пока он пребывал без сознания, РККА успела разгромить войска борона Врангеля и захватить Крым. Отгремела советско-польская война. Провозглашена Хорезмская народная республика. Образована Бухарская народная советская республика. Пали буржуазные республики Азербайджана, Армении и Грузии. Вспыхнул и подавлен Кронштадтский мятеж. Прошел Десятый съезд ВКП(б).
Персоналии[5]
Берзин, Ян Карлович (Петерис Янович Кюзис, 1889–1938) – советский военный и политический деятель, один из создателей и руководитель советской военной разведки, армейский комиссар 2-го ранга (1937).
Восьмая армия – сформирована приказом РВСР от 26 сентября 1918 года, переформирована в марте 1920 года в Кавказскую трудовую армию. В феврале – марте 1920 года под командованием Г. Я. Сокольникова участвовала в разгроме войск Деникина, захватила Кубань, Новороссийск.
Гай, Гая Дмитриевич (1887–1937) – советский военачальник, участник Гражданской войны.
Гиттис, Владимир Михайлович (1881–1938) – полковник Царской армии, советский военачальник, командовал фронтами во время Гражданской войны, комкор (1935).
Егоров, Александр Ильич (1883–1939) – советский военачальник, один из первых маршалов Советского Союза (1935).
Корк, Август Иванович (1887–1937) – подполковник Царской армии, командующий армиями в период Гражданской войны, командарм 2-го ранга (1935).
Лашевич, Михаил Михайлович (1884–1928) – российский революционер, советский военный деятель, участник левой оппозиции. Член РСДРП с 1901-го. Член ЦК в 1918–1919 годах. Член РВСР, входил в состав РВС ряда армий и фронтов, в том числе Южного фронта, командующий ряда армий.
Серебряков, Леонид Петрович (1888–1937) – член РСДРП(б) с 1905 года. С лета 1917 года – член и секретарь Московского комитета партии. В 1919–1920 годах – секретарь Президиума ВЦИК и одновременно член Реввоенсовета Южного фронта и ЦК РКП(б). Был начальником Политуправления РККА. С 5 апреля 1920 года по 8 марта 1921 года – секретарь ЦК РКП(б). С 1921 года работал в НКПС РСФСР (СССР). Сторонник левой оппозиции.
Сокольников, Григорий Яковлевич (1888–1939) – советский государственный деятель. Член РСДРП(б) с 1905 года. Член ЦК РСДРП(б) (1917–1919 и 1922–1930), член Политбюро ЦК РСДРП(б) (октябрь 1917), кандидат в члены Политбюро (1924–1925). В гражданскую войну член Реввоенсовета 2-й и 9-й армий Южного фронта. В 1920-м – командующий Туркестанским фронтом. С 1922 года заместитель и позже народный комиссар финансов, провел знаменитую денежную реформу, ввел в оборот золотой червонец. Принадлежал к левой оппозиции.
Уборевич, Иероним Петрович (1896–1937) – советский военный и политический деятель, командарм 1-го ранга (1935).
Глава 2
…Никогда не поздно
1
Весна прошла. Наступило лето. Жара, пыль. Но дела, имея в виду здоровье, как ни странно, пошли на лад. Не обремененный заботами, Кравцов вволю спал, питался сносно, а то и вовсе хорошо, писал обзоры на военно-теоретические темы, гулял и вскоре начал даже плавать. В былые годы он не просто умел держаться на воде, но и слыл настоящим спортсменом. Неву, помнится, переплывал, хотя это и не Волга. И в Италии неоднократно ездил к морю. После пресной и мелководной Балтики соленая вода в свое время сильно удивила Кравцова, но теперь он буквально блаженствовал, «растворяясь» в теплом физиологическом растворе черноморского разлива. Одна беда – большую часть времени сильные течения не давали морю достаточно прогреться, и Кравцов изрядно мерз. И это уже было отнюдь не удовольствие, но стимул к активной физической работе. Вот Макс Давыдович и плыл. Как и сколько мог, а возможности, увы, оставляли желать лучшего.
Однако постепенно мясо нарастало на костях, и тут и там начинали оформляться к вящему удовольствию хозяина всевозможные бицепсы и трицепсы, так что заметивший это Кравцов тут же поспешил придать стихийному процессу необходимые направление и осмысленность. Зарядочка по утрам, пробежки, стрельба из нагана, пешие прогулки и ежедневные заплывы сделали свое дело. Организм окреп, и повышенного пайка стало не хватать. Пришлось пустить в ход денежное содержание. Наличности у Кравцова было немного: оклад содержания красных командиров был и так невысок, да и то сказать – не оклад, а слёзы – по большей части выдавался натурой: крупами, картошкой, салом, ржавой селёдкой. Но, с другой стороны, Кравцов не был обременен ни семьей, ни поисками жилья. Он вполне мог позволить себе изредка прикупать на оставшиеся гроши кое-что из съестного у крестьян и содержавших приусадебное хозяйство одесских обывателей. Немного овощей и фруктов, вяленую рыбу, вино из-под полы – сухой закон на дворе, белый хлеб и самосад… Вроде бы и немного, но нелишне. Отнюдь нет.
И вот однажды утром, дело было в середине июля, Кравцов встал как всегда спозаранку – солнце только-только показалось над обрезом морского горизонта. Поприседал да поотжимался, «перекрестился» пару-другую раз пудовой гирей, пробежался по холодку до пустынного пляжа, окунулся не без удовольствия, поплавал и, пробежавшись в обратную сторону, то есть в гору, вернулся на «дачу».
Солнце уже стояло высоко. Воздух прогрелся, хотя настоящая жара еще не наступила. Кравцов сполоснулся холодной пресной водой, благо в заросшем саду за домом имелась настоящая действующая колонка. Артезианская вода не прогревалась и днем – в самое пекло, – а уж по утреннему времени могла и мертвого с одра поднять. Кравцов облился раз-другой, покряхтывая и матерясь сквозь зубы, обтерся, побрился и, как чуял, надел свежее белье и чистую форму: синие кавалерийские галифе, высокие сапоги и френч французского покроя. Перетянулся поясным и плечевыми ремнями, чтобы чувствовать себя не «абы кем», поправил, чуть сдвинув на поясе кобуру с наганом, привинтил ордена, воспользовавшись заранее пробитыми и обметанными ниткой дырочками на левой стороне гимнастёрки, и с чувством «пролетарской» гордости взглянул на себя в зеркало. Из мутной серебристо-ржавой мглы на Кравцова глянул высокий худой военный. Подтянутый, коротко стриженный, справный. На висках седина, над высоким лбом тоже, но глаза смотрят твердо, сухое лицо выражает решимость.
«Недурно, – решил Кравцов, изучив доступные восприятию детали. – Вполне».
Он спустился в «залу», служившую «дачникам» столовой, получил у повара – время завтрака только-только подошло – тарелку с ячневой кашей, три приличных по размеру ломтя ноздреватого и как бы влажного черного хлеба и худосочную сельдь едва ли в длину своей ладони. Налил из титана полулитровую кружку кипятка с морковной заваркой и сел за стол. Еда ушла быстро. Даже ржавая селедка, в которой больше соли, чем рыбы, закончилась раньше, чем Кравцов успел насытиться. Но он не отчаивался. Сегодня голодным ходить не придется. Бывший командарм наполнил кружку по новой, пожелал всем хорошего дня и ушел к себе – работать над очередным опусом. На этот раз он писал записку о милиционных формированиях. Не то чтобы на эту тему много написано, но кое-какой опыт имелся и во Франции, и в Североамериканских Соединенных Штатах. Да и у самого Кравцова после прочтения книги Тодорского «Год с винтовкой и плугом» появились неожиданно крайне интересные мысли о резервистах мирного времени. Возникало ощущение, что где-то он уже такое читал или слышал, вот только где, как бывало с ним уже неоднократно, вспомнить не мог. Приходили в голову какие-то глупости, что-то связанное с евреями[6], но при чем тут евреи и вовсе без чекушки не разберешь. А на дворе сухой закон, и до «рыковки»[7] еще, почитай, три года ждать, да и та, как бы не тридцатиградусная…
«Что за притча!» – Кравцов как раз пришел в свою «светелку» и заправлял морковный чай сахаром из «доппайка». А в дополнение к рафинаду ожидал своего часа и кусок черствоватого белого хлеба с твердой, словно каучук, конской колбасой, купленной третьего дня у татарина на Пятой станции Фонтана.
Что за «рыковка»? Водка? Тридцатиградусная? Глупости! Водка, как совершенно определенно помнил Кравцов, должна быть сорокаградусной. Это еще профессор Менделеев…
«И при чем здесь Рыков?»
Алексей Иванович, как хорошо знал Кравцов, был председателем ВСНХ РСФСР и членом оргбюро ЦК и никакого отношения к водке не имел. Да и водки в Советской России теперь не было, если только не сохранились где старые запасы…
И тут в дверь постучали, спугнув начавшую формироваться мысль.
– Да! – крикнул Кравцов, накрыв «завтрак» расшитым украинским рушником, приобретенным по случаю еще в мае на Привозе.
– Товарищ Кравцов! – Шелихов деликатно приоткрыл дверь, но в комнату не вошел, говорил из коридора.
Вообще-то, хоть о том никогда не было промолвлено ни единого слова, обитатели штабной «дачки», судя по всему, прекрасно знали, кто такой Кравцов, и соответственно держали дистанцию. Вежливо, без ажитации, но тем не менее. Все-таки бывший командарм и член ЦК – это не «просто погулять вышел». Сегодня бывший, а завтра – кто знает?
– Товарищ Кравцов!
– Тут я, – усмехнулся Макс Давыдович. – Входи, что ли!
– Да не, – откликнулся Шелихов. – Незачем. Только тут до вас товарищ инструктор из городского комитета…
«Кайдановская?! – вскинулся Кравцов. – Вот это да!»
– Где она? – он уже шел к двери.
– Я здесь.
Они едва не «поцеловались». То есть он шел быстро, а дверь возьми и откройся ему навстречу. А в проеме она. Глазищи огромные – светло-карие, золотистые, словно мед на солнце – кожа белая, тронутая веснушками на переносице и высоких скулах, и коса цвета осени, собранная короной на узкой, изящной, как у Нефертити, голове.
«Черт!»
– Рашель, – с трудом произнес он, чувствуя, как тяжко продирается голос через сухое, будто солончаки, горло. – Товарищ Кайдановская…
– Макс Давыдович… – она не отстранилась, только чуть запрокинула голову, глядя на него снизу-вверх. – А я вот…
Румянец вспыхнул на скулах, и краска стремительно потекла вниз по щекам, по узкой кости нижней челюсти, на шею и дальше – под высокий ворот темного платья.
– Да что же мы стоим так!
На самом деле так бы и стоял. И даже еще ближе. Или вовсе обнял. Но не в этой жизни. Не здесь, не сейчас.
«Когда? Где?»
– Проходите, пожалуйста, – сказал он то, что полагалось сказать, и отступил, освобождая путь.
– Да… Спасибо!
Наваждение кончилось, жизнь возвращалась в привычное русло.
«Солнечный удар».
Она прошла в комнату, огляделась рассеянно.
– Вас и не узнать теперь…
Прозвучало странно. Он к ней в горком заезжал то и дело. Находил повод и заходил. Последний раз – дней десять назад. Так что видела она его уже одетым по форме и при орденах.
– А вот вас трудно не узнать, – улыбнулся он.
Скованность – вообще-то совершенно не свойственная Кравцову в отношениях с женщинами – проходила. Возвращались уверенность в себе и иронично-холодный взгляд на «объективную реальность, данную нам в ощущениях» и называемую отчего-то жизнью.
– Чем обязан?
Нужно ли было брать этот тон? Но сделанного не воротишь. Спросил. А в ответ…
– Я, собственно, попрощаться зашла, – сказала женщина, обливая Кравцова темным золотом своего взгляда. – Я уезжаю…
– Как?! – Кравцов не верил своим ушам. – Как это уезжаете? Зачем?.. Куда? – спохватился он. – Когда?
– Сегодня, – ответила Кайдановская. – В Москву. ЦК прислал путевку… В Коммунистический университет.
«ЦК… Университет… Глупость какая!»
Но глупость или нет, а по факту получалось, что Кайдановская уезжает. И это оказалось лучшим поводом, чтобы понять простую вещь: она ему не безразлична. И более того: он, кажется, снова был влюблен.
«Возможно? – удивился Кравцов своей неожиданной застенчивости. – Не возможно, а наверняка. И я ей тоже… не безразличен. Иначе бы не пришла».
– Вот как, – сказал, подходя к женщине. – Это жаль, но ничего не поделаешь. Удачи, Рашель Семеновна!
Первоначально он на этом и намеревался закончить. Но, видимо, жизнь действительно возвращалась в «покойного» командарма.
Макс положил руки ей на плечи, сжал аккуратно и заглянул в распахнутые навстречу глаза.
– Я найду тебя, – сказал он. – Я, может быть, для того и жить остался, чтобы тебя встретить!
2
– Проходите, товарищ Кравцов. Садитесь!
Десятого августа Якир неожиданно вызвал Кравцова в Киев. Приказ передали по телеграфу. И, более того, бывшему командарму успели даже «подыскать» оказию – воинский эшелон, следовавший как раз через «Мать городов русских» куда-то на северо-запад. Ну, приказ – приказ и есть, а Кравцов давно уже забыл, что значит быть штатским, носить партикулярное платье и не зависеть ни от чьей воли, кроме разве что параграфов гражданского уложения. Собрался… «Как там говорится? Нищему собраться, только подпоясаться…» Закинул за плечо вещмешок и скатку шинели и отправился в Киев.
Дорога заняла почти три дня, но, в конце концов, Кравцов добрался до штаба округа. На дворе было уже тринадцатое августа. Стояла глухая ночь. Улицы Киева затоплены мглой, и город кажется покинутым и брошенным на произвол судьбы. В темных подворотнях, за глухими палисадами, в черных зевах переулков мерещатся бандиты и петлюровские недобитки, так что револьвер уже отнюдь не представляется декоративным элементом снаряжения, и даже напротив – сейчас Кравцов, едущий на извозчике в центр, не отказался бы и от чего-нибудь посущественнее: от «гочкиса», скажем, или «максима». Но нет у него пулемета и винтовки нет. Остается надеяться на судьбу и наган.
А еще приходят в голову мысли, типа, какого хрена надо было уезжать с обжитой и населенной живыми людьми станции и тащиться к какой-то матери в пустой по ночному времени штаб. Но тут он, как выяснилось, ошибался, не вполне оценив серьезности момента. Штаб округа не спал, а его, Кравцова, и вовсе «с нетерпением ожидали». Так что, не умывшись и не побрившись с дороги, как есть – в пропотевшем френче и с трехдневной щетиной на щеках и подбородке – Кравцов тут же, не успев даже толком переговорить с Якиром, был усажен в автомобиль и возвращен на вокзал. Там, на дальних путях, под усиленной охраной стоял бронепоезд с прицепленным в середине состава – между артиллерийским броневагоном и платформой с выложенным из мешков с песком бруствером – штабным вагоном наркома обороны Украины и Крыма Михаила Фрунзе.
– Проходите, товарищ Кравцов, – предложил Фрунзе. – Садитесь!
Максим Давыдович не стал жеманиться. Предлагают пройти и располагаться, почему бы и нет? Не к стенке же ставят. Да и любопытно стало. С Фрунзе он лично никогда не сталкивался и ничего особенного о «покорителе Крыма» не слышал. В те поры, когда Фрунзе принял Южный фронт, Кравцов уже числился среди покойников. А до того, пока был жив и командовал армией или дивизией, уж всяко разно было ему не до среднеазиатского театра[8]. Своих дел хватало.
– Почему вас поставили на Восьмую армию?
– Может быть, чаю предложите? – вопросом на вопрос ответил Кравцов, без спешки усаживаясь на стул.
– Будете чай? – как ни в чем не бывало, спросил Фрунзе и подвинул к себе по гладкой столешнице трубку и кисет.
– Спасибо, – кивнул Кравцов. – С удовольствием. И если у вас, Михаил Васильевич, еще и поесть чего найдется, совсем хорошо.
Простонародные нотки в гладкой интеллигентной речи Кравцова давались ему после трех лет Гражданской войны практически без всяких усилий. Сами собой приходили и оставались столько, сколько требовалось, то толпясь и высовываясь, если разговор шел с «братишками», то появляясь подобно редкому пунктиру, лишь обозначая принадлежность к кругу «своих».
Фрунзе глянул остро, на кравцовское «чего» кивнул и нажал кнопку электрического звонка. Ординарец появился практически сразу, видимо, знал и понимал службу правильно, а не как некоторые. А «некоторых», следует заметить, развелось в последние годы слишком много.
– Принесите, пожалуйста, товарищу стакан чая и что-нибудь перекусить, – мягко приказал Фрунзе и, обернувшись к Кравцову, стал неторопливо набивать трубку.
– Так как вы попали на Восьмую армию? – повторил свой вопрос нарком обороны Украинской ССР.
Было очевидно, обстоятельства болезни Сокольникова Фрунзе известны. Начальника военных сил Украины и Крыма интересовал совсем другой вопрос.
– Со Львом Давыдовичем я едва знаком, – неожиданно Кравцов поймал себя на странной мысли. Он не нервничал, не чувствовал ровным счетом никакого напряжения и, более того, вообще смотрел на этот ночной разговор как бы со стороны. Странное чувство, нерядовое переживание. Но скорее интеллектуальное, чем эмоциональное.
«Чудны дела твои, Господи!»
– Встречались в семнадцатом, в декабре, кажется, и позже… – Кравцов тоже достал кисет. – В ЦК, в РВС. Пару раз разговаривали, вот как мы с вами сейчас, но и все. Как начдив я имел несколько иную систему субординации.
– Но из нескольких довольно сильных кандидатур выбрали вас. – Фрунзе своего интереса не скрывал, смотрел внимательно, чуть прищурившись, чем, однако, несколько смягчал жесткость взгляда. Прищур сродни улыбке, намек на нее.
– Возможно, меня порекомендовал его заместитель Склянский. Мы с Эфраимом Марковичем оба врачи, знаете ли…
– Хорошо знакомы? – раскуривая трубку, поинтересовался Фрунзе.
Склянский, как ни крути, зампред Реввоенсовета республики и не последний из членов ВЦИК.
– Не друзья, если вы это имеете в виду, – Кравцов скрутил самокрутку и, зажав ее в углу рта, потянулся за спичками. – Скорее взаимная симпатия. Но за меня мог высказаться и начфронта Егоров или Владимир Ильич… Вариантов много, но единственно правильного я не знаю.
– А так всегда бывает, – неожиданно улыбнулся Фрунзе, и как раз в этот момент, вслед за легким стуком в дверь, в салон вернулся ординарец. Он принес два стакана чая, сахарницу с колотым сахаром, вазочку с печеньем и тарелку с бутербродами.
Кравцов обратил внимание, что посуда в салон-вагоне не разномастная, стаканы в серебряных подстаканниках, а бутерброды сделаны из хорошего ржаного хлеба с полукопченой колбасой.
– Спасибо, – поблагодарил он ординарца и, пыхнув самокруткой, потянулся к сахарнице.
– Вы знали Махно?
Кравцов отметил, что Фрунзе назвал комбрига по фамилии, хотя по нынешним временам его «приказано было помнить» исключительно как героя Гражданской войны. Комбриг-три Заднепровской дивизии Махно, начдив Двадцать пятой дивизии Чапаев или Сорок четвертой – Щорс… Герои… мертвые…
«Может быть, и командарму-восемь Кравцову следовало остаться с ними?» – мысль, не лишенная бравады, таящая в глубине своей обычный человеческий страх.
Азин, Кравцов, Миронов… Наверняка и еще пара-другая мертвых командармов наберется. Война большая, людей много.
– Я знал Нестора Ивановича, – сказал он вслух, размешивая сахар в стакане.
– Какой он был? – Фрунзе тоже не пил чай вприкуску.
«Какой?»
Кравцов вспомнил весну девятнадцатого. Уже началась травля. Харьковские «Известия» напечатали насквозь фальшивую, мерзкую статью «Долой махновщину», командующий Украинским фронтом Антонов метал громы и молнии…
– Здравствуй, Макс! – сказал Махно, входя в разбитое здание вокзала, где Кравцов разместил свой штаб.
Невысокий, худощавый, комбриг казался моложе своих лет. Темные глаза выдавали энергичный и быстрый ум.
– Раздавят, к бесу, – ухмыльнулся он, подходя к вставшему навстречу начдиву. – Прут и прут, а у меня и снарядов уже не осталось, и патроны на исходе…
Казалось, Нестор шутит. Но какие там шутки! Положение, и в самом деле, сложилось критическое: Деникин наступал по всему фронту, и Красная армия откатывалась к Москве. Однако здесь и сейчас, на этом конкретном участке жестокой войны «бандиты» Махно держали фронт…
«Каким он был?»
Но на самом деле вопрос Фрунзе о другом. Каким мог стать Нестор, если бы не шальная пуля тогда, в ноябре двадцатого?
– Он был сложным человеком, – Кравцов чувствовал, что может сказать то, что думает. Ну, почти все. – Идеалист, разумеется, учитывая обстоятельства его жизни, – Кравцов отпил немного горячего чая и не без раздражения покосился на бутерброды. – Однако и превосходный политик, отличный тактик маневренной войны, отменный организатор. Жаль, что Нестор Иванович так и не смог найти дорогу к нам. Я имею в виду коммунистов-большевиков.
Пожалуй, последняя фраза была лишней. Но что сказано, то сказано. Само как-то сказалось…
– Лев Давыдович Махно не любил, – Фрунзе по-прежнему смотрел прямо на Кравцова. – Не доверял, и, наверное, не напрасно. Махно – не наш. Крестьянский вождь, остальное – от лукавого. Назовись он хоть социал-демократом, хоть трудовиком[9], а все равно не с нами он был. Хотя до времени и не против нас.
– Да, – согласился Кравцов с очевидным. – Так и есть, но вы спросили, каким он был. Я попытался ответить.
– Вызывал симпатию? – пыхнул трубкой Фрунзе.
– Скорее располагал к себе.
– А говорят, бандит…
– Сам никогда, – покачал головой Кравцов и, затушив окурок, все-таки взял с тарелки бутерброд.
Колбаса пахла чесноком. И от этого запаха рот Кравцова непроизвольно наполнился слюной.
«Прямо как собака Павлова…»
– Он был человек чести, – сказал бывший командарм, возвращая Фрунзе твердый взгляд. – За разбой, насилие расстреливал. Уважительно относился к женщинам, не был антисемитом… Много у нас таких командиров?
– Опасные вещи говорите, товарищ Кравцов, – усмехнулся чем-то, несомненно, довольный командующий. – Ну, вам как бывшему покойнику пока можно. Однако в дальнейшем я бы на вашем месте воздержался. Да и сейчас. Со мной – одно дело, а… гм… с кем-нибудь другим – не советовал бы.
– Понимаю, – кивнул Кравцов и откусил приличный кусок хлеба с колбасой, лишая себя возможности продолжать разговор.
– Я читал ваши «сочинения», – Фрунзе не возмутился и продолжал говорить как ни в чем не бывало. – Весьма занимательные, надо сказать, обзоры. Содержательные и написаны хорошо. Но вам, Максим Давыдович, не помешало бы подучиться… Как смотрите, товарищ Кравцов, если мы вас в Академию РККА пошлем, в Москву?
«В Москву?»
Перед глазами сразу же встало лицо Рашели. Она смотрела на него, словно бы спрашивая с укоризной, и ты еще сомневаешься?
– Согласен, – прожевав кусок, ответил бывший командарм.
– Ну, вот и отлично! – еще шире улыбнулся Фрунзе. – Тогда вы, товарищ Кравцов, едете со мной. Я как раз в Москву… А вернетесь после учебы, лично буду рекомендовать вас на корпус. Лады?
3
Москва встретила дождем, вернее, грозой. Пока грохотал гром и молнии гвоздили темный город, Максим Давыдович оставался в бронепоезде Фрунзе. Сам командующий уехал буквально за несколько минут до того, как хлынул ливень. Его ждал известный своей педантичностью Троцкий, и Фрунзе счел за лучшее не входить с предреввоенсовета Республики в конфликт по пустякам. Любит точность, будет ему «швейцария»! А Кравцов задержался, предпочтя плотный завтрак в поезде командующего путешествию через полгорода на своих двоих, да еще и на голодный желудок. Ему спешить некуда, вот он и стоял в тамбуре пульмановского вагона, предназначенного для порученцев и штабных, курил и смотрел на льющуюся с грозных небес воду. Ему было о чем подумать. Как ни крути, с приездом в Москву для Кравцова опять начиналась «новая жизнь». Здесь, в столице, его ожидали встреча с Рашель и неопределенность судьбы. И то, и другое ощущалось как нечто накрепко вплетенное в саму основу его нынешнего бытия и как таковое с трудом постигалось – если было вообще возможно для охвата – быстрой и поверхностной по своей природе человеческой мыслью.
«Экзистенциализм, однако…»
Гроза выдохлась вдруг. Лениво упали на мокрую землю последние крупные капли, небо неожиданно очистилось, и солнечные лучи заставили засверкать мокрую листву липы, росшей совсем рядом с железнодорожными путями. Кравцов отбросил окурок, закинул за спину вещмешок, и, пожелав всем, кто оказался рядом, «счастливо оставаться», отправился искать Академию РККА. Впрочем, все оказалось куда сложнее, чем он мог себе вообразить.
Начать с того, что Кравцов практически не знал Москвы. До революции побывать в Первопрестольной не сподобился, а во время Гражданской приезжал обычно не один и каждый раз как-то устраивался. Не то теперь. Кравцов лишь в самых общих чертах представлял, что Военная академия РККА находится где-то на Воздвиженке и что это «где-то» территориально примыкает к Александровскому саду, а значит и к Кремлю, в котором Макс Давыдович как раз бывал неоднократно. Предполагал он так же, что дорога туда от Брянского вокзала неблизкая, но и вообразить затруднялся, как намучается, выспрашивая у хмурых и немногочисленных прохожих дорогу через путаный лабиринт чужого города.
Москва казалась пустоватой и обветшалой, но новая экономическая политика явно начинала приносить свои противоречивые плоды. Тут и там на выцветших стенах домов виднелись вывески, писанные по новой орфографии, когда на холстине, сделанные, что называется, на живую нитку, а когда и основательные – с претензией – деревянные, укрепленные на массивных железных костылях. В нижних этажах зданий – в полуподвалах и цокольных этажах – открылись уже какие-то лавочки, где торговали съестным и зеленью, кустарные мастерские и даже кафе. Увы, но заведения новоявленных буржуа, какими бы мелкими и неказистыми они ни казались, человеку, живущему на обычный строевой оклад командира батальона, были не по карману. Во всяком случае, человеку, не занимающему никакой приличной должности, а именно таким и являлся на данный момент Кравцов.
Поймав себя на этой мысли, Максим Давыдович хмыкнул, пожал мысленно плечами и пошел дальше, поскольку проезд на трамвае оказался для него недостижимой роскошью. Попытка сесть на одно из этих погромыхивающих на плохо уложенных рельсах «чудовищ» закончилась выяснением неприятной истины: ездили москвичи не за деньги, а по годовым билетам и маршрутным карточкам, получить которые можно только в общественных организациях и учреждениях. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, извольте познакомиться с отрыжкой военного коммунизма! Но и это не все, хотя для Кравцова и того вполне достаточно. До десяти утра проезд, оказывается, разрешался лишь рабочим и служащим, следующим к месту работы, а куда «следовал» Максим Давыдович, никто не знал. Не было у него на этот случай правильно оформленной бумаги.
Тем не менее до Академии он все-таки добрался. Однако на этом мытарства Кравцова не закончились. Нет, не так. Мытарства-то как раз завершились, но «одиссея» только началась.
Кравцов вошел в вестибюль Академии РККА и остановился, размышляя над тем, что ему теперь следует предпринять. Здание, в котором ныне размещалась академия, в прошлой жизни являлось чем-то вроде охотничьего клуба. Во всяком случае, Макс Давыдович определенно что-то такое слышал еще в Одессе, да и декор фойе наводил на определенные размышления. С обеих сторон от пологой мраморной лестницы застыли с подносами в лапах – для визиток, по-видимому – чучела огромных медведей. В простенках между высокими окнами висели оленьи и кабаньи головы на дубовых и буковых щитах, рога маралов и лосей, оскалившие клыкастые пасти «посмертные маски» волков и рысей. По лестнице и через просторный вестибюль проходили военные в привычно разномастной форме, обмундированные кто лучше, кто хуже, точно так же, как и разнившиеся по возрасту – от совсем молодых до «старых», но никому из них до Кравцова дела не было. Пришел, значит надо. Стоит – его дело. Но тут Максиму Давыдовичу наконец улыбнулась удача.
– Максим?
Кравцов обернулся на голос.
К нему через вестибюль шел высокий молодой командир с узким, отмеченным почти девичьим румянцем лицом и пронзительно голубыми глазами.
– Кравцов! А говорили, погиб ты!
– Здравствуй, Юра! – Кравцов шагнул навстречу Саблину и от души обнял старого друга.
Впрочем, если мерить обычными мерками, какой ему Саблин друг?! Так, приятель. Может, сослуживец. Они и знакомы-то были всего ничего. Но тот год – с весны восемнадцатого по лето девятнадцатого – казался теперь длинным как жизнь. И случилось тогда с ними на Украине много такого, что с иным кем и за всю-то жизнь не произойдет.
– Два! – ткнул Кравцов пальцем в ордена Красного Знамени на груди Саблина. – Когда успел второй получить? Где?
– В Крыму, – коротко объяснил бывший комбриг, имея в виду и время и место. – Мы с комиссаром моим, Мехлисом… Не знаю, ты с Левой Мехлисом знаком или нет?
– Мехлис? – переспросил Кравцов, пытаясь вспомнить. Фамилия была ему знакома, но подробности в памяти не всплывали. – Комиссар? Комиссар чего?
– Сорок шестой дивизии.
– Так ты уже начдив! – поднял бровь Кравцов.
– Был начдивом, – махнул рукой Саблин. – Сейчас мы все только слушатели. Вон Гай кавкорпус в бой водил, а тоже сидит как миленький и сочинения о роли гоплитов в Пелопонесской войне пишет. А с Мехлисом мы всего-навсего цепи поднимали. Сам понимаешь, обычное дело под пулеметами… Постой! – встрепенулся Саблин. – А ты здесь как?
– Да, вот учиться послали…
И завертелись жернова пока еще не истории, а военно-партийной бюрократической машины, но «E pur si muove!», как говорится.
И все-таки она вертится!
«Ну, где-то так и есть…»
Саблин, ухвативший буквально с первых слов рассказа суть возникшей проблемы, взял Кравцова «на буксир» и поволок по инстанциям. Тем более что Кравцов, как выяснилось, «что дите малое», а москвичи… «Ну, что я тебе буду рассказывать о москвичах, если ты петербуржец!»
– Уж не знаю, право, где тебя, Макс, носило, но дороги от Брянского вокзала до центра, если через мост, минут десять-пятнадцать, никак не более. И в трамвае, голубь мой, проезд за деньги разрешен. Дорого, конечно, но не смертельно, хотя до десяти часов утра, и в самом деле, не актуально…
Перво-наперво они отправились к военному коменданту города, поскольку Кравцов пока был в Москве никто, и только комендант мог сделать его «кем-то». А комендантом, на удачу, оказался снова же земляк с Украины – комбриг из 58-й дивизии Петр Пахомович Ткалун. Знакомство, разумеется, шапочное, но все-таки знакомство.
– Кравцов… – наморщил высокий лоб Ткалун. – Постой, постой! Максим Кравцов? Командарм-восемь?! Так ты живой, получается?!
– А живым, Петр Пахомович, – тут же вставил попыхивающий трубочкой Саблин, – есть, пить надо. И крышу над головой, потому что так есть хочется, аж переночевать негде!
– Сделаем, – улыбнулся Ткалун. – Как землячку не порадеть!
Но в результате Кравцов получил все то же самое, что получил бы на его месте любой другой военный, приехавший на учебу в Москву. Тот же черный пайковый хлеб, те же талоны на питание… и та же маршрутная карточка для проезда на трамвае да несколько билетов в Большой и Художественный театры. Последнее обстоятельство неожиданно показалось Максу весьма и весьма соблазнительным. Но вот жилье бывший командарм, вполне возможно, получил чуть лучшее, чем многие другие.
– А давай его к нам, во Вторую военную гостиницу, – предложил Саблин. – У меня как раз сосед съехал.
– К Никитским воротам, что ли? – нахмурился Ткалун. – Так у вас же там жить невозможно. В прошлую зиму, говорят, не только мебель, но и паркет в печках пожгли.
– Так точно, ваше благородие! – сверкнул голубизной глаз Саблин. – Как есть пожгли, басурмане! И обои со стен ободрали и сожгли. Варвары-с!
– Ну и? – Ткалун в отличие от Саблина был занятым по службе человеком и тратить дорогое казенное время на глупости не желал.
– Отремонтировали в июле, – кисло «закруглил» тему шутник, и, получив все необходимые бумаги, Кравцов и Саблин отправились на Бульварное кольцо.
Двухэтажное здание бывшей третьеразрядной гостиницы размещалось на небольшой площади около Никитских ворот. Место показалось Кравцову смутно знакомым, но опять, как и во многих других случаях, чувство это было сродни дежавю. Ничего определенного, лишь смутный образ, словно птица, летящая сквозь клубящийся туман. Видел как-то Кравцов такой пролет чайки сквозь затопивший Эдинбург вечерний туман…
«Эдинбург?! Какой, к бесу, Эдинбург?! Я же и не был там… никогда».
И такое уже тоже случалось. Вдруг всплывало в памяти что-то «совсем не то», и что с этим делать, Кравцов совершенно не представлял. Он предполагал, впрочем, что подобные странности – суть манифестации некоего системного расстройства психики, но сообщать об этом кому бы то ни было не собирался. Он совершенно не хотел возвращаться в разряд увечных. А посему…
«Перетрем! – твердо решил Кравцов, обозревая окрестности своего нового местопребывания. – А муку съедим!»
По здравому размышлению, место могло показаться ему знакомым оттого, что живо напоминало события минувших лет. Война – она и в Москве война, как и в любом другом месте.
От сгоревшего большого дома, выходившего фасадом на бульвар, остался только скелет. На стенах вокруг легко различимы выщерблины, оставленные пулями и осколками, а посередине площади высилась огромная куча битого камня…
– Это еще с октябрьских боев осталось, – пояснил Саблин. – Тут в округе несколько зданий артиллерией разбили, вот камни и собрали. Есть мнение, памятник Кропоткину из них построить.
«А, точно! – вспомнил Макс. – В феврале же умер князь Кропоткин!»
Впрочем, в то время Кравцов все еще пребывал «по ту сторону Добра и Зла», но имя великого теоретика-анархиста напомнило ему еще одну причину, по которой сблизились он и Саблин тогда, в восемнадцатом. Саблин, как и Макс, происходил из бывших студентов, ставших офицерами военного времени, и к тому же состоял до недавнего времени в партии социалистов-революционеров. «Кругом бывшие, – пошутил тогда всегда веселый и легкий на шутку Юрий. – Хорошо еще, что не бывшие девушки…»
А гостиницу на самом деле недавно отремонтировали, что по нынешним временам следовало полагать чудом. И комната – после долгого и нудного препирательства с комендантом – Кравцову досталась отменная. Просторная, с высоким венецианским окном, камином и свеженастеленным дощатым полом. Стены заново оклеены весёленькими бумажными обоями, а из мебели присутствовали просторный кожаный диван-софа, потертый, но как будто бы пригодный еще для сна и отдыха, стол, стул, тумбочка и роскошная деревянная вешалка. Мебель, надо полагать, привезли из какого-нибудь склада-распределителя, отобрав по списку-минимуму, но для Кравцова все это: и комната, и мебель – представлялись какой-то невероятной удачей, сродни божественному промыслу.
– Ну, вот, – сказал, улыбаясь, Саблин и обвел комнату одним движением узкой «интеллигентской» кисти. – Владей, Макс! Полулюкс, даже женщину привести не стыдно.
«Это да…» – неожиданно Кравцов почувствовал, что краснеет, ну или кровь в голову ударила, что с медицинской точки зрения в сущности одно и то же.
4
Тот день еще долго тянулся, хотя Кравцову вроде бы не привыкать: на войне и не такое случалось. Но вот здоровье уже не то. То есть все относительно, разумеется, и Максим Давыдович вполне допускал, что когда-нибудь – и возможно, очень скоро – он окончательно оправится, раз уж дела пошли на лад. Однако шести месяцев, что миновали со дня его неожиданного «воскрешения», для такого подвига оказалось недостаточно. Так что вымотался изрядно – не то что в «раньшие» времена, – и, сидя в комнате у Саблина за полночь, за неспешным разговором и разрешенным к употреблению недавним декретом «двадцатиградусным винцом», нет-нет да клевал носом. Но и то сказать, сколько всего за один день успело случиться, не говоря уж о том, сколько километров протопал Кравцов на своих двоих по мощенным булыжником улицам Москвы. В Академию, в комендатуру и гостиницу, и опять в Академию, чтобы уже в сумерках вернуться к Никитским воротам. Но не зря хотя бы. Дел переделали – спасибо, Юре Саблину – немерено. Даже с начальником академии Тухачевским поговорить смогли. Михаил Николаевич показался Кравцову несколько излишне молодым и красивым, да еще, пожалуй, ощущалось в нем некое чувство превосходства. Взгляд сверху вниз, так сказать, что не нравилось Кравцову никогда и ни в ком. Хотя, с другой стороны, не каждый человек способен из штабс-капитанов в командующие фронтом сигануть. Нет, не каждый.
– Доброй ночи, товарищи красные командиры!
Дверь растворилась без хамства. Не резко и только после аккуратного, но решительного стука костяшками пальцев. Эдакое предупредительное – в смысле предупреждающее – тук-тук-тук, вроде стрекота телеграфного ключа, секунда паузы, и дверь начинает открываться.
– Здравствуй, Макс, и тебе, товарищ Саблин, наш пролетарский привет!
В проеме двери стоял невысокий, но крепкий мужчина с решительным, хотя и не без живости, взглядом темных глаз и короткой щеточкой усов под крупным и недвусмысленным носом. За его широкими плечами маячил еще один военный, но помоложе и потоньше.
– Интересные дела! – встал, сразу заулыбавшись, Кравцов. – А в лавке тогда кто?
– Ну, мало ли кто! – рассмеялся Урицкий. – Иди сюда, дитятко, дай обниму!
Семена Урицкого Кравцов знал с семнадцатого года и уважал за ум, хватку и порядочность. Во всяком случае, между своими племянник не к ночи будь помянутого председателя Питерской ЧК отличался даже несколько излишне прямолинейной честностью. За что и был одними любим, а другими столь же «сердечно» ненавидим.
– Рад тебя видеть, чертяка! – искренне признался Кравцов, обнимая старого друга. – А я слышал, тебя на Одесский укрепрайон прочили.
– То-то и дело, что прочили, – усмехнулся Урицкий, отодвигая от себя Кравцова и рассматривая его с неподдельным интересом. – А потом передумали, – легко пожал он плечами. – Оставили здесь, для особых поручений при Региступре и разрешили подучиться. А то ж у меня кроме школы прапоров за душой живого места нема.
Семен придуривался, разумеется. Он и раньше, в Гражданскую, любил представиться незнакомым людям эдаким простым, как маца, еврейским парнем из Одессы. Но все было не так просто. Урицкий умел говорить по-русски без какого-либо видимого акцента, свободно владел немецким, неплохо – французским и румынским. Был прилично образован, хотя большей частью не благодаря формальному обучению, и, наконец, состоял в большевистской партии с девятьсот двенадцатого года, то есть с тех пор, когда половина нынешнего ЦК «ходила» еще в эсерах, меньшевиках и бундовцах или вовсе под стол пешком. Ну, и в довесок, школу прапорщиков Семен Петрович закончил в шестнадцатом году и к революции выслужился чуть ли не в поручики, что совсем немало для бывшего приказчика одесских аптекарских складов.
– Так, а что пьем? – Урицкий шагнул к столу, поднял железную кружку Кравцова, нюхнул, шевельнув крупным носом, и вернул посуду на стол. – Это, товарищи, не питье, а, как говорят мои родственники, писахц. Этим если только девушек угощать… – с этими словами он вытащил из кармана коричневых галифе бутылку мутно-зеленого стекла с горлышком, заткнутым самодельной – из многократно свернутой бумаги – пробкой. – А ну, все к столу!
– Ты бы, Семен, хоть спутника своего представил! – посетовал Саблин, заметивший, как мнется у входа в комнату незнакомый военный.
– От черт! – взмахнул рукой Урицкой. – Экий я, право слово, невежливый стал! Пентюх пентюхом! Знакомьтесь, товарищи! – кивнул он на компаньона. – Гриша Иссерсон. Тоже, к слову, из бывших прапоров…
5
– Назовите войны Екатерины Великой, – генерал Верховский казался невозмутимым, но, по-видимому, весь этот фарс с экзаменационными испытаниями «бывших хорунжих и половых» ему изрядно надоел. Оттого и вопрос прозвучал то ли вызовом очередному «кравцову» от сохи, то ли признанием своей беспомощности перед профанацией идеи экзаменовать абитуриентов вообще.
– Вам как, Александр Иванович, – ничуть не смутившись, спросил Кравцов, – перечислить войны в хронологическом порядке или в связи с геополитическими, в терминах Рудольфа Челлена, и стратегическими императивами Российской империи?
– Простите? – У бывшего военного министра было узкое лицо, волосы, расчесанные на двойной пробор, элегантные «штабс-капитанские» усы и умные интеллигентные глаза профессора экономики.
– Вы меня, вероятно, не помните, Александр Иванович, – вежливо улыбнулся Кравцов, которому отчего-то стало вдруг неловко. – Я приезжал к вам в Петроград в сентябре семнадцатого, в составе делегации Юго-Западного фронта…
– Постойте, постойте… – нахмурился Верховский, припоминая события канувшей в Лету эпохи. – Вы тогда, кажется, передавали мне привет от моих… товарищей из Севастополя…
Кравцов обратил внимание, что Верховский не упомянул о принадлежности упомянутых «товарищей» к партии социалистов-революционеров. И неспроста, надо полагать, а из аккуратистской предусмотрительности, свойственной истинным русским интеллигентам. Не хотел подводить Кравцова, не зная с определенностью ни о прошлых, ни о нынешних его обстоятельствах. Сам Верховский был тогда членом эсеровской партии, оттого и военным министром в августе стал. Взлет для полковника – немыслимой крутизны в любые, даже и в революционные времена.
– Так точно, товарищ Верховский, – отрапортовал Кравцов, сам уже сожалевший, что поднял эту щекотливую тему. – Привет… из Севастополя.
– Тогда, давайте поговорим о Семилетней войне…
Следовало предположить, что тема, затронутая Кравцовым, оказалась генералу неприятна, и Макс Давыдович вполне его понимал. Ему и самому порой становилось неуютно, хоть он и избирался однажды даже членом ЦК РКП(б). Судя по некоторым признакам, все шло к открытому политическому процессу над партией социалистов-революционеров, и, хотя дело прошлое, нет-нет да приходили в голову тревожные мысли: что если и ему, Кравцову, припомнят вдруг его «эсеровский стаж»?
– С удовольствием, – кивнул он, сосредотачиваясь на заданном вопросе. – Итак, Семилетняя война. Характер и протяженность во времени и пространстве этого военного противостояния делает его по меткому определению одного английского политика первой по-настоящему мировой войной…
– Это кто же там такой умный? – поинтересовался генерал Гатовский, которого за глаза называли злым гением генерала Куропаткина.
– Первый лорд Адмиралтейства Черчилль, – с готовностью объяснил Кравцов, не назвав, впрочем, Уинстона Черчилля «сэром».
Экзамены проходили гладко. Математику – гимназический курс – Кравцов, как выяснилось, забыть не успел. И даже «Планиметрию и стереометрию» Киселева помнил, как ни странно, вполне сносно. Сочинение о Пунических войнах написалось легко, во всяком случае, без каких-либо видимых затруднений. Ну, а устный экзамен вообще вылился, в конце концов, в свободную дискуссию о различиях в тактике генерал-фельдмаршала Румянцева, генералиссимуса Суворова и короля Пруссии Фридриха Великого. Верховский эрудицией Кравцова остался доволен, Василий Федорович Новицкий – тоже, а Гатовский и вовсе хотел было расцеловать бывшего командарма, но сдержался из соображений дисциплины. Однако и то правда: отнюдь не все абитуриенты Академии РККА, даже и те, кто отменно показал себя в бою, могли продемонстрировать столь высокий уровень подготовки. Кравцов смог и оказался этим фактом даже несколько удивлен. Сам от себя не ожидал.
6
По дороге на Миусскую площадь, где в бывшем здании Народного университета имени Шанявского размещался ныне Коммунистический университет имени Свердлова, Кравцов много и трудно думал о том, зачем, собственно, тащится этим утром в главную кузницу партийных кадров. Выходило, что бывший командарм, и в самом деле, сподобился «на старости лет» влюбиться по-настоящему, и, направляясь теперь туда, где можно было – если повезет – повстречать Рашель Кайдановскую, нервничал словно мальчишка, летящий на неверных ногах на свое первое в жизни свидание. Но «свидание» оставалось пока под большим вопросом и в любом случае не было оно в жизни Кравцова ни первым, ни даже вторым. И Рашель Семеновна Кайдановская никак не могла стать его первой женщиной. То есть пока она вообще не являлась «его женщиной» по определению. Но даже если бы и являлась, что с того? Бывший командарм и сам не мальчик, да и инструктор Одесского горкома наверняка давно не девочка, как бы молода она ни была. Но вот ведь странность «посмертного» существования, многое теперь виделось Кравцову совсем не так, как когда-то, в его «прошлой жизни».
Обнаружив эту странную истину, Кравцов смутился и попытался думать о чем-нибудь другом. Однако попытка эта неожиданно завела его в очередной тупик, выход из которого вел, как казалось Кравцову, или прямиком в клинику Корсакова, ко всем этим доморощенным кащенкам и сербским, или уж к попам. Слишком много приходило в голову странных мыслей, и не только мыслей, если уж на то пошло. Университет Шанявского, например, вызвал у Кравцова стойкую ассоциацию с каким-то психологом по фамилии Выготский. При этом, с одной стороны, Кравцов твердо знал, что ни о каком Выготском сроду не слыхивал, а с другой стороны, помнил, что зовут психолога Лев Семенович и что он успел уже, несмотря на молодость, написать книгу под названием «Психология искусства»…
«Надо бы найти и перечитать…»
Оставалось только вздохнуть и свернуть самокрутку. В последнее время такие «провалы» в неведомое случались с Кравцовым все чаще и чаще, порой открывая захватывающие дух перспективы, в других же случаях пугая «ужасными безднами», от постижения которых хотелось попросту застрелиться. Он постоял немного, пережидая приступ паники, нарочито медленно закурил, взглянул на плакат, призывающий сдавать деньги в фонд помощи голодающим Поволжья, и пошел дальше, вспоминая, чтобы успокоиться, стихи и песни на всех известных ему языках.
Стихотворный ритм и разноязыкие рифмы убаюкивали смятенное сердце и не давали «оступившемуся» сознанию впасть в панику. И это было лучшее, на что Кравцов мог надеяться.
А подковки сапог звенели по влажному булыжнику, и люди тенями возникали перед Кравцовым, чтобы незамедлительно сместиться в стороны и исчезнуть за спиной. Платки и кепки, солдатские папахи и плоские мягкие фуражки, шинели, шали, какие-то пальто… Погода стояла сырая и холодная. Осенние дожди, темные тучи, стылый ветер. Словно бы и не середина августа, а ноябрь. Не теплая «домашняя» Москва, а гнилой, простуженный Питер.
«Споемте же песню под громы ударов…» – вспомнилось вдруг под звон и грохот проезжающего мимо трамвая.
«Под взрывы и пули, под пламя пожаров…» – Кравцов внутренне встрепенулся и, хотя крутить головой как полоумный не стал, зыркнул глазами из-под полуопущенных век.
«Под знаменем черным гигантской борьбы…»
Что-то было не так, и он должен был быстро, даже очень быстро понять, что это и откуда взялось.
«Под звуки набата призывной трубы!» – моторный вагон трамвая прогрохотал мимо Кравцова, и бывший командарм увидел женщину, идущую по противоположной стороне улицы в ту же сторону, что и он. Сейчас Кравцов видел ее со спины: длинная тяжелая юбка из темной плотной ткани, просторная бурая кацавейка, линялый шелковый платок на голове. Торговка, мещанка из обедневших… Или бери выше: прямая спина, гордая посадка головы, офицерские кожаные сапоги – поношенные, но крепкие – виднеющиеся под низким, до щиколоток подолом. Но еще раньше, до того, как трамвай разрезал улицу на две дрожащие от его грохочущего движения части, женщина эта вышла на улицу из дверей «обжорки». Одного из тех заведений, где за тридцать тысяч можно кофе попить или тарелку щец выхлебать. Вышла. Поднялась по ступеням из полуподвала, и Кравцов мазнул равнодушным, «не сосредоточенным» взглядом по ее бледному, изможденному лицу. Мешки под глазами, тяжелые, «уставшие» веки, впалые щеки… И все-таки что-то зацепило в этом «простом» образе, отдалось набатом в гулком пространстве памяти, выбросило на поверхность идиотские слова из «Марша анархистов». Знакомые черты? Отблеск былой красоты?
Кравцов смотрел вслед уходящей по улице женщине и пытался «оживить», воссоздать в памяти образ, мелькнувший перед ним несколько мгновений назад.
Большие глаза… Надо полагать, серые, хотя ему их отсюда было не рассмотреть. Черная прядь… Брюнетка… Линия подбородка, тонкий нос… Кто-то говорил, кокаинистка… Возможно. Может быть. Но факт, интересная женщина, несмотря ни на что… А в Париже, осенью тринадцатого…
Кравцов вспомнил красавицу в шелковом платье цвета спелых абрикосов, жемчужную улыбку, высокую грудь…
«Она? – думал Кравцов, идя по улице вслед за женщиной. – Здесь, в Москве, в двадцать первом году? Но я тоже вроде бы мертвый, а ничего. Жив и почти здоров, на свиданье вот иду…»
…Сидели в «Ротонде» или «Доме»… Монмартр… фиолетовый город за оконными стеклами… За столиком трое: Кравцов, Саша Архипенко, уже успевший сделать себе имя выставками в салоне Независимых, и незнакомый молодой художник…
«Сутин, кажется… Исаак или Хаим… Что-то такое…»
…Крутнулся поставленный «на попа» барабан вращающейся двери…
«Русская рулетка», – подумал Кравцов.
И в зал кафе вошла женщина, исполненная странной, опасной красоты и грации. Ее сопровождал высокий смуглый мужчина. Волосы у него были такие же черные, как у нее, но тип красивого лица совсем другой…
– Знаешь, кто это? – спросил Архипенко. – Это Мария Музель – отчаянная анархистка. Говорят, в России ее приговорили к бессрочной каторге, а она подняла восстание в Нерчинске и бежала через Китай или Японию в Америку. Представляешь? Тут все сейчас от нее с ума сходят.
– Она красавица, – выдохнул Сутин.
– Она бомбистка, Хаим. – Покачал головой Архипенко.
«Точно! – вспомнил Кравцов сейчас. – Того художника звали Хаим, и он тоже был родом с Украины…»
– …Бомбистка? – удивился тогда Кравцов. – Ты уверен, что именно анархистка? Может быть, все же социалистка? У нее вполне эсеровский тип. А кто это с ней?
– Модильяни, – сказал Архипенко. – Амадео. Он, наверное, самый талантливый из нас…
«Мария… Маша… Ш!»
Их роман был столь же бурным, сколь коротким. Как схватка, как встречный бой. Встретились внезапно, ударились друг о друга, как волна о борт корабля. Волной в данном случае стал он, кораблем – она. Пришла, разрезала острым форштевнем «девятый вал» его почти юношеской страсти и ушла в неведомое.
«Мария… Маша… Маруся…»
Снова встретились в восемнадцатом. Он изменился, она тоже. Нет, красота не поблекла, но женщина стала старше, на лоб легли морщины забот, и пила она тогда, кажется, больше, чем следует. Кто-то потом удивлялся, и что, мол, вы все в ней нашли? Уродка. Гермафродит! Но это неправда! Вовсе нет! А потом был девятнадцатый, деникинское наступление, и бледный, измотанный до последней возможности Нестор. А за спиной Махно в тесной группе штабных снова она…
«Ты мертва уже два года! – зло подумал в спину уходящей в никуда женщине Кравцов. – Тебя повесили белые!.. А меня снарядом накрыло…»
Он ощущал сейчас физический груз нежелания продолжать это бессмысленное преследование. Он не хотел идти вслед за тенью мертвеца, но не мог не идти. Не смел оставить «заданный вопрос» без ответа. Не имел права завершить эту встречу многоточием. Часть его души желала бежать прочь, но другая – хотела определенности.
И Маруся Никифорова сжалилась над Кравцовым. Она вошла в подворотню добротного доходного дома, тепло поздоровалась с дворником-татарином (значит, была знакома не первый день), пересекла небольшой дворик, хорошо просматривавшийся с улицы, и вошла в подъезд. Кравцов проследил ее взглядом, перешел улицу и зашел под арку распахнутых – теперь уже, вероятно, навечно – ворот, как если бы хотел укрыться от ветра, сворачивая и закуривая самокрутку. Тут, и в самом деле, царило затишье, а женщина, если верить тени, мелькнувшей за грязным окном лестничной клетки, жила на верхнем, третьем этаже когда-то желтого, а ныне вылинявшего приземистого флигеля.
7
А Рашель Кайдановскую он в тот день так и не нашел. Часа два по-деловому, то есть как бы по делу, «прогуливался» по зданию бывшего университета Шанявского, курил в разных компаниях, поучаствовал в двух-трех дискуссиях о политическом моменте, встретил ненароком несколько полузнакомых людей, служивших в прежние времена в политотделе дивизии или в РВС Восьмой армии. Но все это были даже меньше, чем шапочные знакомства, не вызвавшие у Кравцова никакого эмоционального отклика. Кто был тогда он и кто – они! Однако Кравцов не побрезговал напиться даже из «копытца козленка». Он расспрашивал о Кайдановской и «знакомых» и незнакомых, и, в конце концов, выяснил, где она живет, когда и где ее можно встретить вне стен «Свердловки»[10], а когда и в стенах. И более того, всех этих «любезных людей», мужчин и женщин он настоятельно просил передать товарищу Рашель привет от ее знакомого по Одессе Макса Кравцова и сообщить, что он, то есть Кравцов, зачислен слушателем в Академию РККА на Воздвиженке, а живет в бывшей гостинице «Левада» на площади у Никитских ворот.
С этим и ушел. Но человек предполагает, а некие высшие силы – как их ни назови – располагают, и порой самым причудливым образом. Только Кравцов вышел на Миусскую площадь и закурил, поглядывая на недостроенное здание храма, ставленного – как он помнил из статьи в «Ниве» – на народные пожертвования в память об освобождении крестьян, как совсем неподалеку от него остановился старенький автомобиль, и человек, сидевший рядом с шофером, окликнул Максима Давыдовича:
– Товарищ Кравцов!
Кравцов оглянулся и увидел, как вылезает из автомобиля невысокий плотный мужчина в шинели и матерчатой фуражке с красной звездой. Лицо у него было круглое, гладковыбритое, губы пухлые, глаза за линзами пенсне – карие, как бы несколько грустные.
– Здравствуйте, Сергей Иванович! – подтянулся Кравцов.
– Какими судьбами в Москве, Макс Давыдович? – спросил, подходя к Кравцову, член РВСР[11] Гусев. – Уж не слушателем ли в университет? Так вам как будто незачем!
Что да, то да, память у некоторых людей просто феноменальная. Они с Гусевым и встречались-то в гражданскую не более полудюжины раз. И встречи те были мимолетны и в обстоятельствах, затмевавших зачастую содержание разговоров, но, поди же ты, помнит и имя, и подробности биографии.
– Слушателем, – подтвердил Кравцов, – но не здесь, а в Академии РККА.
– Точно! – со значением улыбнулся на это уточнение Гусев. – Я же сегодня как раз видел ваше имя в списках… Как здоровье?
– Спасибо, налаживается.
– Налаживается… Вот что, Максим Давыдович, это даже удачно, что я вас сейчас здесь встретил. Я, знаете ли, преподаю в Комуниверситете, вот приехал читать лекцию. А тут вы… И подумалось, мы ведь могли бы, как теперь выражаются, комбинацию соорудить на взаимовыгодных условиях. Времена нынче трудные, голод… У вас какая аттестация до поступления в Академию?
– Комбат, – пожал плечами Кравцов, находившийся после встречи с Якиром на положении «для особых поручений» при штабе Одесского оборонительного района.
– Негусто, – покивал Гусев и прищурился. – А если я предложу вам должность «для особых поручений» с аттестацией комбрига и соответствующим пайком?
«Комбриг? – удивился Кравцов. – Но это же номенклатура Штаба РККА или наркомата!»
– А на учебу время останется? – спросил он, пытаясь понять, куда его сватает один из основателей российской социал-демократии.
– Когда как, – пожал плечами Гусев. – Я, как вы, возможно, знаете, оставил пост начальника Региступра еще в девятнадцатом году, но, будучи комиссаром Полевого штаба и начальником Политотдела РВСР, все еще… – он сделал паузу, намекающую на многое, но ничего на самом деле не объясняющую, – …чувствую некоторую ответственность за управление.
«Тэк-тэк-тэк…» – только и мог бы сказать бывший командарм, но вслух не сказал, подумал.
– Ян Давыдович Ленцман, начальник управления, жалуется на недостаток образованных партийных кадров. И ваш старый знакомый Берзин тоже. Вот я и подумал, вам – паек, а мне – проверенный работник.
Слово «проверенный» Гусев отметил специальной интонацией, не преминув посмотреть собеседнику в глаза особым, «комиссарским», взглядом.
– У нас, знаете ли, некоторая конкуренция с товарищем Дзержинским. Дружеская, разумеется, но все-таки хотелось бы укрепить кадры военной разведки, раз уж контрразведку у нас забрали. А вы бывший член ЦК все-таки. Соглашайтесь, Максим Давыдович, соглашайтесь!
– Соглашаюсь, – улыбнулся Кравцов. Предложение, в самом деле, показалось ему весьма заманчивым. Военная разведка, почему бы нет?
Персоналии
Архипенко, Александр Порфирьевич (1887–1964) – русский и американский художник и скульптор, один из основателей кубизма в скульптуре.
Верховский, Александр Иванович (1886–1938) – русский военный деятель.
Выготский, Лев Семёнович (1896–1934) – выдающийся советский психолог, основатель культурно-исторической школы в психологии.
Гатовский (Готовский), Владимир Николаевич (1879–1935) – генерал-майор Императорской армии, начальник штаба Дикой дивизии, военный лётчик. С 1918-го служил в РККА.
Гусев, Сергей Иванович (1874–1933) – российский революционер, советский партийный деятель. Член партии с 1896 года, член Президиума ЦКК (1923–1925), секретарь ЦКК (1923, 1925). В 1918 году – член Реввоенсовета (РВС) 2-й армии, в 1918–1919 годах – Восточного фронта. Позже командующий Московским сектором обороны, военком Полевого штаба Реввоенсовета Республики. В июне – декабре 1919-го и в мае 1921 – августе 1923 года – член РВСР. Член РВС Юго-Восточного, Кавказского, Юго-Западного, Южного фронтов. С января 1921-го по февраль 1922 года – начальник Политуправления РВСР и одновременно председатель Туркестанского бюро ЦК РКП(б).
Иссерсон, Георгий Самойлович (1898–1976) – советский военачальник, комбриг (1935), комдив (1939), полковник (1956). Член партии с 1919 года. Профессор. Один из разработчиков теории глубокой операции.
Ленцман, Ян Давидович (1881–1939) – советский военный и хозяйственный деятель. Член РСДРП с 1899 года. В августе 1920 – апреле 1921 года – начальник Региступра ПШ РВСР.
Мехлис, Лев Захарович (1889–1953) – советский государственный и военный деятель, генерал-полковник (29 июля 1944). Член ЦИК СССР 7-го созыва, депутат Верховного Совета СССР 1–2-го созывов, член ЦК ВКП(б) (1937–1953), член Оргбюро ЦК ВКП(б) (1938–1952). Доктор экономических наук (1935), доктор политических наук (1947). В 1907–1910 годах – член рабочей сионистской партии Поалей Цион. В 1918 году вступил в коммунистическую партию и до 1920 года был на политработе в Красной армии (комиссар бригады, затем 46-й дивизии, группы войск).
Модильяни, Амадео Клементе (1884–1920) – итальянский (французский) художник-экспрессионист, один из самых известных художников конца XIX – начала XX века.
Музель, Мария, она же Никифорова, Мария Григорьевна, или Маруся Никифорова (1885–1919) – предводитель анархистов на территории Украины, соратница Нестора Махно. Примкнула к анархическому движению в 16 лет. Известна под именем Маруся. В годы Гражданской войны становится одним из самых заметных и уважаемых командиров анархистских отрядов на юге России.
Новицкий, Василий Фёдорович (1869–1929) – русский и советский военачальник, генерал-лейтенант Императорской армии. С 1918 года на службе в РККА. Был заместителем военного руководителя Высшей военной инспекции РККА, с мая 1918-го военным руководителем инспекции. С октября 1919-го по 1929 год – профессор Военной академии РККА на кафедре истории войн и военного искусства.
Саблин, Юрий (Георгий) Владимирович (1897–1937) – советский военный деятель, комдив (1935). Член Коммунистической партии с 1919 года. Во время Гражданской войны успешно командовал полком, бригадой, дивизией и группой войск в боях против петлюровцев и войск генералов Деникина и Врангеля. С 1931 года – начальник управления военно-строительных работ и комендант укрепрайона на Украине. Награжден двумя орденами Красного Знамени.
Склянский, Эфраим Маркович (1892–1925) – советский военный деятель Гражданской войны, ближайший сотрудник Л. Д. Троцкого, заместитель Троцкого на посту председателя Реввоенсовета РСФСР/СССР. Член ВЦИК и ЦИК.
Сутин, Хаим (1893–1943) – выдающийся русский и французский художник-авангардист.
Урицкий, Семён Петрович (1895–1938) – советский военный деятель, начальник разведуправления РККА, комкор (1935). Участник Первой мировой войны, прапорщик. В 1917 году – один из создателей Красной гвардии в Одессе. В Гражданскую войну командир и комиссар кавалерийских частей 3-й армии, начальник штаба 58-й дивизии, командир бригады особого назначения 2-й Конной армии. В 1920-м – начальник оперативного отдела Разведывательного управления Полевого штаба РККА. С июня 1921 года – начальник Одесского укрепрайона.
Глава 3
Оперативные обстоятельства
1
Во вторник, 23 августа, занятия в академии так и не начались. Что-то там случилось, «в поле», где с середины июля пребывал весь поток, к которому и должен был присоединиться Кравцов. Возвращение слушателей, выехавших в Подмосковье на полевую практику, задерживалось, и Макс Давыдович этим утром оказался предоставлен самому себе. Поэтому, заскочив в столовую академии, он съел по-быстрому миску пшенной каши, приправленной ржавым «машинным» маслом, и треть – на глазок – дневной пайки хлеба. Выпил кружку подкрашенного сушеной морковью кипятка и побежал скоренько на Пречистенку, где в домах с 35-го по 39-й располагался когда-то Оперод[12] Наркомвоена. Теперь здесь размещался Региступр Полевого штаба Реввоенсовета Республики. И спешил Кравцов не напрасно.
В управлении его, как сразу же выяснилось, ожидали. Так что сидеть в приемной какого-нибудь «столоначальника» не пришлось, тем более не случилось топтаться на проходной, дожидаясь пропуска. Не прошло и десяти минут, как бывшего командарма принял заместитель начальника управления Арвид Янович Зейбот.
– Проходите, пожалуйста! – Арвид Янович встретил Кравцова у двери, посторонился, пропуская в просторный кабинет, пожал руку и указал в сторону простого канцелярского стола с двумя венскими стульями по обе стороны. – Проходите, товарищ Кравцов. Садитесь, только, чур, спиной к окну сижу я…
Разговор получился интересный. Содержательный. Причем не для одного только Зейбота, который по долгу службы, так сказать, интересовался прошлым и настоящим своего нового сотрудника. Кравцов его понимал более чем хорошо. Самому – не так уж и давно – тоже приходилось людей на службу принимать или просто прицениваться к вновь присланным Штармом[13] или РВСР людям. Поэтому не тянул и не мямлил, и в позу оскорбленной невинности не вставал. Отвечал на вопросы, прояснял обстоятельства, похоже, уже известные Зейботу от Гусева, давал характеристики. Впрочем, в такого рода разговорах стоило держать ухо востро. Лишнего говорить не следовало и растекаться мыслью по древу тоже. Не приветствовалась также лишняя инициатива. Но это как везде и всегда. Не просили, не суйся. Не спрашивали, не отвечай. В этих играх Макс Давыдович новичком не был. Зато и сам он, слушая замначальника управления, узнал много для себя нового и интересного, о чем не прочтешь в ежедневных газетах. Об обстановке на границах, например, и за линиями границ. О нынешнем положении в Тамбове и Кронштадте, имея в виду не столько географию, сколько политическую и экономическую историю. И о состоянии дела сбора и обработки военно-политической информации в РККА, что его прежде если и заботило, то никак не остро и отнюдь не в первую очередь. Между делом, однако, Зейбот сказал и еще одну крайне любопытную вещь. Фраза в контексте беседы звучать должна была нейтрально. Случайные слова, необязательные сведения. Вот только Кравцов в такие оговорки не верил. Случайности в жизни подобного рода людей, разумеется, бывают, но совсем другие.
– Сергей Иванович, – сказал Зейбот, проверяя взглядом, понимает ли Кравцов, о ком идет речь, – в восемнадцатом в Северной Коммуне едва ли не вторым человеком был после Зиновьева, но с Григорием Евсеевичем в перетягивание одеяла не играл. Гусев Зиновьева знает еще с дореволюционных времен и крепко уважает…
«Сиречь Гусев человек Зиновьева в Реввоенсовете, так?»
Получалось, что именно об этом Зейбот и предупредил.
Предупредил и распрощался, отправив Кравцова по инстанциям. Сначала к помощнику начальника Орготдела Зелтыню. Там Кравцов оформил документы и получил удостоверение сотрудника Регист- упра для особых поручений. Затем к начальнику хозяйственно-финансового отдела Якову Мартинсону. Здесь на Макса Давыдовича пролился «золотой дождь» в виде рулона неразрезанных совзнаков на полторы сотни тысяч и гораздо более вещественных благ, выразившихся в пяти коробках консервов, фунте хорошего турецкого табака, головке сахара и четверти фунта чая. На консервах значилось – «Мясо тушеное. Петропавловский консервный завод, 1915 год».
– А не испортились? – поинтересовался Кравцов, рассматривая жестяную банку.
– Никак нет, – довольно ухмыльнулся «состоявший для особых поручений» при Мартинсоне Завьялов. – Открывали-с, ели. Отличного качества тушенка, смею заверить. Не хуже, чем на фронте.
И он подвинул к Кравцову остальные «нежданные дары»: мешочек с рисом, три буханки хлеба и коробку с сотней папирос.
– Как же я все это унесу? – озадачился весьма смущенный такой роскошью Кравцов.
– А я вам, так и быть, сидор в счет вещевого довольствия выдам. – Вполне панибратски подмигнул Завьялов. – Но вы уж, голубчик, в следующий раз с ним и приходите, хорошо?
И он действительно раздобыл для Кравцова хороший еще, хоть и поношенный вещевой мешок, присовокупив при расставании – вполне возможно, и от широты душевной, – два билета на спектакль в Камерный театр.
– Сходите вот, Максим Давыдович, на таировских «Ромео и Джульетту». Знатоки говорят, изрядная получилась постановка.
«С кем же я пойду? – вздохнул мысленно Кравцов. – Эх, не нашел я Рашель. Вот с кем на „Ромео и Джульетту” идти следовало! А так с Саблиным придется или с Урицким. Впрочем, у Семена жена, и у Саблина женщина…»
Следующим в списке инстанций значился начальник Оперотдела Ян Берзин.
С Берзиным Кравцов был знаком, но не более. Тот одно время входил в РВС Восьмой армии, но ни по службе, ни «просто так» они с Максом Давыдовичем особенно не пересекались. Случая не было. Однако теперь представился.
– Я бы хотел, чтобы вы, Максим Давыдович, взялись для начала за разбор трофейных документов. Нам, видите ли, в Крыму и на Севере досталось кое-что… Да все руки не доходили или людей, владеющих языками, не оказывалось. Вот и лежат. Возможно, что и ерунда, нет там ничего серьезного. Просто бюрократия всякая, не у одних нас имеется страсть бумажки плодить. Но и обратное исключить нельзя. А сейчас вот и из ДВР от товарища Уборевича кое-что доставили. Вы по-английски, случайно, не читаете?
– Случайно читаю, – коротко, по-деловому ответил Кравцов и в тот же момент понял, что, хотя по-английски он вроде бы действительно читает вполне свободно, совершенно не помнит, чтобы когда-нибудь учил этот язык.
– Вот и хорошо, – обрадовался Берзин. – Вот этим вы и займетесь. Сегодня уж ладно, считайте себя свободным, а с завтрашнего дня приступайте. Можно и по вечерам, если занятия в академии будут в утреннее время. Я распоряжусь. Вам подберут помещение, сейф, стол, бумагу… Ну, в общем, все, что требуется.
На том и расстались, но, выходя из здания Региступра, встретил Кравцов еще одного знакомого и сильно этой встрече удивился.
Георгия Семенова Максим Давыдович знал хорошо. Познакомились еще до революции. Встречались в Петербурге – до эмиграции Кравцова – и в Париже. Виделись в Мюнхене весной четырнадцатого, и позже – уже после революции – в Петрограде, Москве, Киеве… На Украине в Гражданскую пересекались неоднократно… Вот только, насколько знал Кравцов, Семенов все эти годы оставался членом партии социалистов-революционеров. Однако двадцать первый год в этом смысле отнюдь не восемнадцатый, когда левые эсеры заседали в Совнаркоме, и даже не девятнадцатый, когда из тактических соображений кто только и с кем ни вступал на Украине во временные союзы. Обстоятельства изменились, люди тоже.
– Не нервничай, Макс, – сказал между тем Семенов. – Я служу в Региступре с двадцатого. А до того служил в ВЧК. И все, кто надо, все, что надо, обо мне знают.
«Ой ли! – покачал мысленно головой Кравцов. – И про то, как Володарского кончал, знают? И про покушение на Ильича? Что-то сомнительно»[14].
– Я, Жора, по состоянию здоровья ни о чем больше волноваться не могу, – он хотел было улыбнуться на слова Семенова, но не смог. – Но спасибо за разъяснения. Так ты и из партии вышел?
– Я в РКП(б) с апреля месяца состою.
– Ага, – кивнул Кравцов.
Такой поворот сильно облегчал общение, но некоторых вопросов все равно не снимал.
– А кстати! – вспомнил вдруг Кравцов, уже прощаясь с Семеновым. – Ты ведь вроде с Буддой в приятелях состоял?
– С Буддой? – насторожился Семенов. – Ты кого имеешь в виду?
– Будрайтиса из Особого отдела.
– Тут, Макс, вот какое дело, – чувствовалось, что Георгий очень осторожно, если не сказать тщательно, подбирает слова. – Я позже интересовался в чека. В смысле искал Будрайтиса. Только никто никогда о таком сотруднике там не слышал. Но он, я думаю, не из белых был. Его в Восьмую армию кто-то из наших вождей определил. И… И все, собственно, – добавил Семенов, пожимая плечами. – Слышал потом от кого-то, что он умер, но сам понимаешь, ни имени, ни фамилии его настоящих я не знаю.
2
А во Второй военной гостинице его ожидала записка от Рашели. Кайдановская, оказывается, заходила утром, перед занятиями, но Кравцова не застала и написала ему письмо. Писчей бумагой ей послужил клочок обоев, а писала женщина чернильным карандашом, но командарм отметил округлый ровный почерк и умение лапидарно излагать свои мысли, что с большой определенностью указывало на гимназическое прошлое «отправителя». А еще он понял, что Рашель рада его появлению в Москве и даже весьма этим фактом воодушевлена, и, едва дочитав послание, бросился разыскивать ее по всем указанным в письме адресам. Забег получился впечатляющим. Куда бы он ни приходил, везде Кайдановская «только что была, но уже ушла». Однако, как сказал поэт Тихонов – хотя и по-другому поводу, – гвозди бы делать из этих людей. Кравцов был из той породы, что, если берется за что, на полпути никогда не бросит. И, в конце концов, он Рашель нагнал. Сделав по Москве сложных очертаний «восьмерку», он вернулся на Миусскую площадь и, войдя в третий раз за день в университет имени Свердлова, увидел Кайдановскую на лестнице в окружении группы возбужденных до крайности юношей и девушек. Они там что-то живо обсуждали, но Кравцов водил цепи в штыковую, ему ли пасовать. Раздвинув галдящую молодежь одним неуловимым движением, он взял Рашель за плечи, развернул к себе лицом и немедля – пока решительность не выдохлась – поцеловал в губы.
Поцелуй был… Ну, что сказать? И разве что-нибудь можно объяснить словами? Да и нужно ли? Вкус ее губ – пронзительный, как эхо в горах… решительный, словно смерть – был полон неразвернутыми пока, не определившимися и нереализованными вероятностями будущего…
Что-то случилось в это мгновение. Что-то настолько значительное, что все присутствующие ощутили «движение» времени и вибрирующее напряжение мировых линий. На лестницу упала тишина. И тишина эта все еще звенела в ушах Кравцова даже после того, как окружающая действительность вернула себе власть над жизнью и временем. Снова задышали и заговорили люди, воздух наполнился звуками и запахами, и Рашель шла рядом с ним, увлекаемая твердой рукой бывшего командарма, но «момент истины» не исчез вовсе, стертый пресловутой «злобой дня». Он остался с Кравцовым как мерило и эталон, и как ключ к тайне, которая, получив свободу, бродила теперь в его крови, смешиваясь с любовью, нежностью и страстью…
3
В театре на Тверском бульваре оказалось шумно и несколько более оживлённо, чем следовало ожидать. Масса людей курила и громко разговаривала в фойе, перешептывалась по углам, пересмеивалась, растекаясь по лестницам и коридорам. Однако Кравцов этого и не замечал вовсе, отметив лишь краем сознания, что народ собрался на спектакль самый разный. Из толпы выделялись и «бывшие» – интеллигентного вида, но порядком пообносившиеся завзятые театралы из совслужащих, и «гегемоны» в армейских обносках, и нувориши едва начавшей набирать обороты новой экономической политики. Впрочем, Кравцов оказался настолько занят своей спутницей, – это ведь такое ответственное дело, смотреть на нее, вести с ней разговор, – что ему до других и дела не было. Ему на самом деле и спектакль был теперь «к черту не нужен», в смысле избыточен и неуместен здесь и сейчас, в центре обрушившегося на него тайфуна. Однако следовало признать, Таиров – талант, и слава его вполне заслужена. В постановке присутствовали, разумеется, элементы балагана, но они Максу Давыдовичу совершенно не мешали, а Рашель так и вовсе очаровали. Да и вообще было в действе, творившемся на сцене, так много молодости, задора и жизни, что оно просто захватывало зрителя, пленяло его чувства и не отпускало до самой последней минуты. И все это под чудесную музыку, слаженно и талантливо. И Алиса Коонен действительно оказалась так хороша, как о ней говорили – красавица, и актриса божьей милостью. И Церетели великолепен в роли Ромео. Все это так, и сошествие Мельпомены несколько утишило кипящую в душе Кравцова страсть, не находящую себе выхода и исхода в предложенных обстоятельствах. Ему уже недостаточно было просто держать в руке узкую прохладную ладошку Рашель и слышать ее теплое дыхание совсем рядом со своей щекой. Кровь маршевыми барабанами била в виски. Сердце металось в клетке ребер, но и Кайдановскую, кажется, обуревали те же чувства…
И все-таки одна холодная мысль пробилась сквозь театральные впечатления и переживаемый в острой форме приступ любви.
«Откуда известно, что Семенов причастен к убийству Володарского?» – спросил себя Кравцов в тот самый момент, когда Меркуцио напоролся на клинок Тибальда.
«Это все знают!» – попыталось отмахнуться склонное к компромиссам бытийное сознание, но память воспротивилась насилию над истиной.
«Этого не знает никто!»
«Но Фельштинский опубликовал…» – всплыло из подсознания, и Кравцов обомлел, сообразив наконец-то, что с ним происходит.
Фельштинский опубликовал свою книгу… Как, бишь, она называлась? Что-то вроде «Большевики и левые эсеры»… Он опубликовал ее в Париже или Нью-Йорке… в восьмидесятые или в начале девяностых. И именно там, хотя, возможно, и не там, а где-то в другом месте, Кравцов прочел про таинственного бригкомиссара из Разведупра РККА, бывшего одним из самых удачливых террористов эпохи, человека, стрелявшего в Ленина, но оставшегося тем не менее на службе. Только перешедшего из ВЧК в военную разведку, где и оставался до самой своей смерти – естественно, преждевременной и насильственной – в тридцать седьмом или тридцать восьмом году.
«Обалдеть!»
Первой мыслью Кравцова стал, однако, отнюдь не вопрос об источнике такой феноменальной информированности, а только жаркое и жадное чувство осознания меры богатства, свалившегося на него столь неожиданным образом. Лишь чуть позже – на сцене как раз старый священник вершил брачное таинство над юными влюбленными – до Кравцова начали доходить все следствия произошедшего с ним чуда. Но, как ни странно, именно понимание того, что сознание его не есть более сознание того самого человека, каким он себя помнил и понимал, «охладило пыл» Кравцова. Он успокоился, приняв к сведению новые свои обстоятельства и открывающиеся в связи с этим перспективы, и постановил «не сходить с ума». Чем бы это ни было, кем бы ни стал теперь он сам, правда – обычная правда ежедневного сосуществования – заключалась в том, что он, Макс Давыдович Кравцов, есть лишь то, что он есть. И никакой другой судьбы, кроме той, что развертывается здесь и сейчас, у него нет.
И, освободившись на время от открывшихся ему истин, яростно аплодировал вместе со всем залом. Он был искренен – спектакль Кравцову понравился – и естествен. Его занимали сейчас отнюдь не мысли о Семенове или Троцком, Махно или Сталине, он думал о женщине, хлопавшей в ладоши рядом с ним. Он чувствовал любовь, а не страх, душевный подъем, а не растерянность. Что-то важное – сейчас он знал это наверняка – случилось с ним в Коммунистическом университете на Миусской площади, когда он самым решительным образом выбрал любовь и жизнь, поцеловав у всех на глазах Рашель Кайдановскую. Выбор сделан, остальное – дело техники. И не красит мужчину – думать о чертях и ангелах, когда рядом с ним та, от одного запаха которой заходится «в истерике» его обычно спокойное сердце.
4
– Это так странно, словно бы я и не я вовсе, а героиня какого-нибудь романа… – Страсть улеглась, отступила в сторону, уступив на время место тихому покою, и голос женщины звучит ровно и умиротворенно. – И ты… Чехов, Амфитеатров…
– Я? – искренно удивился Кравцов, лениво припоминая, что же там такое могло быть у Чехова. «Солнечный удар» разве. Но, если говорить о русской литературе, он предпочел бы Достоевского. Не содержательно, не в смысле сюжета или конкретных образов, но вот эмоционально, имея в виду нерв и страсть…
– Я? Из Чехова? Ты помнишь, каким я был, когда пришел в Комитет? Ходячий мертвец, мощи египетские…
– Ну, не скажи! – возражает с улыбкой Рашель. – Что я мощей не видела? Я же с восемнадцатого года на войне. И тифозных видела, и голодающих… Смертью меня не удивить.
«Ее смертью не удивить… Ну, надо же!»
В полулюксе Кравцова темно. Электричества нет третий день, а на дворе ночь. На улице, за высоким окном – темный город под тяжелым, затянутым тучами небом. Как принято говорить, не видно ни зги. Пока шли из театра, совсем стемнело, кое-где улицы, казалось, полностью вымерли, словно по ним прошли апокалипсические Мор и Глад. Если и не страшно, то уж точно – неуютно. Но, видимо, те, кто мог обернуть неясные опасения в ужасную реальность, вполне здраво оценили недвусмысленно засунутые в карманы руки двух припозднившихся любовников, возникающих порой из тьмы, чтобы пересечь лунную дорожку, и вновь исчезающих из виду. Но не все же москвичи владеют личным оружием? Поэтому городские пространства темны и покинуты, предоставленные знобкой тишине и кладбищенскому покою. Темно. Но и по эту сторону новеньких стекол – «И где только добыли при нашей-то бедности?!» – тоже властвует тьма египетская. Где-то – и Макс Давыдович даже знает, где именно – есть у него свечка в купленном по случаю с рук дрянном подсвечнике. Но когда пришли сюда, добравшись пешком из театра, все произошло так стремительно и естественно, что об огне никто и не подумал.
– Слова… – Кравцов все-таки заставил себя встать. – Что выразишь словами? – сказал он, продвигаясь на ощупь к тумбочке. – Пустые звуки…
– Ах, ты об этом! – смеется грудным смехом Рашель. – Мысль изреченная есть ложь? Так?
– Так, так, – соглашается Кравцов, отнимая у мрака свечку и коробок спичек. – У меня есть вино, Рашель Семеновна. Настоящее, – меняет он тему, чиркая спичкой. – Можно тебя угостить?
Вспыхивает огонь, и мрак с треском лопается, расходится клочьями вокруг оранжево-желтого всполоха.
– Вино… – она словно бы пробует слово на вкус. – Звучит соблазнительно. А табачком, товарищ, не побалуете?
– У меня есть настоящие папиросы. – Кравцов ставит свечу на табурет, придвигает к дивану и видит огромные темные глаза. Они блестят, отражая игру пламени. Прядь волос, упавшая на высокий белый лоб, линия шеи и тонкого плеча… И отводит взгляд. Становится неловко, но в следующее мгновение он понимает, насколько не прав. Сам-то он стоит в неверном свете свечи в чем мать родила.
«Экая притча! Словно мальчишка-гимназист!» – думает он, покачивая мысленно головой, и снова переводит взгляд на Рашель. В колеблющемся оранжево-золотом сиянии кожа ее кажется то серебристо-белой – там, где свет и тьма обозначают границы возможного, – то золотистой и даже изжелта-красной. Тонкая рука, полная грудь, волна распущенных волос, обрамляющих узкое изящное лицо. Просто Ла Тур какой-то… женщина в отблесках живого огня.
– Что ты видишь? – голос чуть напряжен. По-видимому, она переживает чувство неловкости. Стыдится своей наготы, но и гордится ею, дарит жадному взгляду любовника, одновременно захватывая его, покоряя, завоевывая.
– Тебя.
– А еще?
– Красоту, – Кравцов сбрасывает оцепенение и, продолжая говорить, возвращается к прерванным делам: достать вино, откупорить бутылку, разлить по стаканам, нарезать хлеб, выложить папиросы…
– Я вижу красоту. Ты слышала, Рашель, о художнике Ла Туре?
– Ла Тур?
– Можно и по-другому, де Латур…
– Нет, не слышала. Он француз?
– Он лотарингец, что в семнадцатом веке не всегда означало – француз, – Кравцов протянул Рашель папиросу и приблизил свечу, чтобы дать прикурить.
Глаза женщины вспыхнули темным янтарем, кожа засияла шафраном и золотом, и налились всеми оттенками шоколадного цвета обращенные вверх соски.
– Жорж Ла Тур, как и его современник – мастер света свечи[15], писал людей, освещенных огнем. И делал это лучше многих. Просто замечательно! Особенно женщин…
– Не называй меня полным именем! – просит она, затягиваясь, и вдруг улыбается. – Зови меня Роша!
– Я буду звать тебя Реш, если позволишь, – Кравцов тоже закурил и протянул Рашель стакан с вином, оставив себе жестяную кружку.
– «Реш», буква древнееврейского алфавита, – папиросный дым клубится в пятне света, колеблется, течет. Сизый, палевый, белоснежно-серебряный.
– Так что ж? – пожимает плечами Кравцов.
– Тогда зови! – соглашается Кайдановская и подносит стакан к губам.
– Друзья называют меня Максом… – Доски пола холодят ступни, но лоб горит как в лихорадке, и словно от озноба вздрагивает временами сердце. – Мама тоже звала меня Макс…
– Макс, – повторяет за ним Рашель. – Максим. – пробует она на вкус полное его имя. – Товарищ Кравцов… – щурится, откладывая дымящуюся папиросу на блюдечко со сколотыми краями. – Товарищ командарм… Командарм… – стакан возвращается на табуретку, и женщина встает с дивана, открываясь взгляду Кравцова во всей своей волнующей наготе. – Иди ко мне, Макс! – произносит она вдруг просевшим на октаву голосом. – Обними меня, пожалуйста! Скорей! Сейчас! Сейчас же!
5
Занятия возобновились в четверг и увлекли Кравцова сразу же, с первой утренней лекции. Если честно, он не много от них ожидал. Ну, может быть, думал Макс, ему бы не помешал основательный курс штабного дела. Да и оперативное искусство совсем неплохо бы отточить, опираясь уже не только на живую практику доброго десятка кампаний, в которых привелось участвовать, но и на теорию, разрабатывавшуюся в том числе и такими крупными специалистами своего дела, как генерал Свечин. Но тем утром учебный день начался вовсе не с военных предметов, а с лекции по политэкономии, которую прочитал им – слушателям разных возрастов и разного уровня подготовки – Александр Александрович Богданов.
Богданов являлся одним из старейших русских марксистов и обладал вдобавок к обширным и глубоким знаниям в областях социальных наук невероятным талантом популяризатора. Возможно, он проигрывал многим лидерам революции, тем же Ленину, Троцкому или Зиновьеву, в качестве митингового оратора. Но лектор – в истинном, университетском смысле этого слова – он был, что называется, от бога. Кравцов, во всяком случае, слушал Александра Александровича с неослабевающим интересом, хотя и сам – в свое время: в обеих, судя по всему, жизнях – изрядно изучил предмет. Помнил он и критику, которой подверг Богданова Ленин в своей весьма спорной философской книжке «Материализм и эмпириокритицизм». Самому Кравцову, однако, позиция Маха и Авенариуса была куда как ближе, да и особой путаницы в «философских вопросах» Кравцов у Александра Александровича не находил.
Следующее занятие было посвящено не менее интригующей теме: психологии народных масс в период смуты, войны и революции. Лектор – профессор Рейснер – был шапочно знаком Кравцову еще по Петрограду семнадцатого. Гораздо лучше Макс помнил дочь Михаила Андреевича – Ларису, с которой едва не завел бурный роман, мелькнув перед ее жарким взором как раз между оставленным в прошлом Николаем Гумилевым и не успевшим еще войти в ее сердце и жизнь Федором Раскольниковым.
И Богданов, и Рейснер рассказывали много и о многом. Не то чтобы что-то из этого оказалось для Кравцова внове, но, с другой стороны, прошло уже немало времени с тех пор, как он обременял свой ум систематическими занятиями. Ему было интересно их слушать, и мысли, изложенные вслух и не последними в своей области специалистами, помогали не только восстановить былую систему знаний, но и организовать ее по-новому, воссоздав и совместив в ней разнородные блоки знаний самым причудливым, но непротиворечивым образом. Соответственно Кравцов больше слушал и думал, осмысливая с помощью Богданова всплывшие в памяти обширные отрывки из «Научного коммунизма» и «Политической экономии» академика Румянцева или восстанавливая, буквально «реставрируя» под академическое бормотание Рейснера, читанные и в этой, и в «той» жизни труды Лебона и Фрейда, Вильгельма Райха и Чарльза Миллса.
Он почти не записывал, да и некуда было. Разве что в сборник стихов Надсона, где на полях и между строк оставалось еще довольно много места. Однако по ходу занятий Кравцов обнаружил, что память его работает на удивление хорошо и на редкость эффективно. Она не только выбрасывала «на-гора» любые потребные сведения, однажды с умыслом или без оного захваченные ее казавшейся теперь безграничной сетью, но и позволяла запоминать сказанное едва ли не дословно. Впрочем, Максим Давыдович не обольщался. При ближайшем рассмотрении цитаты, всплывавшие в памяти, оказывались не достаточно точны, а сведения зияли лакунами, но, с другой стороны, все это было намного лучше, чем вообще ничего. Так что нежданному подарку судьбы – бога, черта или физиологии – следовало радоваться, не подвергая его бессмысленной и излишней критике. Вот ревизовать «подарочек» отнюдь не помешало бы, но исключительно с целью узнать, что еще ценного и полезного можно из этого «кладезя» извлечь.
После перекура, когда одни слушатели с потерянным видом пытались осознать «что это было», а другие приходили в себя после напряженной мыслительной работы, настала очередь долгожданной истории военного искусства. Занятие вел генерал Новицкий, которому ассистировал некто Шингарев – высокий, крепкого сложения мужчина, с крупными чертами лица и глубокими залысинами в светлых редеющих волосах. Одет он был, разумеется, в военную форму. Носил ее без затруднений и выправкой со всей возможной определенностью указывал на принадлежность к офицерам Генерального штаба, к кадровым штабс-капитанам или даже полковникам старой армии. Зачем Шингарев пришел на лекцию Василия Федоровича, сказать было трудно. Ни в каком ассистировании Новицкий, разумеется, не нуждался, да и разговор достаточно скоро стал общим. Тема лекции – действие оперативных объединений в условиях стратегической неопределенности – живо захватила слушателей, многим из которых было что сказать по обсуждаемому предмету. Во всяком случае, как только участники дискуссии поняли, о чем, собственно, идет речь.
– Позволю заметить, что в данном случае ни о каком искусстве не могло идти и речи, – сказал в какой-то момент Шингарев, и Кравцов его наконец вспомнил.
– Ну, конечно! – резко произнес он, вставая. – Вы ведь определенно рассчитывали сбросить дивизию красных в реку, не так ли, Николай Эрастович?
Услышав вопрос, Шингарев, распинавшийся перед слушателями уже минут пять и на беду свою приведший в качестве иллюстрации своего тезиса тот давний эпизод, замер и побледнел.
– У вас же бронепоезд, – Кравцов с интересом смотрел на военспеца, совсем недавно воевавшего на стороне Деникина. – Кажется, «Иоанн Калита» с морскими шестидюймовками, – наморщил он лоб, как бы припоминая. – Припасли для флангового удара. Я не ошибаюсь?
– Простите? – сверкнул стеклом круглых очков Новицкий.
– Да, вот у нас с товарищем Шингаревым давний спор нерешенным остался, – самым серьезным образом объяснил Кравцов. – Ведь так, Николай Эрастович? Ведь я не ошибаюсь? У вас полк… Неполного состава, это факт. Поручик Львов, царствие ему небесное, позже на допросе показал, всего тысяча сто штыков. Один нюанс, в бригаде товарища Саблина, а именно он находился на левобережье, а не вся Шестнадцатая дивизия, как вы изволили только что довести до присутствующих… Эдак, и ваш полк можно дивизией назвать или даже, бери выше, корпусом… по принадлежности, так сказать. Но вернемся к нашим баранам. К утру седьмого июня в бригаде товарища Саблина едва ли набиралось бойцов в строю на батальон – от четырехсот до пятисот штыков, я полагаю. Патроны вышли, пушки разбиты, да и все равно снарядов для трехдюймовых орудий с мая месяца не было во всей армии. Положение усугублялось вашей батареей, товарищ Шингарев, и бронепоездом. Нам же, я имею в виду и бригаду, и дивизию, и всю Девятую армию, труба выходила при любом раскладе. Охватывающий удар казачьей кавалерии, вы же помните, не оставлял нам много шансов. Но ночью охотники товарища Саблина взорвали пути на станции… Как бишь ее? Впрочем, неважно. Пути взорвали вместе с паровозом и одним из блиндированных вагонов, а штыковую на утро ваши люди не выдержали, и дивизия вышла из-под удара. И отсюда, вопрос: вы что конкретно хотели показать своим примером из области малой стратегии? Что верная тактика бывших прапорщика и штабс-капитана военного времени превозмогла численное превосходство, имевшееся у бывшего полковника Генерального штаба? Вы это имели в виду?
– Именно! – выкрикнул с места Сергей Савицкий, хорошо помнивший и то время, и те события. – Так и было!
И аудитория разом взорвалась возмущенными голосами. Спор мгновенно перерос в перепалку и затянулся надолго после истечения отведенного на занятия времени.
6
Уже смеркалось, когда Кравцов добрался до Пречистенки, 39. Пропуск на вахте, коридор, лестница, еще один коридор и комната без номера и вывески, запертая на ключ. Внутри помещение оказалось маленьким и тесным: едва разместились стол, стул, несгораемый шкаф – полутораметровой высоты, на ножках, тонкостенный, но зато с двумя замками – и восемь деревянных ящиков с архивными материалами, составленные вдоль стены. Окно – узкое и высокое, забранное решеткой и закрашенное белилами. Лампа под потолком. Пачка серой писчей бумаги на столе, чернильница-непроливайка, простая деревянная ручка со стальным пером, тяжелое пресс-папье без промокательной бумаги и старая консервная банка, служившая бывшему командарму пепельницей. Вот, собственно, и все. Но Кравцов, работавший в Региступре уже десятый день, разумеется, не жаловался. Работа хоть и неинтересная, но тихая, и ни в каком смысле не опасная, что отнюдь немаловажно по нынешним непростым временам. И еще за нее дают хороший паёк. Сиди себе в кабинете да читай документы, брошенные интервентами в хаосе отступления и эвакуации или тогда же под шумок уведенные из кабинетов и почтовых вагонов лихими налетчиками или скрытными конспираторами. Впрочем, за редким исключением, ничего ценного в разноязыких документах, с которыми работал Кравцов, пока не нашлось. Так, ерунда всякая: ведомости отделов снабжения, запросы на перевозку грузов, какие-то унылые обзоры нелегальной деятельности на «занятой союзниками территории». Одним словом, рутина. Но именно за то, чтобы составить реестр этих бесполезных на данный момент сведений, Кравцову, аттестованному на такой случай «комбригом», – и где, спрашивается, в Региступре? – полагалось денежное, вещевое и пищевое довольствие. Причем последнее и стало для него самым важным в мире стремительно обесценивающихся денег.
Кравцов включил свет, отпер сейф, достал гроссбух составляемой им ведомости и, присев к столу, взялся сворачивать самокрутку. Пока пальцы автоматически ловчили с шероховатой газетной бумагой и щепотью турецкого табака, взгляд Максима Давыдовича лениво скользил по выставленным вдоль противоположной стены снарядным ящикам с документами. «Пейзаж» за девять дней стал почти родным, рисунок стенок – с содранной или выцветшей краской, буквами и номерами, случайными сколами и трещинами – узнаваем, едва ли не как собственное лицо в зеркале, но сегодня глаз споткнулся об явное нарушение рутины. Ящики кто-то трогал. Их переставляли, хотя и попытались сохранить прежний порядок. И сохранили, но… тут и там линии несколько сместились относительно друг друга, и, кроме того, один из ящиков, как показалось, самым бесхитростным образом заменили на другой. Вроде бы и похожи, но нет, не то. Не совсем то.
«Что же такое лежало в этом ящике?» – но это вопрос в пустоту. Безадресный и безответный. Не знает Кравцов, кому его задать, а значит, и ответ получить не от кого.
Обнаружив диверсию, Макс, однако, не вскочил со стула и не бросился в нервическом нетерпении осматривать ящики через лупу, и кричать «караул!» тоже не стал. Бесполезно и неконструктивно. Все, что могло произойти, случилось. Ори, не ори, делу не поможешь. Но подумать есть о чем.
Кравцов закурил и только хотел просмотреть в поисках намеков на возможный ответ краткую опись «имущества», врученную ему вместе с ящиками, как в дверь постучали. Не настойчиво, но уверенно. И скорее дружески, чем наоборот. Во всяком случае, так оценил этот весьма «своевременный» стук Кравцов.
– Войдите! – предложил он ровным голосом, лишь немного подняв тон, чтобы услышали в коридоре.
Дверь отворилась. На пороге стоял Семенов.
– Не помешаю?
– Не думаю, – встал из-за стола Кравцов. – Входи. Второго стула у меня нет, но можешь присесть на подоконник. Ты как?
– Я так, – усмехнулся в ответ Семенов и, закрыв за собой дверь, пошел к окну. – Нашел отличия?
На что намекает? На рисунки из детства? На «найди пять отличий»? Или на что-нибудь вроде «почувствуйте разницу»?
– Нашел, – Кравцов даже удивиться не успел, события происходили слишком быстро.