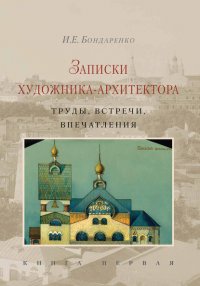
Читать онлайн Записки художника-архитектора. Труды, встречи, впечатления. Книга 1 бесплатно
- Все книги автора: И. Е. Бондаренко.
© Бондаренко И.Е., наследники, текст
© Нащокина М.В., составление и вступительная статья, 2017
© Орлова И.В., оформление, 2018
© «Прогресс-Традиция», 2018
* * *
Книга первая
Предисловие
Илья Евграфович Бондаренко (1870–1947) – популярный и востребованный в начале XX в. архитектор, постройки которого украшают улицы Москвы и других городов; один из творцов неорусского стиля, строитель старообрядческих храмов, а также историк архитектуры, художник-оформитель, сценограф, реставратор, известный библиофил, организатор нескольких выставок и крупных российских музеев. Яркая одаренная личность! Вместе с тем его имя сейчас известно лишь немногим – историкам архитектуры и краеведам. Познакомить с его жизнью и творчеством широкого читателя призвана публикация его воспоминаний, хранящихся в Российском государственном архиве литературы и искусства.
Биография Бондаренко вполне могла бы послужить сюжетом для увлекательного художественного произведения, поскольку вместила множество событий, неожиданных поворотов и стечений обстоятельств, значимых встреч и счастливых знакомств, громких успехов и известных имен. На первый взгляд может показаться, что удача постоянно улыбалась ему: мальчик из семьи мелкого торговца, родившийся в сонном углу российской глубинки – именно таким местом была Уфа последней трети XIX в., – стал видным московским архитектором. Однако, если внимательно вглядеться в перипетии жизни зодчего, станет ясно, что это путь талантливого человека, рано почувствовавшего свое призвание, неутомимого труженика, достигшего вершин в своей профессии, самобытного мастера, упорно шедшего избранной дорогой.
«Рисовать я начал рано, едва помню себя», – вспоминал Илья Евграфович. Его память бережно сохранила детские впечатления: копию рембрандтовского рисунка, часто останавливавшего взгляд мальчика на стене отчего дома; работу уфимских иконописцев. Азам черчения Илью обучал дед, бывший крепостной, которому посчастливилось закончить строительное училище в Петербурге. Гимназические учителя рисования отмечали способности мальчика и охотно давали ему уроки «сверх программы». Настоящей удачей для него стала встреча с художником Н.И. Бобиром, случайно попавшим в Уфу и укрепившим веру Бондаренко в его призвание. Все это способствовало тому, что по окончании гимназии, несмотря на возражения отца, юноша твердо решил ехать учиться в Москву.
Начав обучение на архитектурном отделении МУЖВЗ, Бондаренко, чтобы избежать ареста за участие в студенческих волнениях, завершил его в Цюрихском политехникуме. По окончании учебы за границей Бондаренко в течение нескольких лет работал в архитектурных мастерских признанных зодчих: А.С. Каминского, Ф.О. Шехтеля, А.Е. Вебера, и продолжал самообразование – изучал русскую архитектуру в путешествиях и по документам Исторического музея и других хранилищ. Затем начинающий архитектор открыл свою мастерскую и приступил к самостоятельной работе. Важной вехой в его биографии было знакомство с известным меценатом С.И. Мамонтовым и художниками – членами Мамонтовского кружка: М.А. Врубелем, К.А. Коровиным, В.Д. Поленовым, В.А. Серовым и др. Поездки Бондаренко по древнерусским городам Поволжья и Русскому Северу значительно расширили познания и усилили интерес к русской архитектуре, что повлияло на формирование его взглядов на современную архитектуру и определило его индивидуальный почерк. Благодаря своему интересу к древнерусской архитектуре Бондаренко оказался одним из создателей (вместе с К.А. Коровиным) комплекса павильонов кустарного отдела на Всемирной выставке в Париже в 1900 г. Успех его «русской деревни» стал началом нового этапа развития национального стиля в архитектуре. После московской выставки 1902–1903 гг. новые стилистические поиски в русской архитектуре получили название «новорусского», или неорусского, стиля, в русле которого Бондаренко создал свои лучшие произведения.
Вершиной творчества архитектора стали старообрядческие храмы. В апреле 1905 г. появился Высочайший указ «Об укреплении начал веротерпимости», по которому раскольники после многих лет гонений[1] стали официально именоваться старообрядцами, получили право свободно совершать богослужения, иметь молитвенные дома, строить новые церкви и т. д. Состоятельные старообрядцы, не теряя времени, стали обращаться к архитекторам с заказами на проектирование храмов. К этому времени имя Бондаренко было достаточно известно в кругах почитателей древнерусской архитектуры, он и получил от них первые заказы. Самыми известными его работами в этом жанре стали старообрядческие церкви: Воскресения Христова и Покрова Пресвятой Богородицы при 2-й Московской Общине старообрядцев Поморского брачного согласия в Токмаковом переулке и Покрова Пресвятой Богородицы Покровско-Успенской старообрядческой Рогожской общины Белокриницкого согласия в Малом Гавриковом переулке, которые до сих пор украшают московский центр.
Одним из первых И.Е. Бондаренко увлекся русской архитектурой конца XVIII – начала XIX в., эпохой ампира. Его публикации о постройках классицизма в выпусках «Архитектурных памятников Москвы» в 1904–1905 гг. стали первыми характеристиками этого еще неизученного периода развития русской архитектуры. Его книга «Архитектор Матвей Федорович Казаков. 1733–1812» (1912), выпущенная к 100-летию со дня смерти, стала первой монографией о творчестве великого русского зодчего.
Благодаря художественной одаренности Бондаренко много работал как график и сценограф – делал декорации по эскизам М.А. Врубеля для Частной оперы С.И. Мамонтова, рисовал афиши для Кружка любителей русской музыки, проектировал предметы мебели для Кустарного музея в Москве и т. п. Илья Евграфович был также не чужд сочинительства: сохранилось несколько рассказов, написанных им в 1889–1890-х гг. Он коллекционировал книги по искусству и истории Москвы, старинные гравюры. В течение всей жизни он был открыт для приобретения новых знаний, чему способствовали многочисленные путешествия по странам Европы – Франции, Италии, Испании, Австрии, Голландии, Германии.
После революции 1917 г., в течение 30 лет способности И.Е. Бондаренко находили применение в самых разных сферах его деятельности. В первые послереволюционные годы он на несколько лет полностью переключился на реставрационную работу, которой занимался и в предреволюционный период, а также продолжил заниматься историко-архитектурными исследованиями и начал преподавать. Сотрудничая в Наркомпросе, он заведовал отделом реставрации исторических зданий; возглавлял государственные комиссии по восстановлению Московского Кремля после боев, Ярославля, по охране художественных произведений Троице-Сергиевой лавры; участвовал в восстановлении Ленинграда после наводнения 1924 г.;
в дальнейшем выполнял функции эксперта по вопросам архитектуры в Моссовете и СТО, работал архитектором в Историческом музее и Мосэнерго; одновременно осуществил две научные экспедиции по обследованию памятников архитектуры Поволжья; читал лекции в различных учебных заведениях, Союзе архитекторов, а в годы войны – на радио и в госпиталях для раненых бойцов и т. д.
Бондаренко удалось заложить основы ряда музейных собраний: в Троице-Сергиевой лавре, в Самаре (реорганизация художественного музея), Музее революции в Москве (возник на базе организованной архитектором выставки «Красная Москва»). Уроженец Уфы, Илья Евграфович создал в родном городе художественный музей с библиотекой, в основу которого легла коллекция его земляка М.В. Нестерова. Его усилиями в Уфе был открыт Политехникум.
В конце 1920-х и в 1930-х гг. Бондаренко ненадолго вернулся к архитектурной практике, осуществив несколько самостоятельных проектов (павильон детской комиссии ВЦИК на сельскохозяйственной выставке в Москве, здание молочного завода, поселок треста «Эмбанефть» в городе Гурьеве, дача артиста Большого театра А.И. Алексеева) и проведя реконструкцию ряда музейных зданий и учреждений в Москве и других городах (Государственной Третьяковской галереи, Московской консерватории, управления «Мосэнерго» и др.). В строительстве социалистической Москвы зодчий сознательно отказался принимать участие, поскольку в архитектуре этих лет ведущие позиции занял конструктивизм, которым Бондаренко, по его словам, «не мог увлечься».
Наиболее значительной послевоенной работой Бондаренко стало восстановление здания Калининской областной картинной галереи (Императорского Путевого дворца Екатерины II, архитекторы М.Ф. Казаков, П.Р. Никитин, 1764–1777 гг.; реконструкция К.И. Росси при участии О.И. Бове, 1809 г.). Таким образом, на склоне лет Бондаренко восстановил крупную постройку М.Ф. Казакова, творчеством которого занимался много лет. В 1947 г. И.Е. Бондаренко скончался.
Незадолго до смерти, понимая ценность своего архива, Бондаренко начал передачу собранных им в течение жизни документов в Центральный государственный литературный архив (ЦГЛА, сейчас РГАЛИ), которая закончилась в 1952 г. уже после его смерти. В фонде архитектора (№ 964), насчитывающем свыше 400 дел, хранятся чертежи, рисунки, фотографии его построек (в том числе проекты кустарного отдела на Всемирной выставке в Париже, старообрядческих церквей в Москве, Иваново-Вознесенске, Богородске – в настоящее время Ногинске, Риге, жилых домов и др.);
рукописи исследований по истории русской архитектуры («Русское барокко», «В старой Москве», «История строительства Москвы»); работы, посвященные отдельным архитектурным комплексам («Кремль», «Успенский собор», «Коломенское», «Царицыно»), статьи о творчестве выдающихся русских архитекторов («Классики архитектуры», «В.И. Баженов», «Архитектор Афанасий Григорьев»), а также монография о М.Ф. Казакове и незавершенный «Словарь русских и иностранных зодчих, работавших в России»;
многочисленные доклады, курсы и отдельные лекции по истории архитектуры; письма к нему художников (А.Н. Бенуа, А.М. Васнецова, И.Э. Грабаря, К.А. Коровина, М.В. Нестерова, И.Е. Репина) и др. Среди собранных материалов безусловную ценность представляют документы научных экспедиций в Поволжье, осуществленных в разгар Гражданской войны, для изучения памятников архитектуры (зарисовки, обмеры, планы построек), альбомы с фотографиями экспозиции Уфимского художественного музея и Дома-музея П.И. Чайковского в Клину; альбомы с фотографиями деятелей культуры: А.А. Бахрушина, А.А. Евреинова, С.И. Мамонтова, Л.В. Собинова и т. д. Одним словом – это богатейшее документальное собрание.
Главное, чему архитектор посвящал свое время в предвоенные годы (с 1938 по 1941 г.), была работа над книгой воспоминаний «Записки художника-архитектора. (Труды, встречи, впечатления)». Закончив, он успел передать рукопись в издательство «Искусство», но издать ее помешала война. Мемуары охватывают всю жизнь Ильи Евграфовича с 1870-х гг. до 1940 г. – это в первую очередь его автобиография, дополненная характеристиками значительных в его судьбе людей, увиденных городов, своего времени, за которую мы должны быть благодарны автору.
* * *
Мемуары Бондаренко неоднократно привлекали внимание исследователей, было опубликовано несколько фрагментов[2], но в них допускалось объединение текстов глав, изменение их названий, значительное купирование текста и его редактирование, не везде присутствовал научный комментарий. Данное издание является первой полной публикацией воспоминаний И.Е. Бондаренко, выстроенных автором хронологически и разделенных на 30 глав, каждая из которых имеет заголовок и посвящена определенному периоду его жизни.
В личном фонде архитектора публикаторами было выявлено два варианта рукописи: черновой и беловой, окончательный. Проведенный источниковедческий анализ вариантов рукописи показал, что более ранний черновой вариант (машинопись с обширной авторской и редакторской правкой) сохранился не полностью[3]. Для публикации был выбран более поздний беловой вариант рукописи, который является авторизованной машинописью с незначительной авторской правкой в последней главе[4]. Сравнительный анализ этих вариантов позволил сделать вывод, что более поздний вариант весной 1941 г. был значительно сокращен автором по рекомендации рецензента и отчасти по идеологическим соображениям. В данной публикации составителями предпринята попытка восстановить первоначальный текст мемуаров И.Е. Бондаренко, существовавший до сокращения текста, путем включения зачеркнутых или пропущенных фрагментов из чернового варианта рукописи в угловых скобках в основной текст.
Текст соответствует правилам публикации исторических документов[5], современной орфографии и пунктуации с сохранением стиля и особенностей написания автора. Текст не редактирован, литературный стиль И.Е. Бондаренко был по возможности оставлен без изменения, исключая явные ошибки и описки, которые были исправлены без оговорок. Исправления вносились в текст в случае неверного написания слов – имен и фамилий лиц, географических названий. Ошибочно пропущенные слова были восстановлены в квадратных скобках, составительские ремарки давались в круглых скобках. Сохранена авторская транскрипция отдельных слов, например: великовозрастие, дрянность, книгорытство, проконопатка, перевлюблялись и др. Существенные особенности отмечались в подстрочных примечаниях. Характерные для мемуариста слова отмечались в подстрочных примечаниях («так в тексте»); авторские сокращения имен и отчеств до инициалов давались полностью под строкой (например, А.К. – Александр Константинович Глазунов, С.И. – Савва Иванович Мамонтов).
Название главы 17 было пропущено при перепечатке и восстановлено из авторского оглавления. Пропущенные при перепечатке текста названия изданий, театров, географические названия и прочее (вместо них отточия) восстанавливались в тексте по черновому варианту рукописи без оговорок с обязательным их уточнением по справочникам.
Проведенное текстологическое исследование чернового варианта рукописи позволило расшифровать трудночитаемые рукописные вставки слов на иностранных языках. В публикуемом варианте рукописи слова и фразы на иностранных языках, пропущенные в беловом оригинале, составители заполнили вставками из чернового варианта.
И.Е. Бондаренко писал мемуары на склоне лет, опираясь лишь на собственную память, в ряде случаев подводившую его, поэтому информация нередко требует проверки и уточнения. Была проделана большая работа по проверке отдельных фактов, написания географических названий, в том числе зарубежных, слов на иностранных языках, названий памятников архитектуры европейских стран, названий книг, газет и журналов, цитируемых текстов, фамилий, имен и отчеств упоминаемых лиц, а также сведений, связанных с их биографиями, и т. д. Ошибочные факты и наименования помечены и исправлены в развернутых примечаниях, помещенных в конце каждой главы. Составлены и постраничные примечания, в которых даны переводы текста с иностранных языков; воспроизведены примечания автора и другие текстологические особенности рукописи. При необходимости научными редакторами вводилось разделение текста на абзацы, или напротив, объединение абзацев, посвященных одной теме.
Книга снабжена традиционным научно-справочным аппаратом: предисловием, научным комментарием, развернутым указателем имен, списком сокращенных слов. В развернутый указатель имен были включены сведения обо всех лицах, встречающихся в рукописи вне зависимости от степени их известности, что позволило сосредоточить в нем информацию о широком круге родных, друзей, знакомых мемуариста, его разноплановых интересах и одновременно сократить текст комментариев, сосредоточив эти данные в указателе.
Дополняет научно-справочный аппарат издания Хроника основных событий жизни и творчества И.Е. Бондаренко, созданная на основе существующего биографического очерка и перечня построек мастера[6], дополненного с помощью архивных документов и фактов, почерпнутых из текста воспоминаний. В процессе подготовки Хроники были уточнены некоторые датировки, установлены точные названия и местонахождение отдельных построек, а также имена и отчества ближайших родственников зодчего и круга его знакомых. Некоторые факты, почерпнутые из литературы и источников, впервые вводятся в научный оборот. Хроника позволяет не только наглядно представить последовательность основных событий жизни и творчества мастера, но, по сути, является его достоверной краткой биографией.
Текст рукописи воспоминаний сопровождается богатым иллюстративным материалом из фонда И.Е. Бондаренко в РГАЛИ, расширяющим представление о его творчестве, а также фотографиями упомянутых им городов России и Европы рубежа XIX–XX вв. из личного собрания открыток М.В. Нащокиной, которые позволяют увидеть их такими, как видел сам мемуарист. Публикуются фотографии и графический портрет И.Е. Бондаренко, биографические документы, проекты его построек, в том числе неосуществленных, фотографии церквей и гражданских сооружений. Многие документы и проекты зодчего публикуются впервые.
Составители выражают благодарность И.Л. Решетниковой, Е.В. Бронниковой за оказанную помощь в работе над изданием.
А.Л. Евстигнеева
Эта книга стала последней в творческой судьбе главного специалиста РГАЛИ, талантливого публикатора, кандидата исторических наук Аллы Львовны Евстигнеевой (1952–2017), приложившей немало сил и знаний для подготовки ее к изданию.
Подготовка научного издания воспоминаний архитектора И.Е. Бондаренко «Записки художника-архитектора. (Труды, встречи, впечатления)» проведена в рамках проекта РФФИ № 14-04-00520.
М.В. Нащокина
Архитектор Илья Бондаренко и его воспоминания
Мемуары – к несчастью, редкий жанр в архитектурной среде. Особенно обидно, что почти не осталось воспоминаний русских архитекторов конца XIX – начала XX в. – времени, граничащего с гигантским социальным и культурным сломом, последовавшим за революционными событиями 1917 г. и уничтожившим бесчисленные документы и артефакты предшествующего им быта и культуры. Сегодня это время уже отделяет от нас более чем вековой рубеж, ушли все его современники – живые свидетели эпохи, поэтому архитектурную жизнь дореволюционной России и биографии многих знаменитых мастеров отечественной архитектуры приходится теперь воссоздавать по крупицам, порой, по случайным сведениям и фактам. В этом отношении впервые вводимый в научный оборот полный текст рукописи воспоминаний архитектора Ильи Евграфовича Бондаренко (1870–1947) – свидетеля и непосредственного участника архитектурно-строительного процесса 1890–1930-х гг. в России – значительный и важный памятник истории отечественной культуры. Это единственные (!) мемуары архитектора рубежа веков, которые ярко и достоверно описывают жизнь художественной и архитектурной Москвы конца XIX – первой половины XX в. Охватывая период с 1870-х по 1940-е гг., по объему и разнообразию включенных в них сведений, обилию известных имен воспоминания И.Е. Бондаренко являются уникальным источником для изучения российской и зарубежной художественной жизни конца XIX – первой половины XX в.
Интерес к этому редкому документу ушедшей эпохи, конечно, в первую очередь связан с личностью ее автора – видного московского зодчего, одного из творцов неорусского стиля, создателя нескольких первых (после выхода Манифеста) старообрядческих храмов, историка русской архитектуры и реставратора. Однако очень важно и другое – высокое литературное качество представляемого текста. Естественное желание каждого мемуариста закрепить на бумаге наиболее интересное и важное из прожитой жизни сочеталось у Бондаренко с несомненным писательским талантом, проявившимся с юности, что делает его воспоминания незаурядным литературным памятником своего времени. Язык воспоминаний Бондаренко краток и в то же время так образен, что вполне может сравниться с сочинениями лучших беллетристов-бытописателей того времени. На редкость живыми получились у него многочисленные диалоги, которые делают текст особенно достоверным. Свою роль в этом сыграла, по-видимому, его превосходная память, однако не только. Главное – его очевидный дар писателя, ведь диалоги – плод чистого литературного творчества.
Целенаправленно «Записки художника-архитектора. Труды, встречи, впечатления» создавались И.Е. Бондаренко в конце 1930-х гг. по заказу издательства «Искусство». Видимо, его происхождение из небогатой мещанской среды, участие в студенческих волнениях (хотя и более чем опосредованное), лояльность к новой власти и плодотворное сотрудничество с ней на ниве реставрации, строительства и музееведения показались основанием для получения мемуаров, соответствующих установкам советской пропаганды. Однако сама идея создания воспоминаний появилась у Бондаренко задолго до этого – еще в 1922 г., когда голод, разруха послереволюционных лет и явственная смена всех социальных устоев невольно подвигали сознание к уходящему прошлому. Тогда он начал писать отдельные очерки, впоследствии вошедшие в окончательный текст воспоминаний.
Рукопись в целом построена по хронологическому принципу, но если в начале повествование идет строго последовательно, то главы, посвященные творческой жизни зодчего и кругу его друзей и знакомых, лишь условно соответствуют хронологии его жизненного пути – это завершенные рассказы на обозначенную в заглавии тему, охватывающие весь период его общения с теми или иными персонажами – «Кружок любителей русской музыки», «С.И. Мамонтов и его круг», «Старообрядцы», «Московское купечество» и другие. Отметим, что Бондаренко почти не касался событий своей личной жизни, полностью погружая читателя сначала в жизнь провинциальной Уфы, затем Москвы с ее колоритными жителями и делясь впечатлениями от поездок по Западной Европе. Советскому периоду, насыщенному разнообразной культурной работой, он посвятил лишь одну последнюю главу.
* * *
Биография Ильи Евграфовича Бондаренко – яркий пример воплощения демократических начал, укрепившихся во второй половине XIX в. в жизни императорской России и позволявших людям из низов за счет способностей и труда подняться к высотам науки, искусства и даже власти, сейчас это называют социальным лифтом. Выходец из мещанской семьи в далекой русской провинции – Уфе, он принадлежал к тому обширному кругу талантливых русских разночинцев, которым в те годы открылись широкие возможности для самореализации.
Внук бурлака (по отцовской линии) и крепостного строителя уфимских помещиков (по материнской), сын уфимского купца 2-й гильдии, добившегося достатка тяжелым трудом, юный Илья с детства оказался в кругу мелких провинциальных чиновников и торговцев, живших традициями и интересами узкого семейного клана. Хотя с 1802 г. Уфа стала губернским городом Оренбургской губернии, а с 1865 г. – центром отделившейся Уфимской губернии, это был еще небольшой город, который к моменту рождения будущего зодчего едва перевалил за 20 тысяч человек. Население его состояло в основном из русских, переселившихся из разных частей страны (согласно статистике вплоть до начала XX в. башкиры и татары составляли в нем всего около 10 %[7]).
Посетивший Уфу зимой 1769/70 г. немецкий ученый-энциклопедист, естествоиспытатель и путешественник П.С. Паллас, прославившийся научными экспедициями по Сибири и Южной России, отозвался о городе весьма нелицеприятно: «Уфа есть место худо выстроенное и немало уже в упалость пришедшее, коего положения дурнее избрано быть не могло… Вешние воды вырыли в высоком и крутом берегу Белой глубокие… овраги, которые повсечастно размножаются… Место сие ни порядочной торговли, ни хороших рукодельников не имеет, кроме кожевенников». Столетие спустя, город, конечно, изменился – он стал застраиваться в соответствии с регулярным планом 1815 г., постепенно появлялись новые административные и торговые здания, мостились улицы, закладывались общественные сады… Однако провинциальный уклад жизни фактически оставался прежним – его разнообразили лишь церковные праздники, наводнения и пожары…
По обыкновению, самыми яркими и запоминающимися на всю жизнь являются детские переживания и впечатления. Это в полной мере относится и к воспоминаниям Бондаренко. Описанный им устойчивый патриархальный православный быт Уфы, определявший течение жизни его семьи, в чем-то перекликается с текстом знаменитого романа Ивана Шмелева «Лето Господне». Семья прилежно соблюдала религиозные традиции, которые навсегда остались в детской памяти Ильи. Подробно перечислены посты и праздники – Рождество, Святки с ряжеными, Крещенье с Иорданью на реке Белой, церемонное Прощеное воскресенье, Казанская… и городские пожары, в том числе самый опустошительный 1878 г., наводнения – все это кратко и точно описано в мемуарах зодчего, как и примечательные типы уфимского общества, которые запали в его память на всю жизнь.
Вспоминая годы детства и юности в родной Уфе, он очень живо рисует целую вереницу ее безвестных жителей, достоверно и ярко воспроизводя их речь, отношение к происходящим событиям и к окружающим. Выразительны типы уфимских чиновников, к примеру, описание дачи взятки («понятия») – «староста спокойно лезет в бумажник и передает понятие». В тексте немало заметок по поводу разнообразных блюд, вин, национальной кухни (башкирской, швейцарской и т. д.), ресторанов… С монологом и подробностями, почти документально, описана кончина отца, свидетелем которой он не был – описание сделано со слов младшего брата и по прошествии немалого времени, но очень убедительно. Уже эти первые главы воспоминаний Бондаренко, насыщенные мелкими подробностями жизни и быта, заставляют предположить, что они написаны по его дневниковым записям, которые до нас не дошли.
Несмотря на провинциальную патриархальность, круг общения и представления семьи Бондаренко не были косными – юного Илью рано научили грамоте и поощряли увлечение рисованием. Неудивительно, что вскоре он, вопреки воле отца, скептически относившегося к его наклонностям и желавшего приобщить сына к торговле в лавке, стал учеником мужской гимназии. Годы учения – это не только учителя, не всегда безупречные, но и библиотеки, книги, новые друзья, прогулки по степным окрестностям, хождения с богомольцами, поездки в башкирские села, купанье, рыбная ловля, охота… и, главное, – увлеченность рисованием и первые профессиональные уроки местных художников, приведшие к решению ехать в Москву, поступать в Училище живописи, ваяния и зодчества.
Наконец настал 1887 г. – первое далекое путешествие в Москву, которое запомнилось будущему зодчему вплоть до мельчайших деталей. Бондаренко на редкость подробно и последовательно описывает путешествие – пароход, железнодорожный поезд (впервые виденный!), приметы походного быта – и первые месяцы своей московской жизни. Повествование подкупает своей простотой и правдивостью. Он рассказывает обо всем, что ему запомнилось, не делая никаких скидок на советскую идеологию.
И вот, Москва! Как много проникновенных, трогающих за душу строк посвящено описаниям Москвы второй половины XIХ – начала XX в., поражавшей приезжих могучим Кремлем, судоходной рекой, обилием древних и новых храмов, гармонией многобашенного силуэта, поднимавшегося над просторными окрестностями с речными долинами и холмами! К ним присоединилось и свидетельство художественно одаренного юноши, впервые увидавшего первопрестольную: «Чудный неописуемый вид на Замоскворечье, живописная группа соборов поразили меня неведомой доселе красотой».
Начались московские будни, наполненные подготовкой к экзаменам. Молебен у Иверской при начале дела, устройство в комнате в патриархальном маленьком домике с мезонином в глухом в ту пору Орликовом переулке (между Мясницкой и Каланчевской площадью). Прогулки в Кремль, Коломенское, на Сухаревку, на Трубу, толкучий рынок на Старой площади у Китайгородской стены, всенощные в храме Христа Спасителя. Сам перечень этих московских достопримечательностей позволяет увидеть Москву глазами провинциала конца XIX в., взгляд которого сначала выхватывал лишь самое характерное, то, что нужно увидеть в первую очередь. Бондаренко не скрывает факты своей духовной жизни, связанной с посещениями церковных служб, что, казалось бы, было естественно в конце 1930-х гг. Впрочем, атеистических выпадов в рукописи вообще нет.
Вскоре у юноши по рекомендации его родственников состоялось первое профессиональное знакомство – с известным московским зодчим Александром Степановичем Каминским. Бондаренко тогда поразила богатая обстановка его кабинета в доме на Старой Божедомке. Он думал, что это собственный дом зодчего, и это его особенно впечатлило. Однако он ошибался – Каминский в те годы жил (снимал жилье) в доме архитектора Августа Егоровича Вебера (дом сохранился – это здание в комплексе Театра зверей Дурова на углу ул. Дурова и Самарского переулка). Знакомство с Каминским воочию показало юноше высокое социальное положение архитектора в московском обществе и его широкие материальные возможности, к которым стоило стремиться. Александр Степанович любезно пригласил Илью приходить в его мастерскую помогать, чем вскоре тот не преминул воспользоваться. Такое приглашение от маститого зодчего, к тому же прекрасного рисовальщика, дорогого стоит – это первый успех юного уфимца на избранном поприще.
Главным предметом студенческой жизни Бондаренко стало искусство, к которому его так влекло с детства – рисунок, живопись, скульптура, изучение ордеров и других архитектурных предметов. Учителями стали крупные московские архитекторы и художники – А.С. Каминский, П.П. Зыков, К.М. Быковский, А.П. Попов, С.И. Иванов, И.М. Прянишников, В.Г. Перов, А.К. Саврасов, В.Н. Мешков. В окружившей его студенческой среде также было немало ярких личностей, вскоре прославивших русское искусство, – В. Серов, И. Левитан, А. Головин, С. Малютин, М. Дурнов, А. Архипов, М. Нестеров, К. Коровин. Бондаренко характеризует их кратко, но это свидетельства человека, знавшего их с юности. Одновременно жадный до впечатлений приезжий провинциал с восторгом открывал для себя Румянцевский музей и волшебную Третьяковскую галерею, все картины которой ученикам тогда позволяли копировать, а также заманчивый мир столичного музыкального и драматического театров с их корифеями той поры.
С увлечением осваивая профессию, Илья Бондаренко уже со второго курса стал работать у Каминского, делал рисунки комнатных росписей, мебели, бронзы и текстиля для фабрики Сапожникова, начал рисовать шаблоны архитектурных деталей, мебели, серебряных изделий, церковной утвари в натуральную величину. Это важный этап в овладении архитектурной профессией. Однако перипетии студенческой жизни, косвенное участие в студенческих волнениях 1890-х вскоре круто изменили его столь счастливо начавшуюся судьбу. Чтобы не попасть под арест, он спешно вернулся в Уфу. Определенный акцент на студенческих беспорядках в воспоминаниях – не только отражение факта его реальной биографии, но и небольшая дань советской идеологии, заставлявшей всех мемуаристов первой половины XX в. подчеркивать свое противостояние (действительное или мнимое) прежним порядкам.
Несмотря на краткость пребывания в Москве, в родную Уфу Бондаренко вернулся уже другим человеком – столичная среда и учеба в одном из лучших художественных училищ страны предопределили его новые культурные и эстетические потребности. Задержавшись здесь на целый год, он сразу вошел уже в другой круг общения, познакомился с несколькими образованными и интересными людьми города – писателями, артистами, заводовладельцами, чиновниками, которые расширили его кругозор и подвигли к дальнейшему самообразованию. С легкой руки писателя А.М. Федорова в Уфе он написал свой первый литературный труд – «Очерки серой жизни», к его удивлению опубликованный в одной из волжских газет.
Однако тяга к избранной профессии все же была сильнее. Поскольку в Москву ехать ему было по-прежнему небезопасно, Бондаренко решил доучиваться архитектуре в Политехникуме Цюриха. И такая возможность у провинившегося перед властями провинциала была! Вскоре, получив долгожданный иностранный паспорт, молодой человек в первый раз отправился в Западную Европу – через Варшаву, Вену и Зальцбург в Швейцарию.
Описания европейских городов по дороге в Цюрих и в дальнейшем – в путешествиях по Европе, написанные Ильей Бондаренко так подробно и с такими точными характеристиками и подробностями, заставляют предположить, что, будучи человеком любознательным и пунктуальным, он все-таки вел в путешествиях дневник или делал путевые заметки, которыми впоследствии воспользовался. Вспоминал он посещенные западноевропейские города с видимым удовольствием, неслучайно именно описания зарубежных поездок занимают едва ли не самое большое место в тексте воспоминаний. Не исключено, что к этому его подталкивали не только сохранившиеся впечатления, но и желание поделиться ими с воображаемыми советскими читателями, для которых подобные поездки в ту пору были уже совершенно недоступны.
Тексты полны немногословных, но, порой, очень поэтичных описаний городов, природных состояний, бытовых сценок. Бондаренко видит их глазами художника, поэтому часто использует цветовые характеристики: «Не отыщешь на палитре подходящего тона, чтобы точно передать голубизну, лазурь, изумруд прозрачной воды озера». Пожалуй, лишь характеристики отдельных архитектурных достопримечательностей чаще всего слишком кратки, а профессиональные комментарии зачастую вообще отсутствуют. Так в первом (черновом) варианте рукописи обращает на себя внимание фраза Бондаренко: «…увидел я поразивший своей неприступностью замок Нойшванштайн», снабженную даже авторским примечанием: «Это одна из королевских прихотей, фантазия загадочно погибшего Людвига II». Что нам говорит эта информация, кроме того, что он этот замок видел? Своим отношением к постройке он не поделился, а ведь знаменитый замок Нойшванштайн – одно из важных современных сооружений, оказавших значительное влияние на архитектуру второй половины XIX в.
Зато жизнь Цюрихского Политехникума Бондаренко удалось показать подробно и полно – описать ее традиции, систему обучения, дать портреты и характеристики известных преподавателей.
Хотя мемуарист по большей части свободен в своих характеристиках и впечатлениях, ему, видимо, пришлось учитывать новые условия и советскую систему ценностей, добавляя факты, которые вряд ли интересовали его в те годы. Так, описание студенческой жизни в Цюрихе с его многочисленной в ту пору русской колонией Бондаренко дополнил сообщением, что встречал в городе Розу Люксембург, занимавшуюся в университете, и фразой, что в Цюрихе жил Ленин. Правда, по времени пребывания они совершенно не совпали, но об этом мемуарист умолчал…
Учеба в Швейцарии, в немецкоязычном Цюрихе – городе церквей и банков, дала Бондаренко очень много, и не только в профессиональном плане. Наделенный тонким музыкальным слухом, он глубоко воспринял ее музыкальную культуру. Европа развила его музыкальный кругозор, сделала его настоящим меломаном, завсегдатаем концертов классической музыки, особенно, бесплатных – в церквях и соборах. В дальнейшем по возвращении в Москву любовь к музыке даже предрешила его женитьбу на ученице Музыкально-драматического училища при Московском филармоническом обществе Е.А. Собиновой – двоюродной сестре знаменитого тенора, и сделала его постоянным членом Кружка любителей русской музыки (1896–1912), которому он посвятил отдельную главу воспоминаний. Эта концертная и просветительская общественная организация сыграла очень большую роль в жизни музыкальной Москвы, здесь пробудился широкий интерес к русской музыке, романсу, здесь дебютировали многие молодые композиторы – А.К. Гречанинов, М.М. Ипполитов-Иванов, П.И. Бларамберг, В.С. Калинников, А.Н. Корещенко, В.И. Реби-ков и другие. Кружок активно работал до 1910 г., когда его главный организатор А.М. Керзин (1856–1914) заболел и вскоре умер. Воспоминания Бондаренко об этом значительном общественном явлении вносят важный вклад в историю музыкальной Москвы.
В 1894 г. европейские университеты молодого архитектора закончились. По окончании Цюрихского Политехникума привыкший учиться Бондаренко сразу уехал в Петербург сдавать экзамены в Академию художеств. По его словам – сдал, но заниматься или выполнять заданную программу, чтобы получить еще один диплом, как делали многие московские зодчие, не стал. Во всяком случае, в архиве Академии художеств[8] нет никаких сведений о Бондаренко. Видимо, причиной такого решения стала насущная необходимость зарабатывать на жизнь, и он уехал в Москву.
По обыкновению все молодые архитекторы сначала поступали в мастерские крупных практикующих архитекторов в качестве помощников. В 1894 г. Бондаренко начал работать в мастерской архитектора В.Г. Сретенского (1860–1900), служившего архитектором Московской духовной консистории и специализировавшегося на церковных зданиях. Начинающему зодчему Сретенский поручил постройку по своему проекту здания Духовной консистории на Мясницкой улице – заметного сооружения в русском стиле. Видимо, эта работа не затронула эмоциональной памяти начинающего архитектора, поскольку он о ней лишь упомянул. Одновременно Бондаренко подрабатывал в мастерской А.Е. Вебера, а затем перешел в мастерскую Франца Осиповича Шехтеля (1895–1896), которую, напротив, описал с благодарностью – особенно живо и ярко. Из архивных источников известно, что Бондаренко в качестве его помощника строил особняк З.Г. Морозовой (С.Т. Морозова) – одно из знаковых произведений московской архитектуры 1890-х гг., яркий образец синтеза искусств. Но и об этом значительном для своего времени сооружении мемуарист написал лишь то, что витраж в особняке сделан по рисунку Врубеля.
Более подробно описаны совместные с Шехтелем работы по убранству павильонов и устройству витрин отдельных экспонентов для Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 г. в Нижнем Новгороде. В Нижнем у Бондаренко было больше свободы, тем более что отделку интерьеров главного дома выставки Шехтель возложил на него. Зодчий работал с увлечением, привлек к росписи парадной лестницы декоратора Большого театра К.Ф. Вальца, но саму архитектуру выставочных павильонов в целом оценил невысоко, отметив лишь ныне хрестоматийно известные – павильон Севера (созданный Л.Н. Кекушевым по рисунку К.А. Коровина[9]) и огромный павильон для экспонирования двух панно М.А. Врубеля, оба выстроенные С.И. Мамонтовым. Это стало его заочным знакомством с деятельностью великого московского мецената.
Савве Ивановичу Мамонтову, несомненно одной из самых ярких и привлекательных фигур Москвы конца XIX в., притягивавшей к себе все новое, незаурядное и талантливое в сфере искусства, Бондаренко посвятил отдельную, самую обширную и в определенном смысле центральную главу своих мемуаров. Воспоминания, как правило, пишутся на склоне лет, когда перед мысленным взором мемуариста проходит вереница людей, воспринимаемых уже не так, как это было в момент встречи, а в охвате всей прожитой ими жизни. Именно так Бондаренко вспоминает и оценивает Мамонтова, с которым его многое связывало и которому он отдал должное, оставшись преданным ему при жизни и сохранив сердечную благодарность после его смерти. Неслучайно в заказанной издательством «Искусство» рецензии на рукопись воспоминаний некая ничем не прославившая себя М.Б. Аптекарь[10] в качестве недостатков отметила: «На мой взгляд, несколько преувеличены роли и достоинства Саввы Мамонтова, который у автора представлен чуть ли не вершителем судеб русского искусства»[11]. Ограниченная идеологическими рамками представлений женщина, видимо, посчитала Мамонтова одним из многочисленных московских купцов, не стоившим особого внимания, не подозревая или не желая признавать, что он и в самом деле был «вершителем судеб русского искусства».
Личное знакомство с Саввой Ивановичем – «Саввой Великолепным», получившим это прозвище за неоценимые заслуги в развитии русского искусства, сравнимые разве что с деятельностью «Лоренцо Великолепного» Медичи, великого патрона искусства флорентийского Возрождения, – стало в биографии молодого Ильи Бондаренко поистине судьбоносным фактом. Для него, как и для многих других молодых художников и зодчих, встреча с ним оказалась тем счастливым случаем, который предопределил его дальнейшую творческую жизнь.
Во многом благодаря именно поддержке и доверию Мамонтова у Бондаренко сложилась успешная профессиональная карьера, а его имя вошло в ряд видных архитекторов начала XX в. Не случайно он навсегда запомнил день 30 марта [1898 г.[12]], когда познакомился с Саввой Ивановичем: «…в назначенный час я вошел в дом на Садовой против Спасских казарм, в дом, ставший для меня столь дорогим. Здесь я получил свое подлинное художественное крещение и провел много-много драгоценных дней не только с Мамонтовым, но и с тем миром, который его окружал, с миром, главным образом художников».
Вся «мамонтовская» глава воспоминаний проникнута любовью и благодарностью к Савве Ивановичу: «В незабываемые годы моего пребывания у С.И. я многому научился и прежде всего, научился, как нужно работать!» В своих воспоминаниях Бондаренко подчеркивает редкие человеческие качества Мамонтова – его скромность, тонкий ум, неистощимую энергию, всепоглощающую увлеченность искусством и любовь к молодежи, которая к нему тянулась, чувствуя это. Это последнее качество не часто встречается у людей старшего возраста и красноречиво говорит о не покидавшей «Савву Великолепного» творческой энергии, гибкости интеллекта и открытости ко всему новому, что и оценил мемуарист.
Мамонтов, как и многим другим художникам, актерам, певцам конца XIX – начала XX в., фактически дал Бондаренко путевку в профессиональную жизнь. Сначала молодой архитектор принял участие в перестройке театра Солодовникова для Частной оперы Мамонтова (1897–1898), затем в 1897–1899 гг. обустроил жизнь Мамонтова в его последней московской усадьбе за Бутырской заставой[13] – возвел ворота (они были облицованы абрамцевской керамикой и служили своего рода рекламой завода), небольшой одноэтажный жилой дом, мастерскую, службы и сооружения керамического завода «Абрамцево» (всего шесть деревянных строений), до наших дней не дошедших[14]. Эта скромная деревянная усадьба на окраине Москвы стала второй после Абрамцева творческой мастерской Саввы Ивановича, где он с энтузиазмом занялся скульптурой и производством архитектурной керамики[15]. Выполнение этих заказов С.И. Мамонтова, как и вхождение в круг Абрамцевского художественного кружка, знакомство с его старожилами – М.А. Врубелем, В.Д. Поленовым, В.А. Серовым и другими художниками, стали важными вехами в биографии молодого Бондаренко. Именно благодаря Мамонтову он получил едва ли не самый важный заказ в своей творческой жизни – создать совместно с Константином Коровиным павильоны Русского Кустарного отдела на Всемирной выставке 1900 г. в Париже, принесшие ему международный успех и известность в качестве знатока русского зодчества.
Долгое время близко общавшийся с Саввой Ивановичем, Бондаренко хорошо понимал масштаб его абсолютно уникальной личности, глубоко и искренно уважал его и любил, с профессиональным пониманием дела вспоминал об уникальном феномене Частной русской оперы и незаурядных музыкальных способностях ее создателя. Читая заметки зодчего о первых постановках опер в мамонтовском театре, которые теперь составляют костяк репертуара российских оперных театров, в который раз убеждаешься, сколь многим наша культура обязана этому безгранично талантливому и проникнутому неистощимой энергией созидания человеку.
Интересны воспоминания Бондаренко и о трагическом факте в жизни Саввы Ивановича – его аресте. Отношение к этому событию даже у людей круга Мамонтова было неоднозначным. Черновой вариант рукописи сохранил малоизвестный эпизод, свидетелем которого был Илья Евграфович. Зайдя к Константину Коровину, он застал его за необычным занятием: «Коровин нервно и бегло прочитывал письма и записки и рвал их.
– Какой ужас! – говорил Коровин, – еще вчера вечером Савву Ивановича арестовали и посадили в тюрьму! Надо скорее уничтожить все его письма и записки, а то еще обыск может быть, и как раз попадешь тоже в тюрьму. Я не знал, что С.И. такой “жулик”, – и это сказал легкомысленный Коровин!!! Трусостью обладал Коровин поразительной».
Сам Бондаренко, иронически отнесшийся к трусливому коллеге, не поддался настроению момента и остался навсегда верен Савве Великолепному. Насколько справедливее и честнее его характеристики Мамонтова, чем необоснованное, ангажированное на потребу новой власти мнение Игоря Грабаря, назвавшего его в 1920-х гг. «купцом-самодуром». До глубины души возмущенный Илья Евграфович, думается, не случайно процитировал эти слова Грабаря в тексте своих воспоминаний – ему хотелось их опровергнуть публично!
Бондаренко завершает главу о Савве Ивановиче подробным описанием церемонии прощания с ним весной 1918 г., приводя проникновенные слова нескольких современников – Шаляпина, Станиславского, Васнецова, Поленова, об этом удивительном, единственном в своем роде человеке, внесшем так много яркого и самобытного в русскую культуру конца XIX – начала XX в. Эти люди, близко знавшие Мамонтова – цвет русской культуры того времени. Думается, цитируя их выступления, Бондаренко хотел еще раз эмоционально пережить тот скорбный момент прощания с незабвенным Саввой Ивановичем, который в последний раз собрал вокруг себя людей, его знавших и любивших, и напомнить о нем будущим читателям. Прощание с Мамонтовым, как вскоре выяснилось, оказалось прощанием и со всей предшествующей жизнью.
Чрезвычайно важны для истории русского искусства рубежа XIX–XX вв. заметки Ильи Бондаренко о подготовке и участии в знаменитой Всемирной выставке в Париже 1900 г. – международном смотре достижений науки, техники, промышленности и культуры, ставшим мощным проводником стиля модерн в искусство большинства европейских стран, в том числе России. Как уже было сказано выше, зодчий был привлечен С.И. Мамонтовым к проектированию павильонов Кустарного отдела совместно с коренным «мамонтовцем» – художником Константином Коровиным. Думается, такой творческий тандем, созданный Саввой Ивановичем, изначально предполагал определенное распределение обязанностей. Коровин должен был предложить запоминающийся национальный образ, может быть, даже намеренно фантастический, призванный привлечь внимание в пестрой многоликой выставочной среде, а Бондаренко воплотить его в реальность, то есть перенести художественные идеи в форму профессионального архитектурного проекта и выстроить его с хорошим качеством.
Так все и происходило. Если эскизные проекты самого Бондаренко были еще по-ученически копийны, то эффектные сохранившиеся эскизы К.А. Коровина, обладавшие необходимой степенью стилистической условности, показывают, сколь далеки они от архитектурного чертежа. Их преобразованием в архитектурный проект и последующим строительством и занимался Бондаренко, руководивший бригадой приехавших с ним плотников (впервые покинувших привычную среду и не раз попадавших в Париже в курьезные ситуации). В результате вместе с Коровиным они открыли новую страницу в истории русского стиля. Образы народной русской архитектуры, первоначально развивавшиеся именно в недрах Мамонтовского кружка, в живописных, сценических и архитектурных работах Виктора Васнецова, были преобразованы в несколько утрированные, но яркие выразительные формы Кустарного отдела, выстроенного в виде Русской деревни, оказавшейся у истоков нового этапа развития русского стиля начала XX в., который вскоре получил название ново- или неорусского. В работе над этими павильонами нашли свое первое воплощение впечатления, накопленные Бондаренко в путешествиях по древнерусским городам Центральной России, Поволжью и деревням Русского Севера. В архиве зодчего сохранилось несколько рабочих материалов (кальки) по парижским павильонам, которые впервые публикуются в данном издании. Они позволяют сравнить образные эскизы Коровина со степенью детализации чертежей Бондаренко, к тому же награду Выставки по архитектуре за павильоны получил только он[16].
Эта работа, получившая мировое признание[17], стала родоначальницей целого направления в выставочной архитектуре России. Впоследствии стилистические мотивы и формы Русской деревни были не раз использованы в экспозиционных ансамблях. Первым идею русской деревни с доминантой в виде шатрового храма подхватил Франц Шехтель, создавший в 1901 г. Павильоны русского отдела на Международной выставке в Глазго. Хотя язык стилизации в его павильонах был более модернизированным, идея создания экспозиции в виде деревянных строений русской деревни повторяла задумку Мамонтова, Коровина и Бондаренко. Позднее стилистика Кустарного отдела была использована для создания русского павильона на выставке в Милане в 1906 г. (арх. А.Н. Дурново). В расширенном виде русская деревня с шатровыми верхами башни и колокольни предстала в павильонах Юбилейной выставки в Ярославле в 1913 г. (арх. А.И. Таманов).
Воспоминания содержат любопытный и малоизвестный факт о судьбе павильонов Русской деревни. По словам Бондаренко, по окончании выставки «все павильоны были куплены в дачные места, а главный павильон приобрела Сара Бернар для своей виллы где-то под Парижем, и десятник Вилков ей перевозил и собирал павильон». Колоритная фигура владимирского десятника Вилкова, руководившего плотниками, приехавшими строить павильоны Кустарного отдела, а затем продолжившего работу на постройках Бондаренко в России, занимает в главе о Парижской выставке одно из центральных мест.
Архитектор подробно рассказывает и о самом Париже, в котором его привлекли постройки ренессанса и классицизма. Нельзя не заметить, что Бондаренко познавал город не из музейных залов, а с улиц, бульваров, из театральных и концертных залов, в отличие от Лондона, куда он вскоре тоже съездил, и где ему, прежде всего, запомнились сокровища Британского музея и Национальной галереи. Описывая Париж, он подчеркивает свою солидарность с Мопассаном в оценке Эйфелевой башни – этого безобразящего Париж «железного гвоздя», «мучительного кошмара». «Эта гигантская уродина, раскрашенная на удивление дикарям», на его взгляд, «действительно портила прекрасный силуэт городского пейзажа». Мнение Бондаренко, думается, совершенно закономерно, ведь башня в то время была единственным сооружением, выбивавшимся из целостной плотной среды города, превосходно застроенного великими зодчими. Она не просто нарушала сложившуюся архитектурную гармонию, она бесцеремонно возвещала о ее неотвратимом будущем (!) разрушении. Это интуитивно чувствовали чуткие к знакам времени люди.
Мимоходом Илья Евграфович высоко оценил графику Альфонса Мюша (Мухи) – художника театра Сары Бернар, едва ли не самого популярного в Париже 1900 г., но нелицеприятно отозвался о домах в стиле Art Nouveau, только входившем тогда в обиход архитекторов всей Европы. Во всяком случае, впечатлениям от увиденных спектаклей он уделил больше места, чем архитектурным новинкам. Впрочем, впоследствии по возвращении из Парижа Бондаренко, по его собственным словам, все же выстроил несколько зданий в стиле модерн, который он красноречиво именовал «парижской заразой». Однако в его творчестве влияние франко-бельгийского ар-нуво практически не прослеживается, видимо, его постройки в стиле модерн сохраняли связь с Парижем 1900 г. только в его воображении.
Для нас важно мнение зодчего об архитектуре этой грандиозной Всемирной выставки, открывавшей новое столетие. Бондаренко выделил в смысле оригинальности павильоны русской деревни, то есть свое собственное совместное с Коровиным произведение, а также отметил павильоны Финляндии (по проекту Э. Сааринена с фресками А. Галлена) и Норвегии, ювелирные работы Лалика и живопись Пюви де Шаванна. Таким образом, его оценка, в целом, совпала с мнением о выставке большинства передовых отечественных и зарубежных критиков.
Добрых слов заслужил от Бондаренко также уголок Старого Парижа – бутафорская, но художественно привлекательная реконструкция старого города, созданная по рисункам художника-иллюстратора, журналиста, писателя и карикатуриста Альбера Робида (Albert Robida; 1848–1926). Расположенная на платформе длиной 260 м вдоль Сены между мостом Альма и шлюзом Дебилли, она представляла собой целый квартал старого Парижа (Le Vieux Paris), состоявший из нескольких воссозданных парижских достопримечательностей со Средневековья до XVIII в. Среди них прогуливались персонажи в старинных костюмах, также нарисованных А. Робида, устраивались костюмированные представления. Здания были выстроены довольно основательно, в них можно было зайти и купить сувениры и открытки. Одобрительный отклик Бондаренко был, думается, неслучайным и не только потому, что он был любителем архитектурной старины – в этой экспозиции он увидел своеобразный аналог Русского павильона петербургского архитектора Р.Ф. Мельцера в виде нескольких башен Московского кремля и возведенной им самим в Париже Русской деревни, по существу тоже бутафорской, но в чем-то более художественной в силу высокой степени образной стилизации. Историческая архитектура еще оставалась в те годы основным источником для новых архитектурных идей и образных интерпретаций, что наглядно показали и павильоны многих других стран, участвовавших в выставке 1900 г. в Париже. Этот источник формообразования и станет основным на протяжении всей творческой жизни зодчего.
Опыт участия во Всемирной выставке и ее пестрая экспозиция, собранная со всего света, навсегда врезались в память Бондаренко. О силе и плодотворности впечатлений, которые оставила в его памяти парижская выставка 1900 г., свидетельствует тот факт, что с этого момента зодчий бывал на всех международных европейских художественных выставках вплоть до начала Первой мировой войны (1914) и, как правило, сравнивал их с Парижем 1900 г.[18]
Только в середине воспоминаний (гл. 16) Бондаренко подходит к рассказу о своей работе в Москве и провинции, причем главным героем повествования зачастую оказывается сам город. Находясь в самой гуще московской культурной жизни начала XX в., будучи знаком со многими ее знаковыми фигурами, зодчий сосредоточивает наше внимание только на запомнившихся ему событиях, дополняя их красочными описаниями старой Москвы с ее улицами, площадями, базарами, праздничными иллюминациями. Как человек художественно одаренный, Бондаренко остро воспринимал живописность окружавшей его архитектурной среды, как знаток истории архитектуры он читал Москву как любимую книгу, улавливая тонкие стилистические нюансы, что придает его московским зарисовкам индивидуальность и неповторимость.
Несмотря на добротное европейское образование и художественные способности, несмотря на заслуженный успех на Всемирной выставке в Париже, получить заказы, которые могли бы раскрыть его дарование, Бондаренко долгое время не удавалось – конкуренция в городе, насыщенном выпускниками собственной архитектурной школы, была велика. К тому же его образование по существу было техническим, а не художественным, ведь он окончил строительное отделение Цюрихского Политехникума, программа которого серьезно отличалась от программы МУЖВЗ и Академии художеств (недаром он собирался окончить и ее). Рисунком будущий зодчий занимался в Швейцарии в основном факультативно. Это, несомненно, повлияло и на характер его творчества, и на его место в ряду московских архитекторов.
Хотя еще в 1896 г. молодой зодчий открыл собственное архитектурное бюро, возможно, именно из-за своего образования ему пришлось заниматься в основном незначительными в художественном отношении постройками в Москве, Иваново-Вознесенске, Владимирской губернии (постройки Горкинской мануфактуры[19]). Чаще всего это были реконструкции, пристройки, надстройки, ремонты, которые архитектор выполнял, опираясь на усвоенные во время учебы передовые строительные методы. Как он заметил: «…на помощниках я не выезжал, а проходил всю проектную работу лично, пользуясь только подсобной силой».
Самым значительным событием в архитектурной жизни Москвы и в творческой биографии Бондаренко первой половины 1900-х гг. стала знаменитая московская Выставка архитектуры и художественной промышленности Нового стиля (декабрь 1902 – январь 1903 г.) под патронажем великой княгини Елизаветы Федоровны. Эта экспозиция стала первой программной экспозицией искусства модерна в России, и именно на ней произошло широкое знакомство горожан с его эстетикой и феноменологией. В главе, частично посвященной этой выставке, Бондаренко называет себя, Фомина и Валькота ее основными организаторами. Толчком к активной работе по ее формированию для молодого Ильи Бондаренко, несомненно, послужил опыт участия во Всемирной выставке в Париже 1900 г. и впечатления от Дармштадтской колонии художников, которую он не раз посещал.
Как известно, главная роль в организации выставки Нового стиля принадлежала архитектору И.А. Фомину, в то время помощнику Ф.О. Шехтеля. Вполне возможно, что привлечение к работе Бондаренко было обусловлено знакомством молодых людей в шехтелевской мастерской, а также, что важнее, близостью их эстетических представлений. В его лице Фомин – в тот момент приверженец западноевропейской (точнее, венской) стилистической ориентации, нашел единомышленника. Вот, к примеру, слова Ильи Евграфовича о появлении нового стиля в Германии: «…наиболее трезвая немецкая архитектурная общественность во главе с группой дармштадтских архитекторов, начиная с молодого знаменитого тогда Жозефа Ольбриха, вырабатывает в Дармштадте стиль настолько интересный и новый, что этот новый немецкий модерн быстро становится законодателем вкусов во всей Западной Европе на протяжении почти двух десятков лет. Родственной чертой дармштадтского искусства развертывается блестящее искусство модерна группы венских архитекторов во главе с Отто Вагнером и Коломаном Мозером при участии дармштадтского архитектора Ольбриха. Основали самостоятельное художественное общество, так наз[ываемый] “Сецессион”. Это общество, полное веселой жизнерадостности в своих работах, издавало также и журнал, который назывался “Ver Sacrum” (“Священная весна”). Это общество в Вене выстроило для себя очаровательный павильон».
Таким образом, как и многие другие московские архитекторы начала XX в., Бондаренко выделял в текущей архитектурной практике работы знаменитых венских архитекторов Йозефа Ольбриха и Отто Вагнера, что еще раз достоверно подчеркивает ориентацию московского модерна 1900-х гг. на современную архитектуру Вены[20]. Любопытно и его мнение о павильоне Сецессиона в Вене – эту небольшую, но довольно монументальную, насыщенную символами и во многих отношениях программную постройку сейчас, пожалуй, трудно назвать «очаровательной», но… именно такой, по-видимому, она казалась своим современникам в контексте окружающей архитектуры города.
Венский модерн, вызывавший в те годы внимание всей Европы, был своеобразным синонимом новых стилистических поисков, которые и увлекали тогда московскую архитектурную молодежь. В соответствии со своими представлениями организаторы выставки[21] подобрали и ее иностранных участников – венцами были знаменитый архитектор Й.-М. Ольбрих – создатель Дармштадтского «городка» художников[22], модные скульпторы Гуршнер, Ф. Кон и Коломан Мозер, членом школы Вагнера (Wagnerschule) был архитектор Ян Котера; кроме того, в выставке участвовали члены Дармштадтской колонии художников – Х. Кристиансен и П. Беренс и известные шотландские архитекторы и дизайнеры Ч. и М. Макинтош из Глазго. То, что в Москву прислал экспонаты, а затем приехал сам Й.-М. Ольбрих, – безусловно было одним из достижений организаторов. В данном издании публикуется наиболее полное собрание фотографий интерьеров и предметов, представленных на этой уникальной выставке, которые расширяют наши представления о творчестве всех участников выставки и помогают точнее понять стилистические тенденции в архитектуре Москвы 1900-х гг.
Заявленная как архитектурная экспозиция, московская выставка Нового стиля содержала лишь небольшой раздел традиционных проектов, который, по общему мнению, был менее интересен. Основу же ее составляли полноценные интерьеры жилых комнат, оснащенные многочисленными сопутствующими мелочами – вазами, коврами, настенными картинами, панно, витражами, посудой. Обращали на себя внимание интерьеры и мебель приезжих знаменитостей – Й-М. Ольбриха и Ч. Макинтоша. И все же выставка, созданная по инициативе московской архитектурной молодежи, прежде всего представляла их собственные произведения, выполненные высококлассными московскими мастерами и мастерскими. И.Е. Бондаренко также представил на ней предметы мебели, деревянные резные изделия и живописный фриз. Обилие местных производителей, способных успешно конкурировать с именитыми иностранцами, было едва ли не самым неожиданным для публики результатом московской экспозиции, давшей толчок широкому внедрению модерна в художественную промышленность Москвы и России.
По примеру своих западноевропейских коллег московская архитектурная молодежь мечтала в те годы объединиться на базе сходных художественных интересов, создав Новое архитектурное общество. Хотя, к сожалению, И.Е. Бондаренко даже не упомянул об этой инициативе и не очень подробно рассказал о выставке в своих мемуарах, он отметил, что именно с ней было связано его обращение к глубокому познанию русского средневекового и народного искусства. Выставка действительно ознаменовала собой важный поворот в стилевом развитии русской архитектуры в целом. С 1903 г. в практику отечественных архитекторов вошел «новорусский» (как его назвала великая княгиня Елизавета Федоровна), или неорусский, стиль. С формами этого стиля в дальнейшем оказались связаны и наиболее заметные архитектурные удачи Ильи Бондаренко.
Отсутствие в начале 1900-х гг. интересных проектных заказов тяготило Бондаренко. По его словам: «Нужен сильный характер, чтобы не поддаваться рассеянному мечтанию, и с непреклонным сознанием необходимости труда до конца нести обязанность труда и веру в этот труд», поэтому он продолжал заниматься самообразованием, читал периодику, книги по русскому искусству и истории и путешествовал. Европейское образование приучило к систематическому использованию профессиональной литературы: «…хорошо посидеть час-другой, рассматривая постоянно получаемые мною из-за границы художественные журналы и слушая хорошую музыку в уютной квартире».
Учеба в Швейцарии многое определила в характере Бондаренко, сделав его рациональным и даже отчасти расчетливым. Описание его распорядка дня и распределения времени между работой и поездками (11 (позднее 10) месяцев – работа, 1 (позднее 2) – путешествия) явно выдает в нем человека немецкой культуры, привыкшего с юности беречь время и придерживаться стабильного жизненного расписания. Как вспоминал Илья Евграфович, для зарубежных поездок архитекторами обычно выбирался мертвый сезон для строительства – ноябрь, декабрь и январь, или ранняя весна, поскольку строить в России традиционно начинали после пасхальной Фоминой недели.
Однако присущий зодчему рационализм удачно дополнялся романтизмом русской натуры, ищущей красоты и совершенства. Не случайно, живя в Москве, в гуще культурной жизни города, в общении со множеством людей, он снимал дачу в Кузьминках, где вдали от столичной суеты можно было наслаждаться тишиной и архитектурной гармонией старинной усадьбы. Его впечатления от увиденного нередко более характерны для художников и литераторов. По его собственным словам, он путешествовал «не для отыскания в Бедекере жирным шрифтом отмеченных примечательных зданий, а чтобы видеть жизнь города во всем его объеме, с людьми и зданиями».
Описания Бондаренко западноевропейских городков, порой, очень лиричны, в них он не только рисует в своем воображении живописную картинку, но и… слышит ее: «Открыл окно, и какой мягкий запах весны ворвался в комнату! Внизу сад, яблони, одетые сплошной шапкой цветов, едва белеют в темноте ночного мрака. Слышно: кто-то где-то идет по пустой улице, и деревянные башмаки стучат о плиты, и снова тишина апрельской теплой ночи, особая задумчивая тишина. Неожиданно в этой ночной темноте мягко зазвучали куранты с какой-то башни, ласкающей мелодией перелились гармоническим созвучием и расплылись в ночном свежем воздухе». Художническое и одновременно музыкальное восприятие мира – характерная особенность меломана Бондаренко.
Оказавшись в юности в центре Европы, он сохранил свои европейские привязанности на всю жизнь (по его словам, Восток его не интересовал). В течение жизни И.Е. Бондаренко многократно путешествовал по странам Европы: Франции, Италии, Испании, Австрии, Голландии, Германии. Его впечатления заняли в тексте воспоминаний одно из центральных мест. Вена и Тироль – полюсы эмоционального притяжения для Ильи Евграфовича. В Тироле его влекли горы, в Вене – бурная музыкальная жизнь. Прага – привлекала музыкой, архитектурой и музейными собраниями и т. д. Для искусствоведов немалый интерес представляют его, порой, оригинальные наблюдения и заметки об архитектуре этих стран. Они, как уже отмечалось, немногочисленны, но позволяют охарактеризовать вкусы и художественные приоритеты самого Бондаренко.
Стремясь уловить в суете окружающей повседневности подлинную гармонию, Бондаренко вскользь заметил, что: «…вечные красоты остаются за пределами современных условий жизни». Возможно, поэтому он не обошел вниманием разнообразные приметы городского быта – кабачки, таверны, блюда местной кухни, вина. Разительный контраст между бытом провинциальной Уфы и среднеевропейским стандартом жизни, видимо, так поразил его в юности, что он запомнил многое в мельчайших подробностях. С удовольствием рассказывая о различных застольях, он явственно обнаруживает черты сибарита, любящего жизнь во всех ее проявлениях и откликающегося на любые заманчивые возможности ее познания.
С юности Илью Бондаренко привлекали история архитектуры и литературное творчество, поэтому по своему закономерно, что в 1904 г. появились выпуски его первой историко-архитектурной книги «Архитектурные памятники Москвы»[23] – как он ее определил: первый научный опыт освещения русского послепетровского зодчества, называвшегося обычно временем «упадка» русской архитектуры или снисходительным термином «ложноклассическая архитектура». По его словам: «Та же группа архитекторов, которая с таким увлечением устраивала выставку “Нового стиля”, с не меньшим увлечением теперь занималась изучением русского народного творчества и естественно подошла к изучению русского классицизма и особенно эпохи ампира».
Наибольший интерес на протяжении жизни Бондаренко сохранил к классицизму XVIII в. и ампиру. Его добротную искусствоведческую прозу вполне можно сравнить с текстами корифеев искусствознания тех лет – А.Н. Бенуа, Н.Н. Врангеля, И.Э. Грабаря, Г.К. Лукомского. По-видимому, он был и хорошим лектором – недаром он упоминает об «ампирных воскресеньях», на которые к нему в гости собиралась публика послушать о почти забытом в те годы русском классицизме. На этих собраниях бывал даже Савва Иванович Мамонтов, которого Бондаренко не забывал и в 1910-е гг., когда обширный круг его друзей значительно поредел. Он писал: «Иногда ездил на Бутырки к С.И. Мамонтову, там всегда было что-нибудь интересное. Мамонтов жил скромно, увлекаясь своей абрамцевской майоликой, и принимал редкое участие в общественных делах художественной жизни Москвы. Бывал он и у меня, приветствовал мои “ампирные” воскресенья, находя, “что вот так можно устроить и академию…”».
Постижение и восхищение классицизмом привело Бондаренко уже в 1903–1904 гг. к отходу от форм стиля модерн, о чем он пишет в мемуарах. Это важное документальное свидетельство члена профессионального архитектурного цеха, подтверждающее дату отсчета в развитии московского неоклассицизма[24]. Благодаря своему увлечению русским классицизмом и ампиром, в 1912 г. Бондаренко стал одним из организаторов юбилейной «Выставки в память войны 1812 г.» в Историческом музее, в 1913 г. создал один из разделов «Исторической выставки архитектуры и художественной промышленности», приуроченной к V Всероссийскому съезду зодчих, где впервые были показаны подлинные чертежи Д. Джилярди и А. Григорьева; а также написал статьи для путеводителя по Москве, изданного к съезду[25]. Однако об этих важных событиях он в своих воспоминаниях лишь кратко упомянул (гл. 27).
Практически ничего Илья Евграфович не сказал и о своих постройках в стиле неоклассицизм, которых было совсем немного и которые, в целом, уступали работам в этом стиле других мастеров московской неоклассики. Примером могут служить перестройка дома А.А. Бахрушина в подмосковной усадьбе Афинеево (не сохранился), особняк А.И. Соколова в Иваново-Вознесенске и поздний нереализованный проект расширения театрального музея в Москве, которые не обладали ни яркой образностью, ни тонким обаянием московского варианта неоклассицизма. Самым стильным произведением Бондаренко 1910-х гг. в формах раннего классицизма стал проект Дома для детских трудовых артелей на Пречистенской набережной (1913), выполненный по мотивам архитектуры С.-Петербурга петровского времени – ставшей особенно популярной после празднования 300-летнего юбилея северной столицы. К сожалению, проект был осуществлен лишь частично и с отказом от большинства декоративных деталей. Несмотря на высокое покровительство великой княгини Елизаветы Федоровны и поддержку крупных московских благотворителей закончить постройку, видимо, помешала начавшаяся война.
И все же в историю русской архитектуры И.Е. Бондаренко вошел не столько как историк и даже не как активно практикующий архитектор (в сравнении с крупными мастерами московской архитектуры рубежа XIX–XX вв. перечень его построек весьма невелик), а как автор первого и нескольких последующих старообрядческих храмов в Москве и ее окрестностях, возведенных после Манифеста 1905 г. и ставших самой яркой страницей его творчества. (В данном издании публикуется полный свод его церковных проектов, сохранившихся в его архиве в РГАЛИ.) Их необычная образность – нетипичность и «западность», отмечаемые его коллегами, тщательность их отделки были необычны для Москвы, но именно они заложили образные основы новейшего этапа старообрядческого храмостроения, внесшего заметный вклад в развитие неорусского стиля и в облик города 1900–1910-х гг. Самыми выдающимися из них стали московские храмы в Токмаковом и Малом Гавриковом переулках, а также храм в Богородске Богородского уезда Московской губернии (теперь – Ногинск).
Почему же из немалого числа московских зодчих, умело строивших в национальном стиле, именно сибарит Бондаренко, с удовольствием предававшийся всем радостям жизни, получил заказы на новые храмы строгих и аскетичных старообрядцев, строительство которых было разрешено Манифестом 1905 г.? Хотя в специальной главе Илья Евграфович подробно рассказывает, как произошло его сближение с московскими раскольниками, которых с 1905 г. стали официально называть старообрядцами, думается, главными для заказчиков было все же не знакомство и не личные качества выбранного зодчего, а два других обстоятельства: успех выстроенных Бондаренко павильонов Русской деревни в Париже и его солидное европейское образование, удостоверявшее профессионализм в строительных и технических вопросах.
Его первым знакомцем из старообрядческой среды стал Николай Петрович Ануфриев (1876–1941, Москва) – тогда еще молодой человек, выпускник Московского университета, влюбленный в древнерусское искусство, сын П.И. Ануфриева – старообрядца, видного деятеля Второй Московской Поморской общины старообрядцев брачного согласия, председателя правления товарищества фарфоровых фабрик знаменитого М.С. Кузнецова. Будучи по семейной традиции убежденным сторонником старой веры, Н.П. Ануфриев, вскоре ставший секретарем общины, познакомил Бондаренко с Елисеем Поляковым, сыном известного фабриканта И.К. Полякова – главы правления мануфактуры Викулы Морозова и также старообрядца. Так волею судеб зодчий оказался сразу связан с наиболее авторитетными кланами московских старообрядцев, а вскоре получил заказ на постройку первого старообрядческого храма в Токмаковом переулке (1907–1908).
Бондаренко не посвящает читателя мемуаров в свой творческий процесс, не рассказывает, как родился его первый проект старообрядческого храма. Были ли варианты? О чем его просили заказчики? и т. д. Однако образ выстроенного им в Токмаковом переулке храма кардинально отличался от всего церковного зодчества той поры – полностью облицованный керамической плиткой (кабанчиком, который ранее никогда не применялся для храмовых построек), поблескивающий на солнце с дивным абрамцевским керамическим порталом, напоминающим по форме белокаменные перспективные порталы древнерусских церквей, с непривычными для православного зодчества витражами в окнах и двумя парящими ангелами на цветном майоликовом панно щипца звонницы, этот московский храм появился в городе как приковывающая взгляд яркая и очень современная диковина и сразу заявил о старообрядцах как заметной духовной и культурной части общества. На этот результат и рассчитывали его заказчики, которые, вопреки бытующим представлениям об ортодоксальности и сугубой традиционности старообрядцев, оказались способны первыми воспринять новую храмовую эстетику.
В самом деле, храм в Токмаковом переулке не имел конкретных исторических прототипов, как часто бывало в церковном зодчестве начала XX в., о них не пишет и Бондаренко. Разве что двускатное покрытие звонницы и небольшие бочки в основаниях главок напоминали формы клетских деревянных храмов Русского Севера, как обмолвился в своих воспоминаниях архитектор: «вспомнился наш Север». Обмолвка красноречива, как известно, именно Север стал прибежищем гонимых ревнителей старого благочестия, что, видимо, заметили и оценили в его проекте московские поморцы. Еще одним важным смысловым знаком для них была икона Спаса Вседержителя в руках парящих ангелов на щипце храмовой звонницы, которая копировала икону середины XVII в. со Спасских ворот Московского Кремля[26]. Это напоминало им о почитаемых дониконовских временах.
Общая объемно-пространственная композиция постройки традиционна: притвор, колокольня, собственно храм и алтарная апсида нанизаны на ось запад – восток. Однако нельзя не подчеркнуть, что трактовка всех форм храма была весьма опосредованной и далекой от привычных первообразов, причем их бросающаяся в глаза современность сочеталась у Бондаренко с конструктивной новизной – он смело использовал железобетон во всех частях зданий, привлекая к строительству известного инженера А.Ф. Лолейта, работавшего в лучшей фирме по бетонным работам «Юлий Гук».
Пожалуй, самым оригинальным приемом отделки этого храма была необычная рельефная разработка стены, имевшей несколько планов. В ней обращала на себя внимание не только игра керамических поверхностей – основной, покрытой светлым кабанчиком и чуть отступающей в верхней части (фризовой) с крупным кокошником в центре, облицованной темной абрамцевской акварельной плиткой, но и лаконичные обрамления окон в виде гладких треугольных щипцов на коротких дутых колонках, наложенных на стену как аппликация, и намеренно усложненные выступающие фигурные рамы витражей. Витражи, как известно, не свойственны русской храмовой архитектуре, хотя некоторые их образцы с реалистическими изображениями евангельских персонажей можно найти в церквях второй половины XIX в., в основном в алтарных окнах, видимых лишь во время службы. Витражи же храма в Токмаковом переулке совершенно другие – их металлические рамы являются едва ли не самым значимым элементом декора во внешнем виде постройки. Лаконичные и выразительные рисунки креста, цветков, шестикрылого серафима выделены выступающими рамками, отделяющими один цвет стекла от другого, причем кроме прозрачных стекол использованы и матовые светлые, которые хорошо видны именно снаружи.
В этом сооружении, как представляется, – лучшем из всех построенных старообрядческих храмов Бондаренко, зодчий трансформировал пластику Пскова и Новгорода в новые монументальные формы, пропустив через художественное мироощущение Мамонтовского кружка, свободно комбинировавшего сильно стилизованные и даже утрированные элементы древнерусского зодчества. В этом смысле его старообрядческие храмы (всего их было 12), строившиеся на протяжении 10 лет с 1906 по 1916 г., стали развитием принципов, заявленных еще в 1881–1882 гг. В.М. Васнецовым и В.Д. Поленовым в маленькой абрамцевской церковке. Приверженность Бондаренко эстетике Мамонтовского кружка выразилась и в том, что почти все его храмы были украшены (или их предполагалось украсить) керамикой завода «Абрамцево», руководимого С.И. Мамонтовым, нередко игравшей в них ведущую декоративную роль.
В храме в Токмаковом переулке предстали полностью сформированными основные приемы его церковной архитектуры, определившие его творческий почерк – образный лаконизм и внимание к прорисовке силуэта, использование традиционных луковичных глав и шатровых колоколен, подчеркнутое внимание к плоскости стены, аппликативное расположение на ней отточенных деталей (окон с наличниками, ниш, панно), частое использование фасадной майолики (конечно, абрамцевской (!), от Саввы Ивановича), живописных вставок и витражей, акцент на границах фактур и по-разному облицованных поверхностей.
Этот храм стал убедительным аргументом для следующего заказчика Бондаренко – видного старообрядца Арсения Ивановича Морозова – главы Богородско-Глуховской мануфактуры, поручившего ему крупный храм в Богородске (в Глухове) при его фабриках. В 1911 г. И. Бондаренко выстроил здесь белокриницкую церковь во имя пророка Захарии и великомученицы Евдокии, в память тезоименных святых деда и бабушки Арсения Ивановича – создателя Глуховской мануфактуры Захара Саввича Морозова и его жены Евдокии Мартыновны. Храм в Глухове отдаленно напоминал древний Спасо-Преображенский храм XII в., основанный Ефросиньей Полоцкой в Полоцке (находится на территории Спасо-Ефросиньева монастыря), возможно, указанный заказчиком, но был дополнен нарядными декоративными деталями московского зодчества XV в. и узорочья XVII в., аранжированными в совершенно иное художественное целое. Все средства на строительство церкви, колокола и иконостас были пожертвованы А.И. Морозовым, который, кроме того, купил к иноностасу и уникальные Царские врата, созданные в XVI в. для Благовещенского собора Московского Кремля[27].
Несколько храмов Бондаренко создал для могущественного фарфорового короля России – М.С. Кузнецова, который после Манифеста занялся храмовым строительством в своих имениях и при фабриках. Самым удачным из них стал лаконичный выразительный храм во имя Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы в его тверском имении Кузнецове на Волге, возведенный в 1909 г.
И все же последующие церковные постройки и проекты зодчего для старообрядцев при формальных находках и отдельных оригинальных и хорошо нарисованных деталях оказались менее интересны его первого московского храма в Токмаковом переулке. Их облик и силуэты, как правило, дробны, а формы более традиционны и нередко воспроизводят узнаваемые образцы. Например, Никольский храм Первой Московской общины поморского согласия, построенный в 1908 г., по композиции напоминал не храм, а знаменитый дом бояр Романовых на Варварке. Даже московский храм в Гавриковом переулке, который безусловно привлекает интересными деталями отделки, продолжающими развивать приемы храма в Токмаковом переулке, все же грешит негармоничностью силуэта – диспропорциями между основным массивом сооружения и величиной барабана главы и шатра колокольни. И все же, хотя его проекты церковных построек уступают в силе и цельности образов работам признанных корифеев неорусского стиля – В.А. Покровского и А.В. Щусева, именно вклад Бондаренко в храмовое зодчество старообрядцев Москвы начала XX в. оказался наиболее значителен и оригинален в декоративном отношении, что и обеспечило ему место в ряду крупных русских зодчих своего времени. Его почерк, отличавшийся от архитектурного языка В.А. Покровского и А.В. Щусева, в свою очередь также повлиял на формирование церковных канонов стиля начала XX в., внеся в него некоторые оригинальные приемы стилизации.
Переработанные элементы древнерусской архитектуры Бондаренко использовал и для создания двух своих наиболее значительных работ в усадебной архитектуре.
В имении барона В.Р. Штейнгеля на Кубани он возвел целый усадебный ансамбль – главный дом, службы, больницу для рабочих и служащих (на 18 коек) и училище 3-го разряда на 50 крестьянских детей. Владимир Штейнгель – крупный и удачливый предприниматель, создатель мощного промышленно-сельскохозяйственного комплекса «Хуторок»[28], ежегодный оборот которого составлял 3 млн руб.
Центральным сооружением обширного комплекса, несомненно, был главный усадебный дом. В 1910 г. его проект был создан петербургским архитектором-художником О.Р. Мунцем, представившим его в виде средиземноморской виллы XIX в. с высокой четырехъярусной смотровой башенкой. Возможно, по нему и началось строительство (об этом говорит план здания Мунца). Однако уже в следующем 1911 г. проект был передан И.Е. Бондаренко, который полностью изменил его стилистику, сделав ее более современной. Этим, видимо, и была вызвана перемена зодчего. В его редакции постройка стала гораздо более лаконичной, ее белые стены были почти полностью освобождены от декора.
К счастью, в архиве И.Е. Бондаренко в РГАЛИ сохранился проект фасада дома и альбом фотографий имения Штейнгеля (в данном издании впервые публикуется почти полный их набор), которые позволяют подробно рассмотреть эту незаурядную постройку. Двухэтажный объем с мансардами под черепичными кровлями с переломом состоял из нескольких разномасштабных элементов – высокой граненой башенки-эркера, нескольких массивных балконов и террас, изящной наружной винтовой лестницы и т. д. Стилистика внешнего облика этого дома была по-своему уникальна не только для Кубани, но и для России этого времени. По словам Бондаренко, Штейнгель просил его ориентироваться на современные виллы Мюнхена. В постройке действительно щедро использованы формы и декоративные элементы немецкого особнякового строительства, напоминающие, впрочем, не только мюнхенские особняки, но и образцовые дома конца 1900-х гг., выстроенные в переходных формах от позднего немецкого модерна к раннему ар-деко архитектором Альбином Мюллером[29]. Дата окончания кубанской постройки – «1912» – была изображена на бортике балкона над входом в дом.
Язык раннего ар-деко был не единственным стилистическим источником форм дома в Хуторке, другим – стали сильно трансформированные древнерусские элементы. Своеобразной эмблемой дома стал высокий острый щипец с овальным окном, покрытый двускатной кровлей и обращенный к парадному двору. Плоскость щипца была покрыта светлой керамической плиткой, на которой был изображен дворянский герб барона В.Р. Штейнгеля – это еще одна до сих пор бывшая нам неизвестной работа абрамцевского завода Саввы Мамонтова.
Сохранившиеся в архиве И.Е. Бондаренко фотографии интерьеров дома Штейнгеля впервые позволяют нам шире познакомиться с этим несохранившимся зданием. Кабинет барона представлял собой расписную сводчатую палату с мебелью в русском стиле и очаровательной керамической абрамцевской печкой; одна из лестниц дома, каминный зал и спальня были оформлены в формах раннего ар-деко. Это, видимо, полностью отражало пожелания владельца – акцентировать свою любовь к русской истории и в то же время создать в доме современную комфортную среду, не перегруженную исторической декорацией.
Другим усадебным комплексом, в котором И.Е. Бондаренко гораздо шире использовал древнерусские формы, было подмосковное имение Нагорное меховщика П.А. Гуськова, располагавшееся рядом с Архангельским. Окончательный проект этого дома зодчий создал в 1915 г. Эта постройка должна была состоять из нескольких разновысотных объемов, в том числе шатровых, немного напоминавших композицию Русской деревни в Париже, но некоторые элементы перекликались и с домом в Хуторке. Здание должно было быть довольно щедро украшено наружной абрамцевской керамикой, включавшей наличники, настенные панно, короткие вставки-фризы и т. д. Западноевропейской составляющей в этом загородном доме стали передовые строительные приемы Бондаренко – используя опыт западных коллег, он начал строительство с прокладки всех необходимых инженерных сетей, как в то время еще мало кто делал (об этом он написал сам). Эта постройка стала бы, по-видимому, его самым выразительным произведением в неорусском стиле, но, к сожалению, из-за начавшейся войны дом так и остался в проекте;
была возведена только маленькая кирпичная караулка при въезде в имение, которая до сих пор стоит на Ильинском шоссе.
Крупные заказы конца 1900–1910 гг. позволили архитектору купить в 1914 году у торговца драгоценными камнями А.А. Бо владение по Новой Божедомке (д. 27). С 1913 г. Бондаренко снимал там жилье, а затем купил участок на имя своей жены Елизаветы Александровны. Хотя пользовался зодчий собственным домом недолго – до 1918–1919 г., он успел перестроить деревянные строения в скупых формах неорусского стиля (постройки были снесены в 1980-х гг.).
Любопытны характеристики, которые давал Илья Евграфович в своих мемуарах воротилам московского купечества, с которыми немало общался. Их ценность в объективности – их дает свидетель, абсолютно не заинтересованный ни в дружбе с ними, ни в очернении. Конечно, воспоминания писались автором тогда, когда судьба большинства этих богатейших московских купцов и домовладельцев уже кардинально изменилась, да и заказчики его воспоминаний, видимо, ждали нелестных слов в их адрес. И все-таки Бондаренко не позволил себе необъективности и глумления, чем грешили многие.
Как жаль, что о культурной жизни Москвы того времени Илья Евграфович рассказал чересчур бегло, хотя был погружен в нее и знаком со многими знаковыми персонажами! Как он сам писал: «А жизнь художественной Москвы в эти годы была интересной. Взоры на Запад, взоры не только любопытства, а проникновения и понимания. Там сияла живопись Сегантини, убедительная задумчивость Пюви де Шаванна, Сезанна, Карьера, скульптура Родена изумляла и радовала, графика Бердслея и Валлотона подстегивала и наших графиков; подражающий Феофилактов и его друзья по “Золотому руну” давали интересные рисунки, хотя и с долей эротизма». Возможно, этот интереснейший в жизни города период казался ему и его ровесникам слишком знакомым, еще не успевшим стать по-настоящему прошлым или сами условия заказа его воспоминаний не располагали к подробному очерку…
Нельзя не заметить, что И.Е. Бондаренко очень редко упоминал в мемуарах имена своих коллег – московских архитекторов, а об их работах отзывался чаще всего односложно и довольно колко. Пожалуй, это одно из самых главных разочарований мемуаров, ведь жизнь московского архитектурного сообщества конца XIX – начала XX в. от нас уже ушла в прошлое, а так хотелось бы узнать о ней и ее участниках побольше, но, увы!.. Безусловно, знавший ее Бондаренко обидно мало о ней рассказал и не удовлетворил наше любопытство! Видимо, архитектурная среда не играла в его жизни значительной роли – сказались годы образования за границей, ведь самые крепкие профессиональные контакты обычно образуются в годы учебы. Как видно, у Бондаренко за неполных два года в МУЖВЗ долговременные дружеские контакты не появились.
Проигнорировав коллег-архитекторов, Бондаренко дал замечательно подробный очерк о наиболее крупных русских коллекционерах, в основном москвичах и нескольких петербургских собирателях. Их характеристики отмечены живыми наблюдениями, связанными с личным знакомством. Вот, к примеру, колоритный портрет одного из книжных торговцев, нередко наведывавшегося к Бондаренко, собиравшего книжные редкости: «Рыжая, видимо никогда не чесаная борода, всклокоченные волосы и какие-то огромные сапоги с непомерно широкими голенищами, изношенный десятилетиями пиджак были мне дороги, когда этот, просто называемый “рыжий” приходил к нам домой на кухню и приносил мне какую-нибудь книжку за 20–30 коп.».
Интерес к собирателям у него неслучаен, хотя материальных возможностей собирать художественную коллекцию у Бондаренко не было, в его душе жил нереализованный коллекционер. Как он сам говорил о себе: «…особое затаенное чувство невысказанной любви к предметам старины и искусства всегда теплилось в глубине моей души, ищущей красоты». Наиболее доступными для зодчего были книги, к которым он относился особенно трепетно, бродя по букинистам и, порой, находя такие сокровища, как баженовский перевод Витрувия 1799 г. Любопытны заметки Бондаренко и о подделках, которые уже тогда попадали на антикварный рынок и в некоторые знаменитые коллекции.
События Февральской и Октябрьской революций в тексте Ильи Бондаренко лишь упомянуты, а советскому периоду, ко времени написания воспоминаний уже насчитывающему больше 20 лет, в рукописи отведена только одна последняя глава, хотя и немалая по объему. Справедливости ради, нельзя не отметить, что она представляет собой незаурядный портрет времени – в самом ускоренном ритме ее повествования пульсирует неукротимая энергетика революционных преобразований. В тексте архитектор, видимо, намеренно не касался боевых действий, обстрелов и человеческих жертв революционных событий, а сразу обратился к описанию работ по восстановлению частично разрушенного обстрелами 1917 г. Кремля, по реставрации и раскрытию таких шедевров русской иконописи, как «Троица» А. Рублева, и фресок.
Бондаренко живо описал участие в первых архитектурно-реставрационных работах советского времени многих, теперь уже хрестоматийно известных специалистов – архитекторов, историков, археологов, коснулся судеб некоторых из них. Например, академика архитектуры, одного из первых русских реставраторов П.П. Покрышкина (1870–1922), среди восстановительных работ 1900–1910-х гг. которого – церкви Благовещения в Ферапонтовом монастыре, Спаса на Берестове в Киеве, выпрямление колокольни церкви Успения в Архангельске, наконец, знаменитая реставрация церкви Спаса на Нередице (1903–1904, 1919–1920).
В ноябре 1917 г. он стал помощником председателя Коллегии по делам музеев и охраны памятников; в 1918 г. принимал участие в создании и стал руководителем специального реставрационного отдела, который вскоре был упразднен. Осенью 1919 г. он отказался от чтения лекций в Академии художеств, сославшись на болезнь, а в июле 1920 г. уехал из Петрограда, чтобы принять сан священника. Был определен в нижегородский Лукояновский Тихоновский монастырь, где вскоре умер от сыпного тифа.
Несмотря на краткость, суждения Бондаренко, порой, позволяют судить о первых годах после революции точнее, чем тома искусствоведческих изысканий. Еще одним весьма важным свидетельством последней главы мемуаров стали его слова о судьбе известного архитектора Петра Самойловича Бойцова. Хотя мемуарист не называет точную дату его смерти, исходя из контекста воспоминаний следует, что зодчий, с увлечением занявшийся после революции подготовкой материалов для реставрации храма Василия Блаженного, умер в конце 1918 г. Попутно, вскользь, рассказывая о работах в Кремле, он сообщил о «незабвенном моменте», – встрече с Лениным, посвятив ему лишь одну фразу: «До сих пор я вижу Владимира Ильича как живого, с его мягким, улыбающимся, спокойным лицом и необыкновенно проникновенными умными глазами». Более пространную характеристику вождю мирового пролетариата он давать, видимо, поостерегся.
В советское время И.Е. Бондаренко удалось довольно быстро освоиться и найти себе применение. Строительство в Москве на несколько лет тогда практически прекратилось, поэтому он, как и большинство его коллег, надолго отошел от строительной деятельности, но в отличие от многих оказался в гуще разнообразной культурной работы. Одно перечисление его занятий и постов занимает немало места. Пожалуй, наиболее значимо, что в 1919–1921 гг. он был директором Управления художественных музеев в Уфе, где организовал Государственный художественный музей с библиотекой и Уфимский политехникум.
