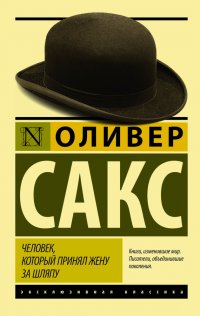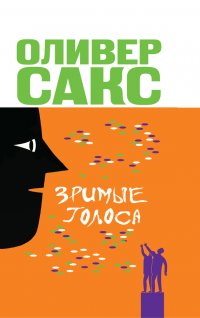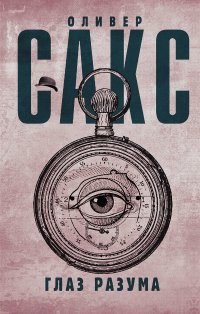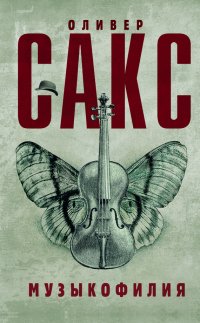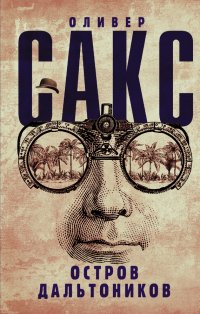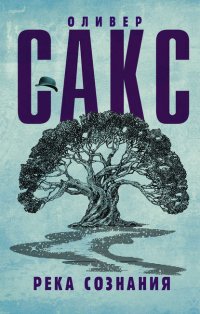
Читать онлайн Река сознания (сборник) бесплатно
- Все книги автора: Оливер Сакс
Серия «Шляпа Оливера Сакса»
Oliver Sacks
THE RIVER OF CONSCIOUSNESS
Перевод с английского А. Анваера
Печатается с разрешения автора и литературного агентства The Wylie Agency (UK) Ltd.
Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.
© The Oliver Sacks Foundation, 2017
© Перевод. А. Анваер, 2018
© Издание на русском языке AST Publishers, 2018
Предисловие
За две недели до своей смерти Оливер Сакс отредактировал оглавление «Реки сознания», последней книги, которую просматривал лично, и поручил нам троим подготовить ее к публикации.
Одним из побудительных мотивов к написанию книги явилось приглашение, которое Сакс получил в 1991 году от голландского продюсера. Тот предложил ему принять участие в съемках документального сериала «Блистательная случайность». В заключительной серии шесть ученых – физик Фриман Дайсон, биолог Руперт Шелдрейк, палеонтолог Стивен Джей Гулд, историк науки Стивен Тулмин, философ Дэниел Деннетт и доктор Сакс – собрались за круглым столом, чтобы обсудить наиболее важные вопросы, исследуемые наукой: происхождение жизни, смысл эволюции, природа сознания. В оживленной дискуссии выяснилось, что доктор Сакс свободно ориентируется во всех затронутых научных дисциплинах. Интерес Оливера Сакса к науке не исчерпывался неврологией или медициной, его занимали предметы, идеи и вопросы всех наук. Этот всеобъемлющий опыт определяет построение книги, в которой автор касается не только природы человеческого опыта, но и опыта всего живого, включая и растительную жизнь.
В «Реке сознания» доктор Сакс исследует проблемы эволюции, ботаники, химии, медицины, неврологии и искусства, призывая в помощники таких великих ученых, как Чарлз Дарвин, Зигмунд Фрейд и Уильям Джеймс. Для Сакса они стали постоянными спутниками еще на заре жизни, и во многих своих произведениях он как бы беседует с ними. Подобно Дарвину, Сакс был проницательным наблюдателем и любил коллекционировать частные, но показательные примеры, многие из которых черпал в своей обширной переписке с пациентами и коллегами. Как и Фрейд, он стремился понять человеческое поведение в его самых загадочных проявлениях. Подобно Джеймсу, Сакс, даже когда он касается таких теоретических вопросов, как природа времени, память и творчество, продолжает уделять внимание специфичности чувственного опыта.
Ряд фрагментов, включенных в книгу, впервые были опубликованы в The New York Review of Books, и доктор Сакс пожелал посвятить эту книгу своему старому другу, издателю, редактору и наставнику Роберту Сильверсу.
Кейт Эдгар, Дэниел Фрэнк и Билл Хэйс
Дарвин и смысл цветов
Всем известна биография Чарлза Дарвина: двадцатидвухлетний молодой человек всходит на борт корабля «Бигль», отправляющегося на край света. Дарвин в Патагонии. Дарвин в аргентинской пампе, где он умудрился набросить лассо на ноги собственной лошади. Дарвин в Южной Америке, собирающий кости гигантских вымерших животных. Дарвин в Австралии – он все еще приверженец христианства – впервые видит кенгуру («несомненно, здесь приложили руку два Создателя»). И конечно же Дарвин на Галапагосских островах, наблюдающий, как отличаются друг от друга зяблики, живущие на разных островах архипелага. Именно здесь происходит значительный сдвиг в мировоззрении Дарвина, в результате которого, четверть века спустя, выйдет в свет книга «О происхождении видов».
История о Дарвине достигает своей кульминации в ноябре 1859 года, а затем следует элегический постскриптум: мы видим старого и больного Дарвина, которому осталось жить еще примерно двадцать лет. Он расхаживает по саду своего дома в Дауне, безо всяких планов и целей. Правда, изредка издает книги, но с главным делом своей жизни Дарвин давно покончил.
Нет ничего, что могло бы быть дальше от истины, чем нарисованная мною картина. До конца своих дней Дарвин оставался очень восприимчивым как к критике, так и к фактам, подкрепляющим его теорию естественного отбора, и это заставило его выпустить, ни много, ни мало, пять изданий «Происхождения видов». Действительно, в 1859 году Дарвин вернулся к своему саду и пяти теплицам в Дауне (у него было обширное поместье), но эти теплицы словно стали движущей силой войны. В ней он в качестве снарядов метал в головы скептиков описания необычных структур и модели поведения растений, которые было трудно приписать божественному творению или исходному плану – доказательства эволюции и естественного отбора, даже более убедительные, чем те, что он приводил в «Происхождении видов».
Странно, но даже ученики Дарвина уделяли мало внимания его ботаническим трудам, несмотря на то, что он посвятил этой науке шесть книг и семьдесят статей. Так, Дуэйн Айзли в своей вышедшей в 1994 году книге «Сто и один ботаник» замечает:
«О Дарвине было написано, пожалуй, больше, чем о любом другом биологе, но о [нем] редко вспоминают как о ботанике… Факт, что он написал несколько книг об исследовании растений, упоминается дарвинистами, однако эти упоминания косвенны и выдержаны в таком духе, будто занятия ботаникой являлись просто развлечением великого человека».
Собственно, Дарвин всегда питал особые, очень нежные, чувства к растениям и восхищался ими. Он признавался в своей автобиографии: «Мне доставляло большое удовольствие возвышать растения над другими живыми существами». Он родился в поистине «ботанической» семье – его дед, Эразм Дарвин, сочинил поэму в двух частях «Ботанический сад», а сам Чарлз жил в доме, расположенном в большом саду, где росли не только цветы, но и яблони, подвергавшиеся перекрестному опылению для получения более стойких сортов. Став студентом Кембриджа, Дарвин посещал только лекции ботаника Дж. Генслоу, и именно этот ученый распознал в ученике незаурядный талант, порекомендовав взять его в экспедицию «Бигля».
Дарвин посылал Генслоу подробные письма-отчеты о своих наблюдениях фауны, флоры и геологии увиденных им мест. Эти письма впоследствии сделали Дарвина известным в научных кругах еще до возвращения «Бигля» в Англию. И именно для Генслоу Дарвин, находясь на Галапагосских островах, собрал обширную коллекцию цветков всех растений и в сопроводительной записке отметил, что на различных островах архипелага растут разные виды одних и тех же родов. Это стало одним из основных аргументов в рассуждениях Дарвина о роли географических различий в происхождении новых видов.
Действительно, как указывал Дэвид Кон в своем опубликованном в 2008 году эссе, образцы галапагосских растений, собранных Дарвином, числом более двухсот, составили «самое влиятельное естественно-историческое собрание живых организмов в истории науки… Это собрание стало лучшим документальным подтверждением эволюции видов на этих островах».
Кстати, птицы, собранные Дарвином, не всегда были правильно идентифицированы, поскольку он не сумел в каждом случае определить, с какого именно острова они были, и позднее эту коллекцию, дополненную образцами, привезенными другими членами команды «Бигля», упорядочил орнитолог Джон Гульд.
Дарвин подружился с двумя ботаниками – Джозефом Долтоном Гукером из Кью-Гарденс и Эйзой Греем из Гарварда. Гукер стал его другом в сороковые годы, причем настолько близким, что ему первому Дарвин показал черновик своего труда об эволюции, а Эйза Грей вошел в круг друзей позднее, в пятидесятые годы. Дарвин с возрастающим энтузиазмом писал обоим о своих изысканиях, называя свое детище «нашей теорией».
Дарвин с удовольствием называл себя геологом (он написал три геологических исследования, основанные на наблюдениях, сделанных во время путешествия на «Бигле», и создал оригинальную теорию происхождения коралловых атоллов, которая была экспериментально подтверждена только во второй половине двадцатого века), однако настаивал на том, что он – не ботаник. Несмотря на замечательное начало, положенное в восемнадцатом веке Стивеном Гейлсом в книге «Статика растений», где описаны увлекательные эксперименты по физиологии растений, ботаника оставалась полностью описательной и таксономической дисциплиной: растения идентифицировали, классифицировали и называли, но не исследовали. Дарвин, напротив, был прежде всего исследователем, сосредоточенным на поисках ответов на вопросы «как» и «почему» относительно структуры растений, а не ответов на вопрос «что».
Ботаника не являлась для Дарвина развлечением или хобби, как для многих деятелей викторианской эпохи. Изучение растений соединялось у него с теоретической целью, а цель имела отношение к эволюции и естественному отбору. Казалось, как писал сын Чарлза Дарвина, Фрэнсис, «он всегда был заряжен энергией теоретизирования, которая была готова мчаться по любому каналу, и, таким образом, ни один факт, каким бы мелким и незначительным он ни представлялся, не мог избежать вливания в этот бурный поток главной теории». Поток тек в обоих направлениях, и сам Дарвин часто повторял, что «невозможно быть хорошим наблюдателем, не будучи при этом активным теоретиком».
В восемнадцатом веке шведский ученый Карл Линней доказал, что у растений есть половые органы (пестики и тычинки), и создал на этом свою классификацию. Но тогда считалось, будто растения сами себя оплодотворяют, – иначе зачем им понадобилось бы иметь одновременно мужские и женские половые органы? Сам Линней шутил по поводу своей идеи, изображая цветок как спальню, где находились девять тычинок и один пестик, уподобляя все это одной девице, окруженной девятью любовниками. Схожий образ встречается в поэме деда Дарвина «Любовь растений». Такова была атмосфера, в которой рос юный Чарлз Дарвин.
Однако после возвращения из путешествия Дарвин был вынужден, из теоретических соображений, поставить под сомнение идею о самооплодотворении. В 1837 году он записал в своем дневнике: «Не подвергаются ли растения, пусть даже они имеют одновременно мужские и женские признаки, влиянию со стороны других растений?» Если они развиваются, рассуждал Дарвин, то перекрестное опыление для них жизненно необходимо. Действительно, никакие изменения не были бы в противном случае возможны, и в мире росло бы одно-единственное растение, а не поразительное их многообразие, какое мы и наблюдаем. В начале сороковых годов девятнадцатого века Дарвин начал экспериментально проверять свою теорию, исследуя множество цветов (среди них азалию и рододендрон) и доказав, что у многих из них есть структуры, препятствующие самоопылению или сводящие его к минимуму.
Но только после выхода в свет «Происхождения видов» в 1859 году Дарвин обратил пристальное внимание на растения. Если в его ранних работах преобладали наблюдения и коллекционирование, то теперь во главу угла был поставлен эксперимент как единственный способ получения новых знаний.
Как и другие, Дарвин наблюдал, что цветки примулы могут существовать в двух разных формах: в форме «булавки» с длинным стержнем и в форме «бахромы» с коротким стержнем. Этой разнице ботаники не придавали особого значения. Однако Дарвин, исследуя цветки примулы, которые собирали его дети, обнаружил, что число «булавок» соотносится с числом «бахромчатых» цветков как один к одному.
У него мгновенно разыгралось воображение: соотношение один к одному – это то, что можно ожидать от вида, в котором раздельно существуют мужские и женские организмы. Не может ли быть такого, что из гермафродитов – растений с длинными цветками – развиваются женские растения, а из бахромчатых, коротких цветков – мужские? Неужели это промежуточная форма, то есть эволюция в действии? Это была любопытная идея, но она не выдерживала критики, поскольку цветки с короткими стержнями, предполагаемые «самцы», производили столько же семян, как и цветки с длинными стержнями, то есть «самки». Здесь, как выразился друг Дарвина, Томас Гексли, мы видим «убиение красивой теории непривлекательным фактом».
Но в чем же тогда смысл разделения цветков на разные типы и равное соотношение их? Оставив в стороне теорию, Дарвин начал эксперименты, выступив в роли усердного опылителя. Лежа на лугу, он переносил пыльцу с цветка на цветок: с длинностержневых на длинностержневые, с короткостержневых на короткостержневые, с длинностержневых на короткостержневые, и наоборот. Когда созрели семена, собрал цветы, взвесил их и обнаружил, что самый богатый урожай семян уродился на цветках, подвергнутых перекрестному опылению. Отсюда Дарвин заключил, что разная длина стержней – специальный инструмент, возникший у этих растений для того, чтобы облегчить аутбридинг, который путем перекрестного опыления повышает количество и жизнестойкость семян. Он назвал это «гибридной энергией». Дарвин писал: «Вряд ли во всей моей научной жизни что-либо принесло мне большее удовлетворение, чем выяснение смысла строения этих растений».
Это представляло особый интерес для Дарвина (в 1877 году он опубликовал книгу «Разные формы цветков растения одного вида»), но главное, что его интересовало: каким образом цветковые растения приспособились к использованию насекомых в качестве инструмента собственного оплодотворения? Издавна было подмечено, что насекомых привлекают определенные цветы. Они садятся на них, а затем взлетают, покрытые пыльцой. Однако никто не предполагал, что это имеет какое-нибудь значение, поскольку ученые считали, что цветы размножаются исключительно самоопылением.
Дарвин заподозрил это в сороковые годы девятнадцатого века, а в пятидесятые поручил детям чертить на бумаге маршруты самцов пчел. Особенно его восхищали дикие орхидеи, произраставшие на лугах вокруг Дауна, и он начал с них. Позднее с помощью друзей и многочисленных корреспондентов, присылавших ему орхидеи, в частности Гукера, который к тому времени стал директором Кью-Гарденс, Дарвин обратил внимание и на тропические орхидеи всех видов.
Работа с орхидеями продвигалась быстро и успешно, и в 1862 году он уже отправил рукопись в типографию. Эта книга имела длинное и витиеватое, в викторианском духе, название: «О различных ухищрениях, с помощью коих британские и произрастающие в иных местах орхидеи опыляются насекомыми». Намерения и надежды Дарвина выражены в следующих строчках первой страницы:
«В своей книге “О происхождении видов” я привел лишь общие причины моей убежденности в том, что существует почти универсальный закон природы: высшие органические существа должны скрещиваться с другими индивидами… Здесь я хочу показать, что высказывался, не вдаваясь в детали… Этот труд предоставляет мне возможность показать, что изучение органических существ может быть интересным как для наблюдателя, который убежден в том, что строение каждого из них подчиняется вторичным законам, так и для человека, рассматривающего любую мелкую деталь как результат участия Творца».
Дарвин как бы бросает перчатку другим исследователям, говоря: «Объясните это лучше, если сумеете».
Дарвин исследовал цветы так тщательно, как никто прежде, и в своей книге об орхидеях приводит огромное количество деталей – намного больше, чем в «Происхождении видов». Дарвин делал это не из-за педантизма или одержимости, а потому, что чувствовал и понимал, насколько здесь важна каждая мелочь. Ботанические исследования Дарвина, как писал его сын Фрэнсис,
«представили аргументы против тех критиков, кто догматически рассуждал о бесполезности частных структур и, следовательно, о невозможности их появления и развития посредством естественного отбора. Изучение орхидей позволило ему заявить: “Я могу показать значение бессмысленных, на первый взгляд, борозд и рогов, и кто теперь посмеет утверждать, что та или иная структура бесполезна?”»
В опубликованной в 1793 году книге «Открытая тайна природы в строении и оплодотворении цветов» немецкий ботаник Христиан Конрад Шпренгель, проницательный наблюдатель, отметил, что нагруженные пыльцой пчелы переносят ее с одного цветка на другой. Дарвин всегда считал эту книгу «чудесной». Однако Шпренгель, хотя и приблизился к раскрытию тайны, все же упустил из виду один секрет, потому что сохранил верность линнеевской идее о том, что цветы самоопыляются и цветы одного вида растений идентичны между собой. Именно здесь Дарвин совершил решающий прорыв и раскрыл секрет цветов, доказав, что их особые признаки – различные формы, цвета́, очертания, нектары и запахи, которыми они привлекают насекомых и соблазняют их перелетать с одного растения на другое, а также приспособления, гарантирующие, что насекомое покинет цветок, изрядно вымазавшись пыльцой, – «ухищрения». Все данные признаки возникли для перекрестного оплодотворения.
То, что раньше представлялось идиллией жужжащих возле ярко окрашенных цветов насекомых, оказалось подлинной драмой жизни, полной биологической глубины и значимости. Цвет и запахи цветов были приспособлены к органам чувств насекомых. Пчел привлекают синие и желтые цветы, но они игнорируют красные, потому что не различают этот цвет. С другой стороны, способность пчел видеть в ультрафиолетовом спектре используется цветами, отмеченными ультрафиолетовыми маркерами. Бабочки, различающие оттенки красного, опыляют красные цветки, но могут игнорировать синие и фиолетовые. Цветки, опыляемые ночными бабочками, лишены цвета, однако привлекают насекомых своим ароматом, который они источают преимущественно по ночам. Цветы, опыляемые мухами, живущими на разлагающихся останках, могут источать отвратительные (для нас) запахи, чтобы привлечь их.
Это была не просто эволюция растений, а эволюция растений и насекомых, на которую Дарвин первым обратил внимание. Естественный отбор привел к тому, что ротовые части насекомых стали соответствовать строению предпочитаемых ими цветков, и Дарвину доставляло особое удовольствие высказывать предположения на данную тему. Исследуя мадагаскарскую орхидею с нектарником длиной почти в фут, он сделал вывод, что существует бабочка с таким длинным хоботком, каким она может высосать нектар из столь глубокого нектарника. Через несколько десятилетий после смерти Дарвина такую бабочку обнаружили.
«Происхождение видов» стало атакой, хотя и довольно щадящей, на креационизм, и Дарвин проявил осторожность и сдержанность в этой книге, обойдя вопрос об эволюции человека. Но то, что его теория прямо намекала на это, было ясно всем. Особую ярость и насмешки вызывала сама идея о том, что человека можно считать обычным животным, обезьяной, происшедшим тоже от животных. Для большинства людей растения – другие существа, они не двигаются, лишены чувств, являются обитателями иного царства, отделенного от царства животных глубокой и широкой пропастью. Эволюция растений, считал Дарвин, могла показаться менее важной и угрожающей, чем эволюция животных, а значит, более доступной спокойному и рациональному обсуждению. Он писал Эйзе Грею, что «никто, кажется, не понял, что мой повышенный интерес к орхидеям – лишь отвлекающий маневр для противника». Дарвин никогда не отличался такой воинственностью, как его «бульдог» Гексли, но понимал, что битвы не избежать, поэтому и использовал военные метафоры.
Однако в книге об орхидеях нет ни воинственности, ни полемики, она вся пронизана радостью и восторгом от того, что видел и наблюдал автор. Этими чувствами наполнены его письма:
«Вы не представляете, как восхитили меня орхидеи! Чудесное строение! Красота приспособленности их частей кажется мне несравненной… Я едва не сошел с ума, столкнувшись с богатством орхидей… Один чудесный цветок из Катасетума был самым великолепным из всех виденных мною орхидей… Счастлив тот, кому довелось наблюдать рои пчел, жужжащих вокруг Катасетума, с пыльцой, прилипшей к спинкам этих насекомых! Я никогда так глубоко не интересовался ни одним предметом, как орхидеями».
Оплодотворение цветков занимало Дарвина до конца его жизни, и за книгой об орхидеях через пятнадцать лет последовала еще одна, более обобщенная: «Действие перекрестного опыления и самоопыления в растительном мире».
Однако растениям, как и животным, надо выживать, преуспевать, находить и создавать свои ниши в мире, если они «хотят» достичь момента размножения. Дарвин одинаково интересовался средствами и приспособительными механизмами, с помощью которых растения выживали, а также их разнообразным и подчас удивительным образом жизни, включая органы чувств и движения, подобные таковым органам животных.
В 1860 году во время летнего отдыха он впервые столкнулся с насекомоядными растениями и сразу «влюбился» в них. Дарвин взялся за исследования, которые через пятнадцать лет завершились книгой «Насекомоядные растения». Этот труд написан легким, доступным языком и, как большинство его книг, наполнен личными воспоминаниями:
«Я был поражен количеством насекомых, каких обычная росянка (Drosera rotundifolia) могла поймать своими листьями в жаркую погоду в Суссексе. Все шесть листьев одного из растений ловили своих жертв… Многие листья причиняли смерть насекомым, не получая при этом, насколько мы можем судить, никаких выгод. Однако вскоре стало очевидно: росянка прекрасно приспособлена к данной особой цели – ловле насекомых».
Идея приспособления всегда занимала Дарвина, и один взгляд на росянку подсказал ему, что это было приспособление совершенно нового типа, потому что на ее листьях не только присутствовал липкий сок, но они были покрыты тонкими волокнами (Дарвин назвал их «усиками») с крошечными железами на конце. Он заинтересовался, зачем они нужны растению? «Если на железы в центре листа поместить маленький органический или неорганический предмет,
«…то они передают двигательный импульс усикам, находящимся на краях листа… Ближайшие усики реагируют первыми и наклоняются в сторону центра, а затем импульс распространяется и на отдаленные усики, до тех пор, пока все они не наклонятся в направлении предмета.
Но если предмет не был питательным, то лист очень скоро сбрасывал его».
Дарвин продемонстрировал это, укладывая на некоторые листья росянки комочки яичного белка, а на другие – такие же по размеру кусочки неорганических веществ. Неорганические вещества сбрасывались листьями, а яичный белок оставался и стимулировал выделение фермента и кислоты. Те вскоре переваривали белок, после чего он всасывался листом. То же самое происходило и с насекомыми, особенно живыми. Итак, росянка, не имея ни рта, ни кишечника, ни нервов, эффективно ловила жертвы, использовав специальные пищеварительные ферменты, переваривала их и всасывала.
Дарвин интересовался не только тем, как «работает» росянка, но и почему у нее такой необычный образ жизни. В своих наблюдениях он отметил, что росянка росла в болотах, на кислой почве, относительно бедной органическими материалами и легко усваиваемым азотом. Немногие растения сумели бы выжить на подобной почве, но Drosera нашла способ овладеть этой нишей, поглощая азот непосредственно из насекомых, а не из почвы. Пораженный свойственной животным координацией движений усиков, которые смыкались над своей жертвой, как усики морского анемона, и такой же, тоже характерной для животных способностью к перевариванию пищи, Дарвин писал Эйзе Грею: «Вы несправедливы к достоинствам моей любимой Drosera, это чудесное растение, или скорее разумное животное. Я привязался к Drosera до конца своих дней».
Он стал восторгаться росянкой еще сильнее, обнаружив, что если сделать небольшой разрез в середине листа, то усики на половине листа оказываются парализованными, словно этот разрез пересекал какой-то нерв. Поведение этого листа, писал Дарвин, напоминало «человека, у которого после перелома позвоночника возникает паралич нижних конечностей». Позднее он получил образцы венериной мухоловки – растения из семейства росянок, – у которой лист при раздражении волосков на нем захлопывался, захватывая сидящее на нем насекомое. Реакция мухоловки была такой стремительной, что Дарвин задумался о том, не участвует ли в данной реакции электричество, создавая нечто подобное нервному импульсу. Он обсудил этот вопрос со своим другом физиологом Бердоном Сандерсоном и пришел в полный восторг, когда тот показал, что листья мухоловки действительно генерируют электрический ток, вызывающий их захлопывание. «Если лист получает раздражение, – писал Дарвин в “Насекомоядных растениях”, – в нем возбуждается такой же ток, как и при сокращениях мышц животного».
Часто растения считают существами бесчувственными и неподвижными, но насекомоядные растения наглядно опровергают такой взгляд, и Дарвин, охваченный стремлением выявить и другие аспекты движения у растений, обратился к изучению лазящих растений. Кульминацией его исследований стала книга «Движения и повадки лазящих растений». Лазание – эффективный приспособительный признак, который позволил лазящим и вьющимся растениям избавиться от бремени жестких опорных тканей и использовать другие растения, чтобы, опираясь на них, устремляться ввысь, к солнцу. Приемов лазания оказалось не один, а множество. Растения могут быть вьющимися, использовать для лазания листья или специальные усики. Эти последние особенно интересовали Дарвина. Складывалось впечатление, что у них есть глаза и они могли осматривать окружающие предметы в поисках подходящей опоры. «Я думаю, сэр, что усики обладают способностью видеть», – писал он Эйзе Грею. Но какой степени сложности достигает такое приспособление?
Дарвин считал вьющиеся растения предками всех лазящих растений и предполагал, что именно из вьющихся растений развились лазящие растения, снабженные усиками, а растения, лазящие с помощью листьев, возникли из растений с усиками. Это развитие позволяло осваивать все новые и новые сферы, где организм мог выступить в иной роли. Лазящие растения развивались в течение длительного времени, они не возникли мгновенно, по велению Божьему. Но как вообще стало возможным перемещение с помощью обвивающихся побегов? Дарвин внимательно исследовал обвивающие движения побегов, листьев и корней каждого растения и обнаружил, что обвивающие движения (он называл их обращениями) можно наблюдать и у «низших» растений: саговников, папоротников и водорослей. Когда растения растут по направлению к свету, то они не просто тянутся вверх, а извиваются, закручиваются вокруг собственной оси, стремясь к солнцу. Способность к обращениям является универсальной предрасположенностью растений, пришел к заключению Дарвин, и именно это стало началом остальных вращательных движений у растений.
Эти мысли, подкрепленные дюжинами изящных экспериментов, составили основное содержание последней ботанической книги Дарвина «Движения растений. Способности к движению у растений», опубликованной в 1880 году. Среди множества изобретательных и остроумных опытов был один, в ходе которого Дарвин сажал рассаду овса, а затем освещал проростки с разных направлений. Он обнаружил, что ростки всегда изгибались или поворачивались в сторону источника света, причем даже в тех случаях, когда свет был настолько тусклым, что человеческий глаз был неспособен различить его. Была ли на побегах, подобно тому, что Дарвин предполагал в усиках лазящих растений, фоточувствительная область, своего рода «глаз»? Он стал надевать на кончики прораставших листьев колпачки, закрашенные тушью, и заметил, что листья переставали реагировать на свет. Отсюда Дарвин заключил, что, когда свет падает на кончик листа, он стимулирует образование в нем какого-то сигнала, а тот, достигая «двигательной» части сеянца, вынуждает его поворачивать растение к свету. Исследуя подобным же образом поведение корней тех же сеянцев, которым пришлось пройти через самые разнообразные препятствия, Дарвин выяснил, что корни чрезвычайно чувствительны к физическому контакту, силе тяжести, давлению, влажности, градиенту содержания химических веществ и т. д. По этому поводу он писал:
«В растениях нет более замечательного – в том, что касается функции – органа, нежели кончика корешка… Едва ли будет преувеличением сказать, что кончик корешка действует как мозг какого-нибудь из низших животных, получая впечатления от органов чувств и направляя в соответствии с ними свои движения».
Однако, как замечает Джанет Браун в биографии Дарвина, «Способности к движению у растений» оказались «неожиданно противоречивыми». Его идеи об обращении подверглись жесткой критике. Сам Дарвин всегда признавал, что это была лишь умозрительная идея, но более серьезная критика прозвучала из уст немецкого ботаника Юлиуса Сакса. Он, по словам Браун, «ополчился на дарвиновское предположение о том, что кончик корня можно сравнить с мозгом простого организма, и заявил, что доморощенные эксперименты Дарвина были смехотворно ущербными».
Какими бы доморощенными, однако, ни являлись опыты Дарвина, его наблюдения были точны и корректны. Идея о химических посредниках, передающих от чувствительного корешка сигнал к «двигательным» тканям, привели через пятьдесят лет к открытию в растениях гормоноподобных веществ, ауксинов, которые у растений играют, вероятно, такую же роль, как нервная система у животных.
В течение сорока лет Дарвин страдал какой-то неизвестной болезнью, которая появилась у него после возвращения с Галапагосских островов. Иногда его целыми днями рвало, а порой он несколько недель не мог встать с постели. К старости у него развился и сердечный недуг. Но интеллект и способность к творчеству не покинули его до самой смерти. После «Происхождения видов» Дарвин написал еще десять книг, многие из которых он впоследствии сам редактировал и перерабатывал – и это не считая десятков статей и бесчисленного множества писем. Дарвин продолжал интересоваться своими любимыми предметами всю жизнь. В 1877 году он опубликовал второе, кардинально переработанное издание книги об орхидеях (первое издание вышло на пятнадцать лет раньше). Мой друг Эрик Корн, антиквар и специалист по Дарвину, рассказывал, что однажды наткнулся на экземпляр второго издания, где нашел корешок выписанного в 1882 году чека на два шиллинга девять пенсов с подписью самого Дарвина. Чек был выписан для оплаты образца орхидеи. Дарвин умер в апреле того же года, но до последнего дня был влюблен в орхидеи и продолжал собирать их для изучения.
Естественная красота воспринималась им не просто как эстетическое свойство, но и как отражение функции и приспособления. Орхидеи имеют такую форму не для того, чтобы их разводили в садах или собирали из них букеты; их красота – изысканное ухищрение, пример силы воображения природы и естественного отбора в действии. Появление цветов не требовало Творца, можно представить, что они явились результатом случайностей и отбора, медленных, крошечных ступенчатых изменений, растянувшихся на сотни миллионов лет. В этом, по Дарвину, и заключался смысл цветов, адаптации растений и животных, естественного отбора.
Порой возникает ощущение, что Дарвин сделал больше, чем кто-либо иной, для того, чтобы изгнать из мира слово «смысл», если иметь в виду божественный смысл или цель. Действительно, у мира Дарвина нет проекта, плана, чертежей. У естественного отбора нет ни направления, ни цели, к которой он стремится. Часто говорят, что дарвинизм положил конец богословскому мышлению. Однако его сын писал:
«Одна из величайших заслуг моего отца в изучении естественной истории заключается в возрождении телеологии. Эволюционист изучает цель или смысл органов с пылом и рвением прежних телеологов, но имея перед собой обширную и внятную цель. Его подстегивает знание того, что он получает не изолированную концепцию современного состояния, а связно собирает воедино прошлое и настоящее. Даже если ему не удается выявить конкретную пользу какой-либо части организма, он может, зная его строение, раскрыть историю прошлого окружения в жизни данного вида. Таким образом, жизненная сила и единство придаются изучению форм высокоорганизованных существ, чего не было в науке раньше».
И это, как полагал Фрэнсис, «было сделано в ботанических трудах Дарвина с не меньшей эффективностью, чем в “Происхождении видов”».
Задавая вопрос «почему?», отыскивая смысл, Дарвин смог в своих ботанических сочинениях предоставить убедительные доказательства эволюции и естественного отбора. Делая это, он одновременно преобразил ботанику, превратив ее из чисто описательной дисциплины в эволюционную науку. Действительно, ботаника – первая эволюционная наука, и изыскания Дарвина открыли путь ко всем другим эволюционным наукам и, в конце концов, к тому, что, как выразился Феодосий Добжанский, «любой феномен в биологии имеет смысл только в свете эволюции».
Дарвин говорил о «Происхождении видов» как о «долгом аргументе». Наоборот, его ботанические книги были более личными и лиричными, менее систематичными по форме, и в них было больше описаний, чем логических аргументов. Согласно Фрэнсису Дарвину, Эйза Грей заметил однажды, что если бы книга об орхидеях «появилась раньше “Происхождения видов”, то богословы естественной истории канонизировали бы автора, а не подвергли бы его анафеме».
В своем автобиографическом эссе Лайнус Полинг пишет, что прочитал «Происхождение видов» в десятилетнем возрасте. Я не был столь развит в юном возрасте и не мог по достоинству оценить «длинный аргумент», однако проникся дарвиновским видением мира в нашем саду, в котором летом распускались цветы, а вокруг них жужжали пчелы, перелетая с одного цветка на другой. Моя мать, любившая ботанику, объяснила, что́ делали пчелы с их вымазанными желтой пыльцой лапками, и рассказала, как цветы и пчелы зависят друг от друга.
У большинства ярких цветов был сильный аромат, но особенно выделялись две магнолии с огромными светлыми цветами, лишенными запаха. Магнолия была буквально покрыта мелкими насекомыми, крошечными жучками. Магнолия, объяснила мне мама, одно из самых древних цветковых растений, она появилась почти сто миллионов лет назад. Тогда таких «современных» насекомых, как пчелы, еще не существовало, и магнолия могла рассчитывать лишь на других насекомых, жуков, которые и занимались ее опылением. Появление пчел и бабочек не было предопределено. Они развивались медленно в течение миллионов лет. Идея мира без пчел, бабочек и ароматных красивых цветов показалась тогда мне страшной и отталкивающей.
Мысль о таких невероятно огромных периодах времени и о мощи мельчайших, никуда не направленных изменений, которые, накапливаясь, могли порождать новые миры, богатые и разнообразные, была поразительной. Для многих из нас эволюционная теория явилась источником ощущения глубокого смысла, приносящая больше удовлетворения, чем вера в божественный план. Представленный нам мир стал прозрачной поверхностью, сквозь которую стала видна вся история жизни. От мысли, что динозавры до сих пор бродили бы по земле, а человек вообще мог бы не появиться, кружилась голова. Она делала жизнь еще более драгоценной и чудесной, нескончаемым приключением («блестящей случайностью», как выразился Стивен Джей Гулд) – а не чем-то застывшим и предопределенным, – приключением, восприимчивым к изменениям и новым ощущениям.
Жизнь на нашей планете существует несколько миллиардов лет, и эта давняя история буквально воплощена в анатомической структуре нашего тела, в поведении, в инстинктах, в генах. Например, у людей сохранились жаберные дуги, правда, они усовершенствовались по сравнению с жаберными дугами наших рыбьих предков. Мало того, часть нашей нервной системы когда-то управляла движением жабр. В «Происхождении человека» Дарвин писал: «Человек до сих пор словно несет на своем строении неизгладимый отпечаток своего происхождения от низших форм». Мы являемся реликтами еще более древнего прошлого, поскольку состоим из клеток, а они возникли на заре жизни.
В 1837 году в своей первой из многих записных книжек, которые Дарвин посвятил проблеме видов, он набросал эскиз древа жизни. Его ветвистый силуэт, архетипический и мощный, отражал равновесие между эволюцией и вымиранием видов. Дарвин всегда подчеркивал непрерывность жизни, утверждая, что все живые существа происходят от общего предка, и в этом смысле все мы родственники. Так, люди являются не только родственниками обезьян и других животных, но и растений. Теперь мы знаем, что общность между ДНК растений и животных составляет 70 процентов. Но, тем не менее, благодаря великому двигателю естественного отбора – изменчивости – каждый вид уникален, как уникален и каждый индивидуальный организм.
Древо жизни наглядно показывает и родство всех живых организмов, и то, как происходит «нисхождение с изменениями», как вначале называл Дарвин эволюцию, в каждом его разветвлении. Оно убеждает, что эволюция никогда не останавливается, не повторяет себя, не движется вспять. Древо также демонстрирует неотвратимость и необратимость вымирания. Если ветвь засыхает и отваливается, то данный путь эволюции утрачивается навсегда.
Мне нравится осознание своей биологической уникальности, древности и родства со всеми иными формами жизни. Оно позволяет чувствовать себя в естественном мире, как дома, понимать свою значимость в биологическом смысле, независимо от моей роли в культурном, человеческом мире. Животная жизнь намного сложнее растительной, а жизнь человека неизмеримо сложнее жизни животных, однако я четко прослеживаю эту общую связь, как и Дарвин.
Скорость
Еще в детстве я был очарован скоростью, самой по себе, и огромным разнообразием скоростей в окружавшем меня мире. С разными скоростями передвигались люди, а диапазон скоростей у животных был еще больше. Крылья насекомых мелькали так быстро, что за их движениями было невозможно уследить, но о частоте взмахов можно было судить по высоте издаваемого ими звука – противного писка комаров или приятного басовитого гудения шмелей, которые каждое лето навещали свои любимые розы. Нашей черепахе требовался целый день, чтобы пересечь лужайку, и мне казалось, будто она живет в каком-то ином временно́м измерении. Но что можно было сказать о движении растений? Утром я подходил к розам и замечал, что за прошедший день они стали выше, сильнее закручивались вокруг стоек, но, как я ни был терпелив, мне не удавалось увидеть самого движения.
Впечатления такого рода сыграли свою роль в моем увлечении фотографией. Они позволили мне изменять скорость движения, ускорять или замедлять его, приспособив к уровню человеческого восприятия детали движения или другие изменения, недоступные невооруженному глазу. Увлекшись также микроскопами и телескопами (они хранились у нас дома, потому что мои старшие братья были студентами-медиками и орнитологами-любителями), я стал думать о замедлении и ускорении как о временных эквивалентах микроскопии (замедление) или телескопии (ускорение).
Я экспериментировал, фотографируя растения. Особенно мне нравилось снимать папоротники, их молодые, свернутые листья или сережки, буквально лопавшиеся от сжатого в них, как пружина, времени. В них было «свернуто» будущее. Я устанавливал фотоаппарат на треногу и фотографировал сережки с интервалом в час. Потом проявлял пленку, печатал с негативов снимки и укладывал их в книжку-гармошку. Вскоре, как в волшебном фонаре, я наблюдал, как разворачиваются сережки, словно бумажные трубки. За мгновение протекал процесс, который в реальности мог занять пару дней.
Замедлять движение было труднее, чем ускорять его, и здесь я полностью зависел от своего двоюродного брата, фотографа, у которого была кинокамера, позволявшая снимать несколько сотен кадров в секунду. С помощью камеры я ловил за работой шмелей, склонившихся над цветками, и настолько замедлял биения их крыльев, что мог отчетливо, во всех подробностях, наблюдать, как они поднимают их и опускают.
Мой повышенный интерес к скорости, движению и времени, а также к способам их замедления и ускорения сподвиг меня с увлечением читать две книги Герберта Уэллса – «Машину времени» и «Новейший ускоритель», с их живыми, исполненными недюжинного воображения, почти кинематографическими описаниями изменения времени.
«Когда я прибавил скорость, ночь стала следовать за днем в виде стремительного взмаха черного крыла», – сообщает путешественник во времени Уэллса. —
«Я видел, как Солнце быстро несется по небу, проскакивая его за минуту, и каждая, таким образом, соответствовала одному дню. Самые медлительные улитки летели мимо меня так, что я не мог за ними уследить. Постепенно, когда я набрал приличную скорость, мелькания дня и ночи слились в одну сплошную серость… Солнце проносилось по небу, как огненный след, а Луна образовывала на небе бледную широкую полосу. Деревья вырывались из-под земли, словно клубы пара, огромные здания вырастали, как призраки, и исчезали, будто сновидения. Казалось, изменилась вся поверхность Земли – она плавилась и переливалась у меня на глазах».
Нечто противоположное происходило в «Новом ускорителе» – истории о лекарстве, ускорявшем восприятие, мысли и обмен веществ в несколько тысяч раз. Изобретатель и рассказчик, принявший это лекарство, оказывается в оцепеневшем, застывшем мире, наблюдая
«людей, которые вроде оставшись самими собой, изменились до неузнаваемости, застыв в причудливых позах, застигнутые в середине жеста. Некое существо, с черепашьей скоростью передвигавшееся по воздуху и лениво взмахивавшее крыльями, которые двигались со скоростью ленивой улитки, было пчелой».
«Машина времени» была опубликована в 1895 году, когда возник интерес к новым возможностям фотографии и кинематографа в их выявлении деталей движения, недоступных невооруженному глазу. Этьен-Жюль Маре, французский физиолог, был первым, кто с помощью киносъемки показал, что галопирующая лошадь в какой-то момент отрывает от земли все четыре копыта. Эта работа, как пишет историк Марта Браун, подвигла знаменитого фотографа Эдварда Мейбриджа к изучению движения. Маре, в свою очередь, вдохновленный работами Мейбриджа, усовершенствовал высокоскоростные кинокамеры. Они позволяли замедлять и даже останавливать в кадре движения птиц и насекомых в полете и, впадая в противоположную крайность, используя сделанные через разные интервалы времени фотографии, ускорять почти незаметные движения морских ежей, звезд и других животных.
Иногда я задумывался над тем, почему растения и животные движутся с разной скоростью. Насколько они ограничены в скорости своими внутренними свойствами и насколько внешними условиями – силой притяжения земли, количеством энергии, полученной от солнца, содержанием кислорода в атмосфере и так далее. Меня привлек еще один рассказ Герберта Уэллса «Первые люди на Луне» с его великолепными описаниями ускоренного роста растений на небесном теле, сила притяжения которого составляла лишь небольшую долю от земной силы тяготения.
«С непоколебимой уверенностью, даже рассудительностью эти удивительные семена стремительно выпускают корешки в глубь земли и необычные маленькие, похожие на связки прутьев, почки в воздух… Эти пучковидные почки набухали, окрашивались и с треском раскрывались венцом острых пик, которые быстро росли в длину, удлиняясь прямо на наших глазах. Движения эти были медленнее, чем у животных, но такой скорости я не видел ни у одного земного растения. Как мне передать вам это – тот способ, каким они растут? Приходилось ли вам в холодный день брать теплой рукой термометр и наблюдать, как тонкий столбик ртути ползет вверх по трубке? Вот так растут лунные растения».
Здесь, как в «Машине времени» и «Новом ускорителе», описания весьма кинематографичны, и мне порой казалось, что молодой Уэллс видел это либо сам экспериментировал с замедленной или ускоренной съемкой.
Через несколько лет, уже будучи студентом Оксфорда, я читал «Научные основы психологии» Уильяма Джеймса[1], и там в интересной главе «Восприятие времени» нашел такое описание:
«Мы имеем все основания полагать, что живые существа отличаются друг от друга тем количеством длительности, какое они чувствуют, заполняя мельчайшие промежутки между событиями. Фон Бэр произвел расчеты влияния таких различий на изменение представления о природе. Предположим, что за одну секунду мы способны воспринять по отдельности 10 000 событий, а не 10, как сейчас, и тогда, если бы мы должны были за всю жизнь набраться столько же впечатлений, сколько теперь, то наша жизнь могла бы стать короче в тысячу раз. Мы жили бы менее месяца и ничего не знали о смене времен года. Если бы мы родились летом, то верили бы в лето, как верим в жару каменноугольного периода. Движения живых существ казались бы нашим органам чувств такими медленными, что мы лишь предполагали бы эти движения, не будучи способными досмотреть их до конца. Солнце застыло бы на небе, а луна еле двигалась. Но давайте примем обратную гипотезу и предположим, что есть существо, которое воспринимает одну тысячную часть тех ощущений в единицу времени от того, что мы воспринимаем в реальности. Зимы и весны имели бы для такого существа продолжительность не более четверти часа. Грибы и другие еще быстрее растущие организмы выстреливались бы из-под земли так, словно находились в состоянии непрерывного творения. Однолетние травы поднимались бы и падали, как столбики на поверхности кипящей воды. Движения животных стали бы для подобного существа невидимыми, как невидим для нас полет пули или пушечного ядра. Солнце проносилось бы по небу со скоростью метеора, оставляя за собой огненный след. То, что такие воображаемые случаи могут быть реализованы в действительности в животном царстве, представляется чистейшей фантазией».
Этот отрывок был опубликован в 1890 году, когда Уэллс был молодым биологом. Мог ли он в то время читать Джеймса или, если уж на то пошло, ознакомиться с оригинальными вычислениями фон Бэра, написанными в 1860 году? Действительно, во всех этих сочинениях имплицитно присутствует кинематографическая модель, поскольку именно регистрация большего или меньшего числа событий в единицу времени и есть то, что делает кинокамера, если начать прокручивать пленку быстрее или медленнее обычной скорости в 24 кадра в секунду.
* * *
Часто говорят, что время бежит быстрее и годы проносятся все скорее и скорее по мере того, как человек взрослеет. Видимо, в юности каждый день заполнен новыми событиями и волнующими впечатлениями, а с возрастом каждый год становится все меньшей и меньшей долей прожитой жизни. Но если годы «идут» быстрее, то этого нельзя сказать о часах и минутах – они текут с той же скоростью, что и всегда.
Во всяком случае, так кажется мне (в мои семьдесят с лишним лет), несмотря на то, что эксперименты доказывают: молодые люди точно мысленно отсчитывают трехминутный промежуток времени, а старики считают медленнее, поэтому отрезок, который они воспринимают как трехминутный интервал времени, на самом деле может составлять три с половиной или даже четыре минуты. Однако неясно, имеет ли данный феномен отношение к экзистенциальному или психологическому ощущению, будто с возрастом время начинает течь быстрее.
Часы и минуты кажутся мне мучительно долгими, если мне нечего делать, и слишком короткими, если я чем-нибудь занят. В детстве я ненавидел школу, где был вынужден слушать бубнящего что-то учителя. Когда я украдкой смотрел на часы, чтобы узнать, сколько времени осталось до окончания урока, минутная и даже секундная стрелки двигались очень медленно. В подобных ситуациях преувеличено осознание времени. Действительно, когда человеку скучно, он не осознает, пожалуй, ничего, кроме времени.
Наоборот, противоположностью были восхитительные опыты в моей домашней химической лаборатории, где я мог, ни минуты не скучая, провести целый день, поглощенный своим делом. В те моменты я вообще не осознавал времени до тех пор, пока вдруг не выяснялось, что уже давно наступил вечер. Через много лет в книге Ханны Арендт «Жизнь ума» я прочитал следующее: «Безвременная область, вечное присутствие полного покоя, нахождение вне человеческих часов и календарей… спокойствие “сейчас” в спрессованном, забитом временем бытии человека… Именно эти крошечные безвременные пространства и составляют саму суть времени». И я сразу понял, что она имела в виду.
* * *
Существует великое множество рассказов о том, как люди воспринимают время, когда им внезапно угрожает смертельная опасность. Первое систематическое изучение данного феномена было предпринято в 1892 году швейцарским геологом Альбертом Геймом. Он исследовал психологическое состояние тридцати человек, переживших падение в Альпах. «Умственная активность становилась колоссальной, ускоряясь в сотни раз, – отмечал Гейм. – Время словно растягивалось… Во многих случаях люди успевали вспомнить всю свою жизнь». В таких ситуациях, писал Гейм, «не было тревоги», было «глубокое восприятие».
Почти через сто лет, в семидесятые годы двадцатого века Рассел Нойес и Рой Клетти из университета штата Айова перевели на английский язык исследование Гейма, а потом собрали и проанализировали более двухсот отчетов о подобных переживаниях. Бо́льшая часть испытуемых, как и у Гейма, описывали ускорение мышления и замедление течения времени в те моменты, какие они считали последними в своей жизни.
Автогонщик, которого в момент столкновения подбросило на высоту тридцать футов, говорил: «Мне показалось, будто все это продолжалось целую вечность. Движения казались замедленными, мне представлялось, что я играю на сцене. Я видел со стороны, как кувыркаюсь в воздухе… Я сидел на трибуне и наблюдал за происходящим, но страха не испытывал». Другой гонщик, взлетевший на огромной скорости на вершину холма и вдруг заметивший в сотне футов впереди идущий поезд, под который он неминуемо должен был попасть, рассказывал: «Поезд мчался мимо, а я видел лицо машиниста. Это напоминало замедленную съемку, а все движения были прерывистыми, словно состоявшие из фрагментов».
В то время, как некоторые из этих переживаний были отмечены печатью беспомощности и пассивности и даже «расколотым» восприятием, в других случаях отмечалось сильное чувство непосредственности и реальности, невиданное ускорение мышления, что позволяло успешно справиться с опасностью. Нойес и Клетти рассказывают о пилоте реактивного самолета, который понял, что его ожидает неминуемая смерть, поскольку он неправильно стартовал с авианосца. «В одну секунду я вспомнил дюжину действий, необходимых для того, чтобы выправить самолет. Знал, что делать, и эти действия были возможны и доступны мне. Я все помню, и все у меня находилось под контролем».
Многие из испытуемых Нойеса и Клетти говорили, что чувствовали, будто «совершили подвиг – духовный и физический, – на который не были способны в обычных условиях».
Приблизительно так же поступают и тренированные спортсмены, особенно в видах спорта, требующих быстрой реакции.
Например, бейсбольный мяч приближается к игроку со скоростью около ста миль в час, но многие люди, играющие в бейсбол, утверждают, что в такие моменты он кажется им практически неподвижным, и они способны даже разглядеть на нем швы. Они вдруг понимают, что у них хватит времени, чтобы отбить летящий мяч.
Во время велосипедных гонок велосипедисты мчатся примерно со скоростью шестьдесят километров в час, а расстояние между ними порой составляет всего несколько дюймов. Для стороннего наблюдателя эта ситуация выглядит очень опасной, поскольку столкновение может произойти за считанные миллисекунды. Малейшая ошибка приведет к несчастью. Однако самим велосипедистам, сосредоточенным на движении, оно представляется относительно медленным, а поэтому в их распоряжении достаточно места и времени для совершения маневров, позволяющих избежать столкновения.
Головокружительная скорость движений мастеров боевых искусств, которые сливаются в неразличимую картину для неискушенного зрителя, отнюдь не кажется столь невероятной самому мастеру. У него есть время спланировать и осуществить красивое, как в балете, движение. Тренеры и наставники называют подобное состояние расслабленной концентрацией. Эту разницу в восприятии движений часто демонстрируют в таких фильмах, как, например, «Матрица», где боевые движения сначала прокручивают на большой скорости, а затем в замедленном темпе, показывая все детали молниеносного движения.
Умения и навыки спортсменов, какими бы талантливыми они ни были изначально, приобретаются годами упорной практики и тренировок. Сначала для усвоения всех нюансов техники требуется высочайшая концентрация сил и внимания, но в какой-то момент необходимая последовательность движений оказывается запечатленной в нейронных цепях мозга и превращается во вторую натуру. Тогда выполнение движений уже не требует принятия осознанных решений. На одном уровне мозг работает автоматически, а на другом – на уровне сознания – происходит изменение восприятия времени, придающее времени эластичность, так как может либо сжимать, либо растягивать его.
В шестидесятые годы прошлого века нейрофизиолог Бенджамин Либет, исследуя механизмы принятия простых двигательных решений, обнаружил, что нейронные сигналы, указывающие на акт принятия решения, можно зарегистрировать на несколько сот миллисекунд раньше, чем это решение осознается. Чемпион мира по бегу на короткие дистанции может рвануть с места и уже пробежать пять или шесть метров до того, как осознает, что слышал хлопок выстрела стартового пистолета. Спортсмен начинает двигаться через 130 миллисекунд после выстрела, но на то, чтобы осознанно его услышать, требуется примерно 400 миллисекунд. Уверенность спортсмена в том, что он услышал выстрел и побежал, – иллюзия, возникающая, по мнению Либета, из-за того, что сознание отмечает звук «задним числом», запаздывая приблизительно на полсекунды.
Подобные манипуляции со временем, как и способность сжимать и растягивать его, поднимают вопрос о том, как мы, в норме, воспринимаем время. Уильям Джеймс полагал, что наше суждение о времени и скорость нашего восприятия зависят от того, сколько «событий» мы способны воспринять в данную единицу времени.
Можно предположить, что сознательное восприятие, по крайней мере, зрительное, не является континуальным, а состоит из дискретных моментов, как фильм состоит из отдельных кадров, которые, сливаясь, создают иллюзию непрерывности (континуальности). Членения времени, по меньшей мере, внешне, не происходит при осуществлении таких автоматических действий, как отбивание мяча в бейсболе или теннисе. Нейрофизиолог Кристоф Кох различает «поведение» и «впечатление» и считает, что «поведение осуществляется непрерывным, континуальным образом, а впечатление складывается из дискретных моментов, как в кино». Эта модель сознания допускает корректность предположений Джеймса о том, что восприятие времени можно ускорить или замедлить. Кох полагает, что очевидное замедление времени в экстремальных ситуациях или в спортивных состязаниях может иметь причиной способность сосредоточенного внимания уменьшать длительность демонстрации каждого отдельного кадра.
* * *
По мнению Уильяма Джеймса, самые удивительные отклонения от «нормального» течения времени можно провоцировать приемом определенных сильнодействующих психотропных веществ. Он сам пробовал некоторые из них, от закиси азота до мескалина, и в главе, посвященной восприятию времени, за рассуждениями о расчетах фон Бэра сразу следует рассказ о гашише. «В состоянии опьянения гашишем, – пишет Джеймс, – происходит замечательное растяжение очевидной временной перспективы. Мы говорим предложение, и до того как успеваем закончить его, начало кажется произнесенным очень и очень давно. Если мы сворачиваем на короткую улицу, нам представляется, что мы никогда не доберемся до ее конца».
Его рассуждения почти слово в слово повторяют высказывания Жака-Жозефа Моро, сделанные им за пятьдесят лет до Джеймса. Врач Моро был одним из первых, кто ввел в Париже моду на гашиш в сороковые годы девятнадцатого века. Вместе с Готье, Бодлером, Бальзаком и другими знаменитостями он был членом клуба «Любители гашиша». Моро писал:
«Пересекая крытую галерею площади Оперы, я был поражен, как много времени мне потребовалось для того, чтобы пройти ее до конца. Галерея короткая, ее длина всего несколько шагов, но мне показалось, будто я тащился по ней два или три часа. Я ускорил шаг, но время продолжало тянуться так же медленно. Ходьба была бесконечно долгой, и выход отступал от меня с такой же скоростью, с какой я приближался к нему».
Продолжая аналогии с ощущением, будто несколько слов или несколько шагов требуют для своего произнесения либо прохождения невероятно долгого времени, можно сказать, что замедляется или вообще застывает на месте все восприятие мира. Льюис Уэст, которого цитируют в вышедшей в 1970 году книге «Психотомиметические средства» (под редакцией Д. Эфрона), рассказывает такой анекдот: «Два хиппи, подогретые кокаином, сидят в парке. Над их головами с ревом пролетает реактивный самолет и мгновенно исчезает. Один хиппи говорит другому: “Знаешь, чувак, мне казалось, он никогда не улетит”».
Однако, несмотря на то, что внешний мир представляется замедленным, внутренний мир образов и мыслей может сохранить нормальную и даже повышенную скорость. Мысленно человек может совершить дальнее путешествие, посетить множество стран и континентов, написать книгу или симфонию, прожить целую историческую эпоху и с удивлением обнаружить, что на все это ушло лишь несколько минут или даже секунд. Готье описывал, как он погрузился в гашишный транс и «многочисленные ощущения следовали друг за другом так быстро, что оценить истинное течение времени было невозможно». Субъективно он ощущал, будто транс длился «триста лет», но очнувшись и придя в себя, понял, что все продолжалось не более четверти часа.
Слово «пробуждение» в данном случае является чем-то большим, нежели фигурой речи, поскольку такие «путешествия» можно сравнить со сновидениями или пребыванием на краю смерти. Порой мне, например, казалось, что я проживаю целую жизнь между первым сигналом будильника в пять часов утра и вторым сигналом – через пять минут.
Иногда при засыпании человек непроизвольно дергается. Это может быть сильный «миоклонический» толчок. Такие толчки порождаются первобытными отделами в стволе головного мозга и как таковые не имеют внутреннего смысла или побудительного мотива, но мозг сумеет придать им смысл и мотив, поместить в значимый контекст, мгновенно породив импровизированное сновидение. Так, толчок во сне может ассоциироваться с ходьбой, бегом, падением в пропасть, броском для поимки летящего мяча и т. д. Подобные сновидения обычно бывают очень яркими и состоят из нескольких «сцен». Субъективно они начинаются до толчка, и, вероятно, механизм всего сновидения запускается первым подсознательным образом толчка, который предшествует реальному судорожному движению. Вся эта причудливая реконструкция воображаемого события продолжается секунду, даже меньше.
Есть эпилептические припадки определенного типа – их иногда называют эмпирическими припадками, – при которых на больного внезапно обрушиваются подробные яркие воспоминания о прошлом или галлюцинации, которые субъективно продолжаются довольно долго, хотя на самом деле длятся лишь несколько секунд. Обычно подобные припадки влекут за собой судорожную активность в определенных областях головного мозга, и у некоторых больных их можно индуцировать электрической стимуляцией точек на поверхности коры височной доли. Порой такие эпилептические переживания сопровождаются ощущением метафизической значимости и невероятной субъективной продолжительностью. Вот что писал о них Ф. М. Достоевский:
«Бывают мгновения, и они продолжаются несколько секунд, когда ты ощущаешь присутствие вечной гармонии. Ужасная вещь – эта пугающая ясность, с какой она проявляется, и восторг, которым она тебя наполняет. За эти пять секунд я переживаю все человеческое бытие, за них готов отдать жизнь и не думаю, что эта плата чересчур высока».
В такие моменты внутреннего ощущения скорости может и не возникать, но в иных случаях, особенно под влиянием ЛСД или мескалина, человеку кажется, будто он несется по мыслимым вселенным с неуправляемой, сверхсветовой скоростью. В книге «Главные испытания разума» французский поэт и художник Анри Мишо пишет: «Люди, вернувшиеся из мескалиновых путешествий, рассказывают, что скорость событий в этом состоянии увеличивается в сто, двести, а иногда и в пятьсот раз по сравнению со скоростями в реальной жизни». Он замечает, что, вероятно, это иллюзия, но даже если ускорение и более скромное – всего в шесть раз, – то и оно действует на психику ошеломляюще. Мишо полагает, что в данном состоянии происходит не просто накопление деталей, а ускоренное следование друг за другом общих впечатлений и просветления, как это случается в сновидениях.
Но, таким образом, если скорость мышления может быть существенно увеличена, то это ускорение должно проявиться (если бы у нас были средства экспериментального исследования такого рода) в данных физиологического исследования активности мозга, и тогда можно было бы объективно определить границы для нейронов. Для таких исследований, правда, нужно выбрать адекватный уровень регистрации клеточной активности, и это должен быть не уровень отдельной нервной клетки, а степень взаимодействия между группами нейронов мозговой коры, сотни тысяч которых образуют нейронный коррелят сознания.
Скорость протекания нейронных взаимодействий в норме регулируется тонким балансом между возбуждающими и тормозными воздействиями, но в определенных случаях торможение ослабляет свою хватку. Сны обретают крылья, движутся легко и свободно именно потому, что активность коры более не ограничивается внешними восприятиями или реальностью. Вероятно, такие же рассуждения будут справедливы и в отношении состояний, вызываемых мескалем или гашишем.
Другие средства (депрессанты, в широком смысле – такие, как опиаты и барбитураты) могут оказывать противоположное действие, вызывая тусклое, плотное угнетение мышления и физической подвижности, и при этом человек погружается в состояние, в котором ничего не происходит. Ему кажется, будто оно длится лишь несколько минут, а позднее выясняется, что он провел в этом состоянии целый день. Подобные эффекты напоминают эффекты замедлителя, лекарства, придуманного Г. Уэллсом в противовес ускорителю:
«Замедлитель сделает человека способным растянуть несколько секунд на много часов реального времени и, таким образом, пребывать в состоянии апатичного бездействия, ледяного оцепенения и отсутствия всякой деятельности в самом оживленном и раздражающем окружении».
* * *
Мысль, что могут возникать глубокие и упорные расстройства скорости нейронных взаимодействий, продолжающиеся годами и даже десятилетиями, впервые пришла мне в голову в 1966 году, когда я начал работать в Бронксе, в госпитале для хронических больных «Бет Абрахам». Там я встретил пациентов, о которых написал в книге «Пробуждения». В холлах и коридорах госпиталя находились десятки таких больных, которые передвигались в самом разнообразном темпе. Одни – с большими ускорениями, другие – медленно, а третьи вообще пребывали в состоянии оцепенения. Глядя на них, я сразу вспомнил об ускорителе и замедлителе Г. Уэллса. Все эти больные выжили после пандемии сонного энцефалита, который косил население нашей планеты с 1917 по 1928 год. Из миллионов людей, заразившихся в то время этой «сонной болезнью», треть умерли в острой стадии, либо в состоянии непреодолимой сонливости, либо в бессоннице и сильнейшем возбуждении, которое не поддавалось никакой седации. После короткого периода возбуждения, суетливости и ускорения многие страдали потом тяжелой формой паркинсонизма, от которого надолго, порой на десятилетия впадали в замедление или вообще в полное оцепенение. Кто-то сохранял склонность к ускоренным движениям, как, например, Эд М., у него одна сторона тела действовала ускоренно, а другая – замедленно[2].
При обычной болезни Паркинсона, помимо тремора или ригидности, добавляются умеренные замедления или ускорения движений, но у больных постэнцефалитическим паркинсонизмом, у которых поражение мозга было более тяжелым, замедления и ускорения достигали всех физиологических и механических пределов, существующих для тела и мозга. При обычной болезни Паркинсона в мозге значительно снижается уровень содержания дофамина (до 15 процентов от нормы) – нейромедиатора, отвечающего за регуляцию скорости движений и мышления. При постэнцефалитическом паркинсонизме уровень содержания дофамина в мозге становится пренебрежимо низким и, как правило, вообще не определяется.
В 1969 году я начал лечение этих пациентов препаратом леводопа, который, как было к тому времени доказано, повышал содержание дофамина в мозге. На фоне лечения у многих больных восстановилась нормальная скорость движений и мышления и, мало того, исчезла скованность и ригидность. Но позднее, особенно у больных с наиболее тяжелыми проявлениями болезни, нарушения, так сказать, ударились в противоположную крайность. Одна пациентка, Эстер И., начала страдать таким ускорением на пятый день лечения, и я записал в своем дневнике:
«Если раньше ее движения напоминали замедленное воспроизведение фильма, когда кадры даже застревали в проекторе, то теперь она двигалась как при ускоренном воспроизведении. Мои коллеги смотрели фильм, который я снимал о миссис И., и утверждали, что, наверное, проектор крутил пленку со слишком большой скоростью».
Сначала я считал, что Эстер и другие пациенты понимали, что двигаются, говорят и думают с гротескно увеличенной быстротой, но не могут себя контролировать. Оказалось, что я ошибался. Это не так и в случае пациентов, страдающих обычной болезнью Паркинсона, о чем хорошо пишет английский невролог Уильям Гудди в своей книге «Время и нервная система». Наблюдатель может заметить, писал он, как замедлены движения паркинсоника, но «пациент скажет: “Мои собственные движения… представляются мне нормальными, если я не вижу, как долго они тянутся, глядя на часы. Тогда кажется, что часы, висящие на стене в палате, идут слишком быстро”».
Здесь Гудди пишет о «персональном» времени в противоположность объективному «часовому» времени, причем «персональное» может безнадежно отстать от «часового» при тяжелейшей брадикинезии, характерной для больных постэнцефалитическим паркинсонизмом. Я часто видел пациента Майрона В., часами сидевшего в коридоре возле двери моего кабинета. Он казался совершенно неподвижным, но порой я замечал, что его правая рука была приподнята над коленями на пару дюймов, а иногда поднесена к лицу. Когда я спросил его, почему он сидит в такой оцепенелой позе, Майрон возмущенно ответил: «Что значит в оцепенелой? Я просто хотел почесать нос».
Я решил проверить, не разыгрывает ли он меня, и сделал двадцать или тридцать фотографий Майрона в течение нескольких часов, а потом расположил их друг за другом, как в детстве, когда фотографировал движения цветов. Действительно, на последовательной серии фотографий было видно, что пациент чешет нос. Правда, он делал это в тысячу раз медленнее, чем нужно.
Эстер, по-моему, тоже не понимала, насколько ее персональное время отличалось от объективного часового времени. Однажды я предложил своим студентам поиграть с Эстер в мяч, и они сказали, что это невозможно, ведь ее броски были молниеносными. Эстер возвращала мяч так быстро, что он ударялся о руки студентов, все еще вытянутых вперед после броска. «Вы видите, как быстро она реагирует, – говорил я студентам, – будьте готовы». Но они не могли подготовиться, поскольку время их реакции едва достигало одной седьмой доли секунды, а реакция Эстер превышала одну десятую секунды.
Только после того, как состояние Майрона и Эстер нормализовалось, перестав быть чрезвычайно замедленным или ускоренным, они смогли убедиться в необычности своих как замедленных, так и ускоренных движений, но мне потребовалось показать им свои съемки[3].
При расстройствах восприятия временно́й шкалы кажется, будто у замедления нет никаких ограничений, а ограничение ускорения движений обусловлено физическими возможностями мышц. Если Эстер пыталась говорить или считать вслух, когда ее движения становились невероятно ускоренными, слова и числа «сталкивались» друг с другом и сливались в нечто невнятное. Подобное физическое ограничение менее очевидно в мышлении и восприятии. Когда Эстер показывали куб Неккера (изображение куба, который имеет разную ориентацию в зависимости от того, с какой точки его рассматривают; в норме перспектива автоматически переключается каждые несколько секунд), то, если она находилась в состоянии заторможенности, смену перспективы она видела каждые две-три минуты (или не видела вообще, если была в состоянии полного оцепенения). Но когда активность Эстер ускорялась, она отмечала, что куб начинает мерцать, когда она рассматривает его с частотой несколько раз в секунду.
Поразительное ускорение восприятия наблюдают при синдроме де ла Туретта, заболевании, проявляющемся навязчивостями, тиками, непроизвольными насильственными движениями и звуками. Больные синдромом Туретта способны хватать летящих мух за крылья. Однажды я спросил одного своего пациента, как ему это удается, и он объяснил, что ему не приходится двигаться слишком быстро, просто мухи летают очень медленно.
Когда человек протягивает руку, чтобы что-нибудь захватить, она движется в среднем со скоростью один метр в секунду. Если попросить человека поторопиться, то скорость возрастет примерно до четырех с половиной метров в секунду. Когда же я предложил художнику Шейну Ф., больному синдромом Туретта, схватить предмет максимально быстро, его рука двигалась со скоростью 7 метров в секунду, причем Ф. не пришлось для этого жертвовать ни изяществом жеста, ни точностью движения[4]. Когда же я попросил Шейна сбавить темп, движения его стали неуклюжими, напряженными и искаженными насильственными тиками.
Другой пациент с тяжелым синдромом Туретта и очень быстрой речью говорил мне, что в дополнение к тикам и вокализации, которые я могу видеть и слышать, есть и другие, о каких я – из-за своих «медленных» глаз и ушей – даже не догадываюсь. Такие микротики выявлялись у этого больного только при видеосъемке и последующем покадровом анализе. На самом деле имеют место множественные последовательности подобных микроскопических тиков, они протекают одновременно и независимо друг от друга. Число таких насильственных движений порой достигает нескольких десятков в секунду. Сложность этих движений поражает не меньше, чем их скорость, и я думаю, что можно написать целую книгу о тиках, проанализировав пятисекундный фрагмент видеозаписи. Мне кажется, это пролило бы свет на соотношение строения мозга и нервной деятельности, поскольку все тики имеют детерминанты – внутренние и внешние, – а «репертуар» их уникален для каждого больного.
Молниеносные тики, наблюдаемые у больных синдромом Туретта, напоминают феномен, который великий британский невролог Джон Хьюлингс Джексон называл «эмоциональной» или «извергаемой» речью (в противоположность сложной, синтаксически правильной «предложной» речи). Извергаемая речь по сути является реактивной, возникая неосознанно и импульсивно. Она появляется в обход контроля со стороны лобных долей, сознания и эго и слетает с губ как абсолютно неосознаваемый и неуправляемый поток.
* * *
При синдроме Туретта и паркинсонизме страдает не только темп, но и качество движений и мышления. В состоянии ускорения человеком управляет изобретательность и фантазия, мы видим быстрые перескоки от одних ассоциаций к другим, вызванные какими-то внутренними побуждениями. Замедление же сопровождается осмотрительностью и осторожностью, трезвым и критическим подходом, который может оказаться не менее полезным, чем бурные фантазии ускоренного мышления. Данное преимущество использовал Айвен Воган, психолог, страдающий болезнью Паркинсона и написавший книгу «Айвен: жизнь с болезнью Паркинсона». Он рассказывал мне, что писал, когда находился под воздействием леводопы, поскольку в эти моменты мысль его текла свободно, а слова без затруднений ложились на бумагу, подстегиваемые силой раскрепощенного воображения, порождающего неожиданные, богатые ассоциации. Правда, если ускорение оказывалось слишком сильным, то мешало сосредоточенности, и мысль могла «уйти» далеко в сторону. Однако, когда действие леводопы заканчивалось, Айвен принимался за редактирование, так как состояние заторможенности было идеальным для вычеркивания слишком буйных пассажей, сочиненных под влиянием «ускорения».
Мой пациент Рэй, страдавший синдромом Туретта со множеством насильственных тиков, тоже научился с пользой «употреблять» свой недуг. Быстрота и странность ассоциаций позволяли ему мгновенно находить новые остроумные ассоциации, в связи с чем он называл себя Витти-Тикки Рэй[5]. Эта быстрота в соединении с музыкальным талантом сделала Рэя непревзойденным импровизатором в игре на барабане. Он был практически непобедим в настольном теннисе благодаря своей невероятной реакции и неожиданным ударам, которые были настолько непредсказуемы (подчас для него самого), что соперник приходил в полное замешательство и пропускал мяч.
Люди с тяжелым синдромом Туретта порой напоминают существа, описанные фон Бэром и Джеймсом, а сами больные зачастую называют себя «сверхзаряженными». Один из моих пациентов говорил: «Это то же самое, что иметь в голове движок в пятьсот лошадей». Действительно, среди выдающихся спортсменов есть люди, страдающие синдромом Туретта, – Джим Айзенрайх и Майк Джонстон в бейсболе, Махмуд Абдул-Рауф в баскетболе и футболист Тим Ховард.
Но если синдром Туретта может быть столь адаптивным, являясь своего рода неврологическим даром, то почему эволюция не увеличила их число среди нас? Какой эволюционный смысл заключается в том, чтобы быть медлительным, заторможенным, короче, «нормальным»? Недостатки избыточной медлительности очевидны, но и повышенная скорость реакции тоже чревата многими проблемами. Больные с синдромом Туретта и паркинсонизмом, страдающие повышенной скоростью мышления и движений, одновременно неспособны подавлять импульсивность и насильственность движений, что допускает ошибочные, «неадекватные» действия, совершающиеся при этом молниеносно. В подобных ситуациях импульсивное прикосновение к пламени или попытка перебежать дорогу перед несущимся транспортом, каковые действия обычно подавляются сознанием большинства из нас, могут осуществляться в реальности, до того, как успеет вмешаться сознание.