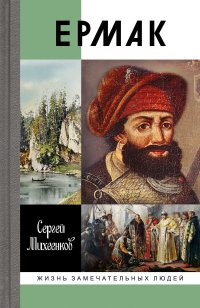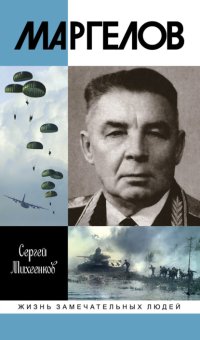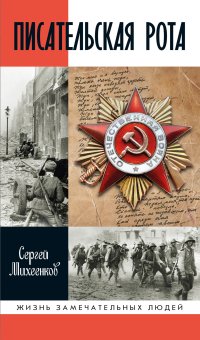Читать онлайн Штрафники против гитлеровского спецназа. Операция «Черный туман» бесплатно
- Все книги автора: Сергей Михеенков
I. День первый
Глава первая
Ночью 11 мая 1944 года в особый отдел штаба 33-й армии шифром из штаба Западного фронта была передана срочная радиограмма:
«10.05.44. между 14.30 и 15.00. в лесном массиве в районе Яровщинских болот в квадрате 808/2 северо-западнее высот 264 и 247 во время проведения войсковых испытаний совершил аварийную посадку опытный образец истребителя Ла-5ФН новой, усовершенствованной конструкции. Летчик в последний раз вышел на связь в 15 час. 58 мин., предположительно, с земли. Связь тут же оборвалась. Пилот, возможно, ранен. На борту находится секретное навигационное устройство, вмонтированное в приборную доску. Необходимо срочно сформировать несколько групп глубокого поиска с целью транспортировки останков самолета в расположение советских войск и дальнейшей переправки его в тыл, изъятия прибора, а также спасения пилота. В случае если это окажется невозможным, уничтожить все три объекта, включая пилота, и не допустить, таким образом, рассекречивания информации, составляющей важную государственную тайну. Выяснить также, по какой причине не приведено в действие самоликвидирующееся устройство, которым располагает самолет».
Спустя два часа на полевом аэродроме близ штаба армии приземлился транспортный борт, который доставил группу из шести человек: пятерых младших лейтенантов и капитана. Группа офицеров не мешкая погрузилась в автофургон вместе с контейнерами и оружием и тут же отбыла с территории аэродрома по дороге в сторону торфяных болот.
В ту же ночь в штаб 4-й полевой армии группы армий «Центр» на передатчик отдела 1-Ц (разведка) пришла срочная шифровка с пометкой «Особо секретно»:
«10.05.44 около 17.00 по берлинскому[1] времени в лесном массиве в районе высот 264 и 247 упал сбитый средствами ПВО аэродрома «Омельяновичи» новейший советский истребитель Ла-5ФН. Интерес представляет мотор нового типа, вооружение, а также секретный навигационный прибор, предположительно, американского производства, находящийся на борту истребителя. Срочно выслать несколько поисковых групп с целью розыска, захвата и транспортировки упавшего самолета либо его частей в ближайший гарнизон под усиленную охрану. Учитывая обстоятельства постоянного изменения линии фронта на этом беспокойном участке, привлечь к операции группу «Черный туман», расквартированную в этом районе и имеющую большой опыт действия в сильнопересеченной, болотистой и лесистой местности, занятой противником. Отличившиеся военнослужащие из состава вермахта, СС и спецподразделений, привлеченных к проведению операции особой важности, в том числе и ост-батальонов, будут поощрены наградами Рейха, повышены в звании. В особых случаях, по представлению командования подразделений, им будет предоставлен внеочередной отпуск на родину».
Через несколько часов на аэродроме «Омельяновичи» приземлился легкий «шторх». Пилот ловко зарулил под навес, закрытый камуфляжной сеткой, что свидетельствовало о том, что этот маршрут и аэродром были ему хорошо знакомы. Из кабины выпрыгнул стройный Oberstleutnant[2], в манере держаться, в тщательно подогнанной не без участия портного и подчеркнуто аккуратной форме которого угадывался офицер штаба не ниже армейского. На краю бетонной дорожки его встретил такой же подтянутый майор и, шагнув навстречу, приложил ладонь к фуражке:
– Майор Радовский! Командир боевой группы «Черный туман».
– Брукманн, – отрекомендовался прибывший и тут же на ходу бросил: – Срочно едем в ваш штаб. Утром на рассвете ваши люди должны быть уже в лесу. У нас осталось всего несколько часов, чтобы уладить некоторые детали операции.
– Прошу прощения, Herr Oberstleutnant, я как командир боевой группы располагаю лишь трофейным грузовиком, – преодолевая неловкость, снова козырнул Радовский. – Так что, как говорят в России, не обессудьте.
– О, полтора Ивана! – воскликнул Брукманн, увидев под деревьями полуторку, перекрашенную в серый армейский цвет с белым крестом на дверце.
– Да, это русская полуторка.
Грузовичок боевой группе Радовского служил уже третий год, еще с московских боев.
Брукманн обошел полуторку, снисходительно похлопал ее по плоскому крылу и сказал:
– Редкий уродец. Но они наступают! И не только на этих каракатицах, но даже на лошадях!
Радовский не позволил себе поддержать ни мысль, ни тон Oberstleutnant’a, которого знал мало и видел всего лишь дважды. Один раз в приемной фон Лахоузена, а другой в казарме и на учебном полигоне под Ганновером одного из батальонов полка особого назначения «Бранденбург-800».
– Сегодня же рейсом из Варшавы прибудет группа лейтенанта Шмитхубера, – сказал по дороге в Омельяновичи Брукманн.
Радовский сам вел машину. Когда Oberstleutnant заметил ему, что в партизанских лесах опасно передвигаться без охраны, Радовский со сдержанной улыбкой ответил:
– Если нам встретятся партизаны, они остановят нас, чтобы попросить закурить. Но в штабную машину с охраной они бросят гранату или запустят из-за деревьев длинную пулеметную очередь.
Oberstleutnant с той же сдержанностью покачал головой.
– Лейтенант Шмитхубер – специалист по России, – продолжил он. – Воевал под Вязьмой и Ржевом. Имеет около пятидесяти прыжков с парашютом. Имеет навыки пилотирования некоторых типов советских самолетов, в том числе истребителей. С ним несколько человек: радист, снайпер, авиационный механик и еще кто-то. Их миссия, как вы понимаете, начнется с того момента, когда советский самолет будет найден. Таким образом, Георгий Алексеевич, операция и условно, и реально делится на две фазы. Первой, поиском, руководите вы. Второй – транспортировка истребителя либо возможный демонтаж его особо ценного оборудования и частей – лейтенант Шмитхубер. Вы с момента наступления второй фазы приступаете к охране группы специалистов и груза. Операции дано кодовое наименование «Черный туман». Поздравляю.
– Да, это действительно честь для нас.
Притемненные фары выхватывали из темноты только ближние несколько метров дороги и часть обочины. В какой-то момент в узкий луч света метнулось белое пятно – поперек колеи шарахнулся заяц. Радовский машинально поправил лежавший на коленях МР40 и усмехнулся. Брукманн тоже замолчал на некоторое время. Видно, и ему стало не по себе. Ночь, лес, разбитая дорога, полное отсутствие промежуточных постов и… этот нелепый огромный русак, выскочивший на насыпь и едва не попавший под колеса столь же нелепой машины.
– Майора абвера не смущает, что какое-то время ему придется подчиняться лейтенанту, который к тому же вдвое моложе его? – снова заговорил Oberstleutnant. – Или вы благоразумно поручите исполнение этой операции кому-нибудь из своих надежных помощников?
– Нет, Herr Oberstleutnant, я пойду в лес с моими людьми сам.
– Тогда я должен слышать ответ на первый вопрос.
– Если того требуют интересы дела, готов выполнять приказания младшего по званию, – сказал Радовский, глядя в сумрак ночи, плотно обступившей дорогу. – Надеюсь, лейтенант Шмитхубер настоящий солдат и блестяще исполнит порученное.
– О да, для Шмитхубера и его людей это очередная операция. Ни больше ни меньше. Он уже посвящен в детали. По прибытии останется лишь согласовать некоторые нюансы.
И еще: во время выполнения задания возможны контакты с гражданским населением. Вас не должно останавливать ничто. Жестокое обращение с местными жителями, если этого потребуют интересы Германии, будет расцениваться как суровая необходимость войны. Вы меня понимаете, Георгий Алексеевич? К этому должны быть готовы и ваши люди. Если это необходимо, срочно произведите замену. Операция должна пройти в предельно короткие сроки. Вам дается три дня. Это потребует от личного состава такой же предельной самоотдачи. В группу должны войти физически выносливые люди, обладающие такой же устойчивой и адекватной психикой.
Перед вылетом сюда этот лощеный подполковник, должно быть, тщательным образом исследовал мое личное дело, подумал Радовский, внимательно следя за дорогой. Он выслушал Брукманна и сказал:
– Надеюсь, эта операция не станет одной из разновидностей карательных мер против местных жителей, связанных с партизанами.
– О, нет-нет! Вы же знаете, что абвер этим не занимается. – Немец снисходительно засмеялся.
И Радовский невольно подумал, что слова, произнесенные таким тоном, быстро забываются, если это необходимо тому, кто их произнес.
– Надеюсь, что это так.
Брукманн усмехнулся, теперь уже более сдержанно. Когда перед вылетом он получал последние инструкции, его предупредили, что командир группы «Черный туман» – человек опытный, бывалый, но с характером. Для выполнения приказа он сделает все, так что лучше его не ломать, а постараться с ним поладить. Только в абвере могли так относиться к русским, да еще бывшим царским офицерам с белогвардейским прошлым.
Ночь была теплой. И только небо прохладным алмазным ручьем Млечного Пути сияло над Омельяновичами, напоминая о весенней поре, когда такие ночи еще преждевременны, а значит, и ненадежны. Вглядываясь в густую влажную темень ночи и чувствуя на губах ее прикосновение и тепло, Радовский с иронией подумал: Соловьи на кипарисах и над озером луна…[3]
Третий батальон был поднят по тревоге. Девятой роте после поверки тут же объявили отбой. А Седьмую и Восьмую в полном составе выдвинули в район карьера, к старым баракам, где до войны и какое-то время в период оккупации жили рабочие местного торфопредприятия. Теперь бараки были превращены в казармы и их занимала часть особого назначения подполковника Кондратенкова.
Когда после построения вышли из деревни и, повзводно, запылили изношенными солдатскими ботинками и брезентовыми сапогами в сторону леса и болот, за которыми иногда порыкивал, встряхивая тыловую тишину, фронт, Воронцов побежал в голову колонны и вдруг услышал фразу, которую потом вспоминал всю войну. Возле конюшни, где был свален колхозный инвентарь, еще годившийся для какой-нибудь крестьянской пользы, а потому не сброшенный под горку, стояли офицеры штаба батальона и политотдела штаба полка. Они смотрели, как покидают деревню роты, и кто-то из них, возможно, не ожидая, что его голос прозвучит так громко, сказал:
– Воронцов и Нелюбин как стараются! Добивать своих повели…
Воронцов оглянулся. Но увидел возле конюшни только серые равнодушные лица, которые не выражали ничего. В какое-то мгновение внутри, как перед атакой, сработала тугая пружина, и он готов был вернуться, подбежать к стоявшим и, невзирая на звания и должности, попросить повторить брошенное ему в спину и пояснить, что имел в виду говоривший. Если бы такое случилось год или даже полгода назад, он именно так бы и поступил. Но теперь…
Теперь надо было думать о другом. О чем?
Они даже не знали, куда их выдвигают и зачем. Ни он, ни Нелюбин. Ни замполиты. Молчал и офицер с кантами войск НКВД на погонах. Офицер покачивался в седле на высоком тонконогом коне и ни с кем не разговаривал. Так что думать предстояло именно о том, что он только что услышал.
Куда их сдернули? Почему колонну ведет офицер СМЕРШа?
Перед выходом из строя приказали выйти всем, кто прибыл в составе маршевой роты. Вывели и пополнение, прибывшее буквально накануне из Ташкента. Узбеки, киргизы, несколько «печатников», как называл комбат тех из новоприбывших, кто имел во внешности интеллигентские черты вроде робости, медлительности, плохой реакции на исполнение команд, неумения носить форму и в надлежащем состоянии содержать личное оружие. К «печатникам» Солодовников причислял и тех, кто носил очки.
– Воронцов, оставь за себя кого-то из взводных. Пускай он тут на полигоне займется твоими печатниками и басмачами. Пока вы там… Глядишь, пара-тройка славян и из этой оравы получится. Ухвати их за душу. – Капитан Солодовников посмеивался, угощал уходящих «Герцеговиной флор», хлопал по плечу солдат, с кем вернулся из-под Омельяновичей. Но в глазах его Воронцов увидел беспокойство, почти панику. Батальон держался на старослужащих. И вот комбат их отпускал от себя, отправлял на какое-то непонятное задание. Получит ли он их назад через трое суток, как сказано в приказе?
– Куда нас, Андрей Ильич? – спросил Воронцов Солодовникова в последнюю минуту, когда лейтенант Одинцов скомандовал оставшимся – кругом и прямо, а они остались стоять в ожидании дальнейших распоряжений.
– Ни Соловцов, ни агитаторы ничего не знают. Представляешь? Или делают вид. Может, куда в оцепление? Опять кого-нибудь ловят. – В глазах у Солодовникова мелькнула надежда. – Ты ж видел, кто прибыл? СМЕРШ! Приказом по дивизии поступаете в распоряжение какого-то подполковника. А подполковник НКВД – это в переводе на наши общевойсковые звезды – генерал! Вот и смекай. Так что ты там, Сашка, гляди… Ребят береги. Им что? А нам… Нам еще до Берлина идти! – И капитан Солодовников засмеялся. Но глаза его говорили правду.
Гляди… Воронцов знал, что имел в виду комбат, говоря ему это: «Гляди…»
И вот возле конюшни он услышал более откровенное, что и оскорбило, и унизило одновременно. И как офицера, и как человека. Он перебрал в памяти офицеров штаба батальона и не мог представить, что кто-нибудь из них мог бросить им в спину подобное. Правда, из штаба полка он знал не всех, кто стоял там, у конюшни, наблюдая их марш.
Добивать повели… Стараются…
Через несколько часов, усталые, в потеках грязного пота, в потемневших от пота гимнастерках, они выстроились перед серыми бараками торфопредприятия. Пахло болотом и соляркой.
Рота Воронцова тремя неполными взводами стояла прямо напротив административного здания с высоким крыльцом. Тесовый фронтон над крыльцом был выкрашен свежей голубой краской. Все остальное вокруг: и строения, и дорога, и отвалы карьеров, – имело черно-серый грифельный цвет с коричневатым оттенком. И только лес вокруг бушевал молодой листвой, и откуда-то с откоса, заросшего тусклой осокой, время от времени потягивало густым ароматом черемухи. Сквозь свежую краску на фронтоне проступала черная вязь готических букв.
Воронцов подравнял первую шеренгу, окинул взглядом такие же куцые, будто обгрызенные, коробки взводов Седьмой роты, подал команду «Смирно!» и пошел докладывать. Потому что на крыльце появилась группа офицеров и среди них подполковник с пышными усами. Смершевец, сопровождавший их, шел рядом с подполковником и что-то быстро говорил ему на ухо. Тот кивал.
– Товарищ подполковник!.. – начал доклад Воронцов, вскинув ладонь к пилотке, и тут голос его дрогнул и осекся.
– Давай, старший лейтенант, продолжай, докладывай, – улыбнулся подполковник в усы.
Это был тот самый майор Кондратенков Иван Корнеевич, с которым Воронцов прошлой осенью лежал в госпитале в Серпухове и который после излечения звал его к себе в полк. Так вот каким полком командует теперь уже подполковник Кондратенков. Что ж, возможно, что и так. Потому что на его полевой гимнастерке были общевойсковые погоны с малиновым кантом. Да и некоторые из офицеров, стоявших рядом, имели такие же знаки различия. Хотя на погонах двоих капитанов Воронцов разглядел черные канты и скрещенные «топорики» инженерно-технических войск, а лейтенант позади Ивана Корнеевича стоял в лихо заломленной на затылок и немного набок кавалерийской кубанке, из-под которой выливался на загорелый лоб смоляной залихватский чуб. Что это была за часть, чем она занималась, по форме личного состава и знакам различия понять было невозможно.
Глава вторая
После выхода из-под Омельяновичей полк отвели во второй эшелон.
Восьмая гвардейская рота потеряла половину своего состава, в том числе командира первого взвода лейтенанта Петрова, четверых сержантов. Из отделения бронебойщиков остался только Мансур Зиянбаев. Роту дважды пополняли. Вернулся кое-кто из госпиталя. Но до положенного штата Восьмой по-прежнему не хватало почти взвода солдат и нескольких сержантов. Так что скрепя сердце Воронцов оставил в роте и Веретеницыну, и старика Добрушина, хотя давно собирался отправить их подальше от передовой, в тыл.
Веретеницына после выхода из-под Яровщины на какое-то время присмирела. Может, подействовало то, что она увидела там. Может, ее успокоила привязанность к лейтенанту, командиру взвода «сорокапятчиков». Это его в последний момент перед приходом немцев она вывезла из лесной сторожки и потом на березовых волокушах несколько километров тащила по оврагам и лесным тропам по колено в снегу. Лейтенант вернулся из госпиталя и время от времени наведывался в Восьмую роту. Во время первого визита зашел к Воронцову, представился, поблагодарил его за то, что не оставили в лесу под Яровщиной, и сказал, что хотел бы повидать его подчиненную старшину медицинской службы Глафиру Веретеницыну.
Глафира – это значит Глаша. Никто, кроме старика Добрушина, не звал санинструктора по имени. Веретеницына и Веретеницына. Тем более что фамилия весьма соответствовала и ее должности в роте, и характеру. А лейтенант вот имя запомнил. С того дня и зачастил. Хотя Гиршман несколько раз заводил свою волынку, как всегда издалека, мол, посторонние в расположении роты, да непорядок во взводах в смысле вшивости, да антисанитария. Намекал, что Веретеницына спустя рукава относится к своим служебным обязанностям.
Но в апреле полк отвели еще глубже в тыл. Артдивизион пополнили матчастью и людьми и снова выдвинули к передовой. Хотя в бой не бросали. Это Воронцов знал по рассказам Веретеницыной, которая регулярно получала от своего лейтенанта весточки. Однако в глубоком тылу, на отдыхе, когда заботы санинструктора свелись в основном к профилактике педикулеза, лечению опрелости солдатских ног и прочих грибковых и простудных заболеваний, к Веретеницыной снова начал возвращаться прежний задор. Видимо, действовала весна. Еще бы. Все в природе жило восторженной тоской и счастьем предвкушения. Дожди отмыли пригорки и опушки от паутины прошлогоднего тления. Осыпалась на свеженатоптанные стежки пыльца исполненного цветения и клейкие чешуйки лопнувших почек. Птицы на зорях пели так, как будто не было никакой войны и жизнь с ее извечной жаждой обновления и продолжения себя в подобном победила и теперь старательно стирала следы минувшей бойни. Даже сдержанный Василий Фомич, видать, затосковав по дому и своей семье, вздохнул, пристально посмотрел куда-то мимо Воронцова и сказал:
– Аверьяновна-то моя поди уже плуг готовит.
И Воронцов, слушая своего связиста, подумал: а ведь не в плуге его тоска, по жене соскучился. По детям. По брянской своей деревне. Да и по земле тоже. А земля без плуга, как известно, – пустошь да зарость, да сплошной исковерканный полигон. А Василий Фомич, стараясь хотя бы в мыслях своих отринуть происходящее вокруг, застопорить разрушительную машину войны, рисовал себе картину совершенно другой жизни, которая казалась ему более правильной и уместной сейчас, когда кругом все обновлялось, очищалось, смывая с себя мертвечину и тлен.
Так что весна разлилась по всей земле, захватив своим половодьем все живое и произрастающее. Где уж удержаться Веретеницыной? И опять она начала посматривать на ротного орлицей и поталкивать в траншее то боком, то задом, то передом. Опять зачастила на морковный чай. И Воронцов вздохнул с облегчением, когда роту подняли по тревоге и маршем выдвинули к торфяникам.
Санитарный обоз вместе с обозом старшины Гиршмана плелся где-то позади. И слава богу.
О торфяниках в деревне ходили разные слухи. Что во время оккупации там, в одном из карьеров, расстреливали партизан. Местные говорили, что теперь на торфяниках стоит какая-то часть, что туда часто возят тех, кто служил немцам, что возят, мол, туда многих, а назад возвращаются не все. Часто оттуда ходил транспорт в фильтрационный лагерь, расположенный в райцентре. Иногда из лагеря на крытых машинах людей доставляли на торфопредприятие. Словом, никто ничего толком не знал. Что за часть. Чем занят личный состав. Какие задачи выполняет. Кого возят туда-сюда.
И вот Воронцов доложил о прибытии подполковнику, командиру этой загадочной части, и командир оказался давним госпитальным знакомым, который полгода назад зазывал его в свой «полк». Удача это или несчастье, Воронцов еще не знал.
Что ж, подумал он, вполне может быть, что и – полк. Транспорта много. И лошадей целая конюшня. Свою Кубанку он оставил вначале в обозе, в распоряжении санинструктора. Но потом, видя, как связист Добрушин потеет под рацией, приказал оседлать ее.
Подполковник Кондратенков выслушал доклад и тут же распорядился:
– Командиры рот ко мне, остальным – вольно, разойдись.
Нелюбин подлетел, как на колесах, козырнул, прикладывая свой загорелый «ковшик» к помятой командирской фуражке. Новый командир ему, по всему видать, понравился.
– Вот что, ребята из пехоты, – сдержанно посмеиваясь из-под густых усов, сказал подполковник Кондратенков, – времени у нас нет. Выступаем основной группой через час. Остальные чуть позже. Задача следующая: отберите из своих рот по нескольку человек, самых надежных в бою. Но в бою не простом. Действовать придется в лесу. В деревнях. В поле. Среди болот. Словом, нужны выносливые, хорошо умеющие ориентироваться в лесу. Лучше из числа деревенских. А еще лучше из бывших партизан или полицаев. Есть такие? Не стесняйтесь. Они сейчас нам очень будут нужны. Возможно, что им придется на какое-то время снова переодеться в черную форму и надеть повязки. Все должны уметь сидеть в седле и обращаться с лошадью. Лошадь – не бронетранспортер. Когда кормить, когда поить и где лучше спрятать во время боя… За себя оставьте лейтенантов. Роты пойдут в оцепление. А вы… Вам приказ будет объявлен непосредственно перед выходом. Никому ничего не объяснять. Даже офицерам, которых оставите за себя. Через пять минут со своими группами собраться возле штаба. Старшина вас отведет на склад. Получите другое обмундирование и новые автоматы. Боекомплект. Паек на трое суток. Задача, повторяю, будет поставлена в дороге. Вот так, Александр батькович. – И подполковник Кондратенков выразительно посмотрел на Воронцова. – Не надолго ты, брат, увильнул от меня. Фронт у нас с тобой, получается, – один. Хотя фронтов много.
Нежданная встреча с Иваном Корнеевичем Кондратенковым оказалась в этот день не последней. Когда переоделись и получали оружие, к ним подошел капитан. Погон его Воронцов увидел из-под камуфляжной накидки. Точь-в-точь такие же накидки выдали и им. Скользнул по ним внимательным взглядом, кивнул Воронцову:
– Ну, здорово, смоленский, даже если и не признаешь. – И подал руку.
– Здорово, Гришка!
– Сашка!
На подбородке у Гришки все так же натягивался тонкой нежной кожей шрам. Но теперь он был не розовый, как в Серпухове, а коричневый от загара.
– Видишь как… Не захотел к нам, а судьба все равно свела. Батю видел?
Воронцов кивнул.
– Вот так. Он тут теперь всем заправляет. Об остальном не спрашивай. Дисциплина у нас не то что в пехоте. Но людей не хватает. А второй старлей с тобой, я вижу, мужик бывалый. Только вроде староват для нашего дела. А?
– Мы с ним вместе под Вязьмой по лесам бегали.
– Это хорошо. Побегать и тут придется. – И Гришка кивнул на планшет. – Сумку свою тоже лучше оставь. Иначе придется бросить.
– Почему?
– С собой – ничего лишнего. Оставь. А то в лесу будешь ею за березки цепляться.
Воронцов снял полевую сумку. В ней лежали письма от Зинаиды и сестер. Полотенце и «парабеллум», с которым он старался не расставаться. Обоймы он рассовал по карманам, «парабеллум» – за пазуху, на привычное место. Так он делал всегда в бою.
– Носишь два пистолета? – заметил Гришка.
Воронцов кивнул. Свой трофей, к которому привык уже как к штатному, Воронцов старался не демонстрировать. Но Гришка наметанным взглядом разведчика не пропустил того, как один из пистолетов перекочевал из полевой сумки за пазуху Воронцова. Пистолеты в группе, отобранной Воронцовым, имели все, кроме разве что Колобаева. И то Воронцов в этом не был уверен.
Через несколько минут Гришка подал команду строиться, и Воронцов понял, что их группу поведет именно он. Никто даже фамилии его не знал. Тот тоже не спешил им представиться.
– В одну шеренгу становись! – скомандовал своим Воронцов.
С собою он отобрал шестерых. Все как один они теперь стояли перед ним и сдержанно посматривали то на него, то на капитана Гришку. Темников держал у ноги трофейный МГ с круглой коробкой на пятьдесят патронов. Рядом – его неразлучный второй номер Лучников. Колобаев радостно шарил пальцами по прицелу снайперской винтовки. Старший сержант Численко смотрел под ноги, словно раздумывая, куда в очередной раз он попал со своим ротным. Фельдшер Екименков и старик Добрушин, которого Воронцов взял как коновода.
В шеренге Нелюбина стояли тоже шестеро. Нелюбин привел своих чуть позже. В строю стояли: Звягин, Пиманов, Морозов, Чебак, санинструктор Янович, Сороковетов.
– Меня зовут Капитан. Или просто – Гришка. Можно – капитан Гришка. Все. Так и обращаться. – Гришка выдержал паузу. – А теперь слушай боевую задачу. Но перед тем, как я ее озвучу, предлагаю всем подумать и решить, если у кого нет уверенности в себе, можете вернуться в роту. Никаких последствий для вас это иметь не будет. Повторяю: если кто-то из вас плохо себя чувствует или сомневается в своих силах, выйти из строя.
Строй не шелохнулся.
– Что ж, хорошо. Не зря вам доверяют ваши командиры. Наша задача состоит в следующем…
Почему именно их сдернули из второго эшелона выполнять чужую работу? Этот вопрос стыл в глазах и старшего сержанта Численко, и пулеметчика Темникова, и связиста, а теперь коновода Добрушина. Эту же думу думал и сам Воронцов.
Майор Радовский утром на рассвете стоял на плацу, отсыпанном серым гравием, и наблюдал, как офицеры выравнивают взводные колонны. В лес с ним пойдет только первый взвод. И то не в полном составе. Двадцать человек. Самые подготовленные. Самые надежные. Остальные – в оцепление.
Это был уже третий состав его роты особого назначения. Формировал он ее уже по новым штатам как Abwergruppe Schwarz Nebel (абвергруппу «Черный туман»). Однако своего номера она не имела и числилась как учебное строительное подразделение. Отчасти название соответствовало им. Строить пришлось немало. К казарме, размещенной в здании школы, пристроили столовую, где за тремя солдатскими столами мог теперь одновременно разместиться целый взвод. Пришлось вдобавок ко всему отремонтировать мост через речушку, чтобы по нему свободно ходили полуторки и «сорокапятки» с передками, нагруженными артиллерийскими зарядами. Что же касается учебы, то вот уже три месяца во взводах усиленно штудировали следующие дисциплины: парашютную подготовку, топографию и ориентирование на местности, методы наблюдения и сбора разведданных, подрывное дело и методы саботажа, стрелковую подготовку, рукопашный бой, методы маскировки, методы отрыва от преследования и перехода линии фронта.
Последнее, как казалось Радовскому, сейчас для его первого взвода было особенно важным. Действовать предстояло в болотистой местности, по которой, по сути дела, проходила линия фронта. Но, поскольку болота и бездорожье исключали сплошную линию обороны с той и с другой стороны, она имела характер отдельно расположенных опорных пунктов. Как правило, это были деревни, сухие высоты и островки лесистой местности. Опорные пункты, в свою очередь, выстраивались в некую линию, а точнее, в линии. Но эти противостоящие линии были настолько условны и порою имели такую причудливую конфигурацию, что некоторые укрепленные деревни, где, согласно разведданным, оборону держал взвод егерей, по сути дела, вписывались в линию обороны русских, и, наоборот, песчаные холмы, возвышавшиеся за спиной у горных егерей, занимали Советы. Таким образом, линию фронта, пусть даже условную, возможно, переходить им предстояло довольно часто.
Где он упал, этот русский истребитель, немцы толком не знали. Но у Радовского на этот счет уже сформировалась своя версия. Из разговора с Брукманном и Шмитхубером он понял, что подбитый Ла-5ФН новейшей конструкции с секретным оборудованием и вооружением упал все же на территории, занятой или контролируемой Советами. Хотя об этом, возможно, те еще и не знают. Вот почему бережливые и человеколюбивые немцы доверили эту сверхсекретную и сверхважную операцию ему, майору Радовскому, и его группе.
Что ж, оставалось гордиться и изо всех сил стараться выполнить порученное. Другого варианта ни у него, ни у его людей не было.
Начало операции живо напомнило Радовскому другую, проведенную весной сорок второго под Вязьмой против кочующего «котла» 33-й армии. Тогда тоже начали сумбурно, в спешке. Ивар прибыл накануне, точно так же, в общих чертах, отдал основные распоряжения. Через месяц из всей роты Радовский едва собрал десятую часть личного состава. Oberstleutnant Брукманн действительно очень сильно напоминал Ивара, под чьим псевдонимом тогда прибыл в район Вязьмы начальник отдела «Иностранные армии Востока» Генерального штаба сухопутных войск Германии (ОКХ) Oberstleutnant Рейнхард Гелен. После Вязьмы Гелен получил звание Oberst. А Радовский после госпиталя начал усиленно формировать новую роту. Возможно, Брукманн тоже приехал за повышением. Радовский, конечно же, постарается помочь ему осуществить желанную мечту. И с иронией подумал: видимо, в списках погибших подполковнику Брукманну страстно хочется быть в генеральской графе. Хотя до генерала он вряд ли дотянет. Большевики перережут ему горло гораздо раньше. Сталин дал своим «соколам» новые машины. Гитлер на такое уже не способен. Говорят, разовый залп пушек и пулеметов Ла-5ФН имеет такую мощь, что способен перерубить корпус любого самолета Luftwaffe. Прекрасный сюрприз Герингу. Повод для пошива очередного мундира, на этот раз черного.
Если операция пройдет успешно, и ему, Радовскому, будет что доложить своему шефу, руководителю отдела «Абвер II» г-ну фон Лахоузену, то он постарается, наконец, распрощаться с Россией. Пусть перебрасывают хоть в Африку, хоть на Балканы. Только бы подальше отсюда. Немцы с трудом сдерживали постоянный напор Советов. Они уже плюнули на существование у них в тылах целых партизанских районов, куда стараются не соваться. Но то, что отсюда рано или поздно придется уходить, оставлять территории, отбитые неимоверными усилиями и большой кровью, толкает их на такую жестокость, что смотреть на это и, тем более, участвовать в этом Радовский уже не мог. Психологические срывы начались и среди курсантов. Неделю назад двое исчезли во время учебных занятий. Ушли с оружием и боеприпасами. А на Пасху в туалете повесился радист Михайлин, один из лучших специалистов. Оставил записку: «Не могу воевать против своих». Записку Радовский изъял и тут же сжег. Тем, кто знал о ее существовании, приказал помалкивать. Здесь всюду и всюду пределы всему, кроме смерти одной… Но были среди курсантов и люди надежные. Солдаты идеи, как он их сам определял для себя. Их можно будет потом забрать с собой. К примеру, Сакович. Этот пойдет до конца. Такие, как Сакович, приходят в абвер-группу не за куском хлеба с маслом. К тому же он тоже одинок.
Глава третья
Лида спустилась вниз к ручью, прошла босыми ногами по натоптанной стежке, чувствуя кожей сырой песок и прохладную мелкую гальку. Поставила на пральню деревянное корыто, осмотрелась по сторонам и подоткнулась, чтобы не замочить подола.
Перво-наперво она выполоскала пеленки и подгузники, потом кое-какое свое белье. Внизу лежала гимнастерка. Погоны Лида отстегнула давно, еще прошлой осенью, перед первой стиркой, и спрятала их в сенцах под дежкой, в которой хранила запас ободранной гречки, пропущенной через крупорушку.
Старший сержант Калюжный встал на ноги зимой. До весны ходил в гражданской одежде. Так приказал местный полицай. И вот, забросив под горку костыль, упросил Лиду привести в порядок его летную одежду.
– Ой, Феденька, – принялась она уговаривать Калюжного, – погубишь ты нас.
– Пора мне, Лида. Пора. – И Калюжный с тоской смотрел на восточный край неба, откуда на Чернавичи всегда наползали серые дождевые облака и где слышались порой раскаты дальней канонады. Именно оттуда чаще всего появлялись самолеты. Поблескивая алыми звездами на плоскостях и фюзеляжах, они стремительно проносились над хутором в сторону Омельяновичей. Иногда это были «петляковы», иногда илы. Калюжный провожал их пристальным взглядом до тех пор, пока они не исчезали за горизонтом и гул их моторов не таял в тишине окрестностей.
– Так бы и полетел за ними, – вздыхала Лида, видя его тоску.
– Станцию и аэродром крушить полетели, – говорил он и стоял еще минут пять, вглядываясь в горизонт и вслушиваясь – вот-вот донесется оттуда гром далекой бомбардировки.
Когда за лесом грохотало, он мысленно считал: один заход, второй, а теперь отстреляют РСы…Так оно и происходило. Назад штурмовики возвращались другим курсом. И он понимал, почему.
В небе шныряли поджарые «мессершмитты», стремительно проносились скоростные «фокке-вульфы».
В тот день они перебирали картофель. Открыли копец, взвернули почерневшую отволгнувшую за зиму солому и начали сортировать, что на семена, а что на еду. И в это время над хутором показались самолеты сопровождения, начался воздушный бой. Пара «лавочкиных», сопровождавших звено пикирующих бомбардировщиков Пе-2, схватилась с четверкой «мессершмиттов». «Мессеры» атаковали, но Ла-5 довольно легко выскользнули из зоны огня, тут же, еще на вираже, перестроились для атаки и мгновенно обрушили на противника такой шквал огня, что те сразу же потеряли строй. Один немец тут же «клюнул» и пошел вниз, оставляя густеющий шлейф. Второй отвернул и кинулся догонять пару, которая преследовала «петляковых». Пикировщики, разгрузившись где-то в районе железнодорожной станции, вскоре тем же плотным строем протянули назад. А вот истребители летели порознь. Ведомый немного покружил и ушел догонять бомбардировщиков. А ведущий тянул почему-то низко. Мотор его делал частые перебои. Вскоре он выпустил узкий шлейф сизого дыма. Шлейф с каждым мгновение густел и окрашивался бурым.
– Подбили. Не дотянет, – тут же определил Калюжный.
Калюжный по шаткой лестнице забрался на сарай. «Лавочкин» миновал поле, потянул над Чернавичским лесом и там резко пошел на снижение. Ни взрыва, ни удара о землю Калюжный не услышал. Шасси истребитель не выпускал, пошел на посадку так, на брюхо, стараясь как можно ниже опустить фюзеляж, чтобы не уткнуть машину носом и не взорваться.
– Сел.
Спустя полчаса Лида ушла на ручей полоскать белье. А по хутору тем временем прогромыхала повозка полицая Рогули.
Калюжный выглянул через забор и увидел: Рогуля поправил винтовку, сунув ее на полок под подстилку и повернул в сторону переезда через ручей. Эта дорога вела на Омельяновичи, где находилась ближайшая полицейская управа и квартировал взвод каминцев[4].
Калюжный быстро оседлал коня, сунул за ремень под рубаху ТТ и по стежке спустился туда же, к ручью. Здешние места он успел изучить неплохо. Однажды взглянул на них через боковое стекло «фонаря» стрелка штурмовика Ил-2. А когда их самолет приземлили недалеко отсюда и когда Лида подняла его на ноги, он объездил на коне и обошел на лыжах весь Чернавичский лес, все окрестные луга. Ходил и вдоль Омельяновичского большака. Правда, недалеко. Побаивался встречи с полицаями или жандармским патрулем.
Калюжный знал, как причудливо петляет среди болот дорога и что, если ехать тропами, то путь можно сократить вдвое. А значит, полицая можно перехватить еще до того, как он достигнет ближайшего поста каминцев.
Он поправил под ремнем ТТ, сверху прикрытый рубахой и полами пиджака, прислушался. На крыльце играла со своими куклами Саша. Девочка укладывала их спать, бранила и целовала. Калюжный улыбнулся ей, беспокойно посмотрел в сторону ручья, куда ушла Лида. Он знал, что, если Лида увидит его верхом на коне, сразу поймет неладное. К тому же Рогуля проехал через брод. А значит, Лида его наверняка видела. И то, что полицай одет на выезд, с повязкой на рукаве, должно быть, уже насторожило ее. Надо быстрей уезжать, решил он. Иначе отнимет коня и спрячет пистолет. Такое уже случалось. Когда зимой на хутор забрела наша разведка, Лида перетащила Калюжного в баню и закрыла на замок. Он тогда еще не наступал на ногу. Рана сочилась гнойной сукровицей. Но, если бы не Лида, он бы уговорил разведчиков забрать его с собой. Саночки он уже приготовил. В лесу, неподалеку, в укромном месте с выходом в овраг, чтобы прятать его в случае крайней опасности, она вырыла землянку. Несколько раз Калюжный ночевал в ней. Один раз вместе с Лидой. В тот раз с торфяников приехала крытая машина. Кого-то искали. Офицер и трое солдат. С бляхами полевой жандармерии. Этим лучше не попадаться на глаза.
Конь послушно рысил по склону оврага, легко перескочил через ручей, миновал болотину и вскоре вынес его в березняк. Впереди начинался лес, который местные называли Чернавичской пущей.
Пистолет командира, торчавший за ремнем под рубахой, холодил кожу. Это был тот самый ТТ, с которым они выходили из немецкого тыла после того, как их самолет упал в лесу неподалеку от переправы. Несколько 20-мм зенитных снарядов во время выполнения ими противозенитного маневра попали в машину, и дотянуть до линии фронта они уже не смогли. Пистолет тогда послужил и им, и командиру отряда, к которому они прибились. Командира звали Курсантом. Когда расставались, Курсант вернул лейтенанту Горичкину его личное оружие, и с тех пор командир с ним не расставался.
Тело старшего лейтенанта Горичкина рядом с обломками самолета похоронила Лида. А его, раненого, потерявшего сознание от удара, как пишут в донесениях, вследствие соприкосновения падающего самолета с землей, взвалила на коня и привезла на хутор. Пистолет она вытащила из кобуры погибшего командира и сунула в мох под приметную сосну. Потом, когда Калюжный пришел в себя, она, уступая его просьбам, сходила к упавшему самолету и принесла ему командирский ТТ.
И вот теперь Калюжный ехал по лесной тропе, торопил коня, чтобы попасть к переезду через Каменку раньше Рогули, и время от времени трогал рубчатую рукоятку пистолета. ТТ, конечно, не ШКАС[5], но, во-первых, другого оружия у него сейчас не было, а во-вторых, он – память о командире, а в-третьих, в ближнем бою ТТ – штука незаменимая. Обойма – полная.
Солнце яркими бликами играло на тропе, на зарослях мха, на тусклых листочках черничника. Черничник еще не очистился после зимы от паутины, не встал, не распрямился, придавленный снегами и засыпанный рыжими сосновыми иголками. Он словно еще не верил, что зима прошла, снега растаяли и талицей ушли к корням, чтобы до первых дождей питать в лесу все живое. Внимательный глаз Калюжного все примечал. Чуткий слух не пропускал ни одного звука. Выросший в таежном поселке на реке Каменке, притоке Ангары, он прекрасно знал, что такое лес, как в нем ориентироваться, если даже здесь ни разу не бывал. Как найти следы и как скрыть их. Что можно есть. И какую воду пить. Где ночевать, если это понадобится.
И он спешил сейчас на речку Каменку, как на реку своего детства. Он и сам еще не понимал до конца, что заставило его метнуться сюда, чтобы остановить полицая Рогулю. То ли надежда, что летчик благополучно посадил в лесу свою машину и что, возможно, он жив и нуждается в помощи. То ли другая надежда, которая простиралась дальше. Если пилот жив, он сможет уйти через линию фронта вместе с ним. Теперь, когда рана затянулась и почти не беспокоила, он не будет обузой. Более того, он сам мог помочь тому, кто в этом нуждался. Тем более в пути к фронту, где идти придется все время лесом.
Но сейчас предстояло остановить Рогулю.
Василь Рогуля был из местных. Просторный дом его с добротными хлевами и амбарами, выстроенными еще до колхозной круговети, стоял наособицу, возле самого леса. Ставил усадьбу Рогуля вместе со старшими братьями. Их было четверо. Двоих расстреляли продотрядовцы. Один исчез. Оставил семью и ушел куда-то в сторону польской границы. Старшего взяли в тридцать шестом и дали десять лет лагерей. А он, пятый из корня Рогулей, самый молодой, вступил в комсомол, нацепил на грудь красный бант и остался при родителях. Хутор Чернавичи в тридцатые годы начал разрастаться. Сюда сселяли с мелких хуторов, вытаскивали из лесу зажившихся на воле хозяев, сгоняли в общественные конюшни и коровники скот и тягло. Когда-то тут было людно, шумно и весело.
Когда Лида вместе с дочерью и раненым летчиком появилась в Чернавичах и остановила коня возле двора своей тетки, Аксиньи Рогули, местный полицейский тут же наведался к ним при форме и оружии и с порога, не успела еще Аксинья обнять племянницу, поинтересовался, кто пожаловал к ним на хутор. Но Аксинья только мельком взглянула на Василя и, подбежав к коню, на котором поперек седла лежал наспех перевязанный летчик, сказала ему властным тоном:
– А ну-ка, деверек[6], помогай. Видишь, люди в беде. И не чужие.
Вот так Аксинья разом все и расставила на свои места.
В Чернавичах люди жили незлобно. Из мужиков на хуторе почти никого не осталось. Молодых почти всех призвали еще первым военным летом. Некоторые из них вскоре вернулись из-под Брянска, Рославля и Вязьмы, где попали в окружение два наших фронта, около десяти армий. Они добрели по лесам до родного хутора, приволокли раненых односельчан. Но прожили здесь недолго. Уже к весне сорок второго многие из них ушли в лес, к партизанам. А летом в Чернавичах начали мобилизацию призывных возрастов в Корпус белорусской самообороны {1} и 69-й батальон «Schuma» {2}. Кто не оказался в списках, бежали в лес. Некоторые вскоре вернулись, перезимовали дома, надеясь, что скоро Красная Армия освободит местность. Но Красная Армия продолжала стоять в пятидесяти километрах от Чернавичей и атаки ее направлением на Омельяновичи особого успеха не имели. А месяц назад подчистили последних хуторских мужиков. Местные власти провели мобилизацию в Белорусскую краевую оборону[7].
Рогуля благодаря своей изворотливости и чутью сумел избежать и мобилизации в Корпус, и в БКО, и в батальон «Schuma». Не пошел и в лес. Хотя знался и поддерживал кое-какие связи и с теми, и с другими. Осенью 1943 года, когда по инициативе руководителя Министерства оккупированных восточных областей Альфреда Розенберга на территории Белоруссии («Остланд») немцы начали создавать «самооборонные деревни», он понял, что тянуть больше нельзя, что пробил наконец и его час, и надел полицейскую повязку. И, похоже, не промахнулся.
«Самооборонные деревни» получали в полную собственность землю. К тому же из деревень, входивших в эту категорию, население не подлежало мобилизации в Белорусскую краевую самооборону. Правда, призывать в БКО из Чернавичей к тому времени было уже некого. Из мужиков остался только он и слепой восьмидесятилетний дед Рыгор. Вот тут-то и встрепенулось затаившееся в ожидании своего часа сердце Рогули и он явился в Омельяновичи, в полицейскую управу. И вышел оттуда с повязкой и старенькой красноармейской винтовкой, к которой ему выдали три обоймы патронов. Винтовка ему досталась хоть и без ремня, и с порядочным налетом ржавчины, так что прежде чем открыть затвор, ее металлические части пришлось обернуть тряпкой, намоченной в керосине, но вполне исправная, с хорошим боем и безотказная. Стрелял он из нее трижды. Один раз по стае одичавших собак в Чернавичском лесу. Один раз по связке щук в ручье во время весеннего нереста. И один раз в воздух, когда на переезде через Каменку в полночь он встретил не то человека, не то зверя. Тот вышел ему навстречу и остановился. Остановился и Рогулин конь и прижал уши, как перед стаей волков. Сердце Рогули заколотилось так, что стало закрывать горло. Он дрожащими руками дослал в патронник патрон и выстрелил поверх головы стоявшего на том берегу речки.
Винтовка винтовкой. Но стать полновластным хозяином Чернавичей ему не дали обстоятельства, которых он сразу не учел.
Хутором к тому времени управляла его свояченица Аксинья Северьяновна Рогуля, жена брата Андрея, ушедшего то ли в Польшу, то ли в Литву десять лет назад и с тех пор будто сгинувшего. Аксинья имела от Андрея двоих дочерей. Жила в таком же просторном, как и у Василя, доме над ручьем, умело вела хозяйство. Дочери подросли, тоже быстро ухватились за хозяйство, стали помощницами. Характер свояченица имела твердый. До прихода немцев председательствовала в здешнем колхозе. В колхоз, кроме Чернавичей, входили еще три хутора – Васили, Малые Васили и Закуты.
Рогуля, признаться, власть свою и не гнул. А зачем? Пусть свояченица и правит хутором. Ему и так жилось неплохо. Жонка ему досталась работящая, смирная и молчаливая. О такой только мечтать. Высватали ее за Рогулю в Малых Василях. Скромная, не заносчивая, из бедняцкой семьи. Однако в комсомоле его Аринка никогда не состояла, да и потом, став его женой, в актив не пошла. Стала рожать детей, и вскоре с комсомольской агитацией от нее отстали. И вот Аринка, будто дорвавшись до своего, бабьего, что, видать, и написано ей было на роду, нарожала ему детей – четверых сыновей. А теперь и пятого донашивала на последнем месяце. Так что война Василя Рогулю ни с какого бока, как говорят, не грела.
Винтовка колотилась под ногой, больно била по щиколотке. Василь посматривал по сторонам. Железные обода шуршали, утопая в песке, разболтанно звенели на камнях, когда выскакивали на простор. Но все звуки, которые доносились из лесу и из глубины дорожной просеки, помимо этих, тележных, его ухо улавливало чутко. Зачем он едет в Омельяновичи? Сидел бы со своей винтовкой и оборонял хутор там, не отходя от дворов. В управе как было сказано: охранять хутор Чернавичи от нападений партизанских банд, а также вылавливать одиночных диверсантов и разведчиков, засылаемых Советами через линию фронта. Никаких партизан и одиночных диверсантов и в помине не было. А он зачем-то мчится в Омельяновичи… Самолет упал. Вернее, скорее всего, сел. Ну и черт с ним, с тем самолетом. Какое ему до него дело? Упал и упал. Может, никто его падения с большака и не видел. Ближайший пост каминцев в нескольких километрах. До него даже от переезда через Каменку трястись и трястись по большаку. А может, пока не поздно, повернуть? И Аксюха обозлится, что с нею не посоветовался, а кинулся к каминцам самовольно. А вдруг те удумают прочесывать Чернавичский лес? Конечно, начнут прочесывать. И тогда обложат дополнительным налогом все окрестные деревни и хутора. Начнут приставать к бабам. Уж он-то знал этих разбойников, не понимавших ни своих командиров, ни немецкого порядка и строгости, ни Христовых заповедей.
Конь Стыр, словно чувствуя, какой туман хлынул в душу хозяина, перешел на шаг и понурил голову. Дрозд неожиданно сорвался с нижней ветки ольхи и кинулся чуть ли не под ноги коню. Видимо, семья лесных дроздов свила здесь гнездо. Вот и обороняли теперь свою территорию. А он, Василь Рогуля, зачем-то полез на чужую. Да какое ему дело до того, что делается в Чернавичской пуще?
Стыр хлопнул ухом и пошел еще тише.
Рогуля проводил шальной полет птицы и склонил наконец себя к тому, что надо поворотить назад. Но вначале решил доехать до Каменки, попить из родника. Заодно напоить из речки утомившегося Стыра.
Подъехав к песчаному броду через Каменку, Рогуля машинально посмотрел на противоположный берег, где недавно повстречал незнакомца, и вздрогнул в мгновенном ужасе, снова увидев того на прежнем месте.
Глава четвертая
Воронцов не стал менять свой надежный ППШ, который не раз выручал его в трудную минуту, на новый, со склада СМЕРШа. Добрушин, как было приказано, привел Кубанку. Лошадь тут же ткнулась в его плечо, понюхала руку, вздохнула. Воронцов вытащил из кармана кусочек сахару, и Кубанка тут же бережно взяла его с ладони своими теплыми и мягкими губами.
– До чего ж балуете вы ее, товарищ старший лейтенант, – усмехнулся Добрушин, снимая с седла металлический ящик рации, зачехленной в самодельный парусиновый чехол, заботливо сшитый связистом из трофейной плащ-палатки.
Воронцов осмотрел копыта, почистил палочкой стрелки.
– Хорошая кобыла, – похвалил Кубанку связист. – Эх, такую б к нам в колхоз! Бабам нашим в помочи! А там, видать, Аверьяновна… – И горестно махнул рукой.
– Всем проверить оружие и боеприпасы. – Воронцов кивнул Лучникову, у которого увидел новенький ППШ с сияющим прикладом. – Тем, кто получил новое оружие, пристрелять автоматы. Там, в карьере, по мишеням. Быстро. Пока есть время. И обмотайте приклады тряпьем. Светятся, как…
– А где взять мишени?
Воронцов пнул сапогом каску с эсэсовским щитком на боку. Каска валялась у дорожной обочины среди какого-то мусора, видать, выброшенного из помещений торфопредприятия, когда новые квартиранты здесь размещали свои казармы.
– Так по этой мишени до нас уже хорошенько отстрелялись. – И Лучников указал на двойное входное пулевое отверстие в теменной части стального шлема.
– Отстреляйте теперь и вы. – И Воронцов взглянул на снайпера. – Колобаев, вас это тоже касается.
Снайперскую винтовку Колобаева они пристреливали втроем. Кондратий Герасимович, чтобы не сидеть без дела, тоже пошел на стрельбище. По примеру Воронцова он оставил при себе испытанное, хотя и порядком послужившее и потому потрепанное оружие. Нелюбин взялся ставить мишень. Командир Седьмой роты сидел в окопе за триста шагов и на палке высовывал над бруствером старое жестяное ведро. После каждого выстрела опускал «мишень» в окоп, осматривал ее и выкрикивал результат.
По эсэсовской каске молотили из автоматов в другом конце карьера.
А во второй половине дня они были уже в Чернавичской пуще.
Ехали парами. Стремя в стремя. Впереди капитан Гришка со своей группой младших лейтенантов. Следом они. Пока они двигались по своей территории, особо не таились. Тихо переговаривались.
– Сашка, ты мне растолкуй. Ты ж ученый человек. Сон мне один снится. Раз в неделю точно. Один и тот же. Как в автоматном диске – патрон к патрону. Будто выхожу я на крыльцо своей хаты в Нелюбичах, сажусь на лавочку и смотрю на дерево.
– Сон как сон. Дома тебе побывать надо. Вот что. Затосковал ты, Кондратий Герасимович, по своему дому, по семье.
– По дому и по семье все тоскуют. Но тут вот какая хреновина, Сашка. И хата моя, и лавка, которую я смастерил за год до начала этой проклятой войны. И округа, куда ни глянь, вроде вся наша. А дерево – не узнаю. Нет там у нас, возле хаты моей, такого дерева!
– А какое дерево? Береза? Тополь? Яблоня?
– Да вот в том-то и дело, что не понять, какое дерево. А смотрю на него, как на родное! Часами! Оторваться не могу! И все о чем-то думаю.
– О чем же думаешь, Кондратий Герасимович?
– Представь себе, и этого вспомнить не могу! О чем столько времени думаю? Так что это тоже – вопрос. Думаю, думаю. А о чем, не могу потом вспомнить, хоть убей. И думы-то вроде хорошие. Не особо радостные, но и не особо чтобы и горестные. Такие, как вся наша жизнь.
Воронцов усмехнулся причудливому рассказу Кондратия Герасимовича и долго смотрел в глубину просеки, по которой в те минуты они пробирались, не слезая с коней. В стороне вдруг открылся косячок леса, так похожий на опушку Красного леса. Ту самую опушку, с валунами и одинокими березами на краю поля, которая всегда вот так же внезапно открывалась со стороны Прудков, стоило только миновать овраг. Воронцов потрогал в нагрудном кармане последнее письмо от Зинаиды и полотенце за пазухой рядом с трофейным пистолетом. Полотенцем он обмотаться не успел. Ничего, думал он, еще успею.
– Мне тоже хочется стать деревом, – неожиданно для себя самого сказал он. – Чтобы просыпаться на рассвете и расти каждый час, каждое мгновение. И видеть вокруг себя всегда одно и то же. Небо, землю, людей, которые не сделают тебе зла. – Он посмотрел на Кондратия Герасимовича. Лицо того было растерянным. – Ты меня понимаешь?
– Может, и понимаю, – задумчиво ответил Нелюбин. – Тебя, агронома, понять нетрудно. А может, и не понимаю. Ты ж человек ученый. А я, ектыть, Маркса не читал.
– Тут Маркс ни при чем. Чтобы понять друг друга, тем более на войне, Маркс не нужен. А дерево… Дерево – это жизнь. Вот так я понимаю твой сон, Кондратий Герасимович.
– Стало быть, там у меня, в Нелюбичах моих, все живы и здоровы? Так, я понимаю?
– И это тоже.
– Что-то, Сашка, сердце мое неспокойно. А главное, писем нет. И Сима молчит. Будто знает что-то, а написать мне не осмеливается.
Воронцов и сам понимал, что такое долгое отсутствие вестей из родной деревни Кондратия Герасимовича могло означать все что угодно, и, скорее всего, худшее из всего, что можно предположить. Но как скажешь об этом боевому товарищу и фронтовому другу, с кем делил и лихо, и радость с октября сорок первого года и с кем теперь опять неизвестно куда влечет его солдатская судьба.
Из головы колонны отделился один всадник и подъехал к ним.
– Впереди линия фронта, – сказал он. – Передать по цепи: соблюдать тишину.
– Есть соблюдать тишину, – ответил Воронцов и тут же передал приказ следовавшей за ними паре.
Линия окопов тянулась вдоль ручья по пригорку. Кое-где славяне отрыли неглубокую траншею и, видать, продолжали копать. Но, скорее всего, ночами. Сейчас в траншее, в боковых ячейках, отрытых в полный рост, маячили только часовые и дежурные пулеметчики. Судя по некоторой расхлябанности, с которой несла свою службу здешняя рота, противник стоял от них на значительном отдалении и свое присутствие, даже на расстоянии, еще никак не обозначил.
– Смирные у вас какие гансы, – заметил Воронцов, когда они пришли на НП командира роты. Ротный, молодой лейтенант, затянутый в кавалерийские ремни, говорил с явным прибалтийским акцентом.
– Не у них в руках козыри, – ответил тот и передал Воронцову бинокль. – Вон, видите мысок в болоте? Там их наблюдательный пункт. Сидит один человек. Но туда от КП проведена линия связи. Если что заметит, сразу по телефону передает на КП. Правда, в последнее время мои наблюдатели видели его с рацией. Значит, провод сняли. Завели более мобильную связь. Понадежней. Мои ребята их регулярно прослушивают. Но свои сообщения они шифруют. Так что толку мало.
– Часто выходят в эфир? – спросил Воронцов, пользуясь молчанием старшего по званию.
– Каждые два часа. Видимо, по завершении смены.
– А где КП? – спросил Гришка.
– КП дальше, в лесу. Там хуторок небольшой. Дворов, может, с десяток. Васили называется. Но между наблюдательным пунктом и хутором есть блиндаж. Что-то вроде промежуточного КП или караулки.
– Все ясно. А тропы туда нет?
– Есть тропа. А вон, Яшин возвращается. Что-то несет. – И лейтенант плотнее прижал бинокль. – Опять уток наловил. Охотник!
– Курорт тут у вас, а не война, – заметил Гришка.
Воронцов достал свой бинокль: действительно, по болоту шел солдат с закинутым за спину автоматом и волок прямо по воде тяжелую связку диких уток.
– Там у нас боевое охранение. Вон на том островке с тремя березами. – К легкому акценту лейтенанта прибавилась интонация неловкости, которую он, должно быть, испытывал в присутствии старших по званию, когда его боец шел по нейтральной полосе на виду у немецкого наблюдателя со связкой диких уток в руке.
– А приварок неплохой, – чтобы помочь ротному выпутаться из неловкой ситуации, хмыкнул Гришка и скользнул линзами вправо. – Мы, лейтенант, не проверяющие из штаба полка, и нам наплевать, в какую деревню ходят по бабам ваши подчиненные. Наша задача пройти в Чернавичскую пущу так, чтобы нас не заметил ни ваш сторож, ни тот, который караулит ваших соседей. Батальонная разведка сообщила, что здесь есть брод.
– Брод-то есть. – Лейтенант снял фуражку, повесил ее на гвоздь, вбитый над столом прямо в бревно накатника. – Но там придется метров пятьдесят переправляться вплавь. Была здесь когда-то дорога. Гать. Пользовались ею, по всей видимости, местные жители. Скорее всего вывозили из пущи сено, дрова. А теперь гать сгнила. Рота, которая тут до нас стояла, сунулась было, но чуть лошадей не утопили. Переправляться не стали. Плацдарм на той стороне не понадобился. Вот и окопались здесь.
– Ну, что ж, здесь поспокойнее. А там… – Воронцов кивнул за протоку. – Там сидели бы сейчас, как на плацдарме, с поджатыми хвостами.
– Если бы вы, лейтенант, со своей ротой находились там, мы бы сейчас отсюда на тот берег в бинокль не смотрели, – сказал капитан Гришка и остановил ротного, взявшегося за чайник. – Чайку? Нет, с чаем давайте пока отложим. На обратном пути попьем. А сейчас пойдемте посмотрим на то место, где проходит эта гать.
Пройти старой гатью с лошадьми, даже без повозок, действительно оказалось невозможно. Бревенчатый настил давно сгнил, торчал торцами черных топляков, усиливая запах болотины. Возле берега, в ивовых зарослях, они увидели замаскированный еловыми лапками плот из свежих бревен.
– Разведка ходит, – пояснил лейтенант. – Вот он и стоит тут, чтобы каждый раз новый не вязать.
– Что на той стороне?
– Там тихо. Никого там нет.
– И что, они даже не простреливают этот промежуток из пулеметов?
– Из пулеметов нет. А из минометов иногда бросают с десяток мин. Так, для острастки. Разведчики, которые были на том берегу, говорят, что там есть несколько троп. Тропы натоптанные. По ним ходят патрули. Два-три человека с рацией. Вот они и корректируют огонь минометчиков.
– Акулич! Смирнов! Баранов! – тут же окликнул Гришка троих из своей свиты. – Живо на ту сторону. Времени вам три часа. Осмотреть лес. Определить маршрут движения группы. В боестолкновение не вступать. Себя не обнаруживать. Старший – Акулич. С собой ничего, кроме пистолетов и ножей, не брать.
Нелюбин толкнул Воронцова в бок, шепнул:
– Строгие порядки у этих «смерть шпионам». Как они, ектыть, без автоматов пойдут?
Ушли. Быстро переправились на плоту на ту сторону. Когда плот шатнулся у них под ногами, уткнувшись в берег, и разведчики тут же соскочили на песчаный мысок, правее, в рукаве, уходившем к немцам, бабахнули два выстрела. Лейтенант тут же махнул рукой, успокоил:
– Это ружейные выстрелы. Кто-то из офицеров на уток охотится. Немцы, разумеется.
– Романтики, снобы. – Гришка снова поднял бинокль. – Если бы мы сюда не подкатили, они бы тут уже на лодках плавали. В тирольских шляпах. С породистыми легавыми на борту да с корзинками со снедью. Ну, ничего, скоро взорвем мы этот тихий рай.
– Это точно, товарищ капитан. Считай, отохотились. Последний сезон им, ектыть, в чужих угодьях.
Глава пятая
Уже после Пасхи, когда пора было бы и отсеяться, в Прудки из района пришла запоздалая депеша: предписывалось срочно собрать обоз для поездки в Рославль на станцию, за семенами. Петр Федорович живо снарядил пять подвод. На одну за погонщика решил сесть сам, а на другую занарядил Зинаиду. Группу ее коров, на время поездки, распределил между другими доярками. Семена – главное. Их необходимо было перевезти в Прудки немедля, чтобы как можно скорее отсеяться. Потому что земля уже перезревала, сохла. А выпадут ли до конца мая дожди, неизвестно. Было бы хорошо закрыть весеннюю влагу, и пускай бы она распаривала семена, будила в них жизнь, а в людях сохраняла надежду, что новая осень и зима окажутся не такими голодными.
Пришел домой вечером и сказал за ужином, когда за столом собрались все:
– Ну, вот что, доча, обоз выезжает через два дня. А ты отправляйся завтра утром. Запрягай Гнедого. К вечеру будешь в Подлесном. Там переночуешь, погостюешь у Курсантовой родни, покажешь им внучку. Внучку да племянницу. А послезавтра выезжай на Варшавку и дожидайся нас. Улиту хорошенько собери. Возьми одеяло. Укутай. Не застуди.
Утром, когда раннее солнце еще куталось в прохладные пелены тумана, Зинаида выехала из Прудков. Гнедой резво бежал по лесной дороге, косил глазом в темные лощины, откуда густо тянуло черемухой и где слышался птичий гвалт.
Улита сидела рядом, приткнувшись щекой к Зинаидиному локтю, и грызла кусок сахару, который ей сунул в дорогу Петр Федорович.
– Уля, доченька, а послушай, как птичка поет. – И Зинаида бережно шевельнула локтем Улиту.
Девочка не спала.
– Это соловей. Слышишь, какая красивая у него песня? Он один такой певун. Ни с какой другой птицей не спутаешь. – Зинаида оглядывалась по сторонам. Прислушивалась. Ехали по лесу. Места хоть и знакомые, а все же…
– Соловей, – повторила Улита.
– Да, соловей. Соловей-соловушка, песенна головушка. Вот, слышишь? Никто так больше не умеет.
– Какой он? – спросила Улита.
– Маленький. Серенький, как воробышек. Еще увидишь.
– Воробышек, – снова повторила Улита. Девочке хотелось спать, но кусок сахара, подаренный в дорогу дедушкой Петром, не давал ей покоя.
После Андреенок Улита все же уснула. Зинаида завернула ее в одеяло и положила рядом. Выпавший из рук кусок сахара завернула в платок. Проснется, спохватится в первую очередь – где ее сахар?
Когда выехали на шоссе, Зинаида увидела, что тележные следы узкими полосками тянутся по обочине дороги. И правда, ехать по шоссе оказалось невозможно. Телегу трясло, того и гляди обода погнутся и посыплются деревянные колодки колес. По грунтовой обочине телега шла мягко, как по полю. Так что через час-полтора езды Зинаида и сама задремала. Спохватилась, когда почувствовала, что совсем ослабли вожжи в руках, как будто коня выпрягли из оглобель, и что солнце сладко нагревает щеку. Открыла глаза: солнце поднялось над просекой дороги и хорошенько припекало. Улита лежала рядом, посапывая во сне. Дорожный узелок колыхался в ногах. Зинаида пощупала позади – корзина с гостинцами для Сашиной родни тоже была цела.
Провожая в дорогу, тятя наговорил всякого. И чтобы остерегалась лихого человека. И чтобы не оставляла нигде Улиту. И чтобы пуще глаза берегла корзину и узелок с продуктами. И чтобы коня не бросала на чужой догляд. И чтобы в лес не заходила в чужой местности, потому что там, под Рославлем, фронт стоял долго, и кругом все заминировано. Да и народ по дороге да по лесу бродит разный.
Некоторое время она с любопытством оглядывала окрестность, широкую просеку, ровную стрелу дороги, уходившую на запад, куда, казалось, вместе с их телегой неспешно катилось и жаркое весеннее солнце. Потом глаз привык к новому пейзажу и даже немного устал от однообразия дороги. Иногда попадались деревни. Так же, как и в Прудках, там и тут рубили новые срубы, крыли ослепительно белой дранкой, прямо-таки сияющей на солнце. От щепы, разбросанной до самой дороги, от ладно затесанных бревен пахло смолой и осиной. Чаще всего о близости деревни Зинаида как раз-таки и узнавала по стуку топоров. На углу свежего сруба обычно восседал старик или безногий инвалид в солдатской гимнастерке без погон и нашивок.
– Здравствуйте вам! – окликала плотников Зинаида.
– Доброго здоровьица, красавица! – И они щурились из-под ладоней, оглядывая незнакомую повозку и девушку в расстегнутой телогрейке и сброшенном на плечи платке.
– Куда путь держишь?
– К родне, в Подлесное!
– Так это уже недалече!
– А сколько километров?
– Да километров десять! Зайди водицы попить!
– Некогда! А водицу я свою везу!
– Откуда ж?
– Из Прудков! Слыхали про такую деревню?
– Нет, не слыхали! Ну, раз Прудки, то водица, видать, вольная!
– Вольная! Вольная! – согласно смеялась и она.
Улита тоже открывала глаза и улыбалась незнакомым людям, которые казались ей такими же добрыми, как и жители ее родной деревни.
Вскоре проехали Воронки. Деревня тоже отстраивалась. По обрезу берега через речушку Изверь, обозначенную дорожным знаком, тянулась траншея. Под липами виднелся холмик, убранный еловыми лапками, с деревянной пирамидкой со звездой, выкрашенной красной краской. Звезда яркая, как кленовый лист в сентябре. Видать, подновленная к Пасхе. Об этой могиле Саша ей рассказывал. Тут лежали его товарищи, курсанты и преподаватели Подольского военного училища. Она остановила Гнедого. Привязала вожжи к дереву. Ссадила с телеги Улиту и повела ее к могиле.
– Вот тут, Улюшка, солдаты лежат. Папкины товарищи.
– Папа?
– Нет, папа твой жив и здоров. А тут лежат убитые. Война тут была. Бомбы падали. Вон, видишь, какие ямы. Это бомбы.
Она положила веточку черемухи и утерла косячком платка слезу, набежавшую внезапно, словно бы от ветра.
На огородах по другую сторону дороги копошились люди. Они смотрели на Зинаиду и Улиту до тех пор, пока те не сели в повозку и не спустились под гору к мосту. Внизу, возле берега, среди камней, обросших бородатой тиной, Зинаида увидела несколько гильз от снарядов и две каски – русскую и немецкую. Они лежали рядом, наполненные водой, наполовину затянутые илом и песком. Война здесь становилась прошлым. И предметы, оставленные ею, казались уже не такими зловещими. Они уже не имели того смысла, который был заложен в них изначально. Стальные шлемы казались теперь никчемными посудинами, брошенными за ненадобностью. Даже природа их отторгала.
Указатель на Подлесное она увидела еще издали. Ей казалось, что она узнала его, что видела его уже не раз. Может, по рассказам Саши так живо представляла этот поворот, что он показался ей знакомым. Старая береза слева от шоссе, кострище внизу, и проселок, уходящий в березняк, который сквозил близким полем или лугом. Под березой стоял человек. И его она узнала – это был монах Нил. Зинаида даже не удивилась, что Нил, живший на озере в нескольких десятках километров отсюда, оказался здесь, на шоссе, на ее дороге, и именно теперь, когда она вдруг так разволновалась.
– Христос воскресе, батюшка! – запоздало поздравила она Нила со светлым Воскресением, потому что ничего другого на ум не пришло. Все кругом было необычным. Даже дорога. Даже березы, которые ничем не отличались от берез, росших вокруг Прудков. Даже небо над дорогой и березами.
– Воистину воскрес! – И Нил обмахнул их крестом, из длинного рукава рясы высвободив свою широкую ладонь. – Для светлой души Воскресение никогда не кончается. Оно всегда с тобой, сестра! – успокоил он Зинаиду, будто читая ее мысли.
Она натянула вожжи и посмотрела на монаха. Ряса его снизу была темна от росы, а солдатские сапоги до щиколоток заляпаны дорожной грязью.
– Садитесь, батюшка, довезу. Вы ведь в Подлесное?
– Я не батюшка, – снова, как когда-то, терпеливо поправил ее Нил, – я брат. А иду я туда, на Рославль. Иду иконке Божией матери поклониться. Отыскалась там старинная икона. Люди потеряли ее еще в ту войну. А теперь она явилась. У старушки одной. И лампада там горит. Никто ее не зажигал, а она горит. А теперь и мне надо туда.
– А куда же мне, брат Нил? – растерялась Зинаида.
– Туда, куда ехала, туда и поезжай. Там вас ждут. Там вы свои. И воин твой, о ком думаешь день и ночь, жив. Храни ему верность, и он вернется невредимым. А я за вас за всех помолюсь Богоматери. Поезжай, поезжай и ни о чем более не спрашивай. Я тебе все сказал. А о другом не горюй.
Зинаида послушно тронула вожжой коня. Гнедой дернул и легко пошел по проселку. Она оглянулась. Оглянулась и Улита.
– Мама, кто это? – теребила она рукав Зинаиды.
Нил снова обмахнул их крестом и сказал:
– У девочки глаза светлые. Душа у нее радостная, как у матери. Берегите ее. Опора вам на старости лет.
И долго потом Зинаида вспоминала ту встречу. Больше всего ей хотелось спросить пустынника о том, что давно беспокоило ее. Почему у нее не будет детей? Ведь если Саша вернется, то у них обязательно должны быть свои дети! Но Нил сразу запретил ей спрашивать о чем-либо. Будто и вправду знал, что у нее на душе. А обращался он не только к ней, но и к Саше. Будто тот, о ком она неустанно думала все эти дни и месяцы, сидел с нею рядом в телеге. «Опора вам…»
Так и ехала до самого села, потрясенная этой неожиданной встречей.
В Подлесном и Зинаиду, и Улиту ждали. Правду сказал монах Нил.
На околице возле моста через речку Зинаида окликнула девочку лет десяти-двенадцати. Она шла навстречу, пристально вглядываясь в лица Зинаиды и Улиты.
– Скажи, как нам проехать к дому Воронцовых?
– Вы к Воронцовым? – живо встрепенулась девочка, остановилась в двух шагах от повозки и вся выпрямилась, будто в ожидании. Какое-то слово, которое ей хотелось сказать, трепетало на ее губах, а серо-зеленые глаза сияли радостью. Зинаида не выдержала и тоже улыбнулась:
– Ты Сашина сестра?
Девочка тоже улыбнулась. Губы ее взволнованно дрожали, а пальцы перебирали поясок голубенького ситцевого платьица. Она в этот миг была очень похожа на того, ради которого Зинаида и ехала сюда. Такая же осанка. Те же серо-зеленые глаза. И та же неторопливость в словах и живость губ.
Девочка кивнула.
– А вы Зинаида? Сашина невеста? Да? – Лицо девочки сияло таким искренним счастьем, что Зинаида и сама не знала, что делать и что сказать. И поэтому она тоже молча кивнула, улыбаясь навстречу.
Сашина невеста… Вот она и приехала к нему на родину. Невеста…
– А меня Стешей зовут. А это Улита? Сашина дочь? – И Стеша подбежала к повозке, наклонилась к Улите и поцеловала ее в висок. – Как хорошо она пахнет!
И в глазах Стеши, и в ее словах, и в порывистых движениях было столько непосредственности, столько радости и чувства сбывшегося ожидания, что Зинаида и сама кинулась к ней и обняла как сестру.
– Ты так похожа на своего брата! Ты так похожа на него, Стешенька!
Эта встреча на околице Подлесного на долгие годы опередит их взаимные отношения. Одна из них полюбит в другой, быть может, лучшую часть того, с кем она связана кровным родством. А другая – из чувства благодарности.
– Можно, я Улиту на руках понесу? – попросила Стеша, когда они поехали к дому.
– Да она ведь тяжелая!
– Ничего. Я к тяжестям привычная.
– Улюшка, иди к тете Стеше. Смотри, какая у тебя молоденькая и красивая тетя!
Стеша умело подхватила девочку и снова поцеловала ее. Улита настороженно смотрела то на Зинаиду, то на незнакомую взрослую девочку. Но та, которую она знала как свою маму, не протестовала, а девочка, взявшая ее на руки, ей тоже сразу понравилась, и поэтому Улита каким-то внутренним чутьем почувствовала, что все здесь ей рады, все добры, и доверчиво обняла Стешу за шею.
– Вот видишь, она все чувствует. Родное. – Зинаида радостно вздохнула. Слезы колыхнулись у нее под горлом, но она не пустила их, подавила. Зачем плакать? Здесь, на родине Саши, где ее ждали как родную, надо радоваться. И за Улю, и за себя.
У крыльца дома в березах стояла женщина в переднике. На лавочке у распахнутой двери в сенцы сидел старик в валенках и треухе. Старик курил огромную самокрутку, и табаком пахло на всю улицу. А женщина что-то вдруг сказала старику и замерла.
– Это мама и дедушка, – сказала Стеша и крикнула ломким отроческим голосом: – Варюха! Встречай гостей!
За изгородью в огороде, примыкавшем к усадьбе, замелькал белый платок, и на стежку выбежала девушка лет шестнадцати с длинной русой косой. Голову она держала уже по-взрослому, и коса свисала вниз, на грудь, грациозно, правильно, подчеркивая плавный изгиб шеи и всех ее движений, тоже плавных, неторопливых. Будто догадываясь о своем достоянии, девушка придерживала косу загорелой рукой.
Они обнялись, как родня, которая долгие годы жила в разлуке и вот, наконец, обрела счастье встречи.
– И правда красавица. – И раз, и другой взглянула на Зинаиду Сашина мать. – Ну, пойдемте ко двору. Пойдемте. С дороги ведь… – Но остановилась. – Подожди-ка. Дай же я тебя поцелую, девонька ты моя.
Они прошли несколько шагов и остановились перед крыльцом.
– Мам, ну хватит тебе. Давай домой зайдем. А то люди смотрят. – Старшая, Варя, подталкивала к крыльцу мать, а сама все оглядывала Зинаиду.
– Погоди, доченька. Погоди. Я ж еще не разглядела нашу невестку. Вот такую ладную Саша выбрал. Ох, поскорей бы сам ворочался.
– Это ж кто? – поспешая за внучками, теребил их дед Евсей и указывал на Улиту. – Санькина дочка, что ли ча?
– Дочка, деда. Уля. Улей зовут. Улитой.
– Сашина, Сашина, – отвечали ему внучки наперебой. – Видишь, как на него похожа.
Дед Евсей остановился, вонзил костыль в землю и сказал:
– Вот молодец малый! Настоящий солдат! Все с войны – битые да увечные. А наш Санька – с дитем! С прибытком! С трохвеем! Вот как воевать надыть! Да и бабы ж молодцы! Война войной. Война смерть сеет. А они опять новый народ народят. Как поле рожью засеют… – И, оглядев Зинаиду, снова похвалил своего младшего внука: – Ну, Санька! Порох-малый!
Глава шестая
Рогуля посмотрел на свою винтовку, сверху притрушенную сеном, и сказал:
– И что будет, Стрелок, если мы с тобой сейчас пулять друг в друга начнем? Из мужиков в Чернавичах одного деда Рыгора оставим. Так?
Калюжный опустил голову.
– Василь, я тебя отпустить туда не могу. – И кивнул в глубину просеки, в сторону Омельяновичей. – Ты сам это должен понимать.
– А я туда и не собираюсь! – И Рогуля, неожиданно даже для себя самого сказав это, почувствовал облегчение.
– Куда ж ты ехал, если не в Омельяновичи?
– После того что случилось в нашем лесу, нельзя туда.
– Говори, говори дальше, раз начал. – И Калюжный постучал по луке седла стволом пистолета.
– Вот и говорю, что нельзя сейчас туда. Если каминцы узнают о том, что у нас произошло, в первую очередь перетряхнут весь хутор. Все перины наружу выпустят. Я их в деле повидал. Звери еще те. Кроме своих, никого не жалеют. А мы им не свои. Обида у них на нас, местных. Плохо их здесь приняли.
– Конечно, плохо. Окорока им копченого на белых скатертях навстречу не вынесли. Коров на мясо не привели. Жонок своих не отдали.
– А кто они такие, чтобы их кормить?! – Это уже говорил хуторянин. Говорил искренне, от души.
Да, подумал Калюжный, не зря здесь шутят: советская власть, мол, в Чернавичской пуще не растет…
– А что у нас произошло, Василь? – снова постучал по деревянной луке Калюжный своим ТТ, возвращая «самооборонщика» к начатому разговору. Пальца с курка он не снимал.
– Что произошло… А будто ты и сам не знаешь, что. Самолет упал. Вот что.
– Чей?
– Наш, Стрелок. Наш. И ты это тоже видел. Сам-то ты вон как разволновался, что и пистолет – за пояс…
– Ну, если наш, Василь, то надо что-то делать.
– А что?
– Туда идти. К нему. Искать. Может, летчик жив. В помощи нуждается.
– Да я и сам о том же думаю. Думаешь, если я с повязкой… Ты же знаешь, почему я повязку надел. Дети. Куда они без меня? Если б не семья, давно бы в лес ушел. По мне, знаешь… что одна власть, что другая… Один хрен. Гнет да поборы. А в пуще – какая-никакая, а все же свобода.
– Вот и я так же думаю. Поедем, Василь, в Чернавичский лес. Если бы каминцы видели, что он упал, уже давно тут бы были. Значит, пока тихо.
– Это так, Стрелок. Но ты вот что мне скажи: зовешь в лес, а зачем? Чтобы закопать меня там?
– Я бы тебя и тут закопал.
– Тут опасно. Могут найти. Собаки раскопают, коровы учуют. А в Чернавичской пуще – как на том свете. Там ни советской, ни немецкой власти нет. Ни большевиков-комиссаров, ни фашистов-каминцев.
Калюжный спрятал ТТ за пазуху.
– Ладно, поверю. А скажи тогда другое. – Рогуля перестал коситься на свою винтовку, словно забыв о ней. – Не боишься, что я тебя там похороню? Я ведь лучше тебя пущу знаю.
– Нельзя тебе этого делать, Василь. Скоро наши придут. Уж они-то все найдут. За все спросится. Недооцениваешь ты, хуторская душа, советскую власть.
– Это точно. – И плечи Рогули опустились, как у старика. Он шевельнул вожжой и сказал: – Поехали, Стрелок. Нечего время терять. На-ка вот, набери обе. – И он кинул на прибрежный влажный песок две помятые красноармейские фляжки. – Не бойся, в спину не стрельну.
Предложение Стрелка, которое тот произнес как приказ, вначале испугало Рогулю. Идти в Чернавичскую пущу, спасать советского летчика… Но потом он успокоился: а что ж, можно и сходить, если нагрянут каминцы, скажу, что организовал поиск упавшего самолета и все такое… Летчика возьму под стражу, все больше смелел в своих внезапных мечтах «самооборонщик» Василь Рогуля. А Стрелка можно и кокнуть. Пуща большая, есть тропы, по которым только зверь и ходил. А уж болота… Камень на шею, и – прости-прощай. Но, когда подумал, как это сделать, когда глянул на свою винтовку и на широкую спину Стрелка, который, нагнувшись к роднику, набирал в его фляжки воду, почувствовал, как разом вспотела макушка. Сегодня каминцы, завтра Красная Армия или Гурьян Микула со своим отрядом из лесу придет. Гурьян, хоть и свой, из Омельяновичей, но тоже не шибко жалостливый.
– Слышь, Стрелок, – позвал он Калюжного, чтобы развеять морок своих путаных мыслей, – а ты с этой, Аксиньиной племянницей, как с жонкой?.. Или так, набегом, как хан Батый?
Калюжный сдержанно засмеялся.
– Лида – очень хороший человек, – сказал он, сразу определяя тон затронутой Рогулей темы. – Она мне жизнь спасла. Лежал бы сейчас. Рядом с командиром. Под березкой. А я вот с тобой судачу, уговариваю тебя, дурака, как тебе лучше свою шкуру сберечь, детей сиротами не сделать.
– Ну да… А чего ж… Бабенка она красивая, еще молодая, одинокая. Лучше с ней полежать. Чем с лейтенантом в сырой земле…
– Мой командир погиб геройски. Нас сбили во время атаки. – Калюжный оглянулся на Рогулю. – И звание у него было старший лейтенант. Через два месяца получил бы капитана. А на женскую тему ты лучше не напирай. Сейчас о другом думать надо. Бабьи коленки, Василь, бруствер ненадежный. За ними долго не насидишься. А Лида мне больше сестра. Понятно?
– Оно так. Тебе, Стрелок, виднее. В этом смысле… Насчет коленок. Но баба, учти, никогда не предаст.
Калюжный покачал головой. Все это время он не спускал глаз с Рогули. Даже когда набирал воду, боковым зрением продолжал сторожить «самооборонщика». Хуторских он уже успел изучить. Народ непростой, себе на уме. А уж о Рогуле всякие байки ходят. Мужик, мол, странный, живет с какой-то тайной, которую носит в себе, как носят врожденный недуг.
– Слышь, Стрелок? А Красная Армия придет, с тебя ведь тоже спросится. По всей строгости военного времени. А? Ты-то на что надеешься? Думаешь, летчика спасешь и тебе разом все спишется?
– Мне нечего списывать. На совесть свою я ничего такого не брал. Немецкую повязку не ношу. А что оказался на временно оккупированной территории… Так ведь сбит в бою. Был тяжело ранен. Мне бояться нечего. Вот, табельное оружие командира храню.
– Хотел мне из него башку прострелить, – усмехнулся Рогуля.
– Ну да. Если бы ты к каминцам поехал.
– Все вы тут чистенькие. На кого ни глянь. Один Василь Рогуля в навозе найденный… Но и ты, Стрелок, не думай, что тебе все так легко сойдет. Даже если летчика найдем живого. Не такая она простая, советская власть.
Калюжный молчал. Знал, что, если Рогуля начал, то из него рано или поздно и остальное посыплется. Хотя, с одной стороны, он прав. Начнут разбираться, припомнят и брошенный пулемет, и рапорт командира отыщут. В нем еще вон когда лейтенант Горичкин писал о том, что он, стрелок Калюжный, оставил самолет и пулемет, не сделав ничего для их уничтожения. А теперь он, Калюжный, жив, а Горичкин погиб. За брошенный пулемет Калюжный отбыл месяц в штрафной роте. От звонка до звонка. Научили и его воевать в пехоте. Да еще в какой… А теперь все, при желании, можно представить так, что он отмстил своему командиру за рапорт. Но другой дороги нет.
В черемуховых зарослях, которые с берегов буквально обваливались в рыжеватые от близости торфяников, но уже прозрачные воды Каменки, время от времени вспыхивал соловей. Будто чуя посторонних, он выводил два-три коленца и замирал. И Рогуля, и Калюжный тоже слушали его с перерывами, больше следя друг за другом. Рогуля посматривал на оттопыренную на животе рубаху Стрелка, где торчал под ремнем ТТ. А Калюжный – на винтовку «самооборонщика», по-прежнему лежавшую в сене под вытянутой вдоль грядки ногой, обутой в солдатский сапог.
Весенний лес был полон гомона и счастья проснувшегося, обновленного мира, которому не было никакого дела до войны.
Капитан Линев лежал в зарослях черничника и слушал, как в кустах крушины переговариваются какие-то суетливые птицы. Они прилетели домой, на родину, и теперь, видимо, нашли укромное место и ладили гнездо. Совьют себе незамысловатый дом, отложат яйца и начнут высиживать потомство. И к осени стая дроздов в этом лесу станет больше. А мы, вздохнул капитан Линев, все бьемся, бьемся и бьемся. И нам без этого нельзя, вздохнул он, удерживая строй своих внезапных мыслей в той правильности, без которой невозможно было жить ни в воздухе, ни на земле. Потому что в воздухе надо было драться, а на земле служить.
Для комэска Линева этот полет был сто третьим боевым вылетом. Начинал он в сорок втором, под Калугой. Прибыл в истребительный полк лейтенантом. Ускоренный курс – «взлет – посадка». В первый же день дали старенький латаный-перелатаный «ишачок», который, как потом выяснилось, числился в полку как учебная машина. Но учиться в сорок втором, когда немцы начали танковый прорыв под Сухиничами и Жиздрой, угрожая выходом во фланг обороны Западного фронта, было некогда. Да и некому. Каждый день из полетов не возвращалась одна-две машины. Когда он забрался в кабину И-16, спросил у оружейника, как стрелять. Сержант оторопело посмотрел на него. Потом, видя такое дело, начал быстро объяснять принцип работы пулеметов и новой, недавно установленной 20-мм пушки ШВАК. В училище их научили только взлетать и садиться. Летать и стрелять предстояло научиться в бою.
И Линев научился. Стрелять за несколько минут научил сержант-оружейник. Линев оказался неплохим учеником. Вдобавок ко всему ему везло. В том числе и теперь. Сбит. Но машину посадил. Снаряд, застрявший в обшивке, не взорвался ни в момент попадания, ни во время посадки. Сам жив. Хотя ранен. Машина не горит. Немцев нет. Разве это не везение? И если ему снова повезет, как везло до сих пор, и он отсюда выберется, не отдав в руки врагу ни машины, ни прибор, этот полет он запомнит навсегда. Как и первый боевой.
В тот первый памятный день они вылетели сопровождать эскадрилью штурмовиков. «Горбатые» поразительно ровным строем пронеслись над их аэродромом. Взлетели и они. Звеном, тремя истребителями. Парами начали летать с сорок третьего, переняв эту тактику у противника. А тогда еще летали по старинке, тройками.
Легли на курс. Вскоре вышли на цель. Штурмовики быстро отработали по целям и начали уходить. Немного растянулись. Начали собираться. И в это время на них сверху бросились «мессершмитты». Командир звена качнул крыльями и бросился на перехват. Что было потом, Линев помнил отрывочно. Как смутный сон. Из боя они вышли вдвоем: командир звена, теперь подполковник Воробьев, и он, лейтенант Линев. Пулеметы и пушка были пустыми. Горючего – только до дома. Немцы преследовать их не стали. Потом, когда сели на своем аэродроме, старший лейтенант Воробьев вместе с техником и сержантом-оружейником вытащил его из кабины, дал хлебнуть из фляжки и рассказал, что лейтенант Иванов сгорел в самолете, выпрыгнуть не успел, что они срубили по одному «мессеру» и что надо идти докладывать «бате» о результатах полета. Лейтенант Иванов не выпрыгнул потому, что парашюта у него попросту не было. Без парашютов они продолжали летать еще три месяца. Потом в полк поступили новые машины, укомплектованные радиостанциями и парашютами.
Вчера во второй половине дня он взлетел с аэродрома «Шайковка». Ведущим у него был лейтенант Смирницкий. Только что получили новые самолеты. Предстояло опробовать их не просто в воздухе, а в бою. Потому и полетели самые опытные. Вернее, дело обстояло так. Когда полк получил это необычное задание, «батя» взглянул на него и сказал коротко:
– С кем полетишь в паре, решишь сам.
Задача стояла в общем-то обычная: сопровождать звено «петляковых». Цель – полевой аэродром подскока «Омельяновичи», где, по данным авиаразведки, базировались немецкие истребители и до полка пикировщиков Ю-87. Немецкий аэродром «Омельяновичи» – маршрут недальний, хорошо знакомый. Не раз летали туда. Не раз оттуда немцы налетали на их базу в Шайковке. Обычная история, когда неподалеку, через линию фронта, базируются два крупных аэродрома.
Эх, как они со Смирницким красиво атаковали «мессеров»! Как те хорошо горели! У нового истребителя была большая скорость, к которой немцы, встретившие их над Омельяновичами, совершенно не были готовы. Когда начинались гонки на горизонтальном вираже, они легко догоняли «мессеров» уже на третьем кругу, ловили в прицел и лихо валили мощными залпами из трех бортовых пушек УБ-20. Залп из всех пушек и пулеметов при точном попадании буквально разрезал «мессера» пополам, кромсал крылья, срубал элероны и рули высоты. Такое происходило, даже если трасса проходила по касательной. Это были новые Ла-5ФН, оборудованные ленд-лизовскими радиостанциями и кислородными масками, пневмоэлектрическим управлением огнем из пушек, усовершенствованными металлическими элеронами, которые выдерживали любые нагрузки и делали самолет маневренным и легко управляемым на вертикальных виражах.
Теперь его «лавочкин» лежал, зарывшись носом в торфяник на краю острова. А он, сбитый пилот, командир лучшей в дивизии эскадрильи, Герой Советского Союза, лежал с распоротой и наскоро перевязанной ногой, на другой его стороне и по рации пытался вызвать «Шмеля». Такой позывной имел «батя», бывший старший лейтенант, а теперь подполковник Воробьев.
– Шмель! Шмель! Как слышишь меня? Прием! Я – Пчела-один! Я – Пчела-один! Ответь Пчеле-один!
Когда они со Смирницким попали под трассу внезапно ожившего возле ангаров «эрликона», капитан Линев сразу вспомнил фразу «бати»: «Воздушный бой – это бой, где все решает реакция, опыт и хладнокровие, а вот если вылетел на зенитки, то – сам дурак». Удар он почувствовал мгновенно. Удар был двойной. Значит, поймал сразу два снаряда. Но взорвался только один. Тот, который попал между центропланом и правой плоскостью. Сорвало обшивку, обнажив каркас стабилизатора, лонжероны и нервюры. Зазубрины виднелись и на носовом стрингере. Удивительно, что еще слушался элерон и работали закрылки. Машину сразу стало заваливать набок. Линев сбросил скорость. Передал по радио ведущему:
– Леша, я подбит. Прикрой меня. Попытаюсь уйти в сторону фронта. Дотянуть до своих.
Смирницкий тут же ответил:
– Вижу, командир! Держись! Второй снаряд торчит у тебя возле подъемника шасси. Учти при посадке.
Учту, подумал он. Смирницкий разговаривал с ним, как с контуженым. Он ведь не знал его состояния.
Лейтенант Смирницкий был истребителем, как говорят, божией милостью. Азартный, храбрый, умный. Мгновенно просчитывал ситуацию наперед. Вот и теперь он, заглянув ему в подбрюшье, не просто так сказал о подъемнике шасси. Если даже он дотянет до Шайковки, садиться придется на брюхо. В этом случае снаряд, скорее всего, вырвет из обшивки в момент соприкосновения с землей. Если даже он взорвется, то это будет не так опасно. Но если взрыватель снаряда не сработал в момент попадания в машину, то, возможно, он бракованный и, в таком случае, не взорвется и в момент выпуска шасси. А выйдут ли шасси, если заклинило подъемник или перебило стойку?
Машина теряла скорость и уже плохо слушалась рулей. Линев все-таки развернул ее на восток и, ловя воздушные потоки, старался, сколько можно, удерживать курс даже при малой скорости. Домой. Какой нереальной мечтой мгновенно стало то, что заключало в себе это в общем-то обыденное слово.
Вот тебе и ас. Вот тебе и сталинский сокол. Наскочил на зенитный автомат. Как желторотый птенец из пополнения с богатым опытом «взлет – посадка». Даже в первом своем полете, когда ему подсунули учебный И-16, он вел себя более осмотрительно. Правильно совершил противозенитный маневр, так что ни одна пуля не попала в его юркий «ишачок». Точно так же вернулся домой. А теперь… Теперь поймал два снаряда. Один из которых все еще сидел в центроплане и мог взорваться в любой момент.
И все же ему пока везло: он не загорелся. И продолжал тянуть.
Смирницкий вдруг ушел на вираж, набрал высоту и нырнул вниз, разбрасывая трассирующий веер и пытаясь сосредоточить его на наземной огневой точке. Оттуда вверх восходила струя трассирующих пуль. Она с каждым мгновением приближалась к машине комэска. Линев попытался сделать маневр, но правый закрылок вдруг оторвался и закувыркался вниз, словно обломки черепичной крыши. Трасса ударила по обшивке. Мотор чихнул, сделал перебой и заработал с металлическим стуком. Линев включил радиопередатчик и сказал как можно спокойнее:
– Леша, следуй на базу. Это приказ. Кружить надо мной не надо. Попробую сесть в лесу. Курс буду держать тот же. Постарайся увести от меня «мессеров».
– Их нет, командир. Демаскировать не буду. Ухожу на базу.
Но лейтенант Смирницкий все же сделал круг. Он взмыл вверх, набрал высоту и вернулся к Омельяновичам. Встал под солнцем и осмотрелся. «Петляковы» уходили, они были уже над лесом. Омельяновичи горели. Машина капитана Линева медленно тянула курсом на северо-запад. Командир заранее маскировал место вынужденной посадки. Только дотянет ли он до леса? С правой стороны из-под капота мотора вниз, под центроплан, заструилась, стремительно разматываясь, сизая нить. Вначале она была тонкая, как парашютная стропа, но с каждым мгновением становилась все шире и заметнее. Менялся и ее цвет, из сизого превращаясь в бурый, безнадежный. Значит, перебило маслопровод. Только бы не взрыв в воздухе. Только бы пожар не перекинулся в кабину. Смирницкий видел сгоревших в воздухе. Видел, как его товарищи выпрыгивали из горящих кабин и камнем, факелом летели вниз вместе с горящими, уже бесполезными парашютами.
Но вот машина командира миновала блеснувшую полоску речушки, хуторок в пять-шесть усадеб и заскользила над лесом. Лес на картах был помечен как Чернавичская пуща. Смирницкий положил планшет на колено. Вот красная стрелка их маршрута. Вот Омельяновичи. Вот хутора. Один, второй, третий. Этот, должно быть, Чернавичи. Самый большой. А вот туда уходит Чернавичская пуща. Но внизу квадратами серых крыш виднелся еще один хуторок. На карте он не значился. Надо запомнить.
В училище их, курсантов ускоренных авиационных курсов, учили на лес садиться так: верхушки деревьев принимать как поверхность земли…
Лейтенант Смирницкий никогда в лесу не садился. Командир, насколько он знал его фронтовую биографию, тоже. Его вообще сбивали только один раз. В сорок третьем, год назад, над Хотынцом, во время Орловско-Курской битвы. Тогда его зажали «фокке-вульфы» на более тихоходном ЛаГГ-3. Четверка «волков» отжала его от общего строя. Командир успел завалить одного, но тут же получил точный залп. Ему обрубило часть фюзеляжа, рули высоты. Он начал падать. Выбросился с парашютом над самой землей. Потому что один из «фокке-вульфов» провожал падающий самолет еще несколько секунд, пока не убедился, что выпрыгивать из подбитой машины уже поздно. Капитан Линев выбросился поздно. И потому уцелел.
Сизо-бурый шлейф исчез в лесном массиве. Он прервался совершенно неожиданно. Ни взрыва, ни вспышки пожара не последовало. Смирницкий быстро нанес на маршрутную карту примерное место падения машины комэска и взял курс на базу.
Глава седьмая
Быстро перебраться через болото, в эту пору, должно быть, всегда превращавшееся в озеро, они не смогли. Пока ждали возвращения разведгруппы Акулича, пока вязали большой плот для лошадей, наступили сумерки. Но их-то и ждал капитан Гришка.
Плот выдерживал троих коней со всей поклажей и троих солдат. А потому переправа заняла сравнительно немного времени. Как только с плота сошли последние, начал накрапывать дождь.
– Вот и хорошо, – сказал Кондратий Герасимович. – След наш не так виден будет. И пускай он идет и ночь, и утро, и весь день. Мы не размокнем, кони наши тоже, а вот самолеты не полетят. Помнишь, Сашка, как мы с тобой из-под Вязьмы выходили? Это хорошо, что самолеты не летали. Побили б нас с воздуха. Всех бы побили.
Память мгновенно перенесла Воронцова в другой лес. Апрельский снег в тот год держался долго. Зима как будто не налютовалась и уходить не собиралась. Ночами снега стягивало морозом, так что утром, до обеда, по полю можно было ездить на лошади, как по мостовой. Когда начался прорыв, пошла оттепель. Дороги распустило. Туман. Морось, переходящая в дождь. И дождь тот был ледяным. А поэтому когда они во время обстрела вынуждены были броситься со льдины в воду, холода в первые минуты не почувствовали. Но потом едва вылезли. Если бы не помогла Тоня, не заполз бы Кондратий Герасимович на льдину, и умирать бы им всем в Угре. А Тоня с ее тяжелым ранением околела бы на той льдине в первую же ночь.
– Сашка, ты помнишь ту девчушку? На льдине с нами плыла…
– Тоню?
– Ну да. Видел я ее как-то недавно. В госпиталь ездил. А там, гляжу, она идет навстречу. Такая же худенькая, одни глаза.
– Иванкова подруга. Невеста, можно сказать.
– Да ну! От малый! Штык! Своего нигде не упустит! Одно слово – разведка!
Они поговорили и разошлись каждый к своей группе.
Лошадей вели в поводу. Шли примерно часа два. Остановились на полянке. Вернулась разведка. Акулич, сдернув капюшон, доложил:
– Впереди правее в километре хутор. Похоже, это и есть Васили. На выезде часовой. Рядом огневая точка. Пулемет. Окоп обложен мешками с землей. Разговаривают, не осторожничают. Чувствуют себя в безопасности. И – никаких чрезвычайных мер. Хотя и расхлябанности тоже нет. Видимо, старые вояки держат здесь оборону. Службу несут без натуги, без шума и гама.
– Думаешь, не ищут они наш самолет?
– Не похоже, чтобы искали. Иначе бы весь личный состав, до последнего ездового, на уши поставили.
– Что ж, тревожить их и мы не будем.
Они отошли в лес еще на километр и остановились на отдых.
Гришка разыскал Воронцова и сказал:
– А твоим, смоленский, привал отставить. Выдели троих. И пусть разведают, где находится минометная батарея. Поручаю ее вам. Когда начнем выходить, минометчики за спиной нам ни к чему. Уничтожить надо все. «Трубы» тоже. Гранату в ствол – и готово. Только так. Задача понятна? Предположительно, находятся они севернее Василей в противотанковом рву. Но батальонная разведка могла дать неточные сведения. Троих. Не больше троих. Если не успеют вернуться, пускай ждут нас здесь и наблюдают за хутором. С ними пойдет Акулич.
Воронцов отрядил Численко, Колобаева и минометчика Сороковетова из группы Нелюбина.
Акулич скомандовал: «За мной!» и тут же увел их по тропе в сторону Василей.
Все происходило быстро. Гришка импровизировал. План, который был намечен в самом начале и обговорен в деталях, рушился. Это раздражало и Воронцова, и Нелюбина. В окопах они уже привыкли к другой войне. Воронцов вновь почувствовал себя бесправным взводным, мнение которого высшим начальством всегда воспринимается как пререкания младшего по званию со старшим и по званию, и по должности, который всегда прав.
Через полчаса снова двинулись вперед. Разведка вернуться не успела.
Уже на рассвете, когда дождь немного прекратился, вышли к небольшому хутору. Гришка собрал своих, позвал ротных.
– Разведчики сообщили, что немцев здесь нет. Но в нескольких километрах, на перекрестье дорог, пост бригады РОНА. Другими словами, каминцев. А здесь у них никого нет. Полицай так себе. Живет при бабе. Первый парень на деревне. Связан с партизанами. Но отряд Гурьяна еще прошлой осенью отсюда ушел. Бывают только связные. Мужиков, по данным разведки, на хуторе больше нет. Нам понадобится проводник. Придется брать полицая. Заодно опросить местных, не видели ли падающего самолета. Кто пойдет на хутор? – И Гришка уставился на Воронцова. – Что молчишь, смоленский?
– Хорошо, я пойду. Твои мне не нужны. Я пойду с Нелюбиным и Екименковым.
– Подожди. С вами пойдет один из моих людей. – В голосе Гришки чувствовалась та командирская твердость, которая словно напоминала, на всякий случай, что решение здесь принимает он.
– Хватит нас троих. Или не доверяешь бывшим штрафникам? В тылу врага и все такое…
– Да ладно тебе, смоленский… Я для связи человека даю.
– Ну, для связи пусть идет, – согласился Воронцов.
Пошли.
В родном лесу Василь Рогуля мог найти упавшую с самолета спичку, а уж сам самолет… Была у него здесь и припрятанная лодка с шестом. Хорошо просмоленная, исправная. И на ней он мог объехать по протокам и рукавам всю пущу. Особенно сейчас, когда вода после половодья еще не сошла и лодку не надо было перетаскивать, чтобы попасть в соседнюю протоку или в болото, превратившееся до лета в озеро.
– Мне бы денька два. Я бы его, этот самолет, живо нашел.
– За два дня знаешь что может произойти? Если человек ранен и нуждается в помощи. Или кровью изойдет. Или гангрена начнется. А еще хуже – перитонит.
– А это что? Болезнь, что ли, такая?
– Это – если в живот ранен. Воспаление брюшины начинается. Ничем помочь уже нельзя.
– Да, в живот – это хуже всего. Ты, если что, в живот мне не стреляй. Лучше сразу в голову.
– Перестань. Твоя задача – самолет найти. Ты запомнил, где он упал?
– Запомнил. Как пошел на Котовичи, так и не отвернул. Где-то там, видать, и сел.
– Почему ты уверен, что подбитый самолет сел?
– Так не грохнуло. Не взорвался. Тихенько сел. Без грохота.
– Котовичи. Что это за место?
– Хутор до колхозов был. Два двора. Братья жили, Котовичи. Ихний хутор был. Потом переселились в Васили. Я что думаю: там у них в Котовичах луга были. Росчисти. Они до сих пор не особенно и заросли. Мы туда тоже косить ездили. Один луг василевские всегда выкашивали, один луг мы, чернавичские. Косили по очереди. Начальство помалкивало. Всем хорошо. Тут у нас так. Пуща. Воля.
– Ну и что? При чем тут ваши покосы? Все так делали. У нас на Каменке тоже лесные покосы были, о которых начальство либо не знало, либо знало и молчало.
– Вот так при каждой власти. Украдьмя, рывком. Только чтобы выжить, детей прокормить. А про росчисти я к тому, что, может, летчик и сел там? Поле там ровное, сухое. Сверху, должно, хорошо видно.
– Пойдем туда, – согласился Калюжный. – Посмотрим на твои Котовичи. А на телеге ты туда проедешь?
– Проеду. Есть одна дорога. По ней сено и вывозили. Только там болото есть одно… Раньше мост был. Потом сожгли. К сенокосу-то болото подсыхает. Вода уходит из проток. А сейчас там – озеро.
– Как же мы доберемся до твоих Котовичей?
– Доберемся. Рогуля в Чернавичской пуще не пропадет.
– Брод знаешь?
– И брод знаю. И лодка есть.
– Большое у тебя хозяйство, Василь. Справно живешь.
– Я много работаю, Стрелок. Род у нас такой. Воткни у Рогулей палку во дворе – она и зацветет. И, глядишь, через год на ней бульба начинает расти. Ты видал когда-нибудь, чтобы бульба, картоха по-вашему, на дереве росла?
Калюжный недоверчиво покосился на Рогулю, чуя явный подвох.
– Я тоже не видел. Нигде. А у нас, у Рогулей, росла. И плодоносила! Пока колхозы не пришли. Так-то. Не веришь? Хоть у кого спроси. Аксюха скажет. Она тоже до работы жадная. Много ты у нее на диване полежал, когда на ноги встал? А, ну вот…
Дальше, до самой протоки, ехали молча. Калюжный то придавливал коня каблуками и выезжал вперед, то нарочно отставал и наблюдал за «самооборонщиком». И думал: с одной стороны Рогуля – типичный шкурник, который готов пересидеть за своим высоким забором любую бурю. Никакого ему дела нет до того, что враг топчет и попирает родную землю. Понятие о земле у него свое, собственническое. Свой двор, своя усадьба, свой огород, свое поле, луг… Где можно что-то вырастить и потом что-то собрать и затащить собранное в погреб. Вот что такое для него земля. Ни больше ни меньше. Но тут-то как раз и открывается совершенно другой Рогуля – труженик, хозяйственный мужик, отец семейства. И как же ему поднять на ноги свою ораву, если не иметь достаточное количество земли? А тут еще и война… Кого не успели призвать, тот оказался в лесу или угодил в краевую оборону. Рогуля выкрутился. И дальше будет ужом завиваться, хоть вокруг немецкого штыка, хоть вокруг советского, только бы выжить, уберечь хозяйство, жену и детей от разорения и гибели. И с ним, с Калюжным, он согласился пойти, потому что другого выхода вдруг не оказалось. Да, невелик у него выбор. А дальше для Рогули курна начнет сужаться еще сильнее и сильнее.
В душу к нему лезть бесполезно. Он уже организовал надежную самооборону, чтобы никто туда не ступил ногой. Да что ногой, этот сучковатый и узловатый человек не даст и заглянуть в свою суть. Кому какое дело до того, кто он, комсомолец и «самооборонщик» Рогуля, на самом деле? А может, он ни тот ни другой, а просто мужик, хуторянин, крестьянин, которому не хочется думать ни о чем, кроме своей земли и своей семьи? Что тут плохого?
К протоке он подъехали, когда небо начало заволакивать тучами.
– В ночь дождь жди. – Рогуля посмотрел в небо, улыбнулся скупой улыбкой. – А это и хорошо. Земле дождь нужен. Отсеялись, отсажались. Пускай льет! За нас на земле поработает. Яровое скорее попрет.
Пока искали лодку, дождь пошел сильнее.
– Ночи-то нынче еще холодные, – сказал Калюжному Рогуля, оглядывая его легкую одежду. – Не по сезону ты оделся, Стрелок.
– Дождь, черт бы его побрал!..
– Дождь – это-то как раз неплохо. Следов поменьше. Ночь подольше да потемней. – И кивнул на береговой откос, где у него стояла какая-то, ему только приметная, вешка. – А вода-то не больно велика. По дамбе кони должны проехать.
Дамба лежала под водой ровным горбом насыпи, обросшей травой и реденьким, чахлым, будто придушенным кустарником. Кони осторожно ступили на нее, но вскоре осмелели и пошли скорее.
– Но! Шибче, Стыр, шибче! – подгонял коня Рогуля, радуясь тому, что не пришлось беспризорно бросать коня за протокой.
– Откуда здесь дамба, Василь?
– Давняя история, – уклончиво ответил Рогуля и поправил под подстилкой винтовку. – Одежда тебе нужна, вот что. Обожди-ка меня тут.
Рогуля ловко соскочил с телеги и исчез в зарослях шиповника. По бровке горы рос именно шиповник. В сумерках Калюжный разглядел сухие черные плоды на кустах. Значит, они уже дошли до усадеб.
Винтовку Рогуля почему-то не взял.
Появился он совсем с другой стороны. Как будто что-то искал по подгоричью. И вот нашел.
– На, накинь. – И Рогуля протянул Калюжному немецкую плащ-накидку.
На нем была такая же.
– Ты где это взял? – спросил Калюжный.
– Где взял, где взял… Взял. И тебя не обидел. А где взял… – И Рогуля махнул рукой.
Они обошли усадьбы, осмотрели луга и ближние березняки. Над болотом хоркали, летали вальдшнепы. Крякали, плескались возле залитых водой ивовых кустов утки. Запоздало пел скворец на дуплистом тополе. Рогуля долго пытался разглядеть его на сухой верхушке старого тополя. Потом сказал:
– Надо ж, почти пятнадцать годов, как хутор сселили, а скворец все на родину прилетает. Видать, в дупле обосновался. Тоже хозяин. Родного не бросает на произвол судьбы.
Да, подумал Калюжный, с человеком пожить надо, пот его понюхать да под дождем помокнуть, чтобы он тебе хотя бы краешек своей души приоткрыл.
– Это ж старшего Котовича, Михася, тополь. Он сажал. – Рогуля погладил шершавую древесину дерева и вдруг сказал: – А нету тут самолета, Стрелок.
– Вижу, что нету. Ты мне вот что скажи: дамба, та, которая за березняком начинается, куда ведет?
Рогуля ответил не сразу. Но сразу отдернул руку от тополя. Постоял немного и сказал:
– А вон к нему и ведет. – И кивнул на тополь.
– К кому?
– К нему. К Котовичу. К Михасю.
– Что ты несешь, Василь? Ты что, бабкиными сказками пугать меня надумал?
– Значит, слыхал эту историю. Видать, Аксинья Северьяновна рассказала. Ну, раз так, пойдем. Я этого проклятого места не боюсь. Я тут свой и зла никому не сделал. А ты как хочешь. Пистолет свой можешь в воду бросить. Там это не поможет. Вот только коней придется тут оставить.
Они привязали коней к яблоне и пошли в сторону березняка. Дождь немного утих. С болота стал наползать туман. Но Калюжному он показался не белым, каким он привык всегда видеть весенний туман в низинах у рек и болот, а серым, с темной изнанкой, словно подсвеченным сверху прозрачным лунным светом, и снизу подмокшим, изгваздавшимся в раскисших будыльях прошлогодней травы.
– Ты почему винтовку там оставил? – наконец осмелился спросить Рогулю Калюжный, когда они миновали березняк, наполовину затопленный туманом, и ступили на насыпь дамбы, уходившей куда-то в кромешную темень ночи и леса. Туман стоял впереди черной непроницаемой стеной, как будто там, в двадцати шагах от них, действительно вставало огромное здание сгоревшей пивоварни.
– Я тебе уже сказал, – коротко ответил Рогуля.
Калюжный слышал, как задерживает он дыхание, слушая каждый шорох, каждый всхлип ночного дождя, который то затихал, то переходил в ливень.
– Торфом пахнет, – сказал Калюжный чуть погодя и потрогал рубчатую рукоятку ТТ за пазухой.
Похоже, именно об этом брошенном лесном хуторе рассказывала ему и Лиде Аксинья Северьяновна. Был тут когда-то винокуренный завод. Жил хозяин, пан Ожеховский. Держал работников, прислугу. Семья его жила в Жешуве. Сюда даже не наведывалась. Ни жена, ни дети. И пан Ожеховский завел себе коханку. Из местных. Дочь своего управляющего, Марию. Но когда пан Ожеховский оставался с нею наедине, всегда называл девушку польским именем – Ядвигой. Говорят, так звали его первую жену, которая умерла родами в двадцатилетнем возрасте. И вот по этим местам прошла война, потом революция и Гражданская война. Потом начался польский поход Красной Армии. Много прошло войск по Чернавичской пуще. Много солдат останавливалось постоем в здешних местах. И все, конечно же, наведывались на винокурню пана Ожеховского. Солдат есть солдат, как сказала Аксинья Северьяновна, ему всегда выпить хочется. А когда солдат выпьет, ему и море по колено. А уж здешние болота – подавно. И вот остановился близ Котовичей красногвардейский отряд.
– Командир с комиссаром мигом к пану Казимежу, за водочкой. – Рогуля, похоже, не в первый и не во второй раз рассказывал эту историю. – А водку, надо признать, делали тут очень даже хорошую. Ее и в Москву возили, и в Варшаву. Простояли день, переночевали ночь. Пора в путь, а отряд опять на ночевку остается. Пан Казимеж пригласил весь отряд в свой дом. Дом хозяина стоял там, за дамбой. Теперь от него ничего не осталось. Только бугры от фундамента да засыпанные подвалы. Что там случилось, до сих пор никто толком не знает. Одни говорят, что красные, ну, красногвардейцы, перепились, связали пана Ожеховского, а пани Ядвигу, Анну… Пьяный-то солдат быстро в скотину превращается. Это я сам повидал. Тут, недалеко, деревня есть, Паново. Там всегда отряд Гурьяна квартировал. Ни немцы, ни полиция туда никогда носа не совали. Гурьян жил смирно, «железку» не трогал. Жонка там у него была, из местных солдаток. А прошлой осенью, когда пан Каминский сюда своих хлопцев понагнал, стали они партизан теснить. И до Панова очередь дошла. А нас всех – в оцепление. Вошли мы потом в ту деревню. Что ж они там сотворили! Что они с Гурьянихой сотворили, о том и говорить невозможно, потому как слов таких не существует. До чего люди могут дойти. Вот и тут, видать, такое же было. А пан Казимеж потом очухался, веревку перетер и, видя такое дело, поджег дом. Все там сгорели. Никто не спасся. И красногвардейцы. И пан Ожеховский со своей коханкой. Анна-то была дочерью старшего Котовича, Михася. Так-то. Здешняя. Отец не перенес такого горя. Долго бродил по пуще. Потом пропал. Говорят, видели его здесь, на развалинах. Ходил кругом фундамента, как сторож, и Анну кликал. Ну что, пойдем? Или лучше вернемся?
Калюжный ткнулся плечом в мокрую спину Рогули. Тот стоял вполоборота к нему и, оттопырив капюшон, слушал ночь. Калюжный тоже остановился и прислушался. Ночь как ночь. Дождь звенит легким звоном в молодой листве, капает вниз, под ноги. Лягушки лениво ворочаются в теплой воде заберегов. Цапля кричит. Утки пронеслись над самой головой, упруго разрезая воздух, и тяжело шлепнулись в воду неподалеку. Где-то кормились, а теперь прилетели на ночевку. Пуща жила своей жизнью, вековой, изначальной. Ни до чего и ни до кого ей не было дела. Человек сюда приходил и уходил, почти не оставляя заметного следа. Даже война не могла изменить вековечного уклада ее жизни.
– Тьфу! Сколько у вас, хуторских, мякины в голове! Вот и у нас на Каменке тоже хутора были. Так и там разные сказки рассказывают про всяких утопленников да злодеев.
– Стрелок, – будто и не слыша его протяжной песни, сказал Калюжному Рогуля, – сейчас, когда дамбу пройдем, нечистого лучше не поминай. Понял? А я Анну покличу. Чтобы она нас на Винокурню пустила.
– На какую винокурню? Ты что, Василь? Какая еще Анна?
– Да не бойся ты. Главное, молчи. И за пистолет не хватайся. Все равно не поможет. Место это теперь Винокурней называют.
Глава восьмая
Унтер-офицер Бальк сидел на широкой просторной лавке у окна и разглядывал свою солдатскую книжку. Он читал записи, сделанные на каждой странице, и думал, а будет ли он гордиться этими записями, когда закончится весь этот кошмар и они, солдаты, воевавшие в России, вернутся домой?
После окончания унтер-офицерских курсов он так и не получил обещанного отпуска на родину. Весь выпуск отправили сюда, в болота Восточного фронта.
Командир взвода Гейнце пропадал где-то на хуторе, у очередной солдатки. Пил молоко и пользовался милостями молодки, как русские называют молодых замужних женщин. А он, его заместитель, нес службу в этом сыром бункере, оставшемся от русской обороны сорок первого года и переоборудованном трудолюбивыми немцами, как Гейнце, то ли в похвалу, то ли с издевкой, теперь именует свой взвод. Впрочем, в последние недели они действительно больше работали лопатами, топорами и пилами, чем стреляли. И это нравилось всем. Всему взводу. Нравилась ли эта тишина их командованию, к примеру, командиру батальона или полка, они не знали. Да им всем, окруженным здесь водой, ором лягушек, который не прекращался ни днем ни ночью и который некоторых уже сводил с ума, было наплевать. Иваны в них тоже не стреляли. Даже снайперы с некоторых пор затихли. Да офицеры, пользуясь затишьем на их участке фронта, тоже нашли себе неплохое занятие. Пока солдаты бездельничали на своих песчаных островах, а их обер-фельдфебели ухаживали за русскими молодками, офицеры штабов развлекали себя утиной охотой. Утиная охота… Это даже звучит довольно красиво. Бальк не был охотником. Охотником был его отец. Отец любил днями бродить по лесам, по предгорьям, где водилось много зверья и дичи. А он, Бальк-младший, так и не унаследовал эту страсть.
Уже несколько раз наблюдатели докладывали унтер-офицеру Бальку о появлении в их секторе одиночных лодок, в которых находились люди в офицерской форме, вооруженные охотничьими ружьями и опоясанные охотничьими патронташами. В журнал наблюдений соответствующие записи, разумеется, не вносились.
И окно, в которое с тоской смотрел сейчас Бальк на парочку чирков, плавающих среди залитых водой ольх, и широкую лавку, на которой он спал, когда наступала ночь, и дверь, вставленную в бревенчатый присад просторной землянки трудолюбивыми немцами, они притащили с хутора Васили. Глиняный кувшин с узким горлышком, который здешние крестьяне называют глечиком, тоже принесен с хутора. Только вчера Гейнце принес ему гостинец от своей молодки – полный глечик молока и порядочный ломоть хлеба. Все свежее, еще теплое. Да, подумал Бальк снова, свежее и теплое, как руки молодки.
Чирки плавали друг за дружкой. Подныривали. Что-то искали в заберегах, в пожухлой прошлогодней траве и молодой осоке, успевшей уже вытянуть из воды свои сочные жирные стебли. Особенно юрким был селезень. Он крутил своей зеленой перламутровой головкой, поталкивал грудью уточку, так что порой она, как игрушечная, разворачивалась к нему боком, удивленно косила черной бусинкой глаза и крутила изящной головкой. Но потом уплывала, так что тому приходилось снова догонять ее. Чирки явно играли в свою весеннюю игру. Должно быть, они уже свили где-нибудь в укромном месте гнездо и готовились к кладке яиц.
А в это время в двадцати метрах от землянки в старом окопе, заваленном прошлогодней листвой и поросшем по брустверу нежно-зелеными лапками подснежников и хохлатки, сидел человек, примерно тех же лет, одетый в камуфляжный костюм с капюшоном, и тоже наблюдал за игрой парочки чирков. Он держал наготове ППШ. Его серо-зеленые глаза изредка вздрагивали. Он следил за тропой, за входом в землянку и за чирками одновременно. Больше всего его занимали чирки. Быть может, потому, что в них было то, о чем тосковали все они, вовлеченные во взаимное истребление. Солдаты обеих сторон.
Селезень иногда обгонял уточку, торопливо и азартно помогал себе крыльями и заступал своей подруге дорогу. И она, замерев на некоторое мгновение, вынуждена была ждать, когда он немного успокоится, чтобы снова неторопливо, с достоинством, продолжить свой путь. Как чисты и непосредственны они были в своем взаимном влечении друг к другу! Как естественны! Мир принадлежал им ровно настолько, насколько миру принадлежали и они. Они были частью и этого болота, и воды, и леса, и самой весны. И одухотворяли ее. Снова и снова утверждали существование смысла в потоке времен.
На тропе появились люди. Трое. С карабинами «Mauser К98». У каждого из троих за ремень были засунуты гранаты с длинными ручками. Они шли и довольно громко разговаривали. Видимо, чувствовали здесь себя свободно, не опасаясь ни противника, ни командирского глаза. Ведь русские были далеко. За лесом, за болотом, за протокой, образовавшей после таянья снегов настоящее озеро. А командиры… Командиры тоже были далеко.
Человек, замерший в старом окопе, прислушался. Он хорошо понимал, о чем разговаривали шедшие к землянке, а вскоре и понял, кто они. Правда, один из них разговаривал на каком-то странном диалекте, так что он понимал его с трудом.
– Черт бы побрал эти бессмысленные пробежки по лесу. Тропа уже раскисла. Сапоги промокли насквозь. До зимы нам новых не выдадут.
– Наш унтер, должно быть, спит, – сказал солдат на своем странном диалекте, так что понять его можно было с трудом. За плечами у него торчал, словно ранец, ящик рации.
– Черта с два он спит! Ждет нас. Опять потребует доложить по всей форме. Видимо, нашему новоиспеченному унтеру очень нравится, когда мы вытягиваемся перед ним.
– Да, этот студент такой… Он не пруссак?
– Нет. Шваб.
– Шваб? А разговаривает как настоящий берлинец.
– До войны, говорят, учился в университете, в Дюссельдорфе.
– Злится, что не побывал в отпуске.
– Я бы тоже злился.
– Два часа отдыха и опять в лес. Как надоело это бессмысленное патрулирование! Пусть берет свой пулемет и чешет в лес сам.
– Смельчак. Я посмотрю на тебя, как ты сейчас прижмешь хвост и будешь докладывать этому швабу с берлинским выговором и заикаться.
Двое засмеялись. Один молчал. Он курил сигарету и сосредоточенно смотрел под ноги.
– Да, вы правы, – сказал наконец он, – докладывать, в конце концов, мне.
– Генрих, что ты намерен сказать о той тропе, которую мы обнаружили в сосняке?
– Ничего. И вы помалкивайте. Иначе нас пошлют снова в лес и наши пара часов заслуженного сна накроются, как говорят русские, медным тазом.
– Генрих, – снова спросил один из них шедшего с сигаретой в зубах, – а почему они так говорят?
– Кто?
– Иваны. Про медный таз.
– У них много меди. Это только нашему фюреру не хватает меди. Поэтому он не может для нас сделать более совершенное оружие и достаточное количество патронов. А у Сталина ее навалом. Они даже тазы делают из меди.
Они снова засмеялись. Но в этот раз смеялись не так дружно. Что-то им мешало быть веселыми и раскованными. И Генрих сказал:
– Именно так. Россия вообще очень богатая страна. И нам ее не победить.
– Но люди живут очень бедно.
– Они только начали жить, а тут мы со своими танками и самолетами. И иванам не осталось ничего другого, как построить танки и самолеты намного лучше наших. Они отдали все, чтобы построить эти самолеты и танки. А сами остались жить в ветхих хижинах. Такой народ заслуживает уважения.
– Ты прав. И теперь мы это чувствуем на своих шкурах.
– Чепуха! У них все забрали комиссары и жиды! Вот почему они живут как нищие.
– Помолчи. Ты рассуждаешь, как эти партийные идиоты, которые и довели все дела до такого состояния.
– Когда же к нам поступит новое оружие?
– Секретное?
– Да, о котором нам протрубили все уши.
– Оно у нас в руках, дружище. Лучшее в мире. Что у тебя за плечом?
– Карабин системы Маузера калибра семь-девяносто два миллиметра, герр обершютце! – живо, как в строю, отчеканил солдат и ухмыльнулся.
– Нет, не просто карабин, а лучший в мире карабин. А за поясом что? Лучшие в мире гранаты. Да и ремень твой из настоящей свиной кожи и пряжка на нем из настоящего олова. Все очень качественное и прочное. Ты сгниешь где-нибудь в русском болоте, а твой ремень будет лежать в земле, как новенький.
– Да, это утешает.
– На ногах у тебя, – продолжал не без иронии тот, которого называли Генрихом и обершютце, – лучшие в мире сапоги, в которых два года назад под Москвой обморозила ноги вся группа армий «Центр». На голове… Скажи, Вилли, чем можно украсить такую тупую голову, имеющую очень правильный арийский череп?
– Это уже не смешно, Генрих.
– Конечно. Я и не смеюсь. Я говорю о твоем лучшем в мире стальном шлеме, дубина. Нам просто не хватает меди. И потому нас, тупых и послушных идиотов, погнали сюда, в Россию. Из нас вначале вытряхнули мозги. На плацу, на полигоне, на стрельбище. А потом привезли сюда. Здесь мы очень кстати.
– Генрих, тебя понесло. Успокойся, старина. Нам здесь всем одинаково хорошо. И дело не в меди. Хотя ее рейху действительно не хватает.
– …А в блиндаже нас дожидается самый дисциплинированный солдат нашего фузилерного полка и лучший в мире унтер-офицер Бальк. Чего же ты еще хочешь от нашего фюрера? Он дал нам все! Все, что у него было и есть! На, возьми сигарету и успокойся. И знай, что это сигарета из самого что ни на есть лучшего в мире эрзац-табака.
– Твой крик, Генрих, наверняка слышат русские. Сейчас закинут сюда парочку тяжелых мин. Теперь у них много минометов. И мин тоже.
– Лучше бы мои вопли услышали в Берлине. А иванам это дерьмо тоже надоело. Что, скажешь не так?
Дальше они пошли молча.
Когда вернувшийся из леса патруль исчез в блиндаже, к сидевшему в окопе подполз еще один разведчик, одетый в такой же камуфляжный комбинезон. Он двигался медленно, как озябшая ящерица. Но в движениях его чувствовалась уверенность опытного воина. Он втиснулся в окоп, сунул ППШ между ног и сказал:
– Ну что, Сашка? Высмотрел что?
– Высмотрел. Вон, видишь, чирки плавают.
– Видать, где-то гнездо вьют.
– Смотри, смотри, как он ее обхаживает! А мы, Кондратий Герасимович… – И Воронцов махнул рукой.
– Весна! – вздохнул Нелюбин. – Сейчас все живое друг на дружку лезет. Ну, говори, что ты тут выведал?
– Патруль – три человека. Вооружены винтовками. Без пулемета. После каждого выхода – два часа отдыха. С собой носят радиопередатчик.
– Богатые. И что-то не верится, что эти два часа лес они оставляют без призору. Не похоже это на немцев.
– Устали. Да и обрусели они тут, за три-то года.
– А может, еще где такой же блиндаж имеется?
– Ребята все обшарили. Только этот. И тропа отсюда прямиком на хутор. Там у них и минометная батарея, и пункт боепитания, и радиостанция. Минометные плиты лежат на дне противотанкового рва постоянно. Замаскированы. А «трубы» они уносят в деревню. Возле рва выставлен часовой.
– Радиостанция есть и у наблюдателя на косе, и наверняка в блиндаже.
Воронцов и Нелюбин еще несколько минут наблюдали за игрой чирков, потом выползли из окопа и скрылись в зарослях крушины и жимолости.
Группа поиска капитана Гришки весь день обшаривала лес, прилегающий к Василевским болотам. Разведка на хутор ничего определенного не дала. Старик, опрошенный одним из младших лейтенантов, который ходил в Васили, показал, что самолеты два дня назад над хутором пролетали, что летели они в сторону Чернавичей, на Омельяновичи, а назад возвращались другой дорогой, а сколько их было, он не помнит. Попытались на старика нажать, он вообще замолчал, начал путаться, что-то придумывать. Испугался. Вот и ищи теперь ее, другую дорогу…