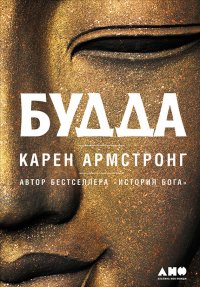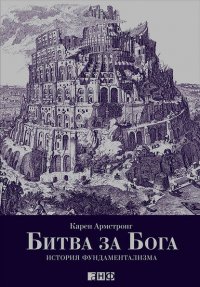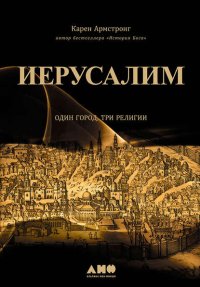
Читать онлайн Иерусалим: Один город, три религии бесплатно
- Все книги автора: Карен Армстронг
Переводчик Елена Лалаян
Редактор Мария Суханова
Руководитель проекта И. Серёгина
Корректор Е. Чудинова
Компьютерная верстка М. Поташкин
Дизайнер обложки Н. Беляева
© Karen Armstrong, 1996, 1997
© Предисловие. Karen Armstrong, 2005
© Архитектурные планы. John Field, 1996
© Карты. Mark Stein Studios, 1996
© Путеводитель для читателя. Random House, Inc., 2005
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2017
Все права защищены. Произведение предназначено исключительно для частного использования. Никакая часть электронного экземпляра данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для публичного или коллективного использования без письменного разрешения владельца авторских прав. За нарушение авторских прав законодательством предусмотрена выплата компенсации правообладателя в размере до 5 млн. рублей (ст. 49 ЗОАП), а также уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет (ст. 146 УК РФ).
* * *
Моей матери Эйлин Армстронг
Предисловие
Впервые эта книга была опубликована в 1996 г. В ту пору ситуация в Иерусалиме выглядела исключительно тяжелой, и трудно было представить себе возможное урегулирование конфликта между израильтянами и палестинцами. Но стороны хотя бы говорили о мире. Невзирая на трагическую гибель президента Израиля Ицхака Рабина, подписанные в Осло соглашения еще действовали, и, хотя имелись очевидные трудности, а действия религиозных экстремистов с обеих сторон тормозили мирный процесс, он все же продвигался. Прекращение открытой вражды и насилия было выгодно как израильтянам, так и палестинцам – и в политическом, и в социальном, и в экономическом плане. Осенью 2004 г., когда я пишу эти строки, то время вспоминается как безмятежное. Ситуация на Ближнем Востоке достигла такого накала, что угрожает безопасности всего человечества. Наш мир необратимо изменился – но в Иерусалиме, тем не менее, изменилось не очень многое.
В сентябре 2000 г. Ариэль Шарон в сопровождении сотен сподвижников поднялся на Храмовую гору (Харам аш-Шариф). Это был символический акт, задуманный как провокация. Шарон считался вдохновителем создания еврейских поселений в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, теперь в его действиях прочитывалась угроза захватить Храмовую гору. Тут же последовала вспышка насилия, и началась Вторая интифада, похоронившая мирный процесс. Сегодня достигнутые в Осло договоренности лежат в руинах. Палестинские террористы-смертники обрушили на Израиль серию ужасающих террористических атак, и жертвы с обеих сторон огромны.
11 сентября 2001 г. 19 членов террористической организации «Аль-Каида», возглавляемой исламским экстремистом Усамой бен Ладеном, предприняли атаку на Всемирный торговый центр и Пентагон. Это не могло не сказаться на ситуации в Израиле и Палестине. Отношения между Западом и исламским миром сейчас хуже, чем когда-либо в прошлом, а Иерусалим можно считать кровоточащим сердцем проблемы. Для всех сторон этот город по-прежнему свой в самом глубоком смысле слова.
Евреи видят в Святом городе источник духовного исцеления, феникса, поднявшегося из пепла миллионов их братьев и сестер, сожженных в Освенциме. Постоянно живя под дамокловым мечом новых атак террористов-смертников, израильтяне все больше разуверяются в возможности мирно сосуществовать в Иерусалиме с палестинцами. Мусульмане тоже ощущают себя во враждебном окружении из-за начатой США после 11 сентября «войны с терроризмом». Многие из них видят в утрате мусульманского Иерусалима символ собственного бессилия в современном мире.
Ужесточилась позиция и американских правых христиан. Они, как и прежде, верят, что Армагеддон – последняя битва добра и зла – произойдет за пределами Иерусалима, а евреи должны пребывать на Святой земле, дабы исполнились древние пророчества (хотя Антихрист, согласно этим пророчествам, уничтожит всех евреев, не принявших крещения). Во времена холодной войны Антихристом в глазах христианских фундаменталистов был Советский Союз, а после 11 сентября они уверились, что эта роль должна быть отведена исламу. Их воззрения, несомненно, накладывают свой отпечаток на политику США на Ближнем Востоке.
И все же, как вы увидите, прочитав эту книгу, Иерусалим веками был и по сей день остается городом-символом, который окутан в сознании людей аурой ассоциативных связей и благодаря этой ауре стал священным. Люди нашли в Святом городе своего Бога, и город стал частью их души. Бог всегда ощущался людьми не только как непостижимая высшая сущность, но и как нечто, составляющее основу их бытия. Когда над Иерусалимом нависала опасность, они воспринимали ее как угрозу для себя лично; когда осквернялась святость города, они чувствовали, что растоптана их собственная честь. Сегодня каждый чувствует себя – и действительно находится – в опасности, все постоянно настороже в ожидании очередного террористического акта. В результате Иерусалим стал для своих жителей еще более священным, чем когда бы то ни было в прошлом.
Эта книга повествует о бурной истории Иерусалима и обо всех жестокостях, творившихся во имя этого города. В то же время она показывает, что на протяжении веков евреи, христиане и мусульмане находили способы жить там в мире и согласии. Мирное сосуществование в Святом городе – вовсе не несбыточная мечта. Коль скоро Иерусалим стал символическим средоточием конфликта, который угрожает взорвать наш мир, урегулирование здесь жизненно важно. Решение проблемы Иерусалима потребует огромного искусства и высочайшей преданности делу мира; каждому придется чем-то пожертвовать. Когда-то люди умели мирно уживаться в Иерусалиме, а значит, этому можно научиться снова.
Благодарности
Писательство – занятие, предполагающее уединение, даже подчас одиночество, и все же я должна поблагодарить моих литературных агентов Фелисити Брайан (Felicity Brian), Питера Гинсберга (Peter Ginsberg) и Эндрю Нюрнберга (Andrew Nurnberg), а также моих редакторов Джейн Гарретт (Jane Garrett) и Стюарта Проффитта (Stuart Proffitt) за то, что они поддерживали и воодушевляли меня. Я также признательна Роджеру Боузу (Roger Boase), Клэр Брэдли (Claire Bradley), Джулиэт Брайтмор (Juliet Brightmore), Кэтрин Хоуриган (Katherine Hourigan), Теду Джонсону (Ted Johnson), Антее Лингерман (Anthea Lingerman), Джонатану Магонету (Jonathan Magonet), Тоби Манди (Toby Mundy) и Мелвину Розенталю (Melvin Rosenthal) за их экспертную оценку, терпение, рекомендации и помощь. И, наконец, я искренне благодарна Джоэль Делбурго (Joelle Delbourgo), моему давнему редактору в издательстве Ballantine – она первой подала мне идею написать эту книгу, постоянно подбадривала меня и щедро делилась со мной своим неиссякаемым энтузиазмом.
Введение
В Иерусалиме, более чем в любом другом месте, где мне доводилось бывать, история – одно из измерений современности. Возможно, это свойство присуще любой спорной территории, но оно сразу бросилось мне в глаза, как только я впервые попала в Иерусалим. Это было в 1983 г. Я сама поражалась силе собственной реакции на этот город. Мне было странно бродить по местам, которые с самого раннего детства уже существовали в моем воображении, навеянные рассказами о царе Давиде и Иисусе. Позже меня, юную монахиню, учили начинать утренние благочестивые размышления, мысленно представляя себе библейские сцены, так в моей голове сложились образы Гефсиманского сада, Масличной горы или Виа Долороза. И вот теперь я ходила по своим делам через те самые места, и передо мной открывалась напряженная и далеко не во всем понятная мне жизнь реального Иерусалима. Нельзя было не заметить, что для мусульман и евреев этот город тоже очень важен. Глядя, как трепетно припадают губами к Западной стене евреи-ортодоксы в черных лапсердаках и суровые израильские солдаты, как заполоняют улицы мусульманские семейства в праздничных одеждах, направляющиеся на пятничную молитву на Харам аш-Шариф, я впервые осознала проблему религиозного плюрализма. Эти люди воспринимали символическое значение Иерусалима иначе, чем я. Они, вне всякого сомнения, были глубоко привержены своему священному городу, хотя в моем Иерусалиме их вовсе не было. Но все-таки этот город оставался и моим: я постоянно сопоставляла библейские картины, созданные когда-то моим воображением, с тем, что сама увидела здесь сегодня, на излете ХХ века. Неразрывно связанный с некоторыми из самых знаменательных событий моей жизни, Иерусалим стал неотъемлемой частью меня самой.
Как гражданка Великобритании, я, в отличие от моих новых друзей и коллег – жителей Иерусалима, – не могла заявлять претензий на этот город. Когда же израильтяне и палестинцы приводили мне доводы в подтверждение своих прав на него, я всякий раз поражалась, насколько живо и остро присутствует здесь прошлое. Те и другие могли во всех подробностях, иногда с точностью до минут, изложить перипетии событий, приведших к провозглашению государства Израиль в 1948 г., или описать ход Шестидневной войны 1967 г. И очень часто я замечала, что главный для моих собеседников вопрос – это кто и что сделал первым. Кто первым прибег к насилию – сионисты или арабы? Кто первым оценил потенциал Палестины и занялся развитием страны? Кто первым поселился в Иерусалиме – евреи или палестинцы? Обсуждая тревожное настоящее, и израильтяне, и палестинцы инстинктивно обращались к событиям прошлого, легко переходя от бронзового века в Средневековье и в ХХ столетие. А когда израильтяне и палестинцы с гордостью показывали мне свой Иерусалим, сами памятники старины оказывались втянутыми в конфликт.
В мой самый первый день в Иерусалиме израильские коллеги научили меня распознавать по скошенным кромкам камни, обтесанные во времена царя Ирода. Эти камни попадались мне на каждом шагу, постоянно напоминая, что евреи отстраивали Иерусалим задолго до того, как ислам ступил на историческую сцену. А когда мы встречали в Старом городе строителей, мои израильские коллеги всякий раз заводили разговор о том, в каком пренебрежении и запустении находился город во времена османского господства. Лишь в XIX в. он стал возвращаться к жизни, в основном благодаря еврейскому капиталу; памятники того периода – ветряная мельница, сооруженная на средства сэра Мозеса Монтефиоре, больницы, основанные семейством Ротшильдов. И только благодаря неустанной заботе израильского правительства Иерусалим достиг небывалого прежде расцвета.
Мои друзья-палестинцы показывали мне совсем другой Иерусалим. Они обращали мое внимание на великолепие горы Харам аш-Шариф, на изящные медресе – религиозные школы, построенные вокруг Харама мамлюками, – это ли не свидетельство любви мусульман к Иерусалиму? Они возили меня к комплексу Неби-Муса близ Иерихона, возведенному для защиты Иерусалима от христиан, к расположенным неподалеку выдающимся памятникам времени Омейядов. Однажды, когда мы проезжали через Вифлеем, палестинец, который вез меня, остановил машину возле гробницы Рахили и с большим чувством рассказал, как палестинцы веками благоговейно заботились об этой иудейской святыне, – за что им отплатили черной неблагодарностью.
И везде снова и снова повторялось одно и то же слово – «святой». Даже самые далекие от религии израильтяне и палестинцы твердили, что Иерусалим – Святой город их народа. Палестинцы даже называли его по-арабски аль-Кудс, что значит «святой», но израильтяне презрительно отмахивались от этого словоупотребления. Они говорили, что Иерусалим стал священным сначала для евреев, а для мусульман он никогда не значил столько, сколько Мекка или Медина. Но что означало в этом контексте слово «святой»? Как вообще мог быть священным просто-напросто город, полный грешных людей, занятых отнюдь не благочестивыми делами? Почему святость Иерусалима волновала даже тех евреев, которые считали себя воинствующими атеистами, какие чувства связывали их с Западной стеной? И почему у неверующего араба навернулись на глаза слезы, когда он впервые в жизни оказался у мечети Аль-Акса? Я понимала, чем Иерусалим свят для христиан, – ведь здесь умер и воскрес Иисус, здесь зародилась христианская вера. Но события, связанные с возникновением иудаизма и ислама, произошли далеко от Иерусалима – на Синайском полуострове и в Хиджазе, в Аравии. Почему, например, иудеи почитают святым местом гору Сион в Иерусалиме, а не гору Синай, где Господь даровал Моисею Закон и заключил завет с Израилем? Очевидно, я ошибалась, предполагая, что святость города может быть прямо связана с событиями священной истории, с преданиями о вмешательстве Бога в дела людей. Что же она такое? Чтобы в этом разобраться, я задумала написать книгу, которую вы держите сейчас в руках.
Оказалось, что хотя эпитет «святой» применяется по отношению к Иерусалиму как самоочевидный, на деле его значение довольно сложно. Каждая из трех монотеистических религий выработала свой комплекс связанных с Иерусалимом традиций, причем эти традиции на удивление схожи друг с другом. Кроме того, поклонение святому месту или святому городу – почти универсальный феномен. Ученые-религиоведы считают его одним из самых ранних проявлений религиозности во всех известных культурах. Люди создали так называемую священную географию, которая не имеет ничего общего с научной картой мира, а отражает их духовную жизнь. Реально существующие города, рощи и горы стали символами этой духовности, и их почитание – настолько повсеместное явление, что оно явно должно быть связано с некой нашей глубинной потребностью, не зависящей от того, как мы представляем себе Бога или Сверхъестественное. Иерусалим – по разным причинам – сделался центральным элементом священной географии для иудеев, христиан и мусульман. Поэтому всем им очень трудно взглянуть непредвзято на этот город, неотделимый от них самих и от их представлений о той высшей реальности – иногда именуемой «Бог» или «священное», – которая придает смысл и ценность нашему земному существованию.
На страницах этой книги я буду постоянно обращаться к трем взаимосвязанным понятиям. Первое – это сама идея Бога, или священного. Западной культуре свойственно представление о Боге как об антропоморфной личности, из-за этого вся концепция божественного нередко выглядит непоследовательной и неправдоподобной. А поскольку слово «Бог» оказалось дискредитировано в глазах многих людей из-за наивных и часто ужасающих дел, творившихся от «Его» имени, мне во многих случаях будет проще употреблять термин «священное». Выстраивая картину мира, человек всегда ощущал некую трансцендентность и тайну в основе бытия. Он чувствовал, что эта тайна глубоко связана с ним самим и с миром природных явлений, но в то же время выходит за пределы представимого. Как бы мы ни называли ее – Богом, Брахмой, Нирваной, – она всегда присутствовала в человеческой жизни. Все мы испытываем нечто подобное, независимо от наших теологических представлений, слушая прекрасную музыку или великие стихи, – что-то случается с нашей душой, и она вдруг воспаряет над нами. Нам необходимо это ощущение, и если мы не найдем его в каком-то одном месте – скажем, в стенах церкви или синагоги, – то пустимся в дальнейшие поиски. Священное способно вызывать множество разных переживаний: оно внушало ужас, благоговейный трепет, восторг, умиротворение, повергало в безумие и вдохновляло на подвиг. Именно оно придает смысл нашему существованию и полноту – нашей жизни. Мы воспринимаем его не просто как внешнюю по отношению к нам силу, а чувствуем его частицу в глубине своего существа. Но ощущение священного, как и любой эстетический опыт, следует культивировать, а в нашем современном, чисто светском обществе этой необходимости не всегда придавалось первостепенное значение. Не получая достаточного развития, способность к духовным переживаниям постепенно утрачивается. В более традиционных обществах эта способность играла критически важную роль. В действительности людям часто представлялось, что без чувства божественного вообще не стоит жить.
Отчасти это связано с восприятием мира как источника страданий. Мы становимся жертвами стихийных бедствий, человеческой несправедливости и жестокости, мы смертны и подвержены старению. Религиозный поиск в большинстве случаев начинался именно с осознания несовершенства мира, или, по выражению Будды, «искривленности бытия». Помимо страданий, общих для всей плоти, все мы испытываем личную боль, которая делает, казалось бы, не очень существенные события невыносимо мучительными для нас. Мы чувствуем себя неприкаянными, и такие переживания, как утрата близких, разрыв семейных или дружеских уз и даже потеря любимого человека иногда видятся нам частью изначального вселенского зла. Этот внутренний дискомфорт ощущается как отлучение от чего-то важного – так, будто в нашей жизни чего-то недостает; существование кажется нам раздробленным и неполноценным. Мы чувствуем, что жизнь не должна была быть такой, что мы упустили что-то чрезвычайно важное для своего душевного благополучия, – хотя нам вряд ли удалось бы объяснить наше состояние рационально. Чувство утраты проявляется во множестве форм. Оно прослеживается и в платоновском представлении о половинках душ, разделенных до рождения, и в мифе о потерянном рае, который есть у многих народов. В прошлые века мужчины и женщины, надеясь облегчить свою боль, обращались к религии и находили исцеление в переживании священного. Сегодня на Западе люди иногда прибегают к психоанализу, ища научного истолкования этой изначальной тоски. Психоаналитики связывают ее с памятью о пребывании в утробе матери и болезненным шоком рождения. Но, независимо от способа рассмотрения, осознание оторванности от чего-то важного и жажда духовного исцеления лежат в основе почитания святых мест.
Второе, что нам необходимо рассмотреть, – это понятие мифа. Пытаясь говорить о священном или о боли человеческого бытия, люди не могли передать свой опыт в логических формулировках, но им удавалось это сделать с помощью мифологии. Даже Фрейд и Юнг, первыми наметившие путь для того, что можно назвать научным поиском души, при описании внутренних переживаний человека обращались к античным и библейским мифам; они также создавали новые, собственные мифы. Сегодня значение слова «миф» несколько обесценилось; обычно так называют то, что не является правдой. События могут сбрасываться со счетов только потому, что это «всего лишь» мифы. Это, безусловно, справедливо в отношении споров вокруг Иерусалима. Палестинцы заявляют, что нет абсолютно никаких археологических подтверждений существования Иудейского царства, основанного царем Давидом, и не найдено следов Храма Соломона. Израильское царство не упоминается ни в одном историческом документе того времени – только в Библии, – следовательно, вполне возможно, что оно – не более чем «миф». Не оставаясь в долгу, израильтяне развенчивают – как явно абсурдный – рассказ о вознесении на небеса пророка Мухаммада с горы Харам аш-Шариф, т. е. тот миф, на котором основано почитание мусульманами Иерусалима – аль-Кудса. Но я пришла к убеждению, что поступать так – значит упускать из виду главное. Мифология никогда не претендовала на исторически достоверное описание реально произошедших событий. Она была попыткой выразить внутреннюю значимость событий или привлечь внимание к сущностям, слишком неуловимым для того, чтобы обсуждать их в логически последовательной форме. Мифология была удачно определена как древняя форма психологии: она показывает нам внутренние пределы нашего «я», таинственные и вместе с тем влекущие нас. Мифы «священной географии», таким образом, выражают истины, касающиеся внутренней жизни. Мифы затрагивают таинственные источники людских страданий и желаний, а потому могут высвобождать мощнейшие эмоции. Ни в коем случае нельзя пренебрегать рассказами о Иерусалиме, ссылаясь на то, что они – «всего лишь» мифы: они важны именно потому, что являются мифами.
Проблема Иерусалима взрывоопасна именно потому, что этот город приобрел статус мифа. Участники конфликта с обеих сторон и представители международного сообщества часто призывают к дискуссии о правах и суверенитете, основанной только на рациональных доводах и отделенной от эмоциональных фантазий. Это совершенно естественное пожелание, и было бы прекрасно, если бы его удалось выполнить. Но нельзя надеяться на то, что мы сумеем преодолеть жажду мифов. В прошлом неоднократно предпринимались попытки выкорчевать мифы из религии. Древнееврейские пророки и реформаторы, например, изо всех сил пытались отмежевать свою религию от мифологии местных ханаанских племен, в чем, однако, так и не преуспели. Старые предания и легенды вновь всплыли на поверхность в мистицизме Каббалы, т. е. миф восторжествовал над более рациональными формами религии. В истории Иерусалима, как мы увидим, люди не раз инстинктивно обращались к мифу, когда на них обрушивались столь тяжкие беды, что идеология, апеллирующая к разуму, не могла принести им утешения. Подчас внешние события представлялись людям настолько созвучными их внутренней духовной реальности, что немедленно приобретали статус мифов и рождали мощную волну мифотворчества. Так произошло с открытием Гроба Господня в IV в. н. э. и с оккупацией Иерусалима Израилем в 1967 г. В обоих случаях участники событий искренне верили, что окончательно избавились от пережитков примитивного сознания, но на деле не могли ему противостоять. Катастрофы, обрушившиеся в наш век на еврейский народ и народ Палестины, были чудовищными, поэтому неудивительно, что миф вновь вышел на передний план. Так что, хорошо это или плохо, мы не можем обойти стороной мифологию Иерусалима, если наша задача – пролить свет на истоки устремлений и поступков людей, находящихся под ее воздействием.
Последнее понятие, которое мы обсудим, прежде чем пускаться в путь по историческому прошлому Иерусалима, – это символы. Наше общество ориентировано на научное познание, и мышление в категориях образов и символов не является для нас естественным. Мы более склонны к логическому, рассудочному мышлению, когда восприятие физических явлений происходит без участия воображения; мы стремимся очистить объект от возникших у нас в связи с ним эмоциональных ассоциаций и сосредоточиться на нем самом. Этот рационализм, формирование которого началось, как мы увидим далее, в XVI в., в корне изменил характер религиозного опыта у многих жителей западных стран. Мы сейчас можем сказать, что тот или иной объект – не более чем символ, т. е. нечто принципиально отличное от представляемой им мистической реальности. В древности и в Средневековье все было иначе. Символ рассматривался как часть реальности, на которую он указывал; религиозный символ, таким образом, обладал силой, способной ввести верующего в сакральную сферу. На всем протяжении истории священное никогда не воспринималось непосредственно – за исключением, быть может, редких единичных случаев. Его всегда ощущали в чем-то, отличном от него самого. Так, божественное начало видели в человеке – мужчине или женщине, – который становился воплощением божества, в священном тексте, своде законов, учении. Один из самых ранних и самых распространенных священных символов – место. Люди ощущали присутствие божественного начала в горах, рощах, городах, храмах. Попадая туда, человек словно вступал в иное измерение, существующее отдельно от обыденного мира, но совместимое с ним. Для евреев, христиан и мусульман Иерусалим был именно таким священным символом.
Превращение места в священный символ происходит не само собой. После того, как кто-нибудь тем или иным способом обнаруживал в определенном месте присутствие божественного начала и способность подарить человеку опыт соприкосновения с божеством, начиналось поклонение, и верующие прилагали огромную созидательную энергию для того, чтобы помочь другим испытать тот же священный трепет. Как мы увидим, архитектура храмов, церквей, мечетей несет важную символическую нагрузку, зачастую отображая духовный путь к обретению Бога. Богослужение и обрядность также усиливали чувство нахождения в священном пространстве. В протестантской части западного мира бытует унаследованное от прошлых поколений недоверие к религиозному церемониалу, он кажется людям чем-то дикарским. Однако, вероятно, правильнее было бы воспринимать богослужение как своего рода театрализованное действо, способное породить мощное метафизическое переживание даже у людей, очень далеких от религии. Западная драма происходит из религиозных обрядов – священных празднеств, которые устраивали древние греки, пасхальных торжеств в церквях и соборах средневековой Европы. Были созданы и особые мифы, призванные выразить духовное значение города Иерусалима и различных его святынь.
Один из этих мифов – «вечное возвращение», как назвал его покойный Мирча Элиаде, американский религиовед и культуролог румынского происхождения. Согласно мифологии вечного возвращения, присутствующей, как смог установить Элиаде, практически во всех культурах, у каждого объекта на земле есть свой аналог в божественной сфере. Можно видеть здесь попытку выразить то ощущение, что наша обыденная жизнь неполна и отделена от более полноценного существования в каком-то ином месте. У всех занятий и умений человека тоже есть божественные аналоги: копируя деяния божеств, человек может приобщиться к их божественному существованию. Этот тип поведения, именуемый imitatio dei (подражание божеству), встречается и сегодня. Почему, например, евреи отдыхают в субботу, а христиане едят в церкви хлеб и пьют вино? Сами по себе эти действия лишены смысла, но люди воспроизводят их, веря, что Бог в определенном смысле однажды сделал то же самое. Ритуалы, связанные со святыми местами, – еще один способ подражания богам, символическое вступление в сферу более полноценного и мощного бытия. Миф о вечном возвращении критически важен и для культа священного города, который можно рассматривать как модель небесной обители богов; каждый храм в этой системе координат воспроизводит чертог определенного божества. Скопированный с божественного архетипа со всей возможной точностью, храм мог служить также земной обителью соответствующего бога.
В холодном свете современного рационализма такие мифы кажутся нелепыми. Но эти идеи не были сначала созданы, а затем приложены к определенному «святому» месту, – с их помощью человек пытался объяснить реальный опыт. В религии опыт всегда предшествует теологическому объяснению. Люди сначала ощущали соприкосновение с сакральной сферой в роще или на вершине горы. Иногда настроиться на восприятие священного им помогали эстетические средства – архитектура, музыка, богослужение, – благодаря которым душа воспаряла над обыденностью бытия. Затем они пытались передать этот опыт поэтическим языком мифа или через символы священной географии. Иерусалим оказался одним из таких мест, причем он «сработал» сразу и для иудеев, и для христиан, и для мусульман.
И еще одно необходимое замечание. Религиозная практика во многом родственна занятиям искусством. Искусство и религия равно стремятся постичь некий глубинный смысл нашего несовершенного и трагического мира. Однако, в отличие от искусства, религия обязана нести в себе и этическое измерение. По-видимому, можно было бы определить религию как нравственную эстетику. Нам мало соприкоснуться с божественным или трансцендентным – опыт этого переживания должен быть затем воплощен в нашем поведении по отношению к другим людям. Во всех великих религиях истинным критерием духовности объявляется практическое сочувствие – милосердие. Будда однажды сказал, что человеку, достигшему просветления, следует спуститься с горной вершины на рыночную площадь и сострадать всем живым существам. Таково же духовное значение святых мест. В культе Иерусалима с самых первых дней огромная роль принадлежала благотворительности и социальной справедливости. Не может быть святым город, если он не будет также праведен и милосерден к слабым и обездоленным. Но, увы, об этом нравственном императиве часто забывали. Некоторые из самых страшных жестокостей в Иерусалиме творились именно тогда, когда люди ставили чистоту города и свое желание получить доступ к его великой святости выше справедливости и милосердия.
Все эти подспудные процессы наложили свой отпечаток на долгую и бурную историю Иерусалима. В этой книге я не сделаю попытки установить закон для Иерусалима на будущее – это было бы слишком самонадеянно. Я лишь попробую разобраться, что имели в виду иудеи, христиане и мусульмане, называя город «святым», и выявить некоторые следствия его святости в каждой из трех традиций. Это представляется мне не менее важным, чем решение вопроса о том, кто пришел сюда первым и, таким образом, должен владеть городом, – тем более что о возникновении Иерусалима практически ничего не известно.
Иерусалим
Глава 1
Сион
Мы ничего не знаем о людях, первыми поселившихся на холмах и в долинах, где позже раскинулся город Иерусалим. В захоронениях на горе Офель к югу от нынешних стен Старого Города были найдены глиняные сосуды, которые датируются 3200 г. до н. э. Как раз в это время в других частях Ханаана, т. е. на территории современного Израиля, стали зарождаться города; так, на холме Мегиддо, в Иерихоне, Бейт-Шеане, на месте библейских Гая и Лахиша археологи раскопали остатки древних храмов, жилых домов, ремесленных мастерских, улиц и водоводов. Но в Иерусалиме до сих пор не обнаружено никаких свидетельств, позволяющих заключить, что и там в этот период уже началась городская жизнь. По иронии Провидения, этот город, почитаемый миллионами евреев, христиан и мусульман как центр мира, лежал в стороне от торных дорог древнего Ханаана. Расположенный в трудной для освоения гористой местности, он в те поры оказался на задворках. В эпоху ранней бронзы развитие оседлых поселений в основном тяготело к прибрежной низменности, плодородной Изреельской долине и плоскогорью Негев, где египтяне основали фактории. Ханаан обладал немалыми природными богатствами, сулившими процветание: его жители продавали в соседние страны вино, оливковое масло, мед, природный битум и зерно. Он был также важен со стратегической точки зрения, как связующее звено между Азией и Африкой и культурный мост между цивилизациями Египта, Сирии, Финикии и Месопотамии. Но даже при том, что многочисленные родники, окружавшие Офель, издревле привлекали охотников, земледельцев и временных поселенцев – археологи находили здесь глиняные черепки и кремневые орудия труда еще эпохи палеолита, – Иерусалим, насколько известно сегодня, не играл сколько-нибудь существенной роли в этом раннем расцвете.
У древних цивилизаций, как правило, был недолгий век. Приблизительно к 2300 г. до н. э. в Ханаане практически не осталось городов. То ли они были оставлены жителями из-за климатических изменений, то ли разрушены при чужеземном вторжении или в ходе внутренних междоусобиц, но городская жизнь в этих местах иссякла. Для всего Ближнего Востока это были времена крупных политических возмущений и нестабильности. В Египте распалось Древнее царство (2613–2160 гг. до н. э.); Аккадское царство в Месопотамии рухнуло под натиском амореев – западносемитского народа, сделавшего своей столицей Вавилон. По всей территории Малой Азии городские поселения пришли в упадок и были заброшены, а Угарит и Библ на финикийском побережье подверглись разрушению. По неустановленным причинам уцелела Сирия, а города северного Ханаана, такие как Мегиддо и Бейт-Шеан, продержались дольше своих южных соседей. Тем не менее во всех названных регионах продолжалась борьба за создание упорядоченных условий, в которых жизнь людей была бы более безопасной и осмысленной. Основывались новые города и государства, восстанавливались старые поселения. К началу второго тысячелетия до н. э. города Ханаана вновь были густо заселены.
О жизни в Ханаане в тот период известно очень мало. В стране не было единого централизованного государства, каждый город подчинялся независимому правителю и распространял свою власть на прилегающие сельские поселения – примерно как в Месопотамии, колыбели цивилизации. Ханаан характеризовался сильной раздробленностью и в хозяйственном отношении. Здесь не существовало крупной торговли или развитых ремесел, а природные и климатические различия между областями страны были так сильны, что эти области оставались обособленными и отрезанными друг от друга. Горы и степи Иудеи, а также долина реки Иордан, несудоходной и никуда не ведущей, были заселены слабо. Сообщение между отдельными территориями Ханаана практически не поддерживалось, путешествовали люди мало. Главная дорога, соединявшая Египет и Дамаск, пролегала по средиземноморскому побережью от Газы до Яффы, а потом, чтобы обойти болотистую местность вокруг горы Кармель, сворачивала в глубь страны, к Мегиддо, в Изреельскую долину и к Галилейскому морю. Понятно, что эти места были самыми густонаселенными, и именно они стали объектом повышенного интереса египетских фараонов Двенадцатой династии, которые в XX–XIX вв. до н. э. начали распространять свое влияние на север, в сторону Сирии. Фактически Ханаан, называемый египтянами «Ретену», не стал провинцией Египта, но египтяне установили здесь свое политическое и экономическое господство. Например, фараон Сезострис III без колебаний направлял карательные экспедиции по дороге вдоль средиземноморского побережья, чтобы привести к подчинению местных правителей, начавших вести себя слишком независимо. Впрочем, фараоны проявляли относительно мало интереса к другим частям Ханаана, и, несмотря на подчинение Египту, таким поселениям, как Мегиддо, Хацор и Акко, со временем все же удалось набрать силу и превратиться в хорошо укрепленные города-государства. К исходу XIX в. до н. э. люди начали осваивать гористые районы страны и строить там города. Самым сильным укрепленным городом в горах был Шхем (библейский Сихем): он предположительно занимал площадь около 15 га и доминировал над обширной прилегающей сельской местностью. Города развивались и в горах на юге страны, там возникли Хеврон и Иерусалим.
Этот момент можно считать временем выхода Иерусалима на историческую сцену. В 1961 г. британский археолог Кэтлин Кэньон раскопала остатки каменной стены толщиной почти шесть с половиной футов, проходившей по восточному склону горы Офель. Возле источника Гихон Кэньон обнаружила в стене огромные ворота. Она пришла к выводу, что стена огибала южное подножье горы и продолжалась по западному склону. С северной стороны продолжение древней стены не сохранилось, оно исчезло под более поздней городской стеной. Между стеной и отвесной скалой Кэньон нашла также фрагменты керамики, датируемые примерно 1800 г. до н. э. С севера Иерусалим был более всего уязвим, поэтому позднее здесь возвели цитадель Сион; не исключено, что крепость на севере города существовала и в XIX в. до н. э. На восточном склоне холма Офель древняя стена проходила очень низко. По всей вероятности, ее построили, чтобы огородить вход в туннель, отведенный от источника Гихон (Kenyon, 1974, p. 78[1]). Этот туннель – так называемая шахта Уоррена – был открыт в 1867 г. британским военным картографом Чарльзом Уорреном и получил название в его честь. Подземный ход начинался отверстием в скале на территории города, шел наклонно вниз и заканчивался вертикальным колодцем, который соединялся горизонтальным подземным каналом с источником Гихон. Во время осады Иерусалима в колодец можно было опускать на веревках кувшины и черпать питьевую воду. Аналогичные сооружения были обнаружены при раскопках в Мегиддо, Гезере и Гаваоне. Кэтлин Кэньон высказала предположение, что шахта использовалась еще в бронзовом веке, хотя это достаточно спорно: некоторые специалисты сомневаются, что люди тогда обладали достаточными техническими навыками для создания столь сложного сооружения. С другой стороны, недавние геологические изыскания указывают на то, что «шахту Уоррена» нельзя считать полностью рукотворной: она представляет собой естественную карстовую воронку, образовавшуюся на стыке известняковых скальных массивов, а древние поселенцы вполне могли расширить ее и приспособить для своих нужд[2].
Возможно, что именно близость источника привлекла первых поселенцев на гору Офель. Кроме того, это место обладало стратегическим преимуществом, благодаря расположению на границе гор и Иудейской пустыни. Гора не могла обеспечить существование многочисленного населения – город занимал территорию чуть более 3,5 га. Зато он был надежно защищен обрывистыми склонами трех долин: Кедронской с востока, Хинномом (Геенной) с юга и Центральной долиной (сейчас сильно заиленной), которую древнееврейский историк Иосиф Флавий называл Тиропеон[3], – с запада. Хотя Иерусалим в ту пору не входил в число важнейших городов Ханаана, он, по-видимому, был известен египтянам. В 1925 г. в Луксоре были куплены глиняные черепки. Соединив их, археологи собрали около восьмидесяти блюд и сосудов, на которых обнаружились надписи, сделанные древним иератическим письмом. Эти надписи, как показала расшифровка, представляли собой названия стран, городов и имена правителей, считавшихся враждебными Египту. Сосуды служили для симпатической магии – жрецы специально разбили их, чтобы навлечь гибель на непокорных вассалов фараона Сезостриса III (1878–1842 гг. до н. э.). Среди прочего в надписях фигурировали 19 городов Ханаана, один из которых звался «Рушалимум». Это – первое упоминание Иерусалима в исторических документах. В относящемся к нему тексте названы также имена двух правителей: Йакрам и Шашан. В другом аналогичном тексте, написанном, как считается, столетием позже, снова содержится проклятие в адрес «Рушалимума», но на сей раз говорится уже об одном правителе.
Этот мелкий факт позволяет некоторым исследователям предположить, что в Иерусалиме, как и в остальных ханаанских городах-государствах, племенное общество, управлявшееся несколькими старейшинами, трансформировалось в XVIII в. до н. э. в городское образование с единым царем (Mazar, pp. 45–46; Ahlstrom, 1993, pp. 169–72).
Здесь мы ненадолго прервемся, чтобы поговорить о названии города. В его состав, по-видимому, входит элемент «Шалем» – имя сирийского бога заходящего солнца или вечерней звезды. Если политически древний Ханаан находился под влиянием Египта, то в религиозном и культурном плане он тяготел к Сирии. Храмы этого периода, раскопанные в Хацоре, Мегиддо и Шхеме, явно возведены по сирийской модели. Их строили по тому же плану, что и царские дворцы, лишний раз подчеркивая, что всякая власть исходит от богов. Мирянам запрещалось вступать в святилище – хехал – точно так же, как и представать перед царем. Они могли смотреть со двора через раскрытые двери святилища на скульптурное изображение божества, помещенное в нише в другом конце залы. Археологи не нашли на территории Иерусалима храма, относящегося к бронзовому веку, но, судя по названию города, его обитатели тоже почитали сирийских богов. Имена правителей Рушалимума в египетских проклятиях – западносемитского происхождения, т. е. город был населен народом, родственным сирийцам и разделявшим их представления о мире.
Название «Рушалимум» предположительно переводится как «основал Шалем» (Mazar, p. 11). В древности на Ближнем Востоке и в Средиземноморье выбор места и определение планировки города часто приписывали богам. Холм Офель должен был привлекать первых поселенцев обилием пресной воды и удачным стратегическим положением, но название города говорит о том, что инициатива в его создании исходила от бога. В то времена все города считались священными – представление, совершенно чуждое современному западному миру: мы зачастую склонны воспринимать города как места, покинутые Богом, где религии придается все меньше значения. Но священная география появилась задолго до того, как люди начали составлять научные карты своего мира. С ее помощью человек определял для себя точки духовной и эмоциональной опоры в мироздании. Мирча Элиаде, который первым ввел понятие священного пространства, указывал, что поклонение святому месту предшествовало всем прочим попыткам осмысления окружающего мира (Eliade, 1959. p. 21). Именно с этого поклонения, наблюдаемого во всех культурах, начинались религиозные представления. Вера в то, что определенные места святы, а потому подходят для жизни человека, не была основана ни на рациональном исследовании, ни на метафизических размышлениях о сущности вселенной. Люди пытались сориентироваться в окружающем мире и ощущали, что их неодолимо притягивают к себе определенные места, которые воспринимались ими как в корне отличные от всех прочих. Именно это чувство формировало основу мировоззрения древних, и оно достигало самых сокровенных глубин души. Даже сегодня наш научный рационализм не смог до конца заменить собой древнюю священную географию. Как мы увидим далее, архаичные в своей основе представления о святых местах до сих пор продолжают влиять на историю Иерусалима и разделяются людьми, весьма далекими от религии. В разные исторические эпохи люди по-разному выражали свое восприятие священного пространства. Но когда речь заходит об особом статусе города, подобного Иерусалиму, некоторые темы возвращаются вновь и вновь. Это подтверждает, что они соотносятся с некой фундаментальной человеческой потребностью (Eliade, 1959; Eliade, 1958, pp. 1–37, 367–368; Eliade, 1991, pp. 37–56). Даже у тех из нас, кто не проявляет интереса к традиционно священным городам и не верит в сверхъестественное, часто есть свои особенные места, где они любят бывать. Такие места «священны» для нас, поскольку нерасторжимо связаны с нашим представлением о себе. Они могут ассоциироваться с сильными душевными переживаниями, изменившими нашу жизнь, с воспоминаниями детства или с дорогими нам людьми. Попадая туда, мы можем вновь пережить тот душевный подъем, который испытали когда-то в прошлом, и на мгновение увериться, что вопреки удручающей обыденности и случайности жизненных событий в нашем существовании есть конечный смысл и ценность, – хотя мы, скорее всего, затруднились бы объяснить это логически.
В Древнем мире, как и в сохранившихся до наших дней традиционных обществах, люди разъясняли смысл своей священной географии, говоря, что мир создан богами. Таким образом, мир не был для них нейтральной территорией: местность заключала в себе некое послание к человеку. Обращаясь к космосу, люди прозревали уровень бытия, стоявший выше их бренного и несовершенного существования. Этот уровень представлял иное, более полноценное и духовно насыщенное измерение реальности, в котором она отличалась от обыденной жизни, но все-таки была очень знакомой. В попытках выразить чувство родства со сферой священного люди часто персонифицировали ее, создавая образы богов и богинь и наделяя их собственными чертами. А поскольку они ощущали присутствие божественного элемента в окружающем мире, богами становились солнце, ветер, живительный дождь. Рассказы об этих богах не предназначались для описания реальных событий, с их помощью человек пробовал выразить свой опыт приобщения к тайне бытия. Но превыше всего для него было стремление приблизить свое существование к этой высшей реальности. Наверное, было бы некорректно утверждать, что древние искали смысл жизни, поскольку это подразумевает наличие ясных представлений о положении человека. В действительности целью религиозных исканий всегда было получение некоторого переживания, а не знания. Мы хотим быть подлинно живыми, полностью реализовать свой человеческий потенциал и жить в согласии с глубинными истоками бытия. Этот поиск сверхнасыщенной жизни, которую символизируют могущественные бессмертные боги, лежит в основе всех великих религий. Люди рвались за пределы примитивной обыденности к реальности, которая дополнила бы их человеческую природу. В древности люди ощущали, что без возможности прикасаться к божественному немыслима самая жизнь (Eliade, 1959, pp. 50–54, 64).
Потому-то, – а Элиаде сумел показать, что это действительно так, – древние старались селиться в местах, где священное однажды проявило себя, устранив преграду между людьми и богами. Возможно, бог Шалем явился кому-то на холме Офель, тем самым сделав это место «своим», и люди тянулись сюда, считая, что здесь можно соприкоснуться с богом. Однако священное вторгалось в обыденную жизнь не только в форме божественных явлений или видений. Все, что не укладывалось в привычные рамки и противоречило естественному порядку вещей, могло быть признано проявлением священного, или, используя термин Элиаде, иерофанией. Скала или долина, особенно прекрасная или величественная, указывала на присутствие священного уже тем, что резко выделялась на фоне окружающей местности. Самый ее вид говорил о чем-то еще (Eliade, 1959, p. 33). Неизвестное, инородное, даже совершенное казалось людям архаических обществ указанием на нечто отличное от них самих. Особенно часто символами запредельного становились горы, высоко вздымающиеся над поверхностью земли. Взобравшись на вершину, верующий ощущал, что поднялся на иной уровень и находится на полпути между небесами и земным миром. Строители зиккуратов – ступенчатых храмов в Месопотамии – строили их так, чтобы они походили на горы, а семь ступеней этих огромных каменных лестниц олицетворяли семь небес. Переходя с одного яруса на другой, верующие представляли себе, что движутся сквозь космос к вершине мира, где смогут встретить своих богов (Eliade, 1959, p. 99–101; Clements, 1965, pp. 2–6; Clifford, pp. 4–10). В более гористой Сирии не было необходимости строить искусственные горы – здесь как священные почитались возвышенности естественного происхождения. Одной из них – горе Цафон, современной Джебель аль-Акра, расположенной в 20 милях к северу от Угарита, в устье Оронта, – суждено было сыграть очень важную роль в истории Иерусалима (Clifford, p. 4). В Ханаане точно так же почитались горы Хермон, Кармель и Тавор (Фавор). Как мы знаем из древнееврейских псалмов, священной была и гора Сион, расположенная к северу от холма Офель. Сегодня ее естественные очертания скрыты массивной платформой, построенной в I в. до н. э. царем Иродом для Иудейского Храма. Но вполне возможно, что в своем первоначальном виде эта гора резко выделялась среди окрестных холмов, указывая своим видом на присутствие священного «иного» и «святость» места.
Осознав место как священное, люди начинали резко выделять его из окружающего пространства. Место, где явило себя божественное, становилось центром земли. Это понималось не в буквальном, геометрическом смысле – обитателей Иерусалима нисколько не смущало, что совсем близко находится Хеврон, тоже почитаемый как священный «центр» мира. Точно так же, когда позднее авторы псалмов и раввины называли Сион самым высоким местом на свете, для них не имел значения тот факт, что Западный холм на противоположной стороне Тиропеонской долины явно выше. Они описывали не физическую географию города, а его место на своей духовной карте. Сион воспринимался как высокая гора потому, что здесь люди ощущали себя ближе к небесам. И ровно по той же причине Сион был для них «центром» мира. Пребывание здесь позволяло соприкоснуться с божественным, а жизнь человека обретала реальность и смысл лишь благодаря такому соприкосновению.
В архаичных обществах люди селились лишь там, где ощущали возможность соприкасаться с божественным. В книге Элиаде «Священное и мирское» упоминается, что для австралийцев племени ахилпа была настоящей катастрофой утрата священного столба, который они носили с собой в своих странствиях. Этот столб представлял для них связь с небесами, и если он ломался, ахилпа просто садились на землю и умирали (Eliade, 1959, p. 33). Нам свойственно искать смысл; утратив ориентиры, мы перестаем понимать, как жить и куда деть себя в этом мире. По этой самой причине древние города строились вокруг храмов и святынь, отмеченных божественным Присутствием. Для людей древности священное было самой твердой реальностью, придающей осязаемость лишенному целостности существованию. Оно могло восприниматься как пугающее и «иное». Немецкий историк Рудольф Отто объяснил в своем классическом труде, который так и называется «Священное», что священное порой способно было внушать трепет и ужас. Но вместе с тем оно обладало свойством, которое Отто назвал латинским словом fascinans, – завораживало и неодолимо влекло, поскольку ощущалось как глубоко знакомое и очень важное для человека. Только постоянная связь с этой более могущественной реальностью позволяла древним людям сохранить свое общество. Цивилизация была хрупкой: города едва ли не в один день могли исчезать с лица земли, как и случалось в Палестине в раннебронзовом веке. Ни один город не мог надеяться выжить, не приобщаясь в какой-то мере к жизни великих и могущественных богов.
Иногда поиск священного и культ священных мест связывался с ностальгией по утраченному раю. Практически в каждой культуре можно встретить миф о золотом веке, когда на заре времен человек легко и доверительно общался с богами, когда божественное было не далекой и внезапной в своих проявлениях силой, а привычным атрибутом повседневной жизни. Люди обладали властью над миром, не знали ни смерти, ни болезней, ни разлада. Это изначальное состояние счастья и гармонии мыслилось как «правильное», в котором и должно было бы пребывать человечество, реальная же жизнь рассматривалась как следствие некой первичной ошибки. Древние стремились вернуться в Золотой век (Eliade, 1958, pp. 382–85), а мы сегодня, хоть и не верим уже в земной рай или в сад Эдема, точно так же тоскуем по чему-то иному, отличающемуся от нашего нынешнего неполноценного существования. В нас от рождения живет убежденность, что человеческая жизнь задумана не такой: мы алчем того, что могло бы быть, скорбим о быстротечности земного существования и проклинаем смерть. Нас не покидают мысли о более совершенных отношениях с миром, о целостной и гармоничной жизни в согласии, а не в вечной борьбе с природой и людьми. Эта тоска по недостижимому, безвозвратно утраченному раю находит в наши дни отражение в текстах популярных песен и художественной литературе, в утопических фантазиях философов, лозунгах политиков и рекламе. Психоаналитики говорят здесь о ностальгии, связанной с болью отрыва, которую мы пережили при рождении, когда были жестоко и безвозвратно выброшены из материнского чрева. Наши современники пытаются обрести эту гармонию первозданного рая в искусстве, наркотиках или сексе; в древности же люди старались селиться в тех местах, где, как им верилось, они смогут вернуть утраченную целостность.
Впрочем, мы не располагаем непосредственными данными о религиозной жизни Иерусалима в XVIII в. до н. э. В действительности после древнеегипетских проклятий в адрес Рушалимума упоминаний Иерусалима некоторое время вообще нет. XVII в. до н. э. был периодом расцвета Ханаана. Египетские фараоны были слишком заняты внутренними делами, чтобы проявлять интерес к «Ретену», и страна благоденствовала. В отсутствие угрозы со стороны воинственных египтян развивалась местная культура. Некоторые города сделались самостоятельными городами-государствами: в таких местах, как Мегиддо, Хацор и Шхем, найдены относящиеся к тому времени остатки архитектурных сооружений, предметов домашней обстановки, глиняная посуда, украшения. Однако при раскопках в Иерусалиме никакой керамики XVII–XV вв. до н. э. обнаружено не было. Возможно, Иерусалим тогда прекратил свое существование.
Можно с уверенностью утверждать лишь то, что в XIV в. до н. э. это место опять было обитаемым. К тому времени Египту удалось вновь утвердиться в Ханаане. Теперь фараоны воевали с империей хеттов, находившейся в Анатолии, и хурритским царством Митанни в северной Месопотамии. Перед лицом этих двух врагов египтяне считали необходимым обеспечить себе полный контроль над такой важной транзитной территорией, как Ханаан. В 1486 г. до н. э. фараон Тутмос III подавил в Мегиддо восстание ханаанских и сирийских правителей и превратил «Ретену» в египетскую провинцию. Ханаан был поделен на четыре административных района, а правители ханаанских городов-государств стали вассалами фараона – принесли ему личную клятву верности и были обложены тяжелой данью. Фараон, по-видимому, не предоставил им взамен ту помощь и поддержку, на которую они рассчитывали, зато позволил сохранить определенную независимость: Египет не располагал достаточными силами, чтобы полностью контролировать территорию страны. Правители могли собирать войска, вести междоусобные войны, захватывать новые земли. Но интерес к Ханаану стали выказывать и другие набирающие силу государства региона. С начала XV в. до н. э. в стране начинают утверждаться хурриты из царства Митанни. Этот народ отождествляют с упоминаемыми в Библии «хивеянами» или «хорреями». В отличие от местного семитского населения, хурриты были индоарийским народом. Они не пытались покорить Ханаан, но оказали столь сильное влияние на эту территорию, что египтяне даже стали называть ее «Хуру» или «землей хурритов». Хурриты жили среди местного населения и часто занимали высокие должности в городах-государствах; они принесли с собой аккадский язык, который в то время стал официальным языком дипломатии для всего региона, а также силлабическую клинопись.
Хурриты оказали сильное влияние и на Иерусалим (Ahlström, 1993, pp. 248–50). В XIV в. до н. э. вновь появились упоминания о нем как об одном из городов-государств Ханаана, правда, не таком значимом, как Мегиддо или Хацор. Его границы теперь простирались до владений Шхема и Гезера. Правителем Иерусалима был Абди-Хеба, его имя – хурритского происхождения. Сведения о Иерусалиме того периода передают нам клинописные таблички, обнаруженные в 1887 г. в Тель эль-Амарне. Они, по-видимому, представляют собой часть царского архива фараонов Аменхотепа III (1386–1349 гг. до н. э.) и его сына Эхнатона (1350–1334 гг. до н. э.). Архив содержит около 350 посланий от ханаанских правителей к их сюзерену – фараону. Как следует из этих документов, Ханаан в те поры бурлил, города-государства воевали друг с другом. Так, правитель Шхема Лабайю проводил жесткую экспансионистскую политику и сумел расширить свои владения на север до Галилейского моря, а на запад – до Газы. Правители жаловались также на внутренних врагов и просили фараона о помощи, но Египет в тот период воевал с хеттами и просьбы, похоже, не были удовлетворены. По-видимому, распри и междоусобицы в Ханаане устраивали египтян, так как при этом города-государства не могли объединиться, чтобы выступить против египетской гегемонии.
Из найденных в Эль-Амарне писем шесть принадлежат Абди-Хебе, который явно не относился к числу удачливых правителей Ханаана. Во всех письмах он в преувеличенных выражениях клялся в верности фараону и слезно умолял о помощи, которой, судя по всему, не получил. Абди-Хеба не мог в одиночку противостоять напору Шхема, а всех союзников он в конце концов растерял. Происходили беспорядки и в самом Иерусалиме, но Абди-Хеба не хотел, чтобы в город было послано египетское войско. Он уже достаточно натерпелся от рук плохо обученных и скудно снабжавшихся египетских воинов, которые, как он жаловался, ворвались во дворец и пытались его убить. Вместо этого Абди-Хеба просил послать пополнение в гарнизоны Гезера, Лахиша или Ашкелона. И добавлял: если помощь не поступит, земля Иерусалима неизбежно достанется врагам (Pritchard, pp. 483–90).
Почти с полной уверенностью можно утверждать, что египетские войска в поддержку Абди-Хебе так и не прибыли. Фактически нагорье тогда быстро превращалось в некую демилитаризованную зону (Ahlström, 1993, pp. 279–81). Так, укрепленный город Шило (библейский Силом) к началу XIII в. до н. э. совершенно опустел, и исчезли 80 % более мелких горных поселений. Некоторые историки полагают, что именно в те неспокойные времена Иерусалим населил народ, который Библия называет иевусеями. Однако другие, основываясь на письменных источниках, утверждают, что иевусеи, близко родственные хеттам, попали в Иерусалим лишь после падения Хеттской империи, находившейся на севере современной Турции, т. е. не ранее, чем в 1200 г. до н. э. (de Vaux, 1978, v. 1, pp. 6–7). Невозможно определить, чья точка зрения правильна. Известно лишь, что на данный момент археологические исследования не дают никаких оснований говорить об изменениях в составе населения Иерусалима в позднем бронзовом веке (1550–1200 гг. до н. э.) Выдвигалось и третье предположение – что иевусеи были просто аристократическим семейством, жившим в крепости, обособленно от остальных городских жителей. Возможно, именно иевусеи занимались восстановлением фортификационных сооружений на холме Офель и построили новый квартал на его восточном склоне, между стеной и вершиной холма. Именно здесь Кэтлин Кэньон раскопала несколько террас с каменной засыпкой, которые, как она решила, были построены на месте прежних крутых улочек и хаотично разбросанных домов, чтобы сделать склон пригодным для упорядоченной городской застройки. Эта работа заняла много времени; по мнению Кэньон, она была начата еще в середине XIV в. до н. э. и продолжалась вплоть до начала следующего столетия. Некоторые стены достигали 33 футов (около 10 м) в высоту; и строительство то и дело прерывалось из-за природных катаклизмов – землетрясений и оползней (Kenyon, 1974, p. 95). Возможно, террасы были не только жилыми, но и входили как составная часть в систему городских укреплений. Кэньон считает возможным отождествить их с «Милло», упоминаемым в Библии (Kenyon, 1974, p. 100): поскольку позднее цари Иудеи считали необходимым восстановить Милло, этот квартал, вероятно, выполнял военную функцию. Это вполне могла быть часть городской крепости на гребне Офеля. Есть также предположение, что название «Сион» первоначально относилось не ко всему Иерусалиму, а лишь к крепости, защищавшей город с северной, наиболее уязвимой стороны.
Похоже, что в эль-амарнский период Иерусалим оставался верным своему богу-основателю Шалему. Так, Абди-Хеба в своих письмах фараону упоминает «столицу земли Иерусалим, имя которой – Бейт-Шулмани», т. е. дом Шалема (Pritchard, 1969, p. 483). Однако исследователи считают, что именно хурриты принесли в город нового бога – Баала. Баалу, богу бури поклонялись в Угарите на сирийском побережье (Clifford, pp. 57–59), о чем свидетельствуют клинописные таблички, обнаруженные в 1928 г. в Рас-Шамре – современном сирийском городе на месте древнего Угарита. Здесь мы должны на короткое время прервать изложение и обсудить этот культ, поскольку в дальнейшем он оказал огромное влияние на религиозную жизнь Иерусалима.
Баал (первоначально Балу, в греческой транскрипции Ваал. – Прим. пер.) не был главой сирийского пантеона. Его отцом (и верховным божеством) считался Илу – это имя в форме «Эл» встречается и в древнееврейском тексте Библии. Илу обитал в шатре-храме на горе, возле слияния двух великих рек, которые были источником вселенского плодородия. Каждый год боги собирались в этом месте на Божественный совет, чтобы устанавливать законы мира. От Илу, таким образом, исходили закон, порядок и плодородие – то, без чего не могла выжить цивилизация. Но со временем Илу, как и другие верховные боги, сделался несколько абстрактной фигурой, и многие предпочитали поклоняться его более энергичному сыну Баалу, который разъезжал по небу на облаках и метал сверху молнии, давая проливаться животворным дождям на иссохшую землю.
Однако чтобы обеспечить плодородие, Баалу приходилось вступать в смертельные схватки. Обитателям Ближнего Востока жизнь часто представлялась отчаянной борьбой против сил хаоса, тьмы и смерти. Цивилизацию, порядок и созидание можно было обеспечить лишь ценой невероятных усилий. Из уст в уста передавались рассказы о титанических битвах, в которых боги на заре времен добыли свет из тьмы и порядок из хаоса, а неподвластные закону силы заключили в строгие границы. Так, в Вавилоне устраивались богослужения в память о битве юного воина бога Мардука с морским чудовищем Тиамат. Мардук убил Тиамат, рассек ее туловище на две части и из них создал мир. Существовали похожие сказания и о Баале. Согласно одному из мифов, он поверг семиглавого морского змея по имени Латану, – библейского Левиафана. Почти во всех культурах дракон или чудовище выступал как олицетворение не разделенной на части бесформенной стихии. Уничтожив Латану, Баал остановил возврат к лишенному формы и смысла хаосу, из которого однажды возникла жизнь, как божественная, так и человеческая. В этом мифе отразился страх полного уничтожения и исчезновения с лица земли – вполне обоснованный, особенно во времена первых цивилизаций, когда такая опасность существовала постоянно.
Тот же страх прослеживается и в легендах о других битвах Баала, где он сражался против стихий моря и пустыни – двух главных сил, угрожавших существованию древних городов Ближнего Востока. Море олицетворяло все то, что не было свойственно цивилизованному миру и чего он боялся, – отсутствие границ и четких очертаний, огромность, открытость и бесформенность. А пустыни непрерывно грозили поглотить плодородные земли, которые одни лишь были пригодны для жизни человека. В угаритских мифах рассказывается об отчаянной борьбе Баала с Йам-Нахаром (Йамму), повелителем морей и рек, и со страшным богом смерти, бесплодия и засухи по имени Мот (Муту). Угариты представляли себе смерть как прожорливое существо, вечно жаждущее плоти и крови человека. Лишь огромными усилиями далась Баалу победа над обоими противниками. Особенно страшной была битва с Мотом, которому, по-видимому, удалось пленить Баала в своем царстве – подземном мире, «бездне» наводящей ужас пустоты. Пока Баал был в плену, на земле стояла засуха, которая выжгла ее и превратила в пустыню. В конце концов Баал взял верх, но его победа не была окончательной. И Йам, и Мот выжили: устрашающая мощь Хаоса продолжала угрожать людям, а Смерть осталась неумолимой и неминуемой. Боги и люди должны были объединиться в нескончаемой борьбе против этих сил.
Но вернемся к Баалу. Чтобы отметить свои великие победы над врагами, он испросил у Илу позволения построить себе дворец. Это очень распространенный мотив в мифах древности. Например, когда Мардук создал мир, люди и боги общими усилиями возвели в центре земли город Вавилон, название которого означает «Врата богов». В Вавилоне боги могли каждый год собираться на Божественный совет; город был их домом в мире людей, а люди знали, что здесь можно общаться с богами. В центре города был выстроен комплекс Эсагила – храм Мардука и одновременно его дворец, где могущественный бог жил и творил закон, устанавливая божественный порядок через царя, своего наместника. Архитектура, тем самым, рассматривалась как проявление божественного замысла. Величественные каменные города, храмы и зиккураты представлялись древним настолько колоссальным свершением, что они были уверены: строители превзошли себя, превзошли возможности обычного человека. Эти сооружения постоянно напоминали людям об их совместной с богами великой победе над бесформенностью и хаосом.
Подобно Мардуку, Баал тоже нуждался в дворце, чтобы править богами. И лишь обретя достойное жилье из золота и лазурита на горе Цафон, он стал подлинным «Владыкой», в соответствии со значением своего имени. С этого времени Баал один мог править и богами, и людьми. Он провозгласил:
- [Ибо] я, и только я – тот, кто станет царем над богами,
- [кто] одаривает процветанием богов и людей,
- кто дарует благо всему живому на земле (Gibson, p. 66).
В своем чертоге Баал с возлюбленной супругой Анат празднует великие победы, восстановили порядок в мире:
- Не я ли уничтожил Йама, возлюбленного сына Илу…
- Не мною ли захвачен и покорен дракон?
- Это я уничтожил извивающегося змея,
- деспота с семью головами (Gibson, p. 50).
Угариты, чей город лежал всего в 20 милях от обители Баала на горе Цафон, считали, что живут во владениях громовержца, и потому ощущали причастность к его подвигам и триумфу. В угаритских гимнах Баал говорит о Цафоне: «священное место, гора моего наследия… избранное место… гора победы». Цафон был центром угаритского мира, «священной горой», «прекрасной возвышенностью» и «радостью всей земли» (Clifford, pp. 57–68; ср. Пс 48 (47):1-2). Благодаря тому, что здесь жил Баал, гора превратилась в земной рай, обитель мира, изобилия и гармонии. Здесь богу удалось «изгнать с земли войны, пролить благо мира в глубины земные», и любовь смогла «умножиться в глубине полей» (Clifford, p. 68). Стремясь приобщиться к этому божественному плодородию и умиротворению, угариты возвели у себя храм, который воспроизводил дворец Баала на горе Цафон. Согласно принципу imitatio dei, они в точности, до мельчайших деталей скопировали все, что было им открыто, дабы Баал стал жить у них и небеса прямо здесь, в их городе, сошли на землю, создав островок благодати посреди полного опасностей мира.
Присутствие Баала в храме было необходимым условием жизни людей в Угарите. Вступая в храм, они словно попадали в иное измерение бытия, воссоединяясь с обычно скрытыми от них естественными и божественными ритмами жизни. Им были внятны
- Речи дерев и шепот камней,
- Беседа небес и земли,
- Глубин и звезд.
- …молнии невиданные небесами,
- Речи, неведомые людям
- И непонятные толпам земных существ (Clifford, p. 77).
В древнем мире храм часто воспринимался как место прозрения, где человек учится видеть дальше и иным образом, чем в повседневной жизни, постигать суть вещей, пользуясь силой воображения. Особая архитектура храма и порядок богослужения, конечно, помогали людям представить себе более полное и осмысленное существование, но главное – задавали определенную программу действий. В своих ритуалах угариты воспроизводили великие битвы Баала и его воцарение на Цафоне, разыгрывая священную драму. Празднество в честь Баала устраивалось осенью и знаменовало начало нового года: победы бога изображались и повторялись, чтобы снова пролился животворный дождь и город был защищен от беззаконных сил разрушения. Такая имитация церемонии воцарения Баала делала Угарит частью «вечного наследия» (Clifford, p. 72) божества, прибежищем – как, по крайней мере, надеялись угариты – мира и изобилия.
Центральная роль в богослужении отводилась личности царя, который восседал на троне с головой, блестящей от елея: умащать полагалось волосы победителя, и царь был помазан как представитель Баала. Подобно другим царям на Ближнем Востоке, он считался наместником бога, и на него в связи с этим возлагались вполне определенные обязанности. В те времена жители Ближнего Востока не ожидали от религии слишком многого. «Спасение» не предполагало для них бессмертия – это был удел одних лишь богов. Людям же отводилась более скромная роль: помогать богам поддерживать на земле сносную упорядоченную жизнь, сдерживая враждебные силы. Война входила в число важнейших обязанностей царя – враги города часто отождествлялись с силами хаоса, поскольку точно так же несли уничтожение. И все же войны велись для сохранения мира. Во многих городах-государствах древнего Ближнего Востока в церемонию коронации входила клятва царя строить храмы богам и поддерживать их в должном состоянии. Храмы должны были гарантировать сохранение связи с миром божеств, жизненно важной для судьбы города. Но царю вменялось в обязанность также строительство оросительных каналов и укреплений. Город не заслуживал названия города, если не мог обеспечить гражданам защиту от врагов. Так, вавилонской эпос о Гильгамеше начинается и заканчивается призывом к народу Урука восхититься мощью городских стен и мастерством строителей:
- Поднимись и пройди по стенам Урука,
- Обозри основанье, кирпичи ощупай:
- Его кирпичи не обожжены ли
- И заложены стены не семью ль мудрецами?[4]
Царь Гильгамеш попытался преодолеть смертную природу человека: он оставил свой город и отправился на поиски вечной жизни. Это предприятие не увенчалось успехом, но, – говорит нам древний поэт, – Гильгамешу, по крайней мере, удалось обезопасить свой город от возможного нападения, а после странствий он вернулся в Урук – то единственное место на земле, где ему следовало находиться.
Еще одной задачей царя на древнем Ближнем Востоке было установление законов, которые чаще всего считались творением богов, богами же открытым царю. Так, на знаменитой стеле Хаммурапи, восходящей к XVIII в. до н. э., великий вавилонский царь изображен стоящим перед богом Шамашем, который, сидя на троне, вручает ему закон. В своем кодексе царь Хаммурапи заявляет, что боги призвали его,
- чтобы дать сиять справедливости в стране,
- чтобы уничтожить преступников и злых,
- чтобы сильный не притеснял слабого[5].
Помимо поддержания материального благополучия города, царь должен был охранять и общественный порядок в нем. Не было проку в возведении укреплений против внешних врагов, когда жестокая эксплуатация, нищета и раздоры могли вызвать беспорядки внутри города. Поэтому царь видел себя пастырем своего народа – так объяснял это Хаммурапи в заключительной части кодекса:
- Я искоренил междоусобицы,
- улучшил положение страны,
- поселил людей в надежных местах и избавил их от страха. Великие боги меня призвали,
- и поэтому я – пастырь-миротворец, скипетр которого прям.
- Моя благая сень распростерта над моим городом,
- и я держу на своем лоне людей страны Шумера и Аккада.
- С помощью моей богини покровительницы
- они стали преуспевать,
- я привел их к благополучию
- и укрыл их своей мудростью.
Аналогичным образом, в Угарите считалось, что царь должен заботиться о вдовах и сиротах (Gibson, pp. 102–107). Обеспечивая справедливость и честность при совершении сделок, он смягчал последствия неурожаев и засух, сберегал плодородие земель – все это были непременные атрибуты божественного порядка. Город не мог бы стать островком мира и благополучия, если бы его владыка не пекся в первую очередь о благе своих подданных (Gray, 1969, pp. 295–298). На всем Ближнем Востоке этот идеал социальной справедливости был краеугольным камнем представлений о священной царской власти и святом городе. Люди отлично понимали, что блага цивилизации доступны только привилегированной элите общества и хрупкий порядок легко может быть разрушен недовольным простонародьем. Именно по этой причине так важна была для идеала мирного города битва за справедливое общественное устройство.
Значение справедливости хорошо видно на примере истории самого Угарита. Население собственно города – около 7000 человек – занималось в основном обслуживанием царя и его приближенных. Существование горожан обеспечивали лишь 25 000 жителей прилегающей сельской округи. Развитая цивилизация целиком покоилась на плечах бедных – понимание этого факта, возможно, отразилось в сказаниях о битвах Баала, где созидательность и порядок выступают как следствие подчинения одних другим. Со временем система утратила эффективность. В XIII в. до н. э. экономика пришла в упадок, сельские поселения опустели, и города-государства региона не смогли защитить себя от набегов «народов моря» с Эгейских островов и из Анатолии. Установление социальной справедливости было вовсе не благочестивой фантазией, а непременным условием благоденствия Святого города, как в те давние времена, так и позднее. Знакомясь с историей Иерусалима, мы еще не раз увидим, что деспотические режимы подчас сеяли семена собственной погибели.
До нас не дошло практически никаких сведений о религиозной жизни Иерусалима в бронзовом веке. Археологи пока не обнаружили ни следов храма иевусеев, ни текстов, аналогичных угаритским, где бы подробно описывался местный культ. И все же между текстами Угарита и некоторыми древнееврейскими псалмами, относящимися к культу горы Сион, наблюдается сходство, которое не может быть случайным. В псалмах, воспевающих воцарение Бога Израилева на горе Сион, попадаются дословные совпадения с угаритскими гимнами. Там восхваляется его победа над «Левиафаном» и драконом в день сотворения мира. Гора Сион, точно так же, как Цафон в угаритских гимнах, именуется городом мира, святой горой и наследием навеки ее бога. В древнееврейской Библии Сион один раз даже назван Цафоном. Известно, что сказания о Баале и его храме на горе Цафон существовали и у хурритов. Поэтому историки считают, что хурриты принесли с собой в Иерусалим культ Баала и внедрили угаритские представления о святом городе мира в израильский культ горы Сион (Clifford, в разных местах; Clements, p. 47; Ollenburger, pp. 14–16; Barker, p. 64; Kraus, pp. 201–204).
Жители древнего Ближнего Востока жаждали спокойствия и безопасности, а Иерусалим, похоже, мог обеспечить своим горожанам надежную защиту. Ему удалось благополучно пережить бурный период XIII в. до н. э., когда были заброшены очень многие поселения холмистой части Ханаана. В Библии говорится, что цитадель иевусеев на горе Сион считалась неприступной. XII в. принес новые опасности и новых врагов. Египет вновь стал терять контроль над Ханааном; Хеттская империя пала, на Месопотамию обрушились мор и голод. Достижения цивилизации вновь оказались хрупкими и недолговечными. Происходили большие переселения – люди искали себе новое пристанище. Могущественные империи клонились к закату, и их место начали занимать новые государства. Одним из них стала Филистия в южной части побережья Ханаана. Возможно, филистимляне входили в число «народов моря», которые вторглись в Египет, были отброшены и попали в вассальную зависимость от фараона. Не исключено также, что фараон Рамзес III специально поселил филистимлян в Ханаане, чтобы с их помощью управлять страной. На новой территории филистимляне переняли местные верования и жили в пяти городах-государствах – Ашкелоне, Ашдоде, Экроне, Гате и Газе. Когда Египет ослаб, Филистия сделалась практически независимой; вполне вероятно, что она даже фактически управляла Ханааном. Однако в XI в. до н. э. жители страны познакомились с новой, весьма агрессивной силой. В горах формировалось царство, которое было крупнее всех предыдущих государственных образований в Ханаане и в корне отличалось от них своим устройством. В конце концов оно окружило иевусейский Сион со всех сторон. Это было Израильское царство, которому предстояло навсегда изменить судьбу города.
Глава 2
Народ Израиля
Откуда же взялись древние евреи – «сыны Израиля»? Библия рассказывает, что это выходцы из Месопотамии. Некоторое время они жили в Ханаане, затем, около 1750 г. до н. э. двенадцать племен – колен Израилевых – переселились в голодное время в Египет. Там народ Израиля сначала процветал, но затем его положение ухудшилось, фараон обратил евреев в рабов. В конце концов, около 1250 г. до н. э. они под предводительством Моисея бежали из Египта и стали вести кочевой образ жизни на Синайском полуострове. Но евреи не считали Синай своим постоянным домом, ибо были убеждены, что их бог, по имени Яхве, пообещал им плодородную землю Ханаана. Моисей не дожил до того, как израильтяне вступили в Землю обетованную; это произошло при его преемнике Иисусе Навине. Под предводительством Иисуса Навина двенадцать колен Израилевых вторглись в Ханаан и захватили его силой оружия и именем своего Бога, – как принято считать, около 1200 г. до н. э. В Библии говорится о жестоком истреблении местных жителей. Утверждается, что Иисус Навин «поразил… всю землю нагорную и полуденную, и низменные места и землю, лежащую у гор, и всех царей их: никого не оставил, кто уцелел бы» (Нав 10:40; ср. Суд 1:21). Каждое из двенадцати колен получило во владение свою часть Ханаана, лишь на границе владений колен Иуды и Вениамина держался один город. Как признает библейский автор, «Иевусеев, жителей Иерусалима, не могли изгнать сыны Иудины, и потому Иевусеи живут с сынами Иуды в Иерусалиме даже до сего дня» (Нав 15:63). Спустя некоторое время Иерусалим станет религиозным центром Израиля, однако при первом явном упоминании в Библии он предстает как вражеская территория. Однако в последнее время историки стали скептически относиться к библейскому рассказу. Хотя археологи действительно находили следы разрушений на местах древних поселений в Ханаане, им не удалось проследить связь между этими разрушениями и приходом древних израильтян. В холмистой части Ханаана, впоследствии ставшей центральной областью Израильского царства, не обнаружено никаких признаков иноземного вторжения (Lane Fox, 1991, pp. 225–33). И даже авторы Библии признают, что Иисус Навин подчинил не всю территорию Ханаана. Он не сумел завоевать многие ханаанские города-государства и вообще не пытался выступить против филистимлян (см. Нав 17:11–18; Суд 1:27–36). Как можно видеть при внимательном изучении первых 12 глав Книги Иисуса Навина, основная масса сражений велась на очень небольшой территории, которая впоследствии отошла колену Вениамина (Soggin, pp. 141–43; Ahlström, 1993, pp. 347–48). В действительности библейское повествование в целом создает впечатление, что вторжение не было особо значительным событием в жизни местных племен. Некоторые специалисты – в основном американские и израильские – все-таки придерживаются мнения, что завоевание Ханаана происходило именно так, как описано в Библии, однако другие делают вывод, что вторжения как такового не было – Израиль обретал силу постепенно, мирным путем, поднимаясь изнутри ханаанского общества.
Не вызывает сомнений, что в конце XIII в. до н. э. израильтяне уже присутствовали в Ханаане. На стеле, поставленной в память об успешном походе фараона Мернептаха в 1207 г. до н. э., среди прочего сказано: «Израиль опустошен, его семени нет». Однако это единственное небиблейское упоминание Израиля, относящееся к описываемому времени. Полагали, что предшественником еврейских племен, возглавлявшихся Иисусом Навином, можно считать народ хабиру (хапиру, апиру), упоминаемый в различных надписях и документах XIV в. до н. э. Но очень похоже, что название хабиру относится не к этнической группе, а скорее к социальной прослойке ханаанского общества – изгоям, покинувшим свои города-государства по экономическим или политическим причинам. Иногда хабиру становились разбойниками, иногда воинами-наемниками (Ahlström, 1993, pp. 234–35, 247–48; Ben-Tor, p. 213). Безусловно, в Ханаане они воспринимались как разрушительная сила – скажем, упоминавшийся в предыдущей главе правитель Иерусалима Абди-Хеба испытывал в связи с ними большое беспокойство. Возможно, другое название древних израильтян – «иврим» («евреи») – связано с тем, что в Египте они действительно представляли собой пришлую группу. Однако это были не единственные хабиру в регионе.
Современные историки склонны связывать рождение Израиля с новой волной заселения холмистой центральной части Ханаана. К северу от Иерусалима археологами были обнаружены остатки примерно сотни неукрепленных сельских поселений, построенных около 1200 г. до н. э. Ранее эта местность пустовала, поскольку не была пригодна для сельского хозяйства, но появившиеся незадолго до указанного времени технические новшества сделали возможным ее освоение. Новые поселенцы вели скудное существование, в основном занимаясь разведением овец, коз и коров. Ничто не указывает на их чужеземное происхождение: материальная культура поселений, в сущности, та же, что и на прибрежной низменности. Отсюда археологи сделали вывод, что в поселениях на холмах обитали, скорее всего, уроженцы Ханаана (Mendenhall, 1973; Lemche; Hopkins; Coote and Whitelam, 1987; Martin; Williamson). Это были крайне неспокойные времена, особенно для городов-государств. Кто-то вполне мог перебраться в отдаленные горные районы, предпочтя трудную жизнь войнам и экономической эксплуатации, характерной для пришедших тогда в упадок прибрежных городов. Не исключено, что часть поселенцев составляли хабиру, а часть – кочевники, которых бурные времена заставили поменять образ жизни. Возможно ли, чтобы эти люди и были ядром Израиля? Во всяком случае, именно здесь в XI в. до н. э. возникло Израильское царство. Если так, то «Израиль» – это коренные хананеи, поселившиеся в холмистой части страны и постепенно осознавшие себя как единый народ. Естественно, время от времени у них должны были возникать конфликты с другими городами-государствами Ханаана – рассказы об этих междоусобицах послужили основой для повествования в книгах Иисуса Навина и Судей.
Но если древние израильтяне действительно были хананеями, то почему Библия так настаивает на том, что они – чужаки? Вера в свое иноземное происхождение – важнейший момент их самоидентификации. Через все повествование Пятикнижия, – первых пяти книг Библии, – красной нитью проходит мотив поиска Израилем своей земли. Невозможно представить, чтобы история Исхода была полностью вымышленной. Вероятно, какие-то хабиру все-таки бежали от подневольного труда на египетских фараонов, а позднее присоединилась к хананеям, поселившимся на центральных нагорьях. Даже в Библии есть указания на то, что не весь народ Израиля участвовал в Исходе[6]. В конечном итоге религиозные верования и мифология пришельцев из Египта стали доминирующей идеологией Израиля. История о божественном освобождении из рабства и особом покровительстве бога Яхве, вероятно, импонировала хананеям, которые и сами бежали от бессовестного угнетения, – в своих поселениях среди холмов они должны были чувствовать себя участниками захватывающего нового эксперимента.
Израильтяне начали записывать свою историю, лишь уже сделавшись значительной силой в Ханаане. Библеисты традиционно выделяют у Пятикнижия четыре источника, которые условно отождествляются с гипотетическими авторами. Два самых ранних источника называют «Яхвист» и «Элохист», в зависимости от того, как в них чаще именуется Бог Израиля – Яхве или Элохим. Вероятнее всего, они оба созданы в Х в. до н. э., хотя некоторые исследователи относят их к более позднему времени – VIII в. до н. э. Два других источника – Девтерономист (от «Девтерономион» – греческого названия книги Второзаконие) и Жреческий кодекс, – как считается, моложе. Их датируют VI в. до н. э., периодом вавилонского пленения еврейского народа и последующего возвращения евреев в Ханаан. В последние годы такой взгляд перестал устраивать некоторых библеистов; выдвигались и весьма радикальные предположения – например, что все Пятикнижие было написано одним автором в конце VI в. до н. э. Однако сегодня анализ этих ранних библейских текстов обычно все-таки основывается на гипотезе о четырех источниках. Исторические книги, повествующие о более поздних событиях в жизни Израиля и Иудеи, – Иисус Навин и Судьи, а также четыре книги Царств – были созданы в эпоху Вавилонского пленения авторами, которые рассматривали прошлые события в свете Второзакония и потому также условно обозначаются общим именем «Девтерономист», или «девтерономисты»; об их взглядах мы поговорим в главе 4. Во многих случаях историки-девтерономисты работали с более ранними письменными источниками и хрониками, однако использовали их для подкрепления собственной теологической интерпретации событий. Хронист, т. е. автор двух книг Паралипоменон (в западной традиции – Хроник), писавший, по всей вероятности, в середине IV в. до н. э., обращался со своими источниками еще свободнее. Таким образом, ни один автор не ставил себе задачу дать объективное описание событий – такое, какое отвечало бы нашим критериям исторической достоверности. Каждый из них донес до нас тот взгляд на прошлое, который был присущ людям его времени.
Особенно это касается рассказов о патриархах – легендарных прародителях еврейского народа Аврааме, Исааке и Иакове. Эти предания, вероятно, были записаны почти через тысячу лет после описываемых там событий и не историчны в нашем понимании слова. Библейские авторы ничего не знали о жизни Ханаана в XIX–XVIII вв. до н. э. – они не упоминают, например, о таком важном политическом факторе, как присутствие египтян. Но рассказы о патриархах важны тем, что по ним видно, как в эпоху создания Яхвиста и Элохиста начинала формироваться самоидентификация сынов Израиля как единого народа. В то время израильтяне верили, что ведут свой род от общего предка, Иакова, которому Господь в знак особого благословения дал новое имя – Израиль, означающее «пусть Бог покажет свою силу» или «боровшийся с Богом» (либо «борющийся за Бога»). У Иакова – Израиля было двенадцать сыновей, каждый из которых впоследствии стал прародителем собственного племени (колена). Существовали также легенды о деде Иакова, Аврааме, которого Господь избрал в основатели нового народа. Убежденность израильтян в том, что они происходят не из Ханаана, была так сильна, что они постарались проследить свою родословную до предков, живших в Месопотамии. Как считалось, примерно в 1850 г. до н. э. Господь явился Аврааму в Харране и повелел: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и дома отца твоего и ступай на землю, которую Я укажу тебе» (Быт 12:1). Этой землей был Ханаан. Авраам подчинился и покинул Месопотамию, но в Ханаане жил как чужеземец. У него не было там земельной собственности, пока он не купил для погребения своей умершей жены Сары пещеру Махпела в Хевроне.
Поиск своей земли – важнейшая тема всех рассказов о патриархах. И Авраам, и Исаак, и Иаков остро ощущали свое положение чужеземцев на землях Ханаана (см., например, Быт 23:4). Так, сразу вслед за описанием прибытия Авраама в Ханаан, Яхвист напоминает читателю, что «в этой земле тогда жили хананеи» (Быт 12:6). Это очень важный момент. Много раз на протяжении истории Иерусалима и Святой земли евреи, христиане и мусульмане приходили сюда и обнаруживали на месте, которое считали своим по праву, других обитателей. Все пришельцы должны были как-то справиться с тем обстоятельством, что до них город и земля уже успели стать священными для кого-то еще, а обоснованность предъявляемых ими претензий во многом будет зависеть от их отношения к предшественникам.
С представлением о том, что до избранного Богом народа землю Ханаана населяли иные племена, можно связать постоянно повторяющийся в рассказах о патриархах мотив предпочтения Богом второго, а не первого сына. Так, у Авраама было двое сыновей, и первенцем был Измаил, рожденный Агарью, служанкой бездетной жены Авраама Сары. Но когда по явленному Богом чуду у престарелой Сары родился сын Исаак, Бог велел Аврааму пожертвовать Измаилом ради Исаака: Измаил тоже станет отцом великого народа, но имя Авраама должен унаследовать Исаак. Авраам вновь подчинился и отослал Агарь с Измаилом в пустыню восточнее Ханаана, где они неминуемо погибли бы, если бы не заступничество Бога. Их дальнейшая судьба представляла мало интереса для библейских авторов, но, как мы увидим в главе 11, много веков спустя на Иерусалим заявил права народ, считавший, что происходит от Измаила. В следующем поколении Бог опять выбрал младшего сына. Беременная жена Исаака Ревекка почувствовала, как два близнеца бьются друг с другом в ее чреве, и Господь сказал ей, что это два враждующих племени. Когда настал момент рождения, второй из близнецов появился на свет, держась за пятку своего брата Исава, и получил имя Иаков, что означает «держащийся за пятку» или «вытеснивший, перехитривший»[7]. Когда братья подросли, младший ухитрился провести пожилого и почти ослепшего Исаака и получить отцовское благословение, которое по праву принадлежало старшему. После этого Исав, как до него Измаил, был отправлен в восточные земли. Между прочим, ни Яхвист, ни Элохист не преуменьшают права обойденных старших братьев. История Измаила и Агари изложена с большим сочувствием, а горе обманутого Исава не может не вызвать сострадания у читателя. Во времена, когда создавались эти тексты, древние израильтяне не считали владение Землей обетованной поводом для вульгарного шовинизма – процесс их становления как народа на собственной земле осознавался как болезненный для других людей и неоднозначный с точки зрения морали.
В патриархах нет воинственного духа Иисуса Навина, который по повелению Бога уничтожал все алтари и религиозные символы исконных жителей Ханаана. Это более поздний идеал израильтян. Яхвист и Элохист рисуют патриархов по большей части уважительно относящимися к хананеям и их религиозным традициям. Согласно Библии, патриархи не делали попыток насадить в Ханаане своего Бога и не разрушали местных алтарей. Авраам, похоже, поклонялся Элу, верховному богу хананеев, почитавшемуся в Угарите под именем Илу. Отождествление Эла и Яхве – Бога Моисея – произошло позднее. Бог сам сказал Моисею из пылающего тернового куста: «Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем Моим Господь Я не открылся им» (Исх 6:3)[8]. А в те времена земле Ханаана еще предстояло открыть свою святость патриархам, ожидавшим, что Эл явится им в том или ином месте.
Именно так Иаков чудесным образом натолкнулся на Вефиль, когда покинул отчий дом, спасаясь от гнева обманутого им Исава. Он решил заночевать в месте, которое казалось ничем не примечательным: лег на землю, подложил под голову камень и заснул. А место оказалось особенным – в древнееврейском тексте здесь используется слово «маком», имеющее культовые коннотации. Во сне Иаков увидел возле себя лестницу, стоящую на земле и доходящую до неба. Это было классическое видение, нам оно напоминает о зиккуратах Месопотамии. На самом верху лестницы стоял Бог Авраама, который уверил Иакова в своем благоволении и покровительстве. Когда Иаков пробудился, его охватил ужас, который часто сопровождает встречу со священным. Он благоговейно произнес: «истинно Господь присутствует на месте сем; а я не знал!» (Быт 28:16). Место выглядело самым обыкновенным, а оказалось духовным центром, открывавшим человеку доступ к божественной сфере: «как страшно сие место! это не иное что, как дом Божий[9], это врата небесные» (Быт 28:17). Перед тем как уйти, Иаков поставил стоймя камень, на который ночью клал голову, и возлил на него елей, чтобы отметить место как выделенное из окружающего пространства.
Следующие поколения израильтян яростно ополчатся против ханаанских мацевот – стоящих камней, которые служили символами божественного. Но Яхвист и Элохист не усматривает ничего предосудительного в благочестивых действиях Иакова. В период создания соответствующих текстов израильтяне еще не были монотеистами в нашем понимании. Их Богом был Яхве, Бог Моисея, и некоторые считали, что весь народ должен поклоняться только ему. Однако даже они верили в существование других богов, а многие израильтяне, как мы знаем из пророческих и исторических книг Библии, продолжали поддерживать их культы. Странно было бы отрекаться от местных божеств, которые издавна обеспечивали плодородие Ханаана и присутствовали на священных «высотах» (бамот). Известно, что в Иерусалиме поклонение другим богам, кроме Яхве, продолжалось вплоть до разрушения города Навуходоносором в 586 г. до н. э. Как мы увидим дальше, евреи поклонялись в Иерусалимском Храме богине плодородия Ашере, супруге Эла, а также ряду сирийских астральных божеств, и участвовали в посвященных Баалу обрядах плодородия. Лишь после вавилонского пленения (597–39 гг. до н. э.) они окончательно пришли к убеждению, что Яхве – единственный Бог и больше никаких божеств попросту не существует. Тогда-то у евреев и появилось резко враждебное отношение ко всем без исключения «языческим» культам. А два самых ранних библейских автора, представляя себе религию прародителей, совершенно естественно воспринимали то, что Иаков узрел своего Бога в типично языческом культовом месте и отметил случившееся с ним чудо с помощью вертикально поставленного камня.
Тем самым, религиозный опыт патриархов – особенно тот, что описывает Яхвист, – временами должен был казаться последующим поколениям израильтян довольно сомнительным. Так, он явно противоречит иудейской традиции считать кощунственной любую попытку представить Бога в человеческом облике, – ведь Яхвист рисует нам явление Господа Аврааму в образе человека. Согласно рассказу книги Бытия, Авраам сидел возле своего шатра в дубраве Мамре, неподалеку от Хеврона, и увидел трех странников. Движимый истинно восточным гостеприимством, он пригласил их присесть отдохнуть, пока им будет приготовлена пища. Затем состоялась общая трапеза, и за ней по ходу беседы выяснилось, что трое гостей – это Бог Авраама с двумя своими ангелами (Быт 18:1–15). Иудеи очень ценят этот эпизод Библии, а для христиан он приобрел еще и особое значение как первое явление Бога человеку в виде Троицы. Важнейшая причина, по которой богоявление в Мамре играет столь большую роль, заключается в его символическом смысле. Одна из центральных истин монотеистических религий – та, что священное проявляет себя не только в святых местах: его можно встретить и в другом человеке. Отсюда следует, что мы должны с полным почтением и уважением обращаться со всеми, кто встретится нам на жизненном пути, – даже если они нам совершенно незнакомы, – ибо в них тоже заключена божественная тайна. Именно так поступил Авраам, когда радостно выбежал навстречу трем путникам и пригласил их поесть и отдохнуть. Встреча с Господом произошла благодаря учтивости патриарха и его сочувственному отношению к странствующим.
Как мы уже видели, святость на Ближнем Востоке обязательно предполагала справедливый социальный уклад и внимание к нуждам бедных и слабых. Это были важнейшие составляющие идеала святого града мира. В еврейской религиозной традиции, причем очень ранней, мы находим и еще более глубокое понимание святости человеческой природы. По-видимому, его можно проследить в бесхитростном и жутком рассказе об искушении Авраама Богом. Бог приказал Аврааму: «возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение» (Быт 22:2). А поскольку Авраам только что лишился своего старшего сына Измаила, это, как казалось, означало, что Бог не исполнит обещание сделать его отцом великого народа. Вся предыдущая праведная жизнь Авраама, наполненная преданным служением Богу, теряла смысл. И все-таки он, приготовившись исполнить повеление, отвел сына на вершину горы, указанной Богом. Но когда он уже собирался вонзить свой нож в грудь Исаака, ангел Господень приказал ему остановиться и вместо сына принести в жертву овна, запутавшегося рогами в чаще неподалеку. В книге Бытия нет упоминания о Иерусалиме, но не позднее IV в. до н. э. «гора Мориа» стала отождествляться с горой Сион (2 Пар 3:1). Считалось, что иерусалимский Храм стоял на том самом месте, где Авраам занес нож над связанным Исааком; позднее мусульмане воздвигли там Купол Скалы. Отождествление двух гор было важно в силу глубокого символического смысла легенды: остановив Авраама, Яхве объявил, что не хочет человеческих жертвоприношений, – запрет, который в древнем мире отнюдь не был всеобщим, – а принимает в жертву только животных. Сегодня нам отвратительна и мысль о том, чтобы принести в жертву животное, но нужно понимать, что в практике жертвоприношений, безусловно важнейшей для религиозной жизни древности, не было неуважения к животным. Совершая жертвоприношение, человек признавал тот горький факт, что его жизнь невозможна без убийства других живых существ; та же идея лежит в основе мифов о битвах Мардука и Баала. Люди, вынужденные поедать тела растений и животных, испытывали по отношению к своим жертвам чувство вины, признательности и благоговения. Возможно, именно этот сложный букет эмоций старались выразить доисторические художники, расписавшие стены пещеры Ласко. Сегодня мы тщательно оберегаем себя от мысли о том, что аккуратно упакованные куски мяса, которые мы покупаем в магазине, представляют собой плоть существ, убитых ради нас, но в древнем мире было иначе. И очень существенно, что в позднейшую эпоху возникновение иерусалимского культа связывали с моментом, когда людям открылась великая истина: жизнь человека настолько свята, что принесение в жертву другого человеческого существа недопустимо ни по каким, даже самым возвышенным мотивам.
Претерпев испытание, Авраам назвал место, где лежал связанный Исаак, «Яхве видит» (в русской Библии оно передано как «Иегова-ире» – Прим. пер.); Элохист комментирует это, приводя местное изречение: «На горе Иеговы усмотрится» (Быт 22:14). На священной горе, на полпути между землей и небесами человек мог и увидеть Бога, и быть увиденным Богом. Гора была местом откровения, прозрения, где человек учился смотреть иначе, чем в обыденной жизни, проникая своим воображением в вечную тайну бытия. Как мы увидим дальше, гора Сион в Иерусалиме стала таким местом для народа Израиля, хотя это было не единственное место, почитавшееся древними израильтянами как святое на раннем этапе их истории.
Иерусалим не играл роли в событиях, сформировавших духовный облик нарождающегося народа Израиля. Как мы видели, даже во времена, когда создавались книги Иисуса Навина и Судей, часть израильтян воспринимала Иерусалим как чужой, преимущественно иевусейский город. Для патриархов были важны Вефиль, Хеврон, Шхем (Сихем) и Беэр-Шева (Вирсавия); а Иерусалима они в своих странствиях, похоже, вовсе не заметили. Впрочем, однажды Авраам, возвращаясь из победоносного военного похода, повстречал Мелхиседека – «царя Салимского» и «священника Бога Всевышнего». Царь одарил Авраама хлебом и вином и благословил «от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли» – бога города Салима (Быт 14:17–20). В иудейской традиции Салим отождествляется с Иерусалимом, хотя это далеко не однозначно[10], а местом встречи Авраама и Мелхиседека считается источник Эйн-Рогель (в русской Библии – Ен Рогел, современное название – Бир-Айюб, «колодец Иова») в точке соединения двух долин – Кедронской и Хинном (Mazar, p. 157). Этот источник определенно имел в древнем Иерусалиме культовое значение, по-видимому, связанное с церемонией помазания царей города. По местной легенде, Мелхиседек был основателем Иерусалима, и от него вели свой род правители города[11]. Позднее, как мы узнаем из псалмов, иудейским царям из дома Давида, при помазании говорили: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека» (Пс 110:4). Таким образом, они наследовали этот древний титул наряду со многими другими, также связанными с традиционными иевусейскими культами горы Сион. Вполне возможно, что рассказ о встрече Авраама с Мелхиседеком появился, когда царь Давид захватил Иерусалим, и его цель – обосновать притязания Давида на царский титул. Действительно, содержание рассказа в том, что предок Давида Авраам и основатель Иерусалима приветствовали и одарили друг друга (Clements, 1965, p. 43). Но кроме того, Библия особо подчеркивает почтительность Авраама по отношению к жителям города – патриарх предлагает Мелхиседеку десятую часть добытого в походе имущества и принимает благословение «чужого» Бога, оказывая уважение людям и их традициям.
Бог Мелхиседека именовался «Бог Всевышний» (на иврите – «Эл Эльон»). Этот титул получил Яхве, когда ему стали поклоняться как верховному богу Иерусалима, и им же, среди прочего, величали в Угарите Баала, бога горы Цафон (Clements, 1965, pp. 44–47). Древние часто объединяли богов, это не считалось предательством или недостойным компромиссом. Боги рассматривались не как личности с отчетливо выраженной индивидуальностью, а как символы священного. Поселяясь в новых местах, люди нередко начинали сочетать собственный культ с культами местных божеств, так что «пришлый» бог приобретал черты и функции своих предшественников. Мы уже видели, что древние израильтяне считали одним и тем же божеством бога Моисея Яхве и Бога Всемогущего, которому служил Авраам. Оказавшись в Иерусалиме, они точно так же связали Яхве с Баалом, которому, по всей вероятности, поклонялись на горе Сион под именем Бога Всевышнего.
Иерусалим ни разу не упоминается в повествованиях об Исходе евреев из Египта – важнейших для иудаизма библейских текстах. Этот рассказ Библии носит мифологический характер и полон непреходящего духовного смысла. Он не преследует цели нарисовать картину событий, которая удовлетворила бы современного историка. Это прежде всего символическое описание освобождения и возвращения на родину, поддерживавшее еврейский народ в самые тяжелые моменты его долгой и трагической истории; оно также воодушевляло и до сих пор воодушевляет христиан, борющихся с несправедливостью и угнетением. И хотя в нем нет эпизодов, относящихся к Иерусалиму, традиции, связанные с Исходом, в дальнейшем заняли важное место в религиозной жизни города. События Исхода можно рассматривать и как версию ближневосточных мифов о сотворении мира и битвах богов. Отличие лишь в том, что они происходят не в первобытные, а просто в давние времена, и в результате рождается не вселенная, а народ (Smith, 1973, p. 110). Действительно, в мифах о битвах Мардука и Баала итогом победы выступает возведение города и храма, а логическим завершением мифа об Исходе становится построение народом своей страны. За время, которое охватывает повествование, Израиль, ведомый Богом, переходит от хаоса и небытия к реальному существованию. Яхве, подобно Мардуку, который рассек тело морского чудовища, чтобы сотворить мир, разделяет морские воды, чтобы сыны Израиля перешли на другой берег и спаслись от фараона и его войска. Как Мардук уничтожает полчища демонов, так Яхве топит египтян во вновь сомкнувшихся водах моря. Создание чего-то нового невозможно без разрушения – с этим мотивом мы еще не раз встретимся, рассматривая историю Иерусалима. Наконец, народ Израиля проходит через расступившиеся морские воды к спасению и свободе. Во всех культурах погружение в воду означает возвращение в первобытные воды, в изначальную стихию, приносящее освобождение от прошлого и новое рождение (Eliade, 1958, pp. 118–226). Таким образом, считалось, что вода обладает свойством восстанавливать, хотя бы на время, изначальную чистоту: пройдя сквозь море, Израиль стал новым творением Яхве.
Затем евреи направились к горе Синай. Там Моисей по освященному веками обычаю взошел на гору, чтобы на ее вершине встретиться со своим богом, и Яхве спустился к нему среди яростной бури в туче дыма от вулканического извержения. Народ держался на расстоянии, как ему и было приказано: сфера божественного представляла опасность для непосвященных, и – по крайней мере, так считалось в израильской традиции – в нее могла быть допущена лишь тщательно подготовленная элита. Здесь, на горе Синай, Яхве сделал Израиль своим народом и в подтверждение заключенного таким образом завета дал Моисею Тору, или Закон, куда входили Десять заповедей. Позднее Тора заняла главное место в религии иудаизма, однако, как мы увидим из дальнейшего, это произошло лишь после вавилонского пленения.
Наконец, прежде чем народу Израиля было позволено войти в Землю Обетованную, он должен был подвергнуться испытанию – сорок лет кочевать в пустыне. В этих странствиях не было романтики, Библия ясно указывает, что народ постоянно жаловался и роптал против Яхве: людей влекла прежняя жизнь в Египте, которая вспоминалась им как более легкая. В ближневосточных культурах пустыня прочно ассоциировалась со смертью и первичным хаосом. Вспомним, что сирийский бог пустыни Мот был также кровожадным повелителем Бездны, темной пустоты смерти. Иными словами, пустыня считалась местом, которое изначально было святым, но испортилось и сделалось демоническим (Smith, 1973, p. 109). В представлении израильтян пустыня так и осталась местом безысходного отчаяния: вопреки мнению некоторых библейских критиков, евреи не сохранили ностальгических воспоминаний о годах, проведенных там их предками. И у пророков, и в библейском повествовании мы раз за разом встречаем слова о том, что Бог заключил завет с Израилем «в пустыне, в степи печальной и дикой» (Втор 32:10), что пустыня – «земля незасеянная» (Иер 2:2), «земля безлюдная, ‹…› где нет человека» (Иов 38:26). Она постоянно грозит поглотить обжитые земли и превратить их в изначальное Ничто. Представляя себе разрушение города, древние израильтяне рисовали картину его превращения в пустыню, обиталище пеликанов и ежей, филинов и воронов, где протянуты «вервь разорения и отвес уничтожения» (Ис 34:11), где «нет человека, и все птицы небесные разлетелись» (Иер 4:25). В течение сорока лет – выражение, означающее просто очень долгий срок, – когда они должны были пробираться через эту демоническую область, сыны Израиля находились в состоянии символической смерти. Лишь затем Бог привел их домой.
Однако Бог не оставил свой народ в полном забвении. Как и у других кочевников, у древних израильтян был свой переносной священный символ, обеспечивавший их неразрывную связь с божественным, а следовательно, само их существование. У австралийских аборигенов эту роль, как мы помним, играл священный столб, а евреи повсюду носили с собой Ковчег Завета, который позднее стал важнейшей святыней Иерусалима. Большинство описаний Ковчега Завета, которые есть в Библии, происходят из довольно поздних источников, поэтому о его первоначальном виде можно только догадываться. По-видимому, это был ларец, внутри которого лежали скрижали с начертанным на них Законом, увенчанный двумя золотыми фигурами херувимов. Распростертые крылья херувимов образовывали спинку трона для Яхве (Исх 25:10–22, Втор 10:1–8). Известно, что пустой трон часто использовался как символ божественного: он приглашал бога воссесть среди поклоняющихся ему людей. В иудейской традиции Трон означает божественное присутствие. А для скитающихся по пустыне сынов Израиля Ковчег служил зримым знаком присутствия Яхве. Его несли левиты – представители колена Леви (Левия), назначенного священнической кастой Израиля; первосвященником был Аарон, брат Моисея. Изначально Ковчег Завета, похоже, был военным талисманом, потому что его священная сила – подчас смертоносная – защищала народ Израиля от врагов. Как рассказывает Яхвист, перед началом дневного перехода Ковчег осеняло облако, означавшее присутствие Яхве, и Моисей возглашал: «Восстань, Господи, и рассыплются враги Твои!» Вечером, когда израильтяне устанавливали скинию, Моисей возглашал: «Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым!» (Чис 10:35–36). Ковчег Завета заключал израильтян в своего рода кокон безопасности; поддерживая связь народа с божественной реальностью, он делал Бездну, которой была без него пустыня, пригодной для жизни.
До нас почти не дошло сведений о начальном периоде жизни израильтян в Ханаане. Согласно рассказу Библии, восходящему к Жреческому кодексу, евреи, поселившись в Ханаане, должны были установить в Шило (Силоме) скинию для Ковчега Завета. Подробное описание того, как сделать скинию, библейский автор вкладывает в уста самого Яхве, который говорит, обращаясь к Моисею на горе Синай. Если Ковчег действительно первоначально стоял в скинии, т. е. шатре, то культ Яхве был во многом схож с культом Эла. Эл тоже обитал в храме-шатре, был источником закона, а являясь людям как Господь Саваоф (Яхве Цеваот – Бог воинств), сидел на херувимах. Правда, из Первой книги царств можно заключить, что в Шило Ковчег Завета помещался в хехале (культовой зале) храма более традиционного типа (1 Цар 3:3). Однако древние израильтяне, видимо, поклонялись Яхве еще в нескольких храмах, находившихся в Дане, Вефиле, Мицпе (Массифе), Офре и Гаваоне, а также под открытым небом, на «высотах» (бамот). Некоторые из них, судя по всему, поклонялись и другим богам, поскольку Яхве в их представлении был чужим для Ханаана божеством, которое еще не обосновалось в этих местах, а по-прежнему обитает южнее – на Синае, в пустыне Фаран, на горе Сеир. Считалось, что он покидает «свою» территорию, когда его народ страдает, и на облаках летит по небесам на помощь. Именно так описывается его появление в некоторых ранних фрагментах Библии: – Суд 5:4–5, Втор 33:2, Пс 68 (67):8–11 (см. Clifford, 1972, pp. 114–23). Возможно, уже тогда у древних израильтян существовал ритуал, воспроизводивший богоявление на горе Синай, – рев труб имитировал раскаты грома, а фимиам – густое облако, окутывавшее вершину горы. Позже эти элементы вошли составной частью в иерусалимский культ. Церемония, таким образом, представляла собой инсценировку главного явления Яхве, и символическое повторение этого события должно было создавать ощущение, что бог снова пребывает среди своего народа (Clements, 1965, pp. 25–28). Тем самым Яхве, в отличие от большинства ближневосточных богов, сначала рассматривался как божество, способное перемещаться и не связанное с одним определенным святилищем. Кроме того, евреи чтили память своего освобождения из египетского рабства: с давних пор у них существовал весенний праздник, во время которого они имитировали последнюю трапезу в Египте, когда Ангел Смерти миновал их, но поразил всех первенцев египтян. Впоследствии этот семейный праздник получил название Песах – Пасха.
К 1030 г. до н. э. у древних израильтян, расселившихся в северной части нагорной страны, сформировалось сильное чувство солидарности и сродства. Они стали осознавать себя единым народом с общими корнями. Иисуса Навина уже не было в живых, и народом правили судьи, или вожди; но израильтяне пожелали иметь своего царя, как у других народов. Библейские авторы проявляют неоднозначное отношение к этому. Так, они повествуют, что Самуил, последний из судей, был против этой идеи, предупреждая народ, что царь будет угнетать и притеснять их (1 Цар 7:2–8; 10:11–27; 12). Однако, в сущности, создание Израильского царства было событием объективно неизбежным, предопределенным исторической логикой (Whitelam). Великие державы древности – Ассирия, Месопотамия, Египет – в то время уже клонились к закату, и наметившийся вакуум активно стремились заполнить мелкие государства – Аммон, Моав, Эдом (Идумея). Израильтяне оказались в окружении агрессивных соседей, стремившихся захватить холмы центральной части Ханаана. С востока то и дело совершали набеги аммонитяне и моавитяне, с запада теснили филистимляне. В одно из нашествий филистимляне захватили и разрушили Шило, забрав в качестве трофея Ковчег Завета. Правда, в скором времени филистимляне вернули его, испытав на себе смертоносную священную силу. Но теперь, не защищенный храмом или святилищем, Ковчег внушал страх и народу Израиля, поэтому его временно поместили в частном доме в городе Кирьят-Йеариме (Кириаф-Иариме) на границе израильских земель (1 Цар 4:1–11; 5; 6:1–7:1). В результате всех этих волнений израильтяне пришли к убеждению о необходимости сильной власти во главе с монархом, и Самуил, скрепя сердце, все же сделал Саула из колена Вениамина первым царем Израиля.
Саул правил на большей территории, чем любой ханаанский правитель до него. Его царство включало центральные нагорья по обе стороны реки Иордан, к северу от города-государства Иерусалима, остававшегося иевусейским. В Библии Саул – фигура трагическая: царь, наказанный Богом за то, что осмелился проявлять инициативу в вопросах жертвоприношения, мучимый приступами невыносимой тоски и видящий, как день за днем слабеет его власть. Но даже из этого довольно критического повествования можно сделать вывод о впечатляющих достижениях Саула. Сделав столицей город Гаваон, где располагался самый почитаемый в Израиле храм Яхве, Саул последовательно расширял свое царство, и жители холмов добровольно признавали его власть. Почти два десятилетия он успешно защищал Израиль от врагов, пока около 1010 г. до н. э. не погиб вместе с тремя сыновьями, среди которых был и храбрый Ионафан, в сражении с филистимлянами при горе Гильбоа (Гелвуй). После смерти его имя и его доблесть были воспеты в одном из самых трогательных стихотворных фрагментов Библии:
- Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей,
- не разлучились и в смерти своей.
- Быстрее орлов, сильнее львов [они были].
Эти скорбные слова звучали не из уст верных сподвижников Саула – так оплакивал царя бежавший от его гнева мятежник Давид. Когда-то Давид был прославленным воином в Израильском царстве, ближайшим другом Ионафана, супругом дочери Саула Мелхолы. Он один умел успокоить мятущуюся душу царя, прогоняя отчаяние песнями и стихами. И все же, как повествует Библия, Саул стал подозрительно относиться к Давиду из-за его славы, и тот вынужден был бежать, спасая свою жизнь. Сначала Давид с отрядом таких же, как и он, хабиру обитал в пустынных холмах к югу от Иерусалима, затем пошел на службу к филистимлянам, заклятым врагам Израиля. Весть о смерти Саула застала Давида из колена Иуды в Негеве, в городе Циклаг (Секелаг), пожалованном ему его новым господином, царем филистимского города Гефа (Гата) Анхусом[12]. Давид – одна из самых сложных фигур Библии. Поэт, музыкант, воин, мятежник, предатель, прелюбодей, террорист, он никак не был образцом совершенства, несмотря даже на то, что впоследствии его будут почитать как идеального царя Израиля. После смерти Саула его младший сын Иевосфей (Ишбаал) стал править отцовским северным Израильским царством, а Давид основал собственное царство в слабо заселенных южных холмах, со столицей в Хевроне. Возможно, филистимляне поначалу приветствовали этот шаг Давида, надеясь в его лице найти опору на центральных холмистых землях Израиля. Но Давид вел двойную игру и стремился к большему.
Иевусеи в Иерусалиме оказались, таким образом, зажаты между двумя соперничающими царствами – северным Израильским, которым правил Иевосфей, и южным Иудейским, во главе с Давидом. Однако Иевосфей был слабым правителем и, по-видимому, потерял часть земель отцовского царства. Кроме того, у Иевосфея произошла серьезная размолвка с его главным военачальником Авениром, и тот переметнулся к Давиду. Через семь с половиной лет после того как Давид стал царем в Хевроне, Иевосфей был убит, а убийцы бежали к Давиду. Час Давида настал. Он осторожно отмежевался от смерти Иевосфея, приказав казнить убийц. Как муж дочери Саула, Мелхолы, Давид имел некоторые (правда, довольно шаткие) основания претендовать на престол Израильского царства. Вскоре к нему прибыли представители северных колен, заключили с ним договор в храме Яхве в Хевроне и помазали его царем Израиля. Теперь Давид стал царем объединенного Израильско-Иудейского царства. Но посреди владений Давида находился иевусейский Иерусалим, который он вознамерился сделать своей столицей.
Глава 3
Город Давидов
Иевусеи были убеждены, что Давиду никогда не завоевать их город. Возможно, Иерусалим в те времена и не был самым почитаемым или могущественным из всех городов-государств Ханаана, но в сравнении с новообразованным царством Давида он был достаточно древним, имел мощные укрепления и с годами снискал славу неприступного. Когда войско Давида подступило к подножию горы Офель, иевусеи с городских стен принялись осыпать Давида насмешками и язвительно выкрикивать: «Ты не войдешь сюда; тебя отгонят слепые и хромые» (2 Цар 5:6). Не исключено, что они действительно вывели на городские стены слепых и хромых горожан, как было в обычае у хеттов, – чтобы показать врагам, чем грозит им попытка прорваться в крепость[13]. Но Давид не устрашился. Он пообещал, что первый, кто поразит иевусея, станет командиром над его армией. Сделать это удалось старому товарищу Давида Иоаву, сыну Цруи (Саруи). Возможно, Иоав пробрался в цитадель через «шахту Уоррена», водоводу, по которому вода поступала в город из источника Гихон (2 Цар 5:8; 1 Пар 11:4–7)[14]. Нам не известно в точности, каким образом Давид сумел взять Иерусалим: библейские тексты на этот счет отрывочны и туманны. Однако приход Давида стал переломным моментом в истории города, событием, отзвуки которого слышны и по сей день. Иерусалим, до того момента игравший в Ханаане лишь второстепенную роль, оказался вовлечен в орбиту традиции, развившейся затем в исторический монотеизм иудеев, христиан и мусульман, и в результате стал одним из самых священных – и самых конфликтных – мест на земле.
Давид не мог этого предвидеть. Завоевав примерно в 1000 г. до н. э. Иерусалим, он, видимо, просто был рад, что устранил недружественный анклав в самом сердце своего объединенного царства и нашел себе подходящую столицу. Союз Израиля и Иудеи не был прочным. Жители северной, израильской части считали ее отдельным государством и, наверное, испытывали смешанные чувства по поводу подчинения Давиду, бывшему предателю. Править, как и прежде, из Хеврона было неразумно, это слишком явно подчеркивало бы связь Давида с его собственным царством – Иудеей. Иерусалим же был нейтральной территорией: он никогда не принадлежал ни Израилю, ни Иудее и не был связан ни с какими старыми племенными традициями. А поскольку город был взят собственным войском Давида, он, в соответствии с обычаями, существовавшими тогда на Ближнем Востоке, сделался личной собственностью царя и был переименован в Ир Давид – «город Давидов» (2 Цар 5:9)[15]. Таким образом, Иерусалим остался нейтральным, не принадлежащим ни Иудее, ни Израилю. Новая столица обладала и важными стратегическими преимуществами. Она была отлично укреплена и находилась ближе к географическому центру царства, чем Хеврон. Расположение на возвышенности защищало Иерусалим от внезапного нападения филистимлян, племен из Синая и Негева, а также аммонитян и моавитян, основавших свои царства на восточном берегу Иордана. Получив свою столицу, Давид стал полновластным правителем самого крупного объединенного царства, когда-либо существовавшего в Ханаане.
Как же выглядела столица Давида? По сегодняшним меркам она была крошечной – около 15 акров, основная часть которых, как и в других городах региона, была занята цитаделью, дворцом и домами приближенных царя, военных и гражданских. В общей сложности город мог вместить не более двух тысяч жителей. Кстати, в Библии не говорится, что Давид взял город: напротив, подчеркивается, что он захватил «крепость Сион», а потом поселился «в крепости» (2 Цар 5:8; 1 Пар 11:5). В Книге Иисуса Навина есть место, где Иерусалим назван «южной стороной Иевуса», как если бы автор считал город Иерусалим и крепость Сион разными объектами. (Нав 15:8). Может быть, Давид захватил только иевусейскую цитадель – совершил нечто вроде военного переворота? Действительно, Библия не упоминает ни о массовом истреблении жителей Иерусалима, подобном тем, что описаны в Книге Иисуса Навина, ни об их изгнании и поселении вместо них последователей Яхве. Все это позволяет предположить, что завоевание Иерусалима Давидом было не более чем «дворцовым переворотом», в ходе которого Давид с горсткой сподвижников сверг иевусейского царя и его ближайшее окружение, оставив нетронутыми сам город и его население. Конечно, это чисто умозрительная гипотеза, однако, как мы уже видели, при первом упоминании в Библии города Иерусалима автор говорит, что иевусеи и иудеи живут там бок о бок «даже до сего дня» (Нав 15:63).
Так что Давид, прославившийся массовым истреблением филистимлян и эдомитов, вполне мог оказаться для жителей Иерусалима справедливым и милосердным завоевателем, который не только не притеснял их, но и активно с ними сотрудничал, приближая к себе некоторых из них. Иисус Навин разрушал алтари иевусеев и растаптывал их святыни. Про Давида же нигде не говорится, чтобы он как-либо препятствовал отправлению местных религиозных культов. В действительности – дальше мы это увидим – верования и обрядность иевусеев в Иерусалиме влились в культ Яхве. Яхвист видит в Давиде нового Авраама: он убежден, что царство Давида стало исполнением древнего обещания, данного Богом, – потомки Авраама стали-таки могущественным народом и унаследовали землю Ханаана (Clements, 1967). Но Давид похож на Авраама и уважительным отношением к вере народа, на землю которого пришел.