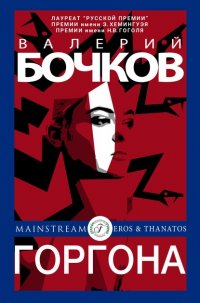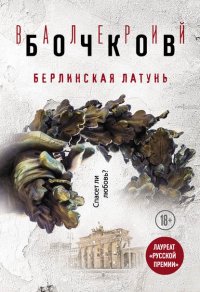Читать онлайн Коронация Зверя бесплатно
- Все книги автора: Валерий Бочков
Пролог
Отец любил повторять: «Каждый день живи так, будто это твой последний день. Однажды ты окажешься прав на все сто».
Для ресторанного саксофониста – достаточно скептический взгляд на вещи. Отец был музыкантом средней руки, не звездой, но вполне крепким профессионалом. Именно такие выдувают свои хриплые трели в джаз-оркестрах солидных ресторанов с дубовым паркетом и янтарными плафонами. Или играют на коктейлях и приемах, где кавалеры в смокингах кружат бледных дам с голыми спинами. Или развлекают сонных путешественников на шикарных океанских круизах.
Корабль назывался «Ливадия»; он казался мне произведением искусства, неземным, почти волшебным созданием. Пугал размерами. Из воды торчала циклопическая якорная цепь, мокрая и черная. Она уходила вверх и исчезала в клюзе, который маячил на жуткой верхотуре – никак не ниже пятого этажа. Над горизонтом плавилось остывающее солнце, ровный круг, похожий на распахнутую дверь в пылающую топку. Было шесть часов вечера.
Под навесом пирса царила нервная суета. От воды тянуло соленой сыростью. Отец курил, энергично прикусив золотой ободок сигареты, в одной руке – перетянутый ремнями рыжий скрипучий чемодан, в другой – концертный фрак в пластиковом мешке. Щурясь от дыма, отец весело оглядывал галдящую толпу поверх голов, словно искал знакомых. Саксофон в черном футляре с почти королевским вензелем «BК» он доверил мне.
Быстрые чайки с изнанки отсвечивали зеленым, а когда солнце коснулось воды, птицы вдруг стали розовыми. Стемнело почти сразу, закат выдохся, оставив сливовую полоску вдоль горизонта. «Ливадия» выдержала паузу и торжественно зажгла огни.
Проступая смутным, могущественным силуэтом и туманно сияя желтыми иллюминаторами, она, точно сказочный великан, загородила половину фиолетового неба. Корабль казался мне куском города – живым, обитаемым и шумным, по непонятной причине сползшим в море. Где-то рядом, перекрывая гулкое многоголосое эхо, затарахтела корабельная лебедка.
Пассажиры гуськом ползли вверх по трапу, озабоченно поглядывая вниз и назад. Смотрели туда – на пирс, на сушу, маясь в сумрачном чистилище каждого странника – считая муторные минуты между надоевшим прошлым и тревожным, но наверняка чудесным будущим. Ведь любое путешествие всегда выбор: еще есть время передумать, еще можно порвать билет, сдуть розово-голубое конфетти обрывков в черноту подтрапья. Еще есть время вернуться. Остаться в знакомом, пусть надоевшем своей обыденностью, но привычном мире. На твердой и надежной земле.
Вздохнув, словно спросонья, «Ливадия» подала голос. У корабельной сирены был тоскливый округлый бас, протяжный и тревожный. «До-диез», – подмигнул мне отец и показал куда-то наверх. Я поднял голову – там на верхней палубе застыл первый помощник капитана, строгий и невозмутимый, в белом кителе с золотыми галунами. За его спиной угольным минаретом высилась корабельная труба. Еще выше сияли звезды – мой глаз безошибочно выхватил три голубых бриллианта на поясе Ориона.
По палубе деловито проталкивались стюарды, юркие и изящные, они напоминали форель, идущую против течения. Медным набатом гудел гонг, от протяжного звона ныли зубы, кто-то простуженным баритоном повторял по радио, что до отправления осталось пятнадцать минут.
Отец остановил стюарда, показал билет.
Нас повели куда-то вниз. Повели узкими покатыми коридорами, тесными крутыми лестницами, через закоулки и лабиринты, мимо дверей с латунными цифрами. Шли целую вечность, мне казалось, что мы спускаемся в самое чрево могучего зверя. Я уже предвкушал увидеть его сердце – машинное отделение с циклопической турбиной, чугунные шестеренки, нет, шестерни высотой с дом, сияющие сталью поршни и шатуны. И там среди железа и жара – снующих в багровом мраке механиков и кочегаров. Сильных и ловких, блестящих от пота и черных от копоти, точно бесы в преисподней.
Стюард распахнул дверь, и мы оказались в нашей каюте. Я разочарованно опустил футляр на пол – вместо пиратских гамаков здесь были две вагонные полки. Вообще, если бы не иллюминатор, можно было бы решить, что ты в затрапезном купе ночного поезда. Отец оглядел жилище, сунул стюарду мятую купюру, сильной ладонью подтолкнул меня к выходу.
Мы снова оказались на палубе; теперь можно было спокойно оглядеться. Протиснулись к самому борту. Стало понятно высокомерие помощника капитана – сверху пирс выглядел бестолковым нагромождением построек и механизмов, освещенных белым больничным светом портовых прожекторов. Суетливая толчея провожающих вдруг улеглась, бледные пятна лиц застыли. Матросы отдали швартовы, потянулся наверх скрипучий трап. Якорная цепь тяжко заворчала, из воды показался огромный якорь, словно облитый черным лаком, он неспешно пополз вверх.
«Ливадия» вздрогнула. Я всем телом ощутил эту дрожь, точно внутри великана ожило мощное сердце. Вздрогнули портовые краны, вздрогнула темно-оранжевая башня собора с огромными часами. На освещенном циферблате стрелка воткнулась в десятку, и корабль, долго притворявшийся частью причала, наконец откололся от суши. Поплыли! От счастья у меня вспотели ладошки.
Лица на пирсе стали отодвигаться, фонари тронулись и тоже поплыли. Поплыли портовые краны, башня собора, острые, как пики, кипарисы на холме, поплыл и сам холм с мохнатым парком и серебряным куполом планетария. Тронулся и поплыл вечерний город. Мне стало жутко и радостно, я перегнулся, вглядываясь в неумолимо распахивающееся ущелье – там мерцала узкая полоска чернильной воды. Она ширилась, ширилась.
Пирс отодвинулся неожиданно быстро: когда я оторвал взгляд от воды, причал уже превратился в мутное пятно на берегу. Город потускнел, растянулся вдоль берега и стал похож на путаницу новогодних гирлянд. Он теперь зримо уходил назад. Появилось странное чувство – смесь легкой грусти с ощущением свободы. Ощущение свободы росло, были в нем и страх, и тихий восторг, и предвкушение чего-то неизвестного, но непременно интересного. Может быть, даже опасного. Я еще раз взглянул на полоску тусклых огней и улыбнулся: все, что осталось там, на берегу, вдруг перестало иметь значение, все стало скучным и совсем неважным.
Притихшие пассажиры рассеянно потянулись по каютам. Стало свободнее, рядом с нами оказалась глазастая брюнетка с ярким ртом, красным, как мокрый леденец. Она громко смеялась – это отец что-то азартно рассказывал ей. От брюнетки приторно пахло прелыми розами. У нее была белая шея с голубоватой жилкой, как у грудного ребенка. Мне стало противно, и я снова повернулся к морю. Земля пропала, от города остался едва уловимый отсвет, похожий на снежную пыль, да еще тусклый глаз маяка, уныло моргающий с безнадежным упрямством.
Брюнетку как-то звали, Лола или Нона, что-то созвучное с цветом ее липких губ. Я подглядывал, как отец целовал ее на корме за шлюпками, как она закидывала назад голову и глухо смеялась, словно полоскала горло. А отец мял ее грудь в белой блузке, отвратительно яркой на фоне бархатного неба. И сонная звезда, прочертив дугу, тихо падала в лиловое море.
Отец был однолюбом. Все его девицы с большим или меньшим успехом могли бы сойти за мою мать. Внешне, разумеется. При определенном освещении, под нужным углом, при достаточной удаленности или неважном зрении. Я уверен, что отец любил мать не меньше меня. Мы оба тосковали без нее, просто каждый по-своему. В апреле мне стукнуло двенадцать, отцу еще не исполнилось сорока.
Мать мне всегда вспоминается почему-то зимняя – в морозной шубе с холодным, звериным духом пушистой шерсти. Вот она осторожно ступает мелкими шагами по нашим обледенелым мостовым, с изящной осторожностью, грациозная, как циркачка на звонкой проволоке под самым куполом. Живое дыхание искрится мутным паром в желтых фонарях, тихий смех, тонкие пальцы – все это где-то в районе Кудринской. Пахнет елкой, хрустит снег, плитка шоколада тает в моем кармане. Уже нет и Кудринской, нет матери, уже почти нет и меня.
Тогда, на палубе, я больше всего боялся, что отца застукают. Выйдут на корму какие-нибудь пассажиры полюбоваться ночным небом или появится строгий помощник капитана с золотыми галунами. Не знаю, почему меня это так тревожило. Я прятался в полосатой тени шезлонгов, кусал губы. Ледяная рубаха прилипла к спине, я прислушивался к странным корабельным звукам – утробному гулу, низкому, на одной басовой ноте, к мощи гигантского мотора, к плеску воды где-то внизу. К стонам Лолы или Ноны.
Наконец все закончилось. Они сидели у лодки, закрытой брезентом и похожей на спящего носорога. Лола (пусть будет Лола) нашла свой лифчик, сунула его в сумку, звонко щелкнув кнопкой. Отец затянулся, выдул дым сизым столбом вверх, передал сигарету девице. Лоле. Дотянулся до бутылки, запрокинув голову, сделал несколько глотков. Заговорил. Голос был странный, монотонный, таким бредят или разговаривают во сне. Речь шла обо мне.
– Я будто стесняюсь своей любви к нему. А ведь это самая естественная вещь на земле – любовь отца к сыну. – Он замолчал и добавил: – Ну, не считая любви матери, но в нашем случае…
Мне было стыдно и страшно. Стыдно от того, что он, мой отец, вот так, в легкую, раскрывает душу первой подвернувшейся дуре-девке, этой Лоле-Ноне. Этой безмозглой кукле. Страшно, что я сейчас услышу что-то такое, после чего уже невозможно будет жить по-старому.
– Это единственная страсть, которую я не способен выразить. На выходе из моей души обнаруживается постный бульон. Вроде бесплатного супа… Бесплатный суп, которым я кормлю самого близкого мне человека. Душевная инвалидность какая-то…
Он вынул сигарету из Лолиных пальцев, глубоко затянулся.
– Я вспоминаю своего отца… – Он выпустил дым. – Вспоминаю ту же неловкость жестов, казенность слов. Отчего? И почему я прохожу тот же путь? Мучительный и глупый. Почему я не лучше, не умнее? Почему я ничему не научился? Ведь я на своей шкуре все это испытал и совсем не хочу того же для своего сына!
Отец щелчком выбросил сигарету. Окурок не перелетел через борт, а, ударившись в поручень, рассыпался рыжим фейерверком. Повисла тишина, потом где-то на нижней палубе уронили поднос, полный стекла.
Память собрала странную коллекцию событий, лиц, фраз, необъяснимую своей случайностью, эклектичностью. Я отчетливо помню тот оранжевый фейерверк и тот стеклянный звон. Почему именно это? Полное отсутствие системы, элементарной логики, меня, человека вполне рационального, отчасти расстраивает. Почему застрял в памяти стюард в тесном кителе и с острым кадыком, на кадыке рубиновый штрих – порез от бритвы, зачем мне нужен каютный запах – странная смесь прибоя и прачечной, отчего я не могу вытрясти из головы ту толстую тетку – она валялась на палубе, как глупая кукла с голыми грязными пятками, а на нее наступали бегущие ноги пассажиров? Эти пустяковые обрывки, туманные и безобидные, имеют гнусное свойство (обычно ночью, под утро) сплетаться в крепкую петлю, уверенно стягивающую мой мозг, мое сердце, мою волю.
Третий вечер на «Ливадии». Мы неслись на запад, в сторону малинового солнца, большого и страшного, как окно в ад. В круглой дыре жидко пульсировала лимонная лава, пузырилась ртуть. Солнце коснулось горизонта и будто сплющилось, я стоял на носу и до слепоты пялился в страшную дыру в небе. Еще страшнее была та спешка, с которой «Ливадия» неслась вперед. От вибрации зудели руки, сжимавшие горячий поручень, щекотало в небе, палуба под подошвами моих теннисных тапок тревожно гудела. Мы шпарили так, словно боялись опоздать.
Ну и конечно, опоздали – солнце село без нас.
В тот вечер отец играл Дебюсси. Играл отменно, звук получался летящий, яркий и светлый. Почти божественный. Может, это был какой-то тайный знак оттуда, сверху? То особое состояние, когда каждое дивное глиссандо за тебя выдувал чуткий ангел и мелодия сама сплеталась в идеальный узор, отец называл «экстазом святой Терезы». По его признанию, случалось такое не часто.
Отец, подавшись вперед, стоял на самом краю полукруглой эстрады, золотой «Бюффе-Крампон» сиял в его руках, как языческий идол. Будто жрец в трансе, отец чуть покачивался в такт, словно помогал звукам, нежно подталкивая их в зал, к людям. Люди по большей части пили, смеялись и болтали. Не слушали. Я не уверен, что, кроме нас двоих, кто-то вообще понимал, насколько волшебно играл сегодня отец. Разумеется, за исключением ангела, причастного к процессу, уж он-то наверняка знал, что тут творится.
Я разглядывал пассажиров, постепенно наливаясь злобой ко всем этим тугоухим обжорам и пьяницам, к их хохочущим подругам, которых я уже почти поголовно классифицировал как рыбообразных и птицеподобных. В исключение угодили две хавроньи – маленькая и покрупней, да еще картонный муляж моей мамы по имени Лола. Было девять часов вечера. Никто, включая меня, не знал, что через четыре с половиной часа «Ливадия» налетит на плавучую мину, начнется пожар, двери между перегородками не выдержат напора воды и корабль затонет через сорок пять минут после взрыва. Экипаж успеет спустить всего четыре шлюпки. Спасется тридцать два человека.
В момент взрыва я был на палубе. Началась паника. Какой-то матрос – спаси бог его душу, – нацепил на меня спасательный жилет и выкинул за борт. Я видел, как на корабле что-то взорвалось. Столб белого огня полыхнул до самых звезд, осветив пустынную воду от края до края. Тугое эхо укатилось за горизонт, и сразу раздался железный стон, протяжный и жуткий, словно кто-то решительно смял стальной лист. Корпус корабля сложился пополам, и за несколько минут «Ливадия» ушла на дно. Меня накрыло волной, я потерял сознание. Очнулся я в шлюпке.
Четыре месяца я провалялся в больнице: сначала лечили пневмонию, потом перевели в психушку. С пневмонией все понятно – вода в конце сентября была ниже двадцати, психушка же требует некоторых разъяснений.
Меня уверяли, что отец погиб – утонул. При этом тело его не нашли. Поначалу я жарко спорил, пытался что-то объяснить, рассказать. А мне было что им рассказать. Врачи внимательно слушали мою историю, не возражали; для них мое поведение идеально укладывалось в «типичный патогенез посттравматического стрессового расстройства, вызванного единичной психотравмирующей ситуацией». Улыбчивая покладистость докторов и благодушная меланхолия от нарастающего числа разноцветных пилюль начали меня пугать, и я решил притвориться, что поверил в смерть отца и что моя навязчивая история была всего лишь галлюцинацией.
Дело в том, что когда я очнулся в шлюпке, там никого не было. Никого, кроме меня и отца. Он сидел на веслах, лицом ко мне. В белой фрачной рубахе с закатанными рукавами и черной бабочкой на шее. Он греб, упруго откидываясь назад всем телом и снова устремляясь вперед. Уже рассвело, и я отчетливо видел в молочной утренней мути его потные руки и белые костяшки крепких кулаков, сжимающих весла.
1
Автобус затормозил, остановился. Мотор продолжал тарахтеть. Снаружи зашаркали ноги, кто-то выругался, крикнул:
– Открывай, чего ждешь?
Шофер огрызнулся, сплюнул и заглушил движок. Я услышал, как открылась дверь. Напряг руки: сталь наручников до боли врезалась в запястья, я в который раз, компактно сгруппировав пальцы, попытался вытащить кисть – дохлый номер, Гудини из меня совсем неважный. Мешок на голове, стянутый у подбородка, мешал дышать. Сквозь вонючую тряпку угадывались пятна света, какие-то тени. Кто-то протопал по ступенькам, поднялся в автобус.
– Чего, только двое?
Я инстинктивно вжался в сиденье и зачем-то зажмурился. Чьи-то руки ухватили меня за воротник, потянули. Я послушно встал, сделал шаг, зацепился и грохнулся на пол. Кто-то, лягнув меня в ребра, заржал:
– Гляди, разлегся! Вот сволочь!
Шофер заржал в ответ.
Встать без помощи рук оказалось непросто, чертов мешок лез в рот, от тряпки воняло гнилым луком. Я ударился подбородком, но кое-как поднялся, мелко переступая, пошел по проходу.
– Стой! – Это шофер. – Ступеньки там…
Я застыл, плечом уткнулся в штангу у выхода. Начал шарить носком ботинка. Нащупал невидимый край, сделал шаг вниз, еще один. Земля оказалась ближе, чем мне казалось.
– Пошли! – Чьи-то крепкие руки, ухватив меня за куртку, куда-то потянули.
Мы шли по щебенке, вдали бубнило радио, передавали новости.
– Где майор? – спросил мой провожатый; у него был голос с южным, малороссийским говорком.
– А кто ж его знает!
Хлопнула дверь, мы вошли в какое-то помещение, тот же голос предупредил:
– Ступеньки!
Мы прошли гулким вестибюлем, вокруг слышались голоса, шаркали подошвы, где-то наверху надрывно ругалась женщина. Я снова споткнулся, провожатый, поймав меня за шкирку, выматерился.
– Погоди… – Его «г» звучало как «х». – Где майор? – снова спросил он у кого-то.
– Внизу, у себя. А зачем к майору?
– Я думал…
– Меньше думай! Давай его в накопитель, в общий. Там разберутся…
– Разберутся… – буркнул провожатый и стянул с моей головы мешок. – Пошел наверх!
Провожатый, совсем молодой парень в камуфляжном комбинезоне, подтолкнул меня в сторону лестницы. Я оглянулся: мы были в школьном вестибюле: справа – гардероб, слева – вход в столовую, посередине – дверь с табличкой «Медпункт». Я сам когда-то отмотал десять бесконечных лет точно в таком же здании на Пречистенке.
Мы прошли по лестнице, поднялись на второй этаж, мимо проскочили санитары с пустыми носилками. «Дурная примета», – подумал я, тут же вспомнив, что она про ведра. Меня втолкнули в просторную комнату, очевидно, кабинет истории. Над коричневой доской висел цветной портрет Петра Первого, похожего на удивленного кота, рядом был прикноплен лист ватмана с цитатой, старательно написанной плакатным пером: «Кто не знает истории, обречен повторять ошибки прошлого». Подписи не было.
За учительским столом два типа в штатском листали какие-то бумаги, перед ними лежала кипа разноцветных паспортов, валялись какие-то документы с фиолетовыми печатями. Столы и стулья были сдвинуты в угол класса, в другом углу молча теснилась небольшая толпа человек в пятнадцать, по виду иностранцы. Все явно нервничали. Провожатый пихнул меня к ним, сам подошел к столу. Один из штатских что-то ответил, поднял на меня глаза.
– Подойти! – негромко приказал он.
Я подошел, перед ним лежали два мои паспорта.
– Незлобин? – прочитал он мою фамилию в бордовом паспорте.
Я кивнул.
– Отвечать словами! – неожиданно заорал он. Его глаза за маленькими стеклами круглых очков в черной оправе по-рачьи выпучились.
– Да, – ответил я. – Незлобин.
– Двойное гражданство? – Он раскрыл мой синий паспорт.
– Нет. Я американский гражданин.
– Стало быть, это фальшак? – Он помахал паспортом с двуглавым орлом и зло шлепнул его на стол. – Липа?
– Вам видней. Мне его выдали в вашем консульстве год назад. В Нью-Йорке.
– А подробней можно? – спросил его напарник, линялый блондин с рыбьим лицом.
– Меня пригласили на конференцию, в Питер. Весной, прошлым апрелем, кажется… Там печати должны быть – въезд, выезд. Я просил поставить визу в мой американский паспорт, сотрудник консульства сказал, что проще будет сделать новый паспорт, российский…
Линялый взял русский паспорт, внимательно начал его листать.
В классе стоял спертый школьный дух – смесь мела, мокрой тряпки и страха. За плотно закрытыми окнами пестрели пыльные тополиные листья, уже было много желтых. Слишком много желтых для конца августа, подумал я, пытаясь вспомнить, какое сегодня число.
– А что за конференция? – спросил линялый, не поднимая головы.
– Вторая мировая война. Международная конференция… Я преподаю в Колумбийском университете.
– Войну преподаете? – не удержался и съязвил линялый.
– Социологию.
Линялый наклонился к напарнику, загородив губы ладонью, что-то сказал ему в ухо. Тот кивнул.
– Коломеец! – гаркнул он. – Этого тоже в обезьянник.
Никаких обезьян: то, что он называл обезьянником, на самом деле оказалось школьным подвалом. Конвойный снял с меня наручники, впихнул в тесную комнату и захлопнул дверь. Вдоль стен стояли лавки, крашенные коричневой краской, такой же краской были покрашены стены и потолок. Из трех лампочек горела одна, да и та еле-еле. В углу сидел миниатюрный мужчина, почти карлик, я сначала подумал, что это мальчишка.
– Шпрехен зи дойч? – настороженно спросил карлик.
Я владел немецким вполне сносно, запросто и без словаря читал «Шпигель», но из-за отсутствия разговорной практики постоянно сбивался на английский. Я сообщил ему об этом.
– У меня та же история с испанским, – тихо признался он. – Стоит забыть слово, тут же выскакивает французский эквивалент. Вы русский?
– Отчасти.
Над лавками к стене были прибиты доски с рядом крючков. И доски, и крючки тоже были выкрашены коричневой краской. Я посмотрел под ноги – маляр-маньяк не забыл и про пол. Я подошел к двери, тоже, разумеется, коричневой: это была толстая железная дверь с двумя запорами, как на корабле. Подвал мог служить убежищем на случай химической атаки – так по крайней мере рассказывали в моей школе.
– Это раздевалка… – догадался я. – Физкультурная раздевалка.
– Что? – настороженно улыбнулся карлик. – Что вы имеете в виду?
– Там спортивный зал. – Я указал в стену. – А тут раздевалка, школьная раздевалка. Для девочек.
На двери кто-то выцарапал чем-то острым, наверное, ключом (я в свое время для этой цели всегда пользовался английским ключом от нашей квартиры): «Алка – сос». Конец второго слова был затерт, скорее всего – самой Алкой.
– Что тут происходит? – шепотом спросил карлик. – Вы хоть что-нибудь понимаете?
Он встал и бесшумно подошел почти вплотную ко мне.
– Я прилетел в пятницу, ездили в Загорск, потом Третьяковка, что еще? – Он растерянно посмотрел на меня собачьим взглядом. – У меня билет на завтра. Восемь сорок… В восемь сорок утра вылет. Вы думаете, меня…
– Думаю, да, к вечеру все утрясется, – наверное, с излишней беспечностью сказал я. – Устаканится, как они тут говорят.
Карлик не понял моего перевода русской идиомы на немецкий, но улыбнулся, продолжая смотреть мне в глаза снизу вверх. Сквозь вонь масляной краски пробивался запах пота; я провел пальцами по двери, краска была скользкая, недавняя. Наверное, красили к началу учебного года.
– Какое сегодня число? – спросил я.
– Двадцать восьмое. Двадцать восьмое августа.
Да, наверное, красили к первому сентября. Я сел на лавку, вытянул ноги.
– У вас нет сигарет? – Карлик сел рядом, аккуратно сложил ладони, точно собирался молиться.
– Бросил… – Я прикинул в уме. – Уже шестнадцать лет не курю.
– Да я тоже… Просто подумалось…
– Не нервничайте. Улетите завтра в свою Германию.
– В Австрию, – поправил он. – Я из Линца.
– Серьезно? – Я уставился на него. – Бывают же совпадения!
– Что, вы тоже из Линца? – недоверчиво спросил он.
– Нет, нет. Я пишу как раз сейчас про Линц…
– А-а, – разочарованно опустил голову карлик. – Про него пишите?
– Про него… – сознался я. – Не только про него. В целом это достаточно скучная работа по девиантному поведению в массовом сознании…
– Не оправдывайтесь, это как каинова печать на городе. Как Содом и Гоморра. Стоит упомянуть название, так непременно и…
– А вы давно там живете? – перебил я его. – В Линце?
– Неужто я так скверно выгляжу? – улыбнулся он. – Нет, я родился гораздо позже, чем…
– Извините, – улыбнулся я в ответ. – Разумеется, нет. Я совсем не то имел в виду. Мне любопытно, что это за город – ощущения горожанина: закат на Дунае, как пахнут липы весной, шум вечерних кафе… Такая вот ерунда.
Он кивнул. Словно вспомнив, снял с правой ноги ботинок и начал старательно вытряхивать из него песок. Ботинок был из добротной рыжей кожи с рантом и толстой подошвой карамельного цвета. Закончив, он отряхнул руки, натянул ботинок и старательно завязал шнурок бантиком.
– Но вы ведь знаете, – детской ладонью карлик пригладил ровный пробор, – ведь он родился не в Линце. В Линц их семья перебралась, когда ему исполнилось девять лет…
2
В Линц их семья перебралась, когда Адольфу исполнилось девять. До этого отец таскал их с места на место с упорством старого цыгана: они жили в Браунау – на самой границе с Германией, в немецком городке Пассау, в Ламбахе, что рядом с Линцем, где отец ни с того ни с сего принялся разводить пчел. С медом ничего не вышло, пчелы передохли. Адольф к тому времени увлекся пением, пел в церковном хоре, даже подумывал пойти в священники. Внезапная смерть младшего брата Эдмунда потрясла Адольфа, он ушел из хора, стал замкнутым, мрачным.
В одиннадцать лет отец отправил его в платную школу в Линце. Деньги пришлось выкроить из тощего семейного бюджета, но оно того стоило – у отца, когда-то работавшего на таможне, была мечта сделать государственного чиновника и из сына.
– Что может быть лучше? Чиновник! – выпячивал худую грудь отец. – Когда я служил на таможне… – Дальше шли осточертевшие истории про форму из английского сукна, шинель с каракулевым воротником, большой дубовый стол с письменным прибором, подобострастных просителей, ожидающих приема.
– Чиновник?! – На сына эти рассказы производили обратный эффект. – Меня тошнит от одной мысли! Сидеть, как раб на галере, прикованным к письменному столу? Забыть о свободе? Добровольно посвятить всю свою жизнь заполнению анкет и формуляров? Никогда!
Учился Адольф отвратительно. Делал это сознательно, считая, что отец, устав от скверных отметок и жалоб учителей в конце концов сдастся. Исключение составлял единственный предмет – рисование, тут он был лучшим в классе.
– Только через мой труп! – заявил отец, услышав, что сын решил стать художником. – Даже и не мечтай!
– Безусловно, талантливый ученик, – вспоминал впоследствии профессор Хьюмер. – Однако талантлив он был лишь в некоторых областях. Весьма ограниченных. Тем более при полном отсутствии самоконтроля, болезненном самолюбии, авторитарности и нежелании подчиняться школьной дисциплине ожидать каких-то положительных результатов было бы, согласитесь, весьма наивно. Даже при всех способностях, упомянутых мной выше.
Адольф вспомнил этого профессора лишь однажды, охарактеризовав его как «патологического идиота».
– Оглядываясь назад, – говорил он, – я с удивлением обнаруживаю, что все эти учителя были чокнутыми. Ненормальными. В большей или меньшей степени. Назвать кого-то из них хорошим профессионалом просто не поворачивается язык. И уж совсем трагично осознавать, что именно такого сорта люди во многом определяли направление, которое выбирал молодой человек на первом этапе своего жизненного пути.
Он никого не простил. Даже спустя много лет, даже поднявшись на вершину власти. Даже когда армии под его единоличным верховным главнокомандованием на востоке дошли до Волги, а на западе стояли у Ла-Манша, он вспоминал:
– Наши учителя были настоящими тиранами. Никакого сочувствия, никакой жалости к юным душам. Единственная цель – набить наши мозги заумной трухой и превратить всех нас в дрессированных обезьян! Таких же цирковых макак, как они сами!
В самом начале января 1903 года во время утренней прогулки его отца хватил удар; отец умер тут же, на заснеженной тропинке, от легочного кровоизлияния. Адольфу было тринадцать лет. Мать продала дом, и они перебрались в Урфар, в тесную квартиру в пригороде Линца с видом на огороды и бараки рабочих бензольного завода.
Впрочем, следующие несколько лет стали самыми счастливыми годами в его жизни. Школу он бросил, часами бродил по улицам и площадям Линца, делал карандашные наброски готической церкви Святой Марии или копировал затейливую резьбу мраморной колонны Троицы с золотыми фигурками на макушке. Теплыми вечерами, лежа в траве на крутом берегу, наблюдал за тяжелыми баржами, ползущими вниз по Дунаю.
Много читал – в основном книги по истории и германской мифологии. Тогда, в оперном театре Линца, он впервые услышал Вагнера. Неукротимая мощь, языческая страсть, нечеловеческая монументальность этой музыки стали эстетическим фундаментом его зарождающегося мировоззрения. (Любопытно, что в собственном творчестве Адольф оставался робким миниатюристом, с нерешительным штрихом и линялой палитрой; его акварельные пейзажи были похожи на рисовальные упражнения прилежной девицы из хорошей семьи.)
Через тридцать лет, уже полностью утратив связь с реальностью, он планировал превратить Линц в культурный центр не только Третьего рейха, но и всего мира. В циклопическом «Фюрермузее» с фронтоном из ста дорических колонн должна была разместиться самая большая коллекция европейской живописи, составленная из лучших полотен, вывезенных из Лувра, Прадо, Уффици и Эрмитажа. Через Дунай должен был перекинуться самый большой мост в Европе «Нибелунгенбрюкке» с гигантскими конными статуями героев германского эпоса Гюнтером и Брунгильдой на одной стороне и Зигфридом и Кремгильдой – на другой. Планировалось строительство оздоровительного комплекса «Сила через радость» с олимпийским стадионом и бассейном, сам Адольф мечтал после войны уйти на покой и поселиться в Линце, архитекторы спроектировали даже мавзолей, в котором фюрер рассчитывал разместить свой склеп.
Но все это в будущем.
А пока он бродил по неторопливым тротуарам Линца, входил в перламутровую пятнистую тень цветущих вязов аллеи Брюкнера, шел мимо уличного кафе «Зоннтаг» с круглыми столиками на гнутых венских ножках под полосатыми маркизами, шагал мимо колониальной лавки с мешками кофе и чучелом тигра за пыльным стеклом витрины. Он шел неторопливо, осторожно, словно нес что-то стеклянное, хрупкое: внутри зрело новое, незнакомое чувство, чувство, которое он боялся расплескать. Это было чувство собственной исключительности.
3
Карлика звали Август, он торговал кухонной мебелью и был страстным рыболовом. Август специализировался на форели: я уже знал, чем отличается ручьевая форель-пеструшка от турецкой плоскоголовой форели и кумжи, что значит ловить внахлест и на мушку, почему на лесном озере предпочтительней вечерняя зорька, а на горной речке – утренняя. Когда он показывал, как правильно подсекать, дверь открылась и его увели.
Я встал, начал ходить из угла в угол – по диагонали получалось шесть шагов туда, шесть обратно. От духоты и вони начала болеть голова. Я снова сел.
Дверь приоткрылась, я встал. В щель протиснулась бритая голова.
– Август Цоллен… – бритый запнулся. – Цоллен…
– Его увели. Полчаса назад.
Дверь захлопнулась. Я снова сел. Вместо мыслей в мозгу бродила какая-то каша – я не мог сам понять, о чем думал. Думалось обо всем сразу и ни о чем конкретно; с настырностью заевшей пластинки в голове крутилась фраза Августа: «Ах, как форель-пеструшка идет на муху!»
Я опустился на пол, несколько раз отжался. Хотел отжаться раз пятнадцать, но сдался на восьми. Тяжело дыша, поднялся, сел на скамейку, попытался сосредоточиться. Ладони стали липкими, теперь от них тоже воняло масляной краской. Я начал тереть ладони о джинсы, тихо повторяя:
– Ах, как форель-пеструшка идет на муху…
Дверь снова раскрылась, это снова был бритый.
– На выход! – буркнул он. – Руки за голову!
Я поднял руки. Мы пошли по узкой лестнице вверх, прошли мимо распахнутой двери в спортзал – там на полу, на матах лежали какие-то люди. Воняло рыбным супом. Явно не форель, явно не пеструшка. Поднялись на третий этаж. Я шагал бодро, но конвоир время от времени по неясной причине все равно нетерпеливо подталкивал меня в спину.
Широкий длинный коридор заливал свет, в большие окна высовывались макушки тополей, за ними виднелись какие-то жилые дома с неопрятными балконами, к перилам одного был привязан оранжевый велосипед.
В коридоре топтались люди, в основном мужчины, похожие на туристов или партизан. Было и оружие, я заметил несколько охотничьих ружей и один десантный «калашников». Мужики стояли группами, курили, нервно плевали на пол. Кто-то громко и со смаком рассказывал что-то похабное, под конец все хором заржали. Небритый брюнет в пиратском платке на голове, вылитый абрек, недобро улыбнулся мне и чиркнул пальцем по своему кадыкастому горлу.
На дверях белели таблички с черными буквами: «Кабинет биологии», «Кабинет литературы». Рядом с кабинетом географии на стене висела репродукция картины Сурикова «Меншиков в Березове» с треснутым стеклом. Тут же стоял настоящий солдат в полевой униформе.
– К майору, – конвоир протянул мои паспорта солдату. – Западло. Из наших.
Майор оказался женщиной. Невысокой, со злым смуглым лицом. В ней было что-то воронье – не только масть, но и повадки – цепкий взгляд карего глаза, движение острого плеча. Она, не глядя, бросила мои документы на стол, до предела заваленный бумагами, газетами, какими-то папками и прочим хламом. В углу, прямо на полу, стоял допотопный телевизор, там шли новости, но звук был выключен. Я с удивлением узнал дикторшу: это была та же круглолицая хохлушка с Первого канала, постаревшая на пятнадцать лет.
– Цель приезда в Российскую Федерацию? – спросила майор, доставая сигарету из мятой пачки.
– Личные дела семейного характера, – ответил я. – Вы можете мне объяснить…
– Подробнее, – перебила меня майор. – Какие дела?
Она закурила, глубоко затянулась. Прикрыв глаза, выпустила дым в потолок. За окном хлопнуло несколько одиночных выстрелов. Я узнал звук «калашникова», сухой и какой-то несерьезный, точно стреляли пистонами из детского ружья. В свое время, после пятого курса, нас нарядили в военную униформу и сослали на три месяца в леса под Ковровом. Лето выдалось дождливое, мы жили в сырых палатках, Хетагурова с воспалением легких отправили в Москву, еще один парень, с двойной, почти дворянской фамилией, кажется, с романо-германского, отравился местным самогоном и угодил в госпиталь. Непохмелившиеся офицеры поднимали нас по тревоге, гнали через ночь, через лес. Мы на ощупь рыли окопы в жирной глине, выкладывали брустверы. На дне скапливалась грязная жижа, брезентовые сапоги промокали сразу и насквозь. По непролазной грязи мы подползали к каким-то заветным высотам, по сигналу бледно-розовой ракеты с истошными криками неслись на несуществующего врага, паля холостыми очередями из грязных тяжелых автоматов. Эти три месяца – июль, август, сентябрь – оказались, пожалуй, самыми бессмысленными месяцами в моей жизни.
– Какие дела? – повторила ворона-майор. – В ваших же интересах…
Ей стало лень заканчивать фразу, она снова затянулась и щелчком стряхнула пепел в сторону. Запиликал телефон, майорша нервно начала разгребать бумаги на столе, пытаясь его разыскать. Дурацкая мелодия повторялась снова и снова, папки поползли и с шумом грохнулись на пол.
– Да! – Она наконец нашла мобильник. – Слушаю!
Она вытянулась, явно звонило какое-то начальство.
– Сколько? – И после тревожной паузы: – Ясно. А Таманская?
Я пытался хоть что-то понять по ее лицу. Она, словно догадавшись, ушла к окну и отвернулась. Сутулясь, она иногда нервно дергала плечом, точно не соглашаясь с собеседником. Говорил в основном он.
Я разглядывал ее бритый мальчишеский затылок и забавные острые уши. Я подумал, что она гораздо моложе меня, что ей от силы лет тридцать. На майоре был десантный комбинезон с серо-голубым маскировочным орнаментом и черные сапоги на шнуровке. Бросив окурок на пол, она раздавила его толстой рифленой подошвой.
– Так точно. Восемнадцать ноль-ноль.
Я перевел взгляд на карту полушарий, висевшую на доске. Доска была темно-зеленой, а стены кто-то выкрасил в глухой розовый цвет, такой ветчинный и здоровый цвет, совершенно не гармонирующий с географией. На дальней стене висел портрет бородатого интеллигента в легкомысленной дачной шляпе. Он был похож на Мичурина, но при чем тут Мичурин? Какое отношение Мичурин имел к географии?
Майор нажала отбой, кинула мобильник на стол. Телефонный разговор ее явно озадачил: покусывая губы, она уставилась в угол, точно обмозговывая какие-то варианты, ни один из которых особо ее не устраивал.
– Вы знаете, кто это? – спросил я, кивнув на портрет.
– Миклухо-Маклай, – ответила она без запинки, словно ожидала моего вопроса. – А вы думали кто?
– А я думал… – Договорить я не успел, потому что на экране немого телевизора показали общим планом Лубянскую площадь.
Меня не очень удивило, что бронзовый Дзержинский вновь стоял на своем месте в центре клумбы на том же самом цилиндрическом пьедестале, похожем на перевернутый вверх дном стакан, – именно такой я обычно и вспоминаю площадь Дзержинского, с «железным Феликсом». Я вырос всего в десяти минутах отсюда, моя школа была совсем рядом. Я сбегал с уроков, мчался по Чистопрудному бульвару, потом переулками – Сверчков переулок, Девяткин, Армянский, мчался к «Детскому миру». Там, на третьем этаже, в модельной секции продавали миниатюрные, но невероятно точные копии всевозможных машин. Там был автобус «Икарус» с прозрачными стеклами, за которыми сидели крошечные туристы и шофер в фуражке, была пожарная машина с выдвигающейся лестницей, были маленькие двухмоторные самолеты, у которых крутились пропеллеры, крошечная «Лада» с открывающимся капотом и багажником.
Я замолчал, медленно подошел к телевизору и опустился на корточки. Оператор перевел камеру на «Детский мир». Левой половины здания не было. Из руин торчала арматура, и валил черный жирный дым. Перед фасадом стояли четыре пожарные машины, за ними толпились люди, запрудившие почти всю площадь. Камера поехала вбок, в кадр влез парень с микрофоном; он беззвучно раскрывал рот и нервно жестикулировал. Под ним шла бегущая строка, из которой мне удалось выхватить слова «министр иностранных дел» и «чрезвычайное положение».
– Что это за… – Я тихо выматерился и растерянно поглядел на майора.
Она опустилась на корточки рядом и включила звук.
– …международного терроризма… – У парня оказался не очень приятный тенор, говорил он взвинченно и находился почти на грани истерики. – Обезумевшие фашистские банды при попустительстве так называемых правозащитных организаций и при явной поддержке наиболее реакционных кругов Запада и Соединенных Штатов, спецслужбы которых разработали и осуществили…
Она выключила звук, повернулась ко мне:
– Повторяю вопрос: с какой целью вы приехали в Российскую Федерацию?
4
Двадцать второго августа ровно в четыре ноль пять утра меня разбудил телефонный звонок. Я запомнил время, потому что это было первое, что я увидел, – рубиновые цифры на моем будильнике. Я сшиб стакан с тумбочки, тот грохнулся о пол и смачно разлетелся вдребезги. В потемках я нашарил телефон, судорожно перебирая в уме всевозможные беды и несчастья, о которых некто спешил оповестить меня в столь ранний час.
Сипло каркнул в трубку:
– Але!
– Я тебя разбудила? – спросил невинный и жутко знакомый голос.
– Нет, – зачем-то соврал я, пытаясь проснуться.
Это была Шурочка Пухова. Моя первая жена, моя первая любовь – русская, московская.
Потом, уже здесь, в Нью-Йорке, я был женат на китаянке; мы жили в Сохо, она была художницей, нежной и тихой, с тонкой талией и разноцветным и невероятно детальным драконом, выколотым на мраморной спине. Жена курила опиум и много спала, а когда бодрствовала, писала свои картины – огромные полотна, похожие на аппликации позднего Матисса. Уверен, она даже не заметила, что мы развелись.
После я женился на американке. Она служила в адвокатской конторе на Мэдисон-авеню, работала рьяно, с каким-то остервенением, точно пыталась кому-то что-то доказать. В конце концов ее сделали партнером в фирме и кем-то вроде вице-президента. Ее зарплата стала превышать мою в шесть раз. Она уверяла меня, что это не имеет ни малейшего значения, я с ней соглашался, но под Рождество, когда она была в Лондоне (защищала какого-то негодяя из нефтяной компании), я собрал вещи и ушел.
С того Рождества прошло полтора года. Я по-прежнему (и по большей части) живу один. Наверное, это к лучшему. Если бы мне взбрело в голову пойти к аналитику, то я, скорее всего, услышал бы, что детская травма, вызванная смертью матери и гибелью отца, является причиной моей неуверенности в прочности взаимоотношений с представителями противоположного пола и препятствует созданию стабильной семьи.
Пусть так. Вину за все семейные неудачи целиком и полностью беру на себя. Впрочем, справедливости ради добавлю, что мое детство прошло вовсе не в сиротском приюте, среди казенных игрушек и тюремной мебели, что меня не истязали садисты-старшеклассники и не мучили воспитатели-маньяки.
Я вырос в семье тетки, отцовской старшей сестры со сказочным именем Виолетта (впрочем, все знакомые звали ее просто Валей), в пятикомнатной квартире на Пречистенке, доставшейся ей после недавно скончавшегося мужа – страшно засекреченного академика-атомщика. В его кабинете, сумрачном, как келья алхимика, среди фолиантов и кожаных кресел еще витал медовый дух трубочного табака, коллекция английских и датских трубок с почти ювелирными штампами «Данхилл», «Нильсен», «Формер» хранилась на столе в резном футляре рядом с массивным письменным прибором с фигурой Наполеона и старинными часами с бронзовой птицей, сжимавшей когтистой лапой умирающую змею неизвестной породы.
Кроме нас с теткой, в квартире обитали два черных пуделя, покладистых и добродушных, которых тетка на заре и под вечер степенно выгуливала по бульварам. Тетка окончила Московскую консерваторию, когда-то считалась неплохой пианисткой, концертировала, побеждала на каких-то конкурсах. О тех временах напоминал рулон старых афиш в кладовке да мрачный, как лимузин гробовщика, концертный «Беккер», что сиял черным лаком в углу нашей просторной гостиной.
Шурочка Пухова появилась в нашей школе в начале восьмого класса. К концу второй четверти я уже был по уши влюблен. Ее отца, плечистого здоровяка, похожего на циркового борца, а на самом деле – дипломата средней руки и наверняка чекиста, перевели в Москву из Латинской Америки. Из Мексики. В их квартире среди экзотического хлама, выставленного на обозрение – шитых золотом сомбреро, маракасов, черных в багровых розах веером – на самом видном месте висела фотография, на которой ее папаша был запечатлен в обнимку с Фиделем Кастро. Даже на черно-белом снимке бросалось в глаза, как здорово они оба загорели.
Любовь, хвала Амуру, Психее, Венере и прочим, кто отвечает наверху за наши глупости, оказалась взаимной. Я и сейчас, закрыв глаза, могу воскресить отзвук того безумного чувства: смеси восторженного преклонения с мучительно бесстыдной похотью. Моя любовь напоминала сумасшествие, Шурочкина – отличалась рациональностью. Тут мой воображаемый аналитик, следуя учению великого Фрейда, непременно сделал бы заключение, что в этом случае произошла сублимация потерянной матери юной подругой, наделенной авторитарными качествами. Пусть так, аминь!
Шурочка отдалась мне в день моего рождения. Мне исполнилось пятнадцать.
Был декабрь, наши отношения подбирались к первому юбилею. Они пережили несколько страстных ссор, пару недельных разрывов, летние каникулы, которые Шурочка провела со своей коматозной мамашей по имени Римма Павловна в каких-то мидовских пансионатах – июль в Паланге, август где-то под Сухуми.
Мы уже давно изводили друг друга до обморока, до озноба – в полутемных парадных, в душных кинотеатрах, на случайных диванах школьных вечеринок. От поцелуев горели губы, мои потные пальцы путались в загадочном переплетении тесемок и бретелек, коварные молнии тугих джинсов не поддавались, еще хуже дело обстояло с застежками лифчиков (невероятное разнообразие вариаций этих застежек до сих пор меня удивляет), колготки непременно цеплялись и ползли.
Тем декабрьским вечером Шурочка пришла с букетом гвоздик в целлофане и укутанным в серую конторскую бумагу. Моя тетка – смекалистая душа, воткнула цветы в вазу и сообщила, что как раз собралась уходить к подруге. Мы остались одни. За окном бесшумно валил снег, мохнатый и ленивый. Шурочка вытащила из свертка бутылку французского коньяка.
Мы молча сидели на диване в темной гостиной, в окно вползал мутный свет уличных фонарей, янтарный, почти волшебный. От коньяка, мы его пили маленькими глотками из фарфоровых чайных чашек, становилось все жарче. Шурочка поставила чашку на ковер. Медленно, одну за другой, расстегнула пуговицы своей кофты. Сняла ее. Потом юбку. Я сидел не двигаясь, точно заколдованный. Это было как сон, как бред, точно мне удалось подглядеть какое-то таинственное священнодействие – ничего прекраснее я не видел. Тело светилось перламутром; она откинула назад голову, волосы вспыхнули лунным блеском, вспыхнули и погасли. Взяв мою руку, она прижала ее к своей матовой груди, ладонью я ощутил упругую твердость соска. Она медленно развела колени, медленно опустилась на ковер, томным русалочьим жестом увлекла меня за собой. Сухими губами я поцеловал ее в шею, нашел пылающую мочку уха. Я целовал ее в полураскрытый рот, она вздрагивала, точно от боли. Мое сердце колотилось, руки тряслись, запертые в соседней комнате кобели сладострастно поскуливали под дверью.
Прошло несколько миллионов лет, нас разделяла пара галактик, ее голос из телефонной трубки невинно переспросил:
– Я точно тебя не разбудила?
– Ну что ты! У нас уже почти половина пятого, мне давно пора доить коз и выгонять отары на горные пастбища.
– Извини. Я опять перепутала – восемь часов нужно отнимать или прибавлять. Извини. Чем занимаешься?
– Минуту назад пытался немного поспать…
– Извини, сколько можно повторять, – строго сказала Шурочка. – И прекрати острить. У тебя еще каникулы?
– Да, еще полторы недели.
– Ты должен немедленно прилететь в Москву.
Она не просила, не требовала, она просто информировала, что мне предстоит делать.
– И привези деньги, тысяч пять, – добавила она. – Наличными.
– Слушай, Пухова, – стараясь не злиться, начал я. – Последний раз ты мне звонила семь лет назад…
– Тогда была другая…
– Семь лет назад, – неумолимо продолжил я, – ты требовала забыть твое имя и никогда больше не…
– Была совсем другая ситуация…
– И никогда больше не звонить и не пытаться…
– Я тебе говорю…
– Да мне плевать, что ты мне говоришь! – Сдержаться все-таки не удалось. – Неужто ты думаешь, что будешь вот так вертеть мной всю жизнь?
Я вскочил и тут же напоролся пяткой на осколок стакана.
– Мать твою! – прошипел я. – Мы с тобой развелись сто лет назад, мы чужие люди…
Я нащупал выключатель лампы – из пятки торчал кусок стекла. Прижав телефон плечом к уху, я осторожно вытащил осколок. Кровь тут же весело закапала на пол.
– Мать твою… – повторил я, пытаясь сообразить, чем бы замотать рану.
Шурочка что-то говорила, я уловил лишь конец фразы.
– Что? – спросил я. – Я не понял…
– Пропал. Три дня назад. Мой… – она запнулась. – Твой… Наш сын пропал.
Я смотрел, как на полу появляется занятный орнамент – красное на белом: по неясной причине весь пол в моей квартире был выложен плиткой, имитирующей белый мрамор.
– Мне удалось отмазать его в весенний набор… – Шурочка замолчала, я слышал, как она затянулась и выпустила дым. – А теперь… Да еще тут все эти чертовы…
– Погоди… Я ничего не… А почему ты мне…
– Вот говорю!
– Так это когда я уезжал? – До меня стало постепенно доходить.
– Да. Только не воображай, что я что-то планировала. Все получилось случайно.
Случайно. Как почти все в нашей увлекательной жизни. Тогда я паковал чемоданы, уже получил все бумаги из посольства, ходил отмечаться каждое утро в авиакассы на Фрунзенской. Обзванивал подряд всех друзей и знакомых, прощался. Шурочка появилась рано утром, неожиданно: у нее вообще талант заставать меня врасплох. Накануне мы засиделись с Сильвио, он уехал около двух, по квартире еще плыл сизый дым и стоял тяжелый мужичий дух. Шурочка скептически оглядела стол, недопитые рюмки, окурки в тарелке.
– Так… Значит, ты все-таки уезжаешь, – констатировала она, потом добавила: – А я выхожу замуж.
– Поздравляю, – хрипло сказал я, запахивая простыню на груди.
– Угу. Спасибо. – Она взглянула на запястье, расстегнула часы и положила их на край стола. – Давай быстро в душ. У меня только сорок минут.
5
Кстати, в юности Адольф был весьма робок с дамами. В Линце, еще подростком, он был влюблен в некую Стефанию Рабаш – миловидную, чуть сонную девицу, с пшеничной косой. Стефании повезло – она так никогда и не узнала об этой любви, а то неизвестно, как сложилась бы ее жизнь: дело в том, что из семи возлюбленных Гитлера шесть пытались покончить с собой.
Адольф наблюдал за Стефанией издалека. Он сидел на лавке и смотрел, как она со своей напудренной до сахарной белизны мамашей прогуливается по Ландштрассе. Как заходит в кондитерскую, а после жеманно, оттопырив мизинец, кушает булку с марципаном, как выбирает ленты с лотка, обычно васильковые – под цвет глаз.
Он не попытался познакомиться. Ни разу. Даже просто заговорить. Бледный, худой до хрупкости, болезненный (по отцовской линии передались легочные хвори), часто тихий и застенчивый, он взрывался моментально, стоило кому-то ему возразить. Эти вспышки ярости, напоминавшие приступы сумасшествия, чередовались с мрачной замкнутостью или вялой меланхолией. Адольф неутомимо писал стихи, посвящал их Стефании, но ни одно из стихотворений не было отправлено. В «Гимне моей возлюбленной» она, подобно Валькирии, несется на белом скакуне над медовыми лугами, в ее волосы вплетены розы, разумеется, алые, за спиной развевается синий, как ночь, плащ. История со Стефанией продолжалась четыре года.
Потом он уезжает в Вену.
Решив стать художником, желательно живописцем, на худой конец архитектором, в октябре он держит первый экзамен в Академии художеств – экзамен по рисунку. Вот выписка из экзаменационного листа: Адольф Гитлер, Браунау-ам-Инн, апрель 20, 1889, немец, католик, четыре класса высшей школы. Гипс – голова Дорифора (четыре часа) материал – бумага, карандаш. Оценка – неудовлетворительно.
Адольф был поражен. Он даже добился приема у ректора, потребовал разъяснений. «Вы безусловно талантливы, но талант ваш – не талант живописца», – ректор показал ему работы других абитуриентов и посоветовал попробовать себя в архитектуре. В архитектурной Академии его не допустили до экзаменов, поскольку у него не было аттестата, ведь он так и не окончил школу.
– Это был самый печальный период в моей жизни, – вспоминал Адольф спустя двадцать лет. – Город, который для многих олицетворял беззаботную карусель нескончаемых развлечений, с вальсами, шампанским, парусными прогулками по Дунаю, стал для меня городом лишений, тяжелого труда и голода. Да, голода! Все пять лет голод был моим постоянным спутником, моим единственным другом. Я ютился в трущобах, перебираясь с места на место, часто ночевал под открытым небом. Грошей, которые мне удавалось выручить за мои картины, едва хватало на хлеб. Я, художник, таскал камни и разгребал снег, разгружал уголь и мел улицы.
До самого конца Адольф считал себя именно художником. В архивах и частных коллекциях сохранились его работы – по большей части акварельные пейзажи малого формата с видами Вены: собор Святого Стефана, оперный театр, античные руины в парке Шёнбрунн. Он продавал свои акварели лоточникам, что торговали туристическим хламом, мебельщикам – по тогдашней декадентской моде – венский модерн – в высокие спинки диванов и кресел вделывали рамы, куда вставляли подобные произведения искусства. Иногда ему удавалось заработать немного денег, расписывая магазинные вывески.
6
– Мы вылетели на час позже из Хельсинки, с самолетом какие-то неполадки были, в девять я приземлился в Шереметьеве. А сразу после паспорт-контроля меня ваши молодцы… – Я сделал жест рукой, словно поймал в кулак муху.
– Да… – Майор невесело усмехнулась, пристально разглядывая меня. – История, однако.
Я простодушно посмотрел ей в глаза. Скрывать мне было нечего, я рассказал ей все – и про ночной звонок, и про сына, и про армию. Единственное, о чем я не упомянул, – это про пять тысяч долларов сотенными купюрами, спрятанных в подкладке моей куртки.
Мы сидели, как дети, на корточках. Постепенно до меня дошло, что она тоже растеряна, тоже не очень понимает, что творится. Она сосредоточенно курила, механически снова и снова стряхивая пепел указательным пальцем. Ее ноготь был похож на овальный кусочек янтаря. С улицы доносились ругань и шум, казалось, там грузят мебель.
Новости на экране внезапно оборвались, там появилась легкомысленная заставка с кленовыми листьями и излишне радостным восклицанием, написанным прописными буквами с перьевым нажимом: «Здравствуй, школа!» Очевидно, кленовые листья смутили не только меня, заставка дернулась и исчезла. Несколько секунд экран был просто темным. Майор воткнула окурок в пол и включила звук.
– Мы прерываем наши передачи для экстренного сообщения, – произнес из темноты тревожный мужской баритон. – Повторяю: передаем экстренное сообщение!
Появился черно-белый портрет президента. Гладкая голова, похожая на яйцо, мелкие черты простонародного лица, прищур водянистых глаз – косметические манипуляции и неумелая ретушь добавили ему что-то почти восточное.
– Вчера… – мрачно начал баритон за кадром, – в результате террористического акта, организованного врагами нашей родины и осуществленного при помощи и участии наиболее реакционных кругов Запада и США, их спецслужб и разведок…
Баритон сделал паузу. Я посмотрел на майора, она испуганным птичьим глазом взглянула на меня и снова уставилась в экран. Баритон продолжил, но из-за казенности фраз смысл вытекал из его речи; оставалось нагромождение канцелярских штампов и суконных оборотов, запутавшихся в сложносочиненных и сложноподчиненных конструкциях, оставшихся в родной речи со времен строительства коммунизма. Впрочем, на подсознательном уровне было и так ясно, что случилось что-то непоправимое. Внизу, на улице, послышались крики, потом протрещала длинная автоматная очередь. Мы с майором, как по команде, повернулись к окну.
Черно-белого президента сменила цветная дикторша.
– Внимание! – К лацкану ее жакета уже был прицеплен черный бантик. – Внимание! Служба безопасности и министерство внутренних дел обращается ко всем гражданам России. Сейчас мы покажем вам фотографию… – На экране появилось лицо – загорелый мужик с крепким подбородком и выгоревшим ежиком. – Преступник пользуется документами на имя Николая Королева. Повторяю: Николай Королев. Также может предъявить паспорт США на имя Ника Саммерса. Повторяю: Ник Саммерс. Если вы видели этого человека или вам что-то известно о его местонахождении, немедленно позвоните по телефону горячей линии ФСБ…
Внизу побежали цифры.
– Работники транспорта, водители такси, пассажиры! Граждане, находящиеся на вокзалах и в аэропортах! Проявите бдительность, вглядитесь в это лицо. Ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не пытайтесь задержать его самостоятельно, преступник крайне опасен. Немедленно оповестите ближайший пост охраны порядка и немедленно позвоните по телефону горячей линии. Повторяю! Телефон горячей линии…
Она повторила все цифры, которые непрерывно бежали по низу экрана.
– Что это все значит? – растерянно спросил я.
Майор покачала головой. Она поднялась с корточек и подошла к окну. Щелкнула шпингалетом. Рывком распахнула створку, ловко запрыгнув на подоконник, выглянула вниз. Там снова раздалась автоматная очередь.
– …создан Чрезвычайный штаб, – запинаясь и заглядывая в бумажку, испуганно произнесла дикторша, – во главе с министром военно-воздушных сил маршалом авиации Каракозовым Ильей Семеновичем.
Каракозов оказался толстым и суетливым и, несмотря на всякие аксельбанты, погоны и золотые звезды, не внушал ни малейшего доверия. Он торопливо заговорил про империалистическое окружение, про ястребов из Вашингтона и их европейских лакеев, про их желание ввергнуть мир в пучину термоядерной войны, про усилия внешних и внутренних врагов России поставить родину на колени.
– Не бывать этому! Не бывать! – повторил Каракозов и погрозил кому-то толстым кулачком.
– Кто-нибудь может по-человечески объяснить, что тут происходит?! – неожиданно для себя самого заорал я в телевизор.
Майор вздрогнула, я извинился.
То, что произошло дальше, вообще было похоже на бред. Дикторша объявила о создании надправительственной комиссии с чрезвычайными полномочиями, председателем которой был выбран лидер Российско-демократической партии Глеб Сильвестров. На экране появился Глеб Сильвестров, мой институтский друг и собутыльник, чуть обрюзгший, полысевший, но на сто процентов узнаваемый.
– Сильвио… – прошептал я. – Мать твою…
– Вы знаете… – Майор ошалело поглядела на меня.
Я простодушно улыбнулся и кивнул.
Сильвио сделал серьезное лицо, мрачным голосом начал:
– В трудный час обращаюсь я к вам, граждане великой России. Тяжела наша утрата, глубока наша скорбь. Врагам удалось вырвать из наших рядов верного сына отчизны, величайшего лидера, организатора и вдохновителя наших побед. Пока билось мужественное сердце, его помыслы и дела были всецело подчинены интересам построения великой России, возрождению российской государственности.
Сильвио откашлялся в кулак, сдвинул брови:
– Под его мудрым руководством наша отчизна, преодолев тяжелое наследие либеральных экспериментов, сумела не только возродиться и окрепнуть, но и приумножить мощь и могущество. Он заставил врагов России снова бояться ее, как это было во времена Ивана Грозного, Петра Великого и Иосифа Сталина. Под сенью двуглавого орла снова находят защиту и покровительство наши младшие братья – народы Украины, Казахстана, Белоруссии и Прибалтики.
Я засмеялся. Я вспомнил, как Сильвио нес такую же околесицу на семинарах по политэкономии. У него был безусловный дар – такой же дар, как у поэта безошибочно находить верную рифму или у композитора улавливать свежую мелодию, – он умел мастерски сплетать ловкую вязь канцелярских фраз, приправляя ее официально звучащими вербальными финтифлюшками и, искусно модулируя сочным голосом, доносить до аудитории. Торжественно или трагически, иронично или деловито – но всегда артистично, всегда мастерски.
Когда в военных лагерях мы принимали присягу, Сильвио читал текст присяги в микрофон, и все хором повторяли. Многоголосое эхо катилось по мокрым лугам, путалось среди желтеющих берез, терялось в туманной дали. Мы, обряженные в мятую форму болотного цвета, стояли под моросящим дождем, Сильвестр мерно чеканил слова клятвы, присягал в преданности родине, идеалам мира, свободы и независимости. Клялся отстаивать до последней капли крови завоевания коммунизма. Я видел, как генерал, приглашенный на торжество, плакал, вытирая кулаком слезы.
7
Неожиданно мне стало легко и даже чуть весело – как на поминках не очень знакомого и не очень симпатичного человека. Появилось ощущение, что все происходящее – всего лишь розыгрыш, некий колоссальный перформанс вроде средневековых мистерий или нынешнего маскарада с восхождением на Голгофу, что устраивают для туристов в Иерусалиме: с ряженым Христом в терновом венце, несущим бутафорский крест, с группой статистов в живописных лохмотьях и римскими воинами в латунных шлемах с багровым плюмажем, напоминающим швабру.
Майор, судя по всему, на что-то решилась, она глубоко выдохнула и повернулась ко мне.
– Знаете что, – она задумчиво пролистала мой русский паспорт, – а давайте я вас отпущу?
– Давайте, – осторожно согласился я, подходя к столу.
– Вы давно… тут не были?
– Год назад на конференции, – охотно ответил я. – Дня три… В Питере.
– Нет. Когда вы уехали? – Она достала пачку, вытянула оттуда сигарету.
– Ну-у… Лет восемнадцать, пожалуй.
Майор посмотрела в угол, наверное, прикидывая, сколько ей было лет восемнадцать назад. Двенадцать, тринадцать? Она протянула мне паспорт.
– Если остановят, скажете, что были в командировке. Только прилетели.
Я спрятал паспорт в карман.
– А?.. – Я кивнул на свой американский паспорт, который лежал поверх кипы бумаг.
Майор сунула сигарету в рот, взяла паспорт, раскрыла, стала листать. Там были разноцветные штампы таможни Флоренции, печать франкфуртского аэропорта, штемпель Коста-Рики, куда я сбежал в феврале на три дня, осатанев от нью-йоркской зимы. Я протянул руку.
– Вы действительно давно тут не были.
Майор прикурила сигарету и, не гася зажигалки, поднесла мой паспорт к огню. Бумага тут же вспыхнула и загорелась синим пламенем, ярким и веселым. Занялась и обложка; скручиваясь и потрескивая, как кора, картонка выпустила черный язык копоти. Майор вытянула из-под стола мусорное ведро.
– Вот так… – Она отряхнула руки, зачем-то понюхала пальцы.
Я рассеянно оглядел класс. Нужно было уходить.
– Где я? Вообще? – Я сделал неопределенный жест рукой. – Какой это район?
– Вы же москвич? – спросила майор и снова понюхала пальцы. – Вон там – площадь Гагарина, там метро. Это Ленинский…
– Я думал, его переименовали…
Майор укоризненно посмотрела на меня.
– Умничать не надо. Не советую. Для вашего же блага.
Она протянула мне руку. Ладонь оказалась сухой и крепкой.
– Осторожней там… – Она кивнула в сторону телевизора.
На экране мельтешили какие-то люди, лица, очевидно, оператор снимал на бегу. Я увидел шпиль высотки, узнал Краснопресненскую. Садовое кольцо было запружено толпой. Какой-то парень залез на фонарный столб и оттуда размахивал российским флагом. Из раскрытых окон тоже свешивались флаги, в одно из окон кто-то выставил большой портрет президента. Толпа двигалась в сторону Арбата. На самодельном транспаранте неровными буквами было написано «Убей западло!», на тротуаре среди зевак было много полицейских. Я заметил, что Никитская и Поварская перегорожены автобусами. Оператор развернул камеру, и я увидел американское посольство. Оно горело. Из окон второго этажа вырывалось рыжее пламя, на стенах чернела сажа. Какие-то люди карабкались по карнизу наверх. Из толпы вылетела бутылка и, ударившись в стену, взорвалась ослепительным огненным шаром.
8
Меня никто на остановил. Я спустился по лестнице, прошел вестибюлем, вышел на улицу. Там стоял гам, царила суета: в два «ЗИЛа» военного образца грузились какие-то люди, шумно и неуклюже лезли через борт, их подгонял молодой пехотный офицер в высоких сапогах, надраенных до зеркального блеска. На его рукаве чернела траурная повязка.
Окно на втором этаже с шумом распахнулось, оттуда зычно крикнули:
– Всех взводных к командиру!
– А куда это? – раздалось снизу, беспомощно и безответно.
На спортивную площадку, огороженную металлической сеткой вроде вольера в зоопарке для неопасных зверей, рыча, въезжал пыльный автобус. Шофер подавал задом, высунув в окно локоть и красное злое лицо, он рискованно пытался протиснуться в узкий проход. В дальнем углу площадки, рядом с хоккейными воротами, теснилась группа людей. Их охранял парень в белой майке и с «калашниковым».
Я дошел до угла школы, остановился, пытаясь сообразить, где Ленинский проспект. Вокруг высились жилые дома хрущевско-брежневской эпохи – серые, будто грязные, бетонные девятиэтажки и унылые кирпичные строения, похожие на большие бараки. Все наземное пространство было забито машинами: запаркованные автомобили стояли на тротуарах, лезли на обочины, теснились в сухой грязи среди группы хилых тополей, изображавших сквер.
– Эй, дядя, потерялся, что ли?
Я оглянулся. Обращались ко мне. Бритый под ноль парень возился между мусорных баков – куском брезента пытался прикрыть какой-то скарб. Он подмигнул мне, отряхнул руки:
– Куда путь держишь?
– Не могу сообразить, как мне к Ленинскому выйти, – ответил я простодушно.
– Дуй прямиком. – Парень указал ладонью направление, куда мне следует дуть. – К «Дому книги» аккурат и выйдешь. К гостинице «Спутник».
– Спасибо!
Парень в ответ кивнул, снова нагнулся к брезенту. Я повернулся и пошел, но что-то заставило меня оглянуться. Лучше бы я этого не делал: из-под брезента выглядывали ноги в маленьких, почти детских ботинках рыжей кожи с подошвами карамельного цвета.
Быстро и не оглядываясь я зашагал по асфальтовой дорожке, протиснулся между бамперов «Тойоты» и «Жигулей», пересек детскую площадку с качелями и горкой, выкрашенными в омерзительно яркие, почти флуоресцентные цвета. В воздухе стоял запах гари; я вспомнил, что в Подмосковье горят торфяные болота. Я снял куртку, мокрая рубашка прилипла к спине. Хотел расстегнуть воротник, но пальцы тряслись и не слушались. Я рванул, пуговица белой точкой упала на землю.
В витрине «Дома книги» уже вывесили президентский портрет в черной раме. Из-за него выглядывали фотографии каких-то современных литераторов с неинтересными лицами и гладкими прическами, как на парикмахерской рекламе. Живая тетка в белой кофте и тесной юбке прилаживала к раме креповый бант. Я зачем-то остановился, тетка испуганно взглянула на меня через толстое стекло и тут же отвернулась.
Я вышел на Ленинский.
Проспект в оба направления был запружен машинами, они не двигались. Меня поразила тишина – я помню московские пробки, зимние и летние, в слякоть и снегопад, помню писк клаксонов «Лад», «Москвичей» и «Волг», басовитый рык чумазых «КрАЗов» и «ЗИЛов», ругань шоферни, матерящейся в раскрытые окна, помню драки таксистов. Тут было тихо: казалось, что все машины брошены, что внутри нет ни души.
На углу, у входа в книжный магазин, баба в цветастом платке, из которого выглядывало кирпичного цвета круглое азиатское лицо, продавала яблоки. Яблоки, крепкие и румяные, лежали на мятой газете прямо на тротуаре. Баба сгруппировала их в аккуратные пирамиды – четыре яблока внизу, одно сверху. Ее напарник, таджик с седым ежиком и морщинистой шеей, копался в большой дерматиновой сумке. Там тоже были яблоки. Таджик поднял голову, удивленно что-то воскликнул на своем наречии, тыча пальцем куда-то вверх.
Я тоже оглянулся. По крыше жилого дома на противоположной стороне Ленинского карабкались три человека. Маленькие фигурки бесстрашно подбирались к самому краю крыши, где на железных прутьях арматуры крепились гигантские рубиновые буквы рекламы «Кока-колы». Старик Павлов оказался прав – мне тут же страшно захотелось пить. Я сухо сглотнул, облизнул шершавые губы и покосился на яблоки. Потом на руки торговки – они были цвета копченой камбалы.
Смельчаки добрались до края крыши. Один развернул российский флаг с желтым орлом, другой начал долбить ломом по арматуре. Звук долетал с запозданием, я слышал звонкий металлический удар ровно между замахами. Половина рекламы неожиданно дрогнула, накренилась и, качнувшись, как маятник, беспомощно повисла. Гигантский красный дефис загородил окно верхнего этажа. Человек с ломом продолжал неистово колотить. Звук летел над проспектом, как тревожный набат. Снизу раздались дружные крики, так болельщики скандируют на спортивных мероприятиях, поддерживая своих, – на газоне, отделяющем дорогу от тротуара, меж низкорослых деревьев и кустов я разглядел толпу зевак.
Буквы сорвались и полетели вниз. Как мне показалось чуть медленнее, чем положено по закону Ньютона, – с трагичной неторопливостью, присущей добротному зрелищу. Толпа заорала, перекрывая грохот и звон. Рухнув на асфальт, буквы разлетелись рубиновым фонтаном осколков.
Меня кто-то ткнул в плечо, я обернулся. Тройка подростков лет по пятнадцать, расталкивая прохожих, пробиралась на ту сторону проспекта. Пацан, толкнувший меня, ощерился и с вызовом глянул мне в лицо. Я хотел что-то сказать, но он, заметив таджиков, забыл обо мне: подскочив к бабе в платке, пихнул ее ногой в грудь. Баба охнула и, как куль, завалилась на спину. Старый таджик, бросив сумку, испуганно попятился. Яблоки высыпались из сумки на асфальт и шустро, как биллиардные шары, покатились в сторону площади Гагарина.
Парень замахнулся, словно собирался отвесить таджику оплеуху, таджик присел, но увернуться не успел. Он замер, схватился за лицо руками и вдруг заорал сиплым высоким голосом. Сквозь пальцы брызнула кровь, яркая, алая, она стекала по шее, по рукам, лилась, именно лилась, на асфальт. Таджик выл страшно, по-звериному.
Я повернулся к парню. Щенку не было и пятнадцати.
– Что ж ты… – Я сжал кулаки и пошел на него. – Ты что…
Он попятился, выставил руку с бритвой.
– Стоять, падла! – звонким фальцетом крикнул он мне. – Порежу!
Я не испугался, меня остановила внезапная и жуткая мысль: а вдруг это мой сын? Мысль застала меня врасплох, я растерянно остановился, вглядываясь в его лицо. Мою растерянность он принял за страх.
– Вот так! И не рыпайся. – Он сплюнул мне под ноги. – Кончилось ваше время.
Парень повернулся, напоследок победно бросил злой взгляд через плечо и, ловко протискиваясь между машин, кинулся догонять своих.
9
Метро изменилось мало, стало погрязнее, провинциальнее. Повсюду пестрела скверная реклама, скучная или пошлая: броские, но удивительно корявые, слоганы, казалось, придумывали копирайтеры, для которых русский был вторым языком, не родным.
Народ был одет понаряднее, чем двадцать лет назад, но глядел так же хмуро и неприветливо. В лицах и жестах была мрачная целеустремленность, скупая и выверенная, точно каждый пассажир спешил с секретным пакетом в ставку верховного главнокомандующего. В нью-йоркской подземке тоже спешат, тоже толкаются, но делают это гораздо приветливей, с оптимизмом на лицах.
На платформе я встретился глазами с тщедушной старушкой – такие обычно обитают в крошечной квартирке с парой кошек – по дурацкой американской привычке улыбнулся. Карга, прищурившись, злобно зыркнула на меня и отвернулась.
С грохотом подлетел поезд, выкрашенный той же самой голубой краской. Я втиснулся в вагон.
– Осторожно, двери закрываются, – сказал кто-то голосом доброго волшебника, голосом, знакомым с детства и почти родным. – Следующая станция – «Шаболовская».
Первым делом я пробрался к схеме. Шурочка жила на Котельнической, примерно посередине между «Таганской» и «Площадью Ногина». Помню, как на спор мы мерили шагами расстояние от ее двери до станций метро. Как обычно, Шурочка выиграла и этот спор – Таганка оказалась ближе на сто двадцать два шага. Я тогда ставил на «Ногина». Сейчас от него не осталось даже имени – станция называлась «Китай-город».
Впрочем, не повезло не только малоизвестному Ногину, вполне знаменитые Калинин и Свердлов тоже пострадали. Среди возрожденных старомосковских имен «Охотный ряд», «Мясницкая», «Сущевская» появились и новые: «Рижская» теперь называлась «Герои Балтики», а «Киевская» – «Донецкая». К «Таганской» через дефис прилепили неказистое «Таврическая», придав (с почти мольеровским сарказмом), блатной хулиганистой Таганке привкус чванливого самозванства.
В вагоне было тесно, душно. От ядреной девки, что вдавила меня крепким крупом в железную штангу, разило смесью пота и сладкой пудры. Лица я не видел, от волос странно желтого цвета пахло борщом и подгоревшим салом.
Пассажиры читали, слушали музыку, тупо глазели в свои отражения на фоне стремительной черноты туннеля. Я не заметил ни одной газеты, газет вообще не читал никто. Метро жило своей привычной подземной жизнью. Меня поразила обыденность, скучная тривиальность, точно все, что случилось с момента моего прилета, было сном, кошмаром, какой-то невероятной галлюцинацией.
Сделав пересадку, я по кольцу доехал до Таганки. Поезд унесся в черную дыру туннеля, я пошел вдоль платформы. Мне с детства нравилась эта станция, светлая и лаконичная, украшенная барельефами в стиле флорентийской майолики – белая глазурь, ультрамарин, золотые акценты, – с мужественными профилями танкистов, пограничников, пилотов и орнаментами из танков, пулеметов и прочей военной атрибутики. Сейчас я понял, что советские мастера, сами того не подозревая, создали великолепное произведение поп-арта, оставляющее Энди Уорхолла с его банками томатного супа, мыльными упаковками и прочей дребеденью далеко позади. Сочетание формы – хрупкого фарфора и нежной росписи – с военно-патриотическим содержанием производило почти сюрреалистический эффект. Нечто подобное я испытал, увидев в витрине оружейного магазина где-то в техасской провинции автоматический карабин «Бушмастер», выкрашенный в невинно-розовый цвет.
В центре станции, рядом с переходом, толпились люди. Я подошел – центральное панно на стене оказалось новым. Я не мог вспомнить, кто тут был раньше, кажется, моряки. Нынешние скульпторы не совсем успешно имитировали стиль старых мастеров советской школы. Бросалось в глаза плохое знание анатомии. Военные корабли, составляющие орнамент, тоже грешили отсутствием деталей и общей условностью. В центральный круг, окаймленный дубовыми листьями с желудями (желуди получились просто отлично, особенно рядом со схематичными, почти детскими, фигурками моряков с сигнальными флажками и угловатыми карабинами) был вделан скульптурный профиль человека в шапке с козырьком. Подойдя ближе, я понял – по кокарде с золотым якорем, – что это морская фуражка. Но это был не Нахимов, я точно помнил, что адмирал носил усы. Опознать личность удалось по цитате: «Крым был, есть и будет неотъемлемой частью земли русской».
На кафельном полу лежали вялые гвоздики и астры. Кто-то смекалистый оставил букет кроваво-алых гладиолусов в молочной бутылке с водой, прислонив цветы, похожие на колчан со стрелами, к гипсовому бордюру. Дама культурной наружности в белом берете, похожая на педагога по сольфеджио, шустро пробралась к панно и, привстав на цыпочки, приложилась к стене губами, как к иконе. Две тетки попроще, что стояли рядом со мной, хором вздохнули. Одна, в тугом черном платке, перекрестилась, за ней перекрестилась и другая.
Таганский эскалатор – самый длинный в Москве. Два мужика пролетарского типа, стоявшие на пару ступеней выше, вполголоса обсуждали события минувшей ночи. Плечистый здоровяк в клетчатой ковбойке уверял мелкого ханурика с золотой фиксой, что виной всему Киев.
– А я тебе натурально говорю – пиндосы это, – не соглашался мелкий. – У хохла кишка тонка.
– Кишка, Серега, это не аргумент.
– Хохол? Коляныч, ты серьезно? Завалить президента? Ну ты, в натуре, прикинь, Коль, ну как хохол может? У него ж кишка тонка. У хохла.
Я вышел на Таганскую площадь. Здесь тоже воняло гарью, воздух был сиз, а небо серо. Здание театра поразило неожиданной низкорослостью: среди полустертой коллекции моих воспоминаний на особо почетном месте была премьера любимовского «Мастера» со зловеще обаятельным (а каким еще должно быть абсолютное зло?) Смеховым в роли Воланда, летающим занавесом, гениально трансформирующимся то в иерусалимскую грозу, то в московские сумерки, и совершенно голой Маргаритой в сцене бала. Билеты в пятом ряду достались нам случайно: Шурочкина мамаша закапризничала, и в театр вместо родителей пошли мы. За одно за это я должен был быть, ну если и не добрей, то хотя бы снисходительней к моей рыжеволосой, взбалмошной и совершенно безмозглой экс-теще.
Обойдя здание метро, я вышел к стеклянным ларькам. Тут когда-то стоял ряд пожарно-красных автоматов с газировкой и будка, торгующая мороженым – эскимо за одиннадцать копеек, плодово-выгодное за семь, для особо состоятельных господ (пардон, товарищей) – шоколадно-ореховое «Бородино» за двадцать восемь. Моя тетка каждое утро перед школой выделяла мне пятиалтынный; сумма, конечно, незначительная, но для двенадцатилетнего пацана открывающая массу возможностей и комбинаций: квас, газировка с сиропом, пончики в сахарной пудре… Или же пирожки с повидлом или с капустой по пятаку за штуку. Не говоря уже о билетах на дневной сеанс по десять копеек: фильм мог быть с мускулистым Гойко Митичем, с обаятельно наглым Аленом Делоном или уморительным Луи де Фюнесом. Разумеется, просмотр кино был сопряжен с побегом с уроков, что добавляло мероприятию особую ценность, превращая его в небольшое приключение.
В нынешних ларьках торговали унылым провиантом – печенье да жвачка, электронной мелочовкой и прочей дребеденью. Из ближайшей будки доносилась разудалая музыка – смесь французского шансона с задушевной цыганщиной. Проходящий мимо мент с надписью «Полиция» на спине наклонился в окно и крикнул продавцу:
– Руслан, души музон. В стране траур реально, пиндосы хозяина завалили.
Мелодия оборвалась на полувзрыде. Мент скупо кивнул, поправил ремень с кобурой и хозяйской походкой зашагал дальше.
Я вышел к началу Радищевской, тут на углу когда-то были шашлычная и овощной магазин. Овощной уцелел, в шашлычной обосновался салон красоты «Шарм». У беленой стены церкви стоял сарайчик с вывеской «Обмен валюты». Он был закрыт. Один угол сарая обгорел и был покрыт сажей, на железной двери с амбарным замком кто-то черным аэрозолем нарисовал огромную свастику. Последний обменный курс, выставленный в решетчатом окне, меня удивил: тут за доллар давали сто двадцать семь рублей. Вчера в аэропорту Кеннеди я менял по шестьдесят пять. Но это было вчера. Или сто лет назад, или в другой жизни. Или в одной из тех параллельных галактик, куда время от времени проваливаются незадачливые путешественники по затейливым лабиринтам памяти.
10
Я шел по Радищевской, и это было похоже на сон: я бродил тут сотни раз, знал эту тихую улочку наизусть – каждый поворот ее неспешного течения. Знакомые липы маленького парка стали еще выше, за парком виднелся дворянский особняк – почти из толстовского романа – с белыми колоннами, лестницей и парой каменных львов. В особняке в мои времена сначала обитал «Дом атеизма» (наш класс как-то водили сюда, и строгая грымза в два счета объяснила нам, третьеклашкам, почему бога нет: из всех аргументов я запомнил один: Гагарин его не видел). В вегетарианские времена горбачевского правления дом переименовали в толерантный «Комитет по делам религий». Сегодня тут обосновался Нефть-банк «Цесаревич». За старинной кованой решеткой, похожей на частокол из римских пик, сияла лаком пара черных лимузинов. Рядом, среди желтеющих лип скучал здоровенный битюг в солнечных очках.
Элемент сна заключался в том, что, как в добротном сновидении с элементами кошмара, я подмечал знакомые детали – трещину на стене, похожую на профиль разбойника, железные ворота, выкрашенные той же гнусной охрой, матерное слово, которое так до конца и не смогли стереть с асфальта, – помню, слово это относилось к Брежневу конца афганской войны, его фамилию удалось вывести еще тогда, на мат, похоже, не хватило прыти.
И тут же – как во сне – посреди знакомого наизусть окружения вдруг начинали вылезать сюрпризы, словно кто-то, зло потешаясь, играл с моими усталыми мозгами: из-за угла выставила дугу какая-то восточная арка, за аркой маячила здоровенная башня – не то минарет, не то маяк. Или купеческий домик – он внезапно подрос на четыре этажа тонированного стекла и стальных конструкций скандинавского дизайна. Вот еще: на пустыре, где мы среди лопухов сражались на деревянных мечах, а потом выгуливали тещиного фокса, теперь громоздился жилой комплекс, похожий на «Титаник», ненароком выброшенный на сушу.
За деревьями возник шпиль высотки – возник и снова скрылся в листве. Сердце заколотилось, я сбавил шаг. Я не сентиментален, выяснилось, что я просто боюсь: до меня вдруг дошло, что весь путь от метро я надеялся, что дом никогда не появится, что я буду шагать вечно и мне волшебным образом удастся избежать встречи с Шурочкой. Повторяю, я не сентиментален – меня не тревожило прошлое, я боялся будущего.
Пуховы жили в правом крыле, выходящем прямо на набережную Москвы-реки. Под ними располагался гастроном с царскими витринами, мраморными колоннами, почти итальянскими фресками на стенах, хрустальными люстрами в три обхвата под сводчатым потолком и аквариумом, в зеленоватой воде которого лениво плавали меднобокие карпы. Дальше шла ликеро-водочная лавка, тесная и грязная, местные алкаши распивали портвейн тут же за углом – в гулкой арке между мусорных баков.
Пухова не комплексовала, что номинально проживая в высотке, их квартира была на третьем этаже.
– Вон певица Зыкина, в корпусе «А», – смеялась Шурочка. – Народная артистка СССР! И тоже на третьем. И ничего.
В соседнем подъезде, и тоже на третьем, жил актер Ширвиндт – помню, как-то после школы, мы с Шурочкой вышли на балкон. Артист стоял на соседнем балконе и задумчиво курил трубку, наблюдая незатейливое судоходство на Москве-реке. Заметив нас, он галантно склонил породистую голову, Шурочка, засияв, сделала светский книксен. Я стоял как пень. Шурочка хвасталась, что когда Ширвиндт устраивал вечеринки, то на балкон покурить поочередно выходило полтруппы театра Сатиры.
Подъезд был распахнут настежь. Кодовый замок кто-то вырвал вместе с куском двери, из пробоины безнадежно торчали оголенные провода. Я вошел в подъезд. Та же тусклая лампочка под потолком, старый лифт в железной клетке. Между первым и вторым этажами – тот же широкий мраморный подоконник и пыльное окно, выходящее во двор, на те же грязные гаражи. На этом подоконнике мы с Пуховой учились целоваться, учились курить, пили из бутылки липкую гадость с саркастической этикеткой «Пунш гусарский». Я провел пальцами по холодному камню, выглянул в окно – там вообще ничего не изменилось.
Мне стало жутко: моя американская жизнь, тамошние экс-жены, друзья-приятели, моя профессорская карьера – все, что случилось со мной за несколько десятков лет, вдруг показалось мне полной фикцией. Точно ничего и не было – дым, сон, туман. Из подсознания поползли давно умершие (какой наив!) страхи. Невыученный плюсквамперфект по немецкой грамматике, надвигающаяся контрольная по алгебре, запись гневными чернилами красного цвета в дневнике с восклицательным знаком на конце, а главное – тревожная настороженность, вечный спутник советского школьника, минера и подпольщика, действующего в тылу у врага.
Даже запах в подъезде был тот же самый. Смесь пыли, паркетной мастики, кухни и кошек – патриархальный подъездный дух Москвы центральных районов, расположенных внутри Садового кольца.
Я остановился перед дверью, облизнул сухие губы и нажал кнопку звонка. В дебрях квартиры мелкими ангелами запели колокольчики, трогательно и мелодично, чистое Рождество! Послышался скрип паркета, я быстрым жестом пригладил волосы. Дверь раскрылась.
Следующий миг, еще до того, как она произнесла первое слово, вместил в себя бездну времени.
Длинная голая шея, волосы нового русого оттенка по-взрослому забраны назад. Лицо как будто заострилось – скулы, подбородок, в нем появилось что-то восточное, впрочем, нет – это кошачьи очки в бирюзовой оправе; голые плечи, гладкие руки с рыжеватым загаром (все верно – конец лета, дача в Болшево), а вот на кистях голубым проступили вены, запястья похудели, на пальце – кольцо с синим камнем. Господи, это кольцо меня добило – я сам выбирал его в ювелирном на Сретенке.
Момент истины – дурной штамп из скверных книжек, но иногда в банальности фразы заключается правда жизни (вот вам еще один штамп): за эти три секунды я понял, даже не понял – понимание требует времени, а осознал, что так никогда и не смог освободиться от того почти детского наваждения, того восторга, чудесного ощущения абсолютной беззащитности и наготы, самопожертвования, доведенного до экстаза. Когда смертельный яд и противоядие заключены в один сосуд и почти неразличимы на вкус – вкус божественный! Я говорю про первую любовь, и вот вам штамп номер три.
– Все-таки прилетел, – произнесла Шурочка почти разочарованно. – А где багаж?
11
Квартира показалась мне гораздо меньше, будто усохла. Ощущение это подчеркивалось мелкими трещинами на потолке, желтоватой побелкой, линялыми обоями, выгоревшими по солнечной стороне стен. Маракасы и веера, те же сомбреро – пара черных, одно малиновое, все три с золотым шитьем, больше не казались интеллигентской экзотикой, теперь эти дурацкие шляпы, веера и погремушки выглядели безвкусной декорацией, пыльной и стыдной. На том же почетном месте по-прежнему висела фотография Пухова-старшего и Фиделя, дымящих сигарами.
– Как батя? – кивнул я на фото.
Шурочка молча поджала губы и отрицательно покачала головой.
– Четыре года назад. В декабре… инсульт.
Я вздохнул, от неожиданности не зная, что сказать. Мозг кольнула мысль: вот так и обо мне кто-нибудь скажет. В трех словах.
– А?.. – начал я, не зная, как обозвать экс-тещу.
– Ничего, на даче она, – догадалась Шурочка. – Давление, а так ничего. Болота еще эти чертовы горят…
– Да, – согласился я, подходя к окну. – Дымно тут у вас.
Стекло было пыльным, я провел пальцем по подоконнику. Набережная была забита машинами, пробка стояла и на Устьинском мосту, там в ряд один за другим застряли пять троллейбусов. Уродливую белую гостиницу, куда мы часто ходили в кино, наконец снесли, стали видны кирпичная стена Кремля и угловая башня с выпавшим из памяти названием. На той стороне реки, за Каменным мостом, что-то горело: ленивый дым поднимался вертикально вверх, словно серая лента.
– Чай будешь? – Ее вопрос прозвучал так обыденно, что мне показалось, что я сошел с ума.
– Пухова! – Я резко повернулся. – Какой, к чертовой матери, чай?! У вас тут…
– Не ори! – строго оборвала она. – Не хочешь, так и скажи.
– Да хочу я! Хочу! Но я не понимаю…
Она, не дослушав, пошла на кухню. Я остался стоять с открытым ртом и патетично вознесенной рукой.
– Ты деньги привез? – крикнула она с кухни; загремела вода.
– Потрясающе… – прошипел я, хлопнув себя по бедру и поплелся через коридор на кухню.
Кухня, и раньше тесноватая, показалась мне не больше кладовки. Я уселся за стол, втиснулся на свое место в углу, колени привычно уперлись в столешницу. С удивлением узнавались предметы, о которых я не вспоминал сто лет, – красный пластиковый абажур, купленный в магазине «Балатон», расписной электросамовар в жостовских лопухах, которым никогда не пользовались, чайный сервиз – белый в красный горох, трещина в мраморном подоконнике, которую я обещал заделать в какой-то другой жизни. По подоконнику разбежалась знакомая гжельская мелочь – солонки-перечницы и прочая дребедень. На все том же финском двухкамерном холодильнике стоял маленький черно-белый телевизор с мертвым сальным экраном и рогатой антенной.
– Ты все своим… – Шурочка налила мне заварки, придерживая крышку фарфорового чайника указательным пальцем. – Своей структурной социологией занимаешься?
– Массовым сознанием. – Я скромно отхлебнул горький чай. – Девиантным поведением больших групп, когда отход от нормы становится нормой общества. Ну это обобщенно… Прошлым декабрем опубликовал статью в «Обзоре современной социологии»… – Я сделал еще глоток. – И мне заказали книгу.
На Шурочку это не произвело ни малейшего впечатления.
– Ясно… – Она рассеянно вытащила сигарету из мятой пачки, уронила пачку на пол.
Нагнулась, я невольным взглядом застрял в вырезе ее летнего платья на круглой незагорелой груди.
– Меня арестовали в аэропорту, – сказал я мрачно. – Завязали глаза. В наручниках отвезли в какую-то школу. Я видел трупы. Немца… австрийца, с которым я сидел в подвале. Его убили. Меня допрашивали и лишь по чистой случайности мне удалось вырваться. Я хочу понять, что у вас происходит!
Она курила, молча стряхивая пепел в блюдце.
– Почему ты делаешь вид, что ничего не случилось? – заорал я. – Ты можешь хотя бы включить телевизор?!
Я двинул кулаком по столу. Чашка подскочила, расплескав остатки чая, упала на кафельный пол и со звоном разбилась вдребезги. Я неуклюже выбрался, собрал осколки, выкинул в мусор. Мусорное ведро было там же, где и четверть века назад, – под мойкой.
Шурочка затянулась, выпустила дым в сторону. Она молча наблюдала за мной, потом со сдержанной злостью тихо произнесла:
– У меня пропал сын. Наш сын. Твой и мой. Мы должны его найти. Но для этого из нас двоих кто-то один должен вести себя как мужик.
Она с силой воткнула окурок в блюдце, встала и включила телевизор. Сначала появился звук.
– …крупнейший политический и государственный деятель современности, – с мрачным торжеством сказал телевизор. – Вся многогранная деятельность Тихона Егоровича Пилепина, его личная судьба неотделимы от важнейших этапов в развитии страны.
На сальном экране появилась черно-белая фотография президента. Я вспомнил, что телевизор не цветной. Шурочка поставила свою чашку в раковину и вышла из кухни. Голос за кадром продолжал:
– …неизменная преданность делу мира. Не подготовка к войне, обрекающая народы на бессмысленную растрату материальных и духовных богатств, а упрочение мира – вот путеводная нить в завтрашний день. Эта благородная идея пронизывает российскую мирную инициативу, выдвинутую в ООН, всю внешнеполитическую деятельность нашей страны.
Голос за кадром, трагичный и умный баритон, продолжал:
– Мы видим всю сложность международной обстановки, попытки агрессивных кругов Запада подорвать мирное сосуществование, столкнуть народы на путь вражды и военной конфронтации. Но это не может поколебать нашу решимость отстоять мир. Мы будем делать все, чтобы любители военных авантюр из Атлантического союза не застали нашу родину врасплох. Пусть помнят господа из Пентагона – им не застать нас врасплох, потенциальный агрессор должен знать: наш ответный удар будет сокрушительным.
Я слушал как зачарованный – я совершенно забыл о магии этих заклинаний. Словесная белиберда напоминала мантру: не обладая особым смыслом, гипнотизировало само звучание. Это было похоже на поэзию, на песнь шамана. Удивительно, что не изменился ни пафос, ни словарь: я все ждал, когда будет сказано о руководящей и направляющей роли партии. Форма и содержание были знакомы со школы: тут же вспомнилась тоска муторных комсомольских собраний, «ленинских зачетов», каких-то немыслимых вахт мира. Медленно и величаво поднялся из гроба в белоснежном маршальском кителе дорогой Леонид Ильич.
Шурочка вернулась на кухню. Ни слова не говоря, положила передо мной фото в рамке, семейные офисные работники обычно ставят такие на письменный стол. Я взял фотографию, повернул к свету. На снимке, в полуденном турецком зное с пальмами и синими пляжными зонтами в качестве декораций, фотограф запечатлел веселую Шурочку в цветастой блузке и пацана лет пятнадцати в простой белой футболке. Этим пацаном запросто мог быть я сам – лет тридцать назад: сходство было убийственным.
12
Я поставил фотографию на стол, долго вглядывался. Потом закрыл лицо ладонями. Шурочка пальцами тронула мое плечо, я замотал головой. Я не плакал. Я просто не знал, не мог понять, что со мной происходит.
Рассудок – это часть сознания, способная логически осмыслить действительность, составляя суждение о явлениях и превращая познание в опыт, путем объединения их в категории. Я был согласен с Кантом теоретически, но на практике – в отдельно взятой московской кухне – что-то не очень складывалось: мозг заклинило, в горле стоял ком; я подумал, что, наверное, именно так людей хватает кондрашка.
– Незлобин, – испуганно позвала Шурочка. – Тебе плохо?
Не поднимая головы, я отрицательно помотал головой.
– Димка. – Она наклонилась ко мне. – Может коньяку?
Не отнимая рук от лица, я кивнул.
Коньяка не оказалось. Я выпил теплой водки, налил еще и снова выпил.
– Ты, что ли, настаиваешь? – сдавленным чужим голосом спросил я – на дне бутылки бледными кольцами скручивалась лимонная кожура.
– Я? – Шурочка заботливо налила мне третью рюмку. – Не-е. Папа еще…
Пухов-старший, подмигнув, помахал мне загорелой рукой с того света. Я кивнул ему и выпил третью. Шурочка по-птичьи осторожно, точно микстуру, отпила из своей рюмки. Химическая реакция наступила на удивление быстро (что бы там ни говорили про русских, водку они делать умеют): мне стало жарко, голову отпустило, я улыбнулся.
Я улыбнулся, погладил Шурочкину руку. Сто грамм разведенного этилового спирта, настоянного на лимонных корках, волшебным образом навели порядок в мироздании.
Широким жестом снял куртку (один рукав застрял) я освободился, резко вывернув его наизнанку. Порвал подкладку, вытащил деньги – пятьдесят новеньких купюр с портретом президента Франклина, туго перетянутые аптекарской резинкой. С почти эротическим удовольствием шмякнул увесистую пачку на кухонный стол. Безусловно, существует магическая связь, подсознательная, на грани патологии, между человеком и этими кусочками цветной бумаги. Не будучи наркотиком, они волшебным образом вызывают состояние эйфории. Эффект значительно усиливается, если тебе удалось провезти их контрабандой через границу.
Шурочка сняла очки. Некоторое время она молча смотрела на меня, пытливо и внимательно, точно стараясь что-то разглядеть в лице. Ее умные глаза серо-голубого цвета пытались сквозь морщины, годы, ссоры и скандалы, сквозь незатянувшиеся шрамы развода, сквозь боль обидных и несправедливых слов добраться до того, что она разглядела тогда, много лет назад, когда нам еще не было и пятнадцати. Не знаю, может, мне это только почудилось, поскольку нечто подобное творилось сейчас со мной.
– Спасибо, – тихо сказала Шурочка. Она взяла деньги, зачем-то понюхала. – Новые совсем.
Встала, поднявшись на цыпочки, сунула пачку между жестяных банок «Соль» и «Мука» на верхней полке. Отошла к окну. Телевизор показывал фотографию Спасской башни с часами, застывшими на семи двадцати. Из хилого динамика, чуть похрипывая на басах, текли «Страсти по Матфею». Тревожная музыкальная фраза повторялась, потом пошла наверх. Иисус нес крест на Голгофу. Вступил хор, в тоскливую мелодию органа вплелись голоса второго хора – первый хор оплакивал Христа, второй вопрошал: «Кто? Куда? За что?»
Шурочка, чуть сутулясь, стояла ко мне спиной. За ней, в заоконном мареве, проступило тусклое солнце. Оно, мученически краснея пунцовым нарывом в серо-коричневой дымке московского неба, закатывалось где-то там, за неразличимым из-за гари университетом, где-то в районе Воробьевых гор.
Кухня вдруг наполнилась рыжим светом, теплым и почти осязаемым. Легионеры распяли Иисуса, подняли на веревках крест, укрепили кольями и булыжниками. К двум хорам присоединился еще один, детский: «О, невинный агнец Божий, Ты на кресте убиенный». Такими голосами, наверное, поют ангелы, когда им грустно.
Шурочка всхлипнула. Не поворачиваясь, зябко обхватила себя за плечи.
Какой же я все-таки идиот! Поистине безнадежный и неисправимый. Стукнувшись коленом, я неуклюже выбрался из-за стола. Она вяло отталкивала меня локтем, пряча лицо. Я прижал ее к себе, она тут же обмякла, по ее телу прошла та самая дрожь, от которой у меня мутился разум еще в школе. Примерно то же самое произошло со мной и сейчас – мозг отключился. Резко, почти грубо, развернув ее, я нашел ее губы. Прижал. Я елозил лицом по соленым щекам, по горячим мокрым губам, целовал ее лоб, брови, подбородок. Она, тихо всхлипнула, уткнулась мне в шею, точно прячась от кого-то. Я механическим жестом гладил и гладил ее по голове.
Москва-река за окном отразила небо, грязное и красное. Тень под мостом казалась черней сажи. Парапет и дома на той стороне сразу потемнели, стали плоскими, как фанерные декорации. Пробка на Устьинском мосту так и не сдвинулась, фиолетовые контуры троллейбусов напоминали караван гигантских кузнечиков, угодивших в западню. На середине моста собралась толпа, люди размахивали какими-то флагами, кто-то сорвал спасательный круг и выкинул вниз. Круг беззвучно шлепнулся в маслянистую воду и медленно поплыл в сторону Лужников. Люди жестикулировали, потом растянули на решетке ограждения длинный транспарант. На белой тряпке угловатыми буквами было написано: «Убей западло!» Я заметил, что несколько человек пытались перекинуть какой-то мешок через поручень. Им это удалось. Мешок полетел вниз. Не долетев до воды метра три, он дернулся и повис. Это был человек. Он неспешно покачивался, как маятник, потом замер. Я, не в силах оторвать от него взгляд, все гладил и гладил Шурочкин затылок.
13
По темному потолку бродили тусклые огни ночных машин, неслышно ползших по набережной. Шурочка задумчиво курила, приткнувшись к моему плечу; мне вспомнился ее неброский талант быть чрезвычайно уютной. Я следил за кружевами сизого дыма, лениво утекающего в черный проем распахнутой двери. Там был коридор, но мне почти удалось убедить себя, что за порогом раскрывается бескрайняя бездна вроде космической, в которую можно незаметно ускользнуть и там раствориться. Я бы с удовольствием отдал душу за возможность продлить пребывание в этой кровати до конца жизни, но калибр моей личности явно не интересовал силы зла, и никто не предлагал мне остановить это мгновенье. Впрочем, у Гете история была гораздо запутаннее.
– Почему ты ничего не рассказываешь про… – Я запнулся. – Про сына?
– Ты не спрашиваешь.
– Вот сейчас спрашиваю. Я даже не знаю, как его зовут…
Шурочка затянулась, беззвучно выпустила дым и назвала имя. К такому повороту я не был готов.
– Ты действительно… ты назвала… – У меня перехватило горло, я замолчал чтобы не всхлипнуть.
– Да. – Она снова пустила дым в потолок. – Надеялась, что вместе с именем он унаследует некоторые качества, которые мне были симпатичны в тебе. Когда-то…
Где-то вдалеке завыла «Скорая помощь». Я лежал в каком-то оцепенении, лежал и молчал, словно неподвижность могла оправдать идиотское молчание. Шурочка, точно почуяв, прохладно спросила:
– Ты хоть что-нибудь скажешь? Или женщины каждый день называют детей в честь тебя?
– Господи, Шурочка… – Я начал поспешно и очень искренне, не имея ни малейшего представления, что буду говорить дальше.
В этот момент с улицы раздался крик, звериный истошный вопль. Я даже не разобрал, кто кричит, женщина или мужчина. Шурочка вздрогнула, испуганно вцепилась мне в плечо. Крик, оборвавшись, захлебнулся, словно жертве заткнули рот. Я встал с кровати, быстро подошел к окну.
– Что там? – испуганно прошептала Шурочка. – Это тут, на набережной?
– Нет, – быстро ответил я. – Тут нет никого.
В желтом круге уличного фонаря рядом с автобусной остановкой на тротуаре лежал человек, двое других шарили по его карманам. Мимо проезжали редкие машины. Потом эти двое подтащили лежавшего к парапету; теперь стало видно, что это мужчина, его рубашка задралась, обнажив худой торс. Один ухватил его за ремень, другой под мышки, они подняли и перекинули его через парапет. На асфальте остался ботинок. Один нагнулся, подобрал ботинок и, сильно размахнувшись, закинул его в реку. Второй засмеялся, что-то крикнул ему, потом они быстро пошли в сторону Таганки.
– Иди сюда, – позвала Шурочка. – Что ты там стоишь…
Я кивнул, пальцы мерзко дрожали. Я стиснул кулаки, прижал лоб к стеклу: над притихшей Москвой висела грузная и слепая ночь. Хворо светились уличные фонари, их отражения плыли в тягучей, как смола, воде. Против воли я повернулся к мосту. К первому повешенному добавился еще один, свисавший, касаясь ногами воды. По безлюдному мосту проехал пустой трамвай, салон внутри был освещен теплым янтарным светом. Непонятно к чему я вдруг вспомнил, что под Устьинским мостом на нашей стороне реки была автомастерская, где я ремонтировал свою первую машину – «Жигули» одиннадцатой модели. Цвет назывался романтично, «коррида», на деле машина была просто рыжей.
Мы снова лежали, я снова глазел в потолок, Шурочка курила. Она что-то рассказывала, я кивал. Меня посетила странная мысль: мне вдруг показалось, что я больше никогда не смогу заснуть, сама идея сна представилась мне под новым углом, как нелепое и бездарное времяпрепровождение.
– …не так уж плохо, – продолжала говорить Шурочка. – Поначалу по крайней мере.
Я кивнул.
– Папа зачем-то устроил его к Лужкову, тогда контакты еще… – Она грустно вздохнула. – Мидовские и… другие.
Я снова кивнул.
– Ну тут Любецкий и решил, что сам черт ему не брат…
Любецкий был ее вторым мужем. После меня. Колченогий остряк в ондатровой шапке. Я хотел сказать, что человек по имени Артур, тем более брюнет, запрограммирован на мерзость и подлости, и ожидать от него иных поступков по меньшей мере было наивно.
– … его дочь. Ты, наверное, не помнишь, он тогда мелкой сошкой служил где-то в Питере. Ну а когда питерские поперли в Москву… – Шурочка затянулась. – Лобачев оттяпал жуткое количество недвижимости в Центральном округе…
Ее голос все-таки убаюкал меня. Тихий и монотонный, он точно неспешный поток потянул меня куда-то: из ватной темноты выплыл приблизительный пейзаж Санкт-Петербурга с безошибочным шпилем Петропавловки, по воде Невы брели какие-то темные люди, похожие на католических монахов. Впереди шел некто с лицом Гитлера, но я точно знал, что это Любецкий. «Как они идут по воде?» – мелькнула мысль. И тут же процессия начала погружаться, тонуть. Меня наполнило тихое злорадство: монахи уходили под воду, беззвучно и преувеличенно, как в немом кино, гримасничая и театрально заламывая руки. Я вздрогнул и проснулся.
– Ты спишь? – спросила Шурочка.
– Нет, – бодро соврал я.
Тут же мне показалось, что это уже было – и вопрос ее, и мой ответ. Что мы провалились на какую-то спираль жизни, которую мы уже один раз отыграли. А может, и не один раз: может, ты вспоминаешь лишь предыдущий виток, начисто забывая сто других, точно таких же, которые ему предшествовали. Во рту было сухо, но вставать и тащиться на кухню за водой было лень.
За прошедшие годы я миллиард раз проанализировал нашу с Шурочкой историю – я не поклонник психоанализа, но, думаю, доктор Фрейд остался бы удовлетворен проделанной работой. Перед защитой докторской я прослушал целый семестр в Принстоне и при желании мог открыть собственную практику где-нибудь в Сохо: принимал бы себе манхэттенских неврастеников в темном уютном кабинете с кожаным диваном и бархатными шторами болотного цвета и в ус не дул. Но поскольку я дул в ус, а именно преподавал на кафедре и писал статьи, интересные и понятные от силы дюжине человек, то психоанализ так и остался занятным хобби, которое я практиковал исключительно на себе.
Сновидения, и это всем известно – важный аспект данного метода. Любопытно, что, зная Шурочку наизусть – я помнил назубок каждый изгиб ее уютного тела, цвет летних глаз, оттенок щек морозным утром (аристократически нежно-персиковый, а вовсе не ваш крестьянский румянец), дух речных волос – свежесть травы и июльская меланхолия, аромат страсти (назовем это именно так) – смесь ванили с корицей плюс те пряные арабские духи, которые она воровала у своей матери, – я без труда мог воссоздать в памяти упругую твердость ее соска и горячую влажность ее губ, но при всем при этом подсознание, заведующее визуальной частью сновидений, отказывалось показать мне реальный портрет – Шурочка никогда не являлась мне в своем истинном виде.
Шурочка снилась в виде других женщин. Более поздних и менее интересных. В виде моей китайской жены, под личиной соседской стервы-лесбиянки с невоспитанным ротвейлером, иногда притворялась одной из моих студенток. Пару раз была негритянкой. Один раз – старым одноногим рыбаком-поляком, у которого я покупаю креветки на Бруклинском базаре.
Фоном служили невнятные пейзажи или неубедительные интерьеры, наполненные символической чепухой вроде часов без стрелок, бесконечных коридоров, узких кроватей, шатких табуреток. В том тягучем воздухе, который обычно наполняет такого рода сны, я неуклюжими пальцами срывал с Шурочки покровы, маски, парики. Шелушил ее как луковицу. Но никогда не мог добраться до истинной Пуховой. Ни разу.
Теперь к сути. Я не хотел иметь детей. Мы поженились слишком рано, мы сами были детьми. По крайней мере я. Мое сиротство и тетушкина опека продлили мой инфантилизм. Мне и сейчас кажется, что я еще не вырос в настоящего мужчину. Что мне около семнадцати. Я не дурак, я научился притворяться – голос, манеры, внешность весьма убедительны. Мне удалось провести всех: бывших жен и любовниц, студентов и коллег, приятелей и тех, кого называют друзьями. Всех, кроме себя. Кроме себя и, конечно, Шурочки.
Минули годы. Сказочным манером мы снова вернулись к началу игры, и вновь на руках у меня неплохие карты – тройка, семерка, туз. Но правила игры кто-то подкорректировал, а главное, изменились ставки. Годы не прибавили мудрости, а вот азарт угас, бесшабашность сменилась осторожностью, на место решимости пришла трусость. А вдруг это последняя сдача? И отыграться уже не выйдет? Я лежал и чувствовал, как в темную пустоту моей души, где когда-то горел огонь, медленно втекает ледяной страх.
14
Утром выяснилось, что отключен Интернет. Шурочка сидела на телефоне, обзванивая знакомых сына. По телевизору крутили мрачную музыку, в основном фортепьянные пьесы Шопена. Под мостом появился третий повешенный.
Точно вор, я прокрался в комнату сына, притворил за собой дверь. Сквозь толстые гардины сочился пыльный свет, тусклыми лужами растекался по дубовому паркету, по письменному столу. Я провел пальцем по краю стола – точно хотел убедиться в его материальности: за этим столом я писал курсовые, свои первые рефераты. Курсовые, рефераты? Я тихо рассмеялся.
Комната удивила аскетизмом: никаких плакатов по стенам, никакого подросткового хлама по углам. Полки, книги, кровать. Даже не кровать – койка. Туго заправленная шерстяным одеялом в темную шотландскую клетку, она напоминала койку какого-нибудь английского лейтенанта времен великой империи. Не хватало томика Киплинга и трубки с кисетом на тумбочке. Не отдавая себе отчета, что роюсь в чужих вещах, я привычным жестом выдвинул ящик стола. Там тоже был полный порядок: ручки, остро заточенные карандаши и прочая канцелярская мелочь строго лежали на своих местах. Наготове, как в пенале отличника.
Из глубин стола я выудил картонную папку. Там, внутри, были сложены рисунки. У меня отлегло на душе – мой сын был обычным парнем, нормальным подростком. На рисунках, лихих и на удивление профессиональных, были изображены какие-то супермены, вампиры, крылатые воительницы в рогатых шлемах, хищные инопланетные чудища, острые мечи и копья – короче, вся белиберда, которой мальчишки испокон века изрисовывали свои тетради, учебники, парты, стены. Я аккуратно убрал рисунки в папку, погладил ее ладонью. Потом сунул папку в стол и тихо задвинул ящик. Ужас, необъяснимый страх, что я испытывал перед своим сыном, начал постепенно таять.
Я вылез из душа, кое-как побрился розовой бритвой, которую нашел в ванной. Босиком прошлепал на кухню, следуя за чудесным запахом свежего кофе. Шурочка варила его по рецепту Пухова-старшего, дипломата, чекиста и путешественника, безусловного авторитета и знатока традиций Бразилии и Колумбии в области приготовления этого напитка. Секрет таился в дополнительном калении зерен на сковородке, крупном помоле в антикварной английской кофемолке с латунной ручкой и добавлении в момент закипания соли и корицы. Никаких электрических агрегатов – огонь и медная турка.
– Колумбийского не достать… – Шурочка твердой рукой разлила кофе по чашкам. – Из-за ваших санкций. Поблагодари своего президента от меня.
– Непременно. – Говорить о политике с утра не было ни малейшего желания, но я не удержался: – Вашего, очевидно, уже кто-то поблагодарил.
Шурочка бросила на меня презрительный взгляд. Я осторожно поднял чашку и сделал первый глоток. Кофе получился божественным, гораздо вкусней, чем я помнил.
– Что-нибудь узнала? – спросил я.
Шурочка отрицательно помотала головой.
– Ну у него ж есть друзья… – Я запнулся. – Подруги. Тебе же он наверняка что-то говорил?
Шурочка моментально ощетинилась:
– А ты своим родителям много рассказывал? – Тут же осеклась, буркнула: – Извини…
Я великодушно кивнул. Она продолжила на три тона ниже:
– Школу они окончили, все классные приятельства сошли на нет – ты ж сам помнишь… Димка дружил с девочкой из «А»…
– Дружил? – Я поднес чашку, вдохнул, сделал глоток. – Надеюсь, я понимаю тебя правильно?
– Ну откуда я знаю? Я ее видела несколько раз – хорошая девочка из приличной семьи. Хочет стать врачом… Зина…
– Зина?! – засмеялся я. – Зина? Ты шутишь? Зина…
– А что? Имя как имя.
– Конечно, конечно! – согласился я не без сарказма. – Хорошо, что не Марфа или Дуся. Или вот еще отличное имя…
Я не успел сострить – кто-то требовательно и нетерпеливо заколотил в дверь. В Шурочкиных глазах мелькнул испуг. Она пошла открывать, я остался сидеть на кухне в майке и трусах с дурацким рождественским узором из красных бантов с золотыми бубенцами по темно-зеленому фону.
Клацнул замок, голос, низкий и угрюмый, забубнил что-то с вопросительной интонацией. Лестничная клетка отзывалась эхом, казалось, говорят из колодца. Я привстал, вытянул шею – угол стены с бутафорской, якобы кастильской, гитарой черного лака загораживал входную дверь: я видел лишь Шурочкину ногу в розовом тапке, с какой-то школьной беззащитностью отставленную назад на носок. Поза отличницы, попавшей впросак.
Их оказалось двое. Они вошли в коридор, протопали на кухню. Парень в серой ментовской форме и пехотный старлей. Обоим было не больше двадцати пяти. Мент, плотный и рыжеватый, с нелепыми рыжими усиками, напоминал сытого кота. Пехотинец, бледный и голубоглазый, был в полевой форме с портупеей и кобурой. Из-за гостей растерянно выглядывала Шурочка.
– Доброе утро. – Я привстал, приветливо улыбаясь, успешно выдрессированный американскими нормами общественного поведения. – Не хотите кофе? Хозяйка только сварила.
Оба посмотрели на меня так, словно я показал им карточный фокус.
– Это кто? – грубовато обратился мент к Шурочке.
– Муж, – без запинки ответила она. – Отец Димы.
Они подозрительно разглядывали меня, неодетого, но чисто выбритого, загорелого и поджарого, с намеком на атлетическую фигуру: в соседнем корпусе моего университета – бассейн на семь дорожек. Я, продолжая улыбаться, вдруг заметил за милицейской фуражкой, совершенно маскарадной, с невероятно высокой тульей и украшенной золотым орлом, толстенную пачку моих долларов, втиснутых меж двух жестяных банок. Пачка выглядывала с полки почти на сантиметр. Я понял, что сейчас у меня попросят документы, что последует за этим, рисовалось смутно, но почти все варианты развития событий выглядели не очень привлекательно.
– А что, звонок не работает? – непринужденно спросил я. – Вы стучали…
– Ток отключили, – буркнул мент. – В восемь пятнадцать…
– А когда включат? – вежливо перебил его я. – У вас есть какая-нибудь информация?
Мент недовольно хмыкнул и осторожно погладил усики, словно проверяя их наличие. Пехотинец заскрипел кожей портупеи, откашлялся.
– Вот… – Он неловко расстегнул планшет, я помнил такие по военной кафедре. – Вот. Надо расписаться…
Он достал несколько повесток. Эту гадость я тоже помнил.
– Как его? – перебирая бумажки, спросил он у рыжего.
– Пухов, Дмитрий Пухов. – Внимание рыжего тут же переключилось с меня на Шурочку. Кот, ну вылитый кот.
– Если вам, гражданка Пухова, все-таки удастся, – рыжий ухмыльнулся, – все-таки удастся каким-то невероятным образом связаться со своим сыном, передайте ему, что если он не появится в военкомате до четверга…
– Пусть распишется… вон там… – Лейтенант нашел повестку и сунул открытку Шурочке.
– Кто? – спросила она.
– Пусть она распишется, – повторил старлей, обращаясь к рыжему.
– Вашему сыну грозит срок за уклонение от воинской обязанности. А в нынешней ситуации, – кот насупил рыжие брови, – военный трибунал.
– Военный трибунал, – строго повторил лейтенант.
– А если введут чрезвычайное положение, – доверительно снизив голос, сказал мент, – в два счета к стенке поставят. Ага. И не балуй.
Они ушли, оставив на кухне запах солдатской ваксы и мужичьего пота. На столе лежала открытка с фиолетовой печатью, заполненная от руки красивым, почти каллиграфическим почерком. У заглавных букв Д и П были кокетливо закручены петельки. Я грохнул кулаком по столу.
– Господи! – заорал я. – Ну почему, почему в этой проклятой стране ничего не меняется? Почему?
Шурочка хмуро смотрела на повестку.
– Вот эта гнусность, – я схватил повестку, потряс ею над головой, – ведь она происходила и двадцать лет назад! И пятьдесят! И сто! И будет происходить тут вечно!
Я смял повестку и швырнул в угол.
– Тот же самый военкомат, та же рабская армия тюремного типа, те же самые менты…
– Полиция, – буркнула Шурочка. – Это теперь полиция. Как у вас.
– Как у нас? – Я возмущенно выпучил глаза. – Вот этот рыжий хам, вороватый, немытый недоучка с обгрызенными ногтями? Это полиция?
Шурочка отвернулась к стене.
– Нет, милая моя, нет! – Я вскочил. – Это самый настоящий мент! Ментяра вульгарис!
Шурочка закусила губу. Нужно было остановиться, но меня уже понесло.
– Как вы можете жить в этом дерьме? Как? – Я стремительно прошелся к окну и обратно – два шага туда, два сюда. – Ты ж интеллигентный человек! Искусствовед! Ну как ты можешь жить тут? Как?
Мой вопрос повис в воздухе, эхо плоско откликнулось в какой-то кастрюле. Шурочка подняла глаза, невесело посмотрела на меня.
– Ты знаешь, Незлобин, – сказала она мрачно, – эти новогодние трусы здорово снижают градус твоего пафоса.
Неожиданно включился свет в коридоре, а из телевизора донесся гробовой голос:
– …похоронной комиссии, маршал авиации и исполняющий обязанности главнокомандующего России, председатель Чрезвычайного штаба Илья Семенович Каракозов.
Мы с Шурочкой повернулись к экрану. Из темноты выплыл маршал. Мне показалось, что за ночь он прибавил килограммов пять и постарел лет на десять.
– Россияне! – с плохо скрытой истерической нотой проговорил военачальник. – Сограждане! Братья и сестры…
Я подумал, что, судя по беспомощному плагиату, этот толстяк безнадежно бездарен и долго наверху не задержится.
– Кто этот клоун? – спросил я.
Шурочка пожала плечами.
Каракозов, пуча глаза, поведал о тяжелой године и о кольце врагов. Об их коварстве и ненависти к стране России. О кровожадном блоке НАТО, о недобитых фашистах и националистах. О горячо любимом вожде, которого мы потеряли. О великом человеке, мудром и прозорливом, гении, равно гениальном во всех областях жизни – превосходном спортсмене, талантливом музыканте, поэте и лингвисте (покойный, оказывается, говорил на пяти языках, включая фарси). Великом политическом деятеле. Стойком борце за дело мира.
– Два года подряд Нобелевский комитет присуждал ему… – маршал быстро вытер мокрые губы рукой, – присуждал ему международную премию мира.
Я демонически расхохотался.
– Ага! Когда русские танки входили в Ригу!
Шурочка гневно зыркнула на меня.
– Вы ж всех подкупаете! – смеясь, крикнул я ей в лицо. – И этих чертовых шведов, и Олимпийский комитет, и футбольных мафиози. Всех! Вы погрязли в коррупции. Коррупция – это ваш модус операнди, вы по-другому не можете существовать… Вы и ваше проклятое общество! Как вообще вы смеете именоваться Россией. Вы хуже коммунистов, вы… вы… Вы просто совки! Совки!
– Не смей! – вдруг горячо воскликнула Шурочка. – Не смей! Это Россия! И мы – русские! А вот ты, ты сделал свой выбор. Ты уехал…
– Ну и что? Я от этого не меньше русский, чем…
– Нет! – перебила она. – Ты не русский, никакой ты не русский. Ты…
Она запнулась, пытаясь придумать, как побольней оскорбить меня.
– Ну? – подзадорил ее я. – Ну давай! Кто я?
– Ты – пиндос!
Я оторопел, глядя на нее. Ее лицо побелело. Она отвернулась, закрыла лицо руками. Маршал с экрана вещал:
– …будет открыт доступ к телу президента. В церемонии прощания примут участие главы иностранных государств, представители международных организаций…
Шурочка всхлипнула и зарыдала в голос. Я неуклюже обнял ее, прижал к себе.
– Боже мой, боже мой… – причитала она, шмыгая носом и всхлипывая. – Что с нами приключилось, боже мой, Незлобин, что с нами… что с нами такое приключилось?
Я снова гладил ее по голове и снова в меня вползало чувство, что все это уже происходило – и со мной, и с Шурочкой, и с этим проклятым миром.
В прихожей жалобно заблеял телефон.
Шурочка говорила недолго, вернее, даже не говорила, а слушала, изредка кивая, словно собеседник мог видеть эти кивки. В конце сказала «да» и нажала отбой.
– Через час на Маяковке. – Лицо у нее стало совсем бледным. – У памятника.
– Это он? – неуверенно спросил я, кивая на телефон.
– Зина…
– А что с ним? Где он? Она хоть что-то сказала?
– По телефону? – Шурочка спросила так, точно мне было лет девять. – Ну ты даешь…
15
Она, как всегда, оказалась права – нужно было идти в сторону Таганки. Я настаивал, что по набережной получится быстрей.
Мы вышли на Котельническую и тут же угодили в людской поток – плотная толпа двигалась в сторону Кремля. Машин не было. Люди шагали по мостовой, по тротуарам. Продирались сквозь чахлый сквер, топча жухлую траву. Деловито перелезали через лавки. Люди двигались с мрачной целеустремленностью, точно лед по реке, шли молча – и в этом безмолвном упорстве было что-то жуткое, неодушевленное: казалось, запущен какой-то гигантский механизм, превративший людей в угрюмое стадо. Я сжал Шурочкину ладонь и, выставив плечо, потянул ее за собой.
– Все нормально. До академии дойдем, – сказал я уверенно. – Там свернем – и к метро.
Со стороны Яузы, с набережной и от Садового кольца шли люди, много людей. Они вливались в нашу толпу. На Астаховом мосту стояли танк и два полицейских автобуса.
– Куда они все идут? – Я приблизил губы к Шурочкиному уху. – В Кремль на елку?
Я вспомнил, как на первом курсе нас гоняли на первомайскую демонстрацию, как Сильвио протащил за пазухой бутыль портвейна, как мы прикладывались к ней, по очереди загораживаясь фанерой с фотографией какого-то члена Политбюро. Как потом, уже на подходе к Красной площади, Сильвио очень похоже изображал Брежнева, потешно двигая бровями и шепелявя про легендарные «сиськи-масиськи». Все это казалось нам очень забавным.
Нынешняя толпа была другой, серьезной. За моей спиной женский простонародный голос тихо спросил: