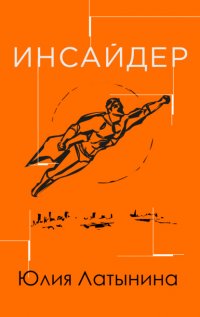Читать онлайн Колдуны и министры бесплатно
- Все книги автора: Юлия Латынина
Часть первая
Реформа
Глава первая,
в которой государь Варназд изъявляет желание ознакомиться с жизнью народа, а справедливого разбойника назначают наместником провинции
В пятый день восьмой луны, благоприятный для назначений на должности, в зале Ста Полей государь Варназд подписал указ о назначении господина Ханалая наместником провинции Харайн.
Зала Ста Полей! Сто полей – и все государевы! Поле синее, как вода океана; поле зеленое, как весенняя трава; поле белое, как горная вершина; поле черное, как тучная земля и поле красное, как земля бесплодная; а с колонн, прозрачных, как солнечный луч, свисают плети нефритового винограда, и солнце, звезды и луна глядятся в грани яшмовых полей, и весь мир видит в них свое отражение, и драконы и пеликаны, украсившие золотые стропила, поднимают голову так высоко, что заглядывают на небеса.
А дальше – дворец, под небом в серебряную сетку, сотворенный по образу и подобию залы Ста Полей, а дальше – город и мир, сотворенный по образу и подобию Дворца; и в мире – изобилие, справедливость и процветание с той поры, как две тысячи лет назад государь Иршахчан отменил «твое» и «мое», и из ойкумены исчезли зависть и злоба, ревность и ненависть, наглость и распущенность, и причина их – пагубная страсть к стяжанию.
Итак, молодой государь Варназд стоял посередине мира, под государевым деревом с золотым стволом и серебряными листьями, и глядел на нового наместника с улыбкой. Это было нетрудно, так как на лице государя была тонкая рисовая маска.
Новый наместник стоял перед ним в кафтане цвета морской воды с круглым воротником, шитым облаками и звездами. С левой стороны на кафтане были изображены пеликаны, с правой стороны – единороги. Тело у нового наместника было крепкое, кулаки крупные, а глаза и волосы – черные, как донышко закопченного котла. Он был на голову выше других чиновников. Золотая повязка на его голове, по особому распоряжению государя, была не в четыре, а в шесть пальцев шириной. Новому наместнику лучше было носить повязку на два пальца шире установленного, потому что восемь лет назад нового наместника, бывшего разбойника Ханалая, заклеймили в лоб за грабеж и изнасилование.
«Распуститесь», – сказал государь Варназд, и тут же на Золотом Дереве распустились рубиновые цветы. «Созрейте», – молвил государь Варназд, – и цветы превратились в золотые гранаты справедливости. Новый наместник хлопнулся на колени и заплакал от счастья, уткнувшись лицом в государев башмак. Повязка в шесть пальцев шириной сбилась набок. Государь, улыбаясь, протянул руку и, обняв голову Ханалая, незаметно поправил повязку, поднимая его.
Государь нахмурился под маской. Он вспомнил, как прежний наместник Харайна, изменник Вашхог, задумал отпасть от империи, пригласил на помощь горцев. Заговор раскрыл господин Нан, посланный инспектором в провинцию, и он же обещал прощение разбойнику Ханалаю, ежели тот, за неимением правительственных войск, разобьет варваров. Государь чуть не закусил губу, вспомнив предсмертную записку этого Вашхога, развратника и самоубийцы: «Говорят, государь, вы разгневались, промокнув на охоте, на Левую Реку, и велели, чтоб отныне в ней не промокла даже курица. Вы увели двадцать тысяч крестьян из моей провинции, чтобы реку под столицей разобрали на каналы. Земли провинции Харайн опустели, земли под столицей превратились в болота. Когда каналы строят, чтобы заболачивать землю, а не чтоб орошать – это ли не знак времени?»
Зачитали указ, принесли печать, круглую, как солнце, привесили серебряную кисть. Разбойник Ханалай от счастья разинул рот. Из пастей драконов на золотых балках посыпалось жареное зерно. Господин Нан, полномочный государев инспектор, внес, кланяясь, поднос со съедобной печатью, испеченной из шести видов злаков, и протянул его новорожденному наместнику.
Ханалай сгреб печать с подноса и от смущения заглотил ее целиком, как змея глотает бурундучка со шкуркой. Тут уж многие из дворцовых чиновников стали улыбаться, глядя на удалого молодца. Ханалай понял, что сделал что-то не то, крякнул и в замешательстве сунул палец в рот. Молодые чиновники так и прыснули.
Господин Ишнайя, первый министр империи, глядел, однако, не на Ханалая, а на полномочного инспектора Нана. Ему очень не нравилось, что Нан протащил этого разбойника на должность наместника, потому что Ишнайя уже продал эту должность другому человеку за два миллиона, и ему было ужасно досадно возвращать этакие деньги. Гневно указывая на Нана, первый министр промолвил:
– Когда разбойники превращаются в чиновников, тогда чиновники превращаются в разбойников. Когда чиновники превращаются в разбойников, государство разрушается, как истлевший зуб. Когда государство разрушается, как истлевший зуб, каждый делает то, что кажется ему правильным в собственных глазах.
Господин Мнадес, распорядитель дворца, и заклятый враг Ишнайи, тоже смотрел на Нана, а не на Ханалая: ему было неприятно, что из-за этого дела в провинции Харайн его друг Нан слишком уж возвысился во мнении государя. А господин Мнадес был человек мелкий и завистливый, совести в нем было меньше, чем костей в медузе, он делал множество неправд в государственной казне и полагал, что глупо не изменять убеждениям, но еще глупей – не изменять друзьям. Зять Мнадеса, Коркинна, перехватил его взгляд и тихо сказал:
– Господин Нан, сколько я слышал, всегда считал, что нет ничего хуже, чем менять существующие порядки. Ибо едва лишь начинают ломать существующее во имя добра, как тут же приучаются ломать существующее во имя зла.
Господин Мнадес помолчал и молвил:
– Господин Нан всегда считал, что ничего не бывает добрым и злым само по себе, но все – смотря по обстоятельствам.
А молодой государь глядел на Ханалая, который приплясывал от радости, и на Нана, и завидовал людям, о приключениях которых говорит народ и чиновники, – а он, государь, скучает в нефритовом дворце под небом в серебряной сетке.
* * *
День кончился, и солнце, подобно важному чиновнику, удалилось на ночь в личные покои, и место его заняли два тоненьких, услужливо выгнувшихся секретаря-месяца. Пробили третью стражу.
В это самое время на плоской кровле городской тюрьмы показался человек в арестантской одежде. В лунном свете он был виден очень хорошо. Это был высокий юноша вряд ли старше двадцати лет, с белокурыми волосами, бровями, изогнутыми наподобие ласточкина крыла, и холодными, навыкате карими глазами. Плечи его были чуть широковаты. Он был очень красив. Звали его Киссур.
Киссур вынул из-за пояса веревку, приладил ее к зубцу и соскользнул вниз. Если бы сторожа караулили стену, они бы, бесспорно, его заметили. Но сторожа в эту ночь выпили по три тыковки на брата, радуясь и удивляясь тому, что настали сказочные времена и справедливый разбойник получил в управление провинцию. Теперь сторожа спали и видели во сне, как они разбойничают в темных лесах: ибо, несомненно, никакого более вероятного пути к чину наместника им не было.
Итак, Киссур соскользнул со стены по веревке и пересек тюремный двор. Двор был мощен гранитом, в гранит въелись медь и железо. Триста лет назад тут был монетный двор, но государь Иршахчан преобразовал его в городскую тюрьму. Киссур дошел до гранитной стены и полез по ней вверх, как ящерица. Веревка ему не могла помочь, потому что стена была в три раза выше веревки, зато помогали стальные когти на руках. Киссур дошел до верхушки стены и осторожно перевесился через зубец.
Стена была широкая, поверх шла крытая дорога, на которой могли разъехаться две повозки установленной ширины. На дороге никого не было. Киссур пересек дорогу, прошел по узкому, с ладонь, парапету за выступ угловой башни, зацепил веревку и через мгновение повис на ее конце. Далеко внизу плескался грязный канал. Противоположного берега в ночи не было видно. Киссур раскачался на веревке, чтоб не упасть близ берега, и прыгнул.
Вода была ледяная: Киссур едва не выронил душу, однако вынырнул и замотал, тихо отфыркиваясь, головой. Ему повезло, что он не ударился при падении о тряпку, доску, выеденную тыкву, словом, о любой жизненный отход самого большого города ойкумены, города, где живет сто тысяч чиновников и еще миллион человек.
Через полчаса Киссур вышел на берег у Песчаного Моста. Киссур разрыл землю у опоры моста, достал что-то, завернутое в ветошку, сел на берегу и задумался. По правде говоря, он не знал, как быть дальше.
Доброжелатель, снабдивший его когтями и веревкой, планировал побег совсем по-другому и через месяц. Доброжелатель этот сейчас уехал инспектором в провинцию. Но заключенный увидел вечером снаружи своей клетки пьяного стражника и не устоял перед искушением: зацепил стражника крючком, подволок к прутьям, просунулся сквозь них, придавил, вытащил ключи и бежал. Но что делать дальше, он не знал. Он, правда, смутно слышал, что в столице недавно завелось место, называемое рынком, где продаются поддельные документы и другая жизненная снасть.
Киссур поднял голову и увидел по звездам, что скоро полночь. Он взобрался по гранитной стене канала. Перед ним открылась площадь, а на площади – статуя государя Иршахчана, в окружении двух крыльев городской управы. Киссур забился под корни огромного платана напротив и стал ждать, глядя на идола. Это была небольшая, еще прижизненная статуя, и поэтому у нее было человеческое лицо. В одной руке государь держал меч, а в другой книгу.
Киссур знал, что ровно в полночь государь вздрагивает и переворачивает каменные страницы книги, и в этот миг можно у него чего-нибудь выпросить. «Дай мне встретиться с государем Варназдом», – загадал желание Киссур. Он терпеливо сидел и ждал. Однако каменная статуя так и не шевельнулась.
* * *
Почти неделю государь охотился в парке вместе с новым наместником. На привале Ханалай показал государю, как разделать и съесть сырого суслика, если очень проголодаешься. Государь был очарован.
Дворцовый чиновник сообщил Ханалаю, что государь жалует ему коня с широкой спиной и тонкими ногами, и золотую попону к коню. «Золотые слова, голубчик! – вскричал Ханалай, – за такие слова полагается награда», – и, велев чиновнику открыть рот, стал пихать туда монеты: глаза у чиновника сделались безумные и восторженные, и он чуть не подавился, разевая рот как можно шире. Государь хлопал в ладоши, в восторге от непосредственности Ханалая.
А через неделю случилось вот что: наместник совершал церемонию у Синих Ворот. Рассыпали шесть видов злаков, седьмой – боб, совершили возлияния, подвели под каменный нож ягненка… и тут-то нож сломался в руке Ханалая. Наместник, не долго думая, выхватил деревянный церемониальный меч и смахнул жертве голову.
– Воля народа – воля государя! – вскричал он.
Господин Ишнайя, первый министр, побледнел. Разбойник Ханалай, видимо, перепутал от волнения слова. Вместо древнего слова «народ», принятого при дворе, он употребил его просторечный синоним, заимствованный из языка варваров-аломов, которой которых, Амар, двести лет назад завоевал империю.
Сын Амара принял имя прагосударя Иршахчана, запретил варварские обычаи, одежду и язык. У простонародья, однако, некоторые слова уцелели. И беда была в том, что старовейское слово «вей», «народ», – значило одновременно «земледельцы», а варварское слово «шугун», «народ» – значило одновременно «войско».
На следующий день государь учредил Нана начальником над «парчовыми куртками» в Западном Округе столицы. Все полагали, что государь поручит ему дознаться, отчего сломался нож в руке Ханалая и кто из дворцовых хранителей получил за это взятку. Однако государь принялся расспрашивать чиновника о деле в провинции Харайн, изумляясь его отваге и смекалке. Нан, поклонившись, промолвил:
– Во всем, что совершает подданный, нет ни малейшей его заслуги. Все, сделанное вашим ничтожным слугой, исполнилось лишь благодаря вашей счастливой звезде и благой силе, государь!
Молодому государю понравился этот ответ, и он сказал Нану, что у него есть тайное поручение в Нижнем Городе, – для Нана, Ханалая, и еще одного лица, – и не может ли новый начальник Западного Округа достать три фальшивых документа?
Тут вошел министр Ишнайя с докладом, и государь сделался рассеян.
* * *
Вернувшись в управу, господин Нан велел своему секретарю Шавашу заполнить три «лопуха» на имя трех чиновников, приехавших из провинции Иниссы хлопотать о должности и справедливости, и продиктовал приметы.
– О чем с вами беседовал император? – почтительно осведомился Шаваш.
– Императору скучно. Император хочет посмотреть, как живет его народ. По докладам он этого не может понять, тем более что не имеет охоты их слушать.
Через час поддельные лопухи были в порядке. Шаваш, на полу, яростно трепал новенький синий кафтан без знаков различия.
Господин Нан заперся в новом кабинете и долго глядел в окно на весеннее небо, круглое и синее, как око парчового старца Бужвы. По окну вилась решетка, и с нее свисали бронзовые грозди небесного винограда, так что если из окна управы глядеть на небо, было видно, что небо увешано крупным виноградом.
Господин Нан был молод для чиновника столь высокого ранга – ему не было еще и тридцати пяти. Он был не то чтобы высок, но и не низок; довольно строен; пухлые красные губы выдавали в нем человека, не пропускающего мимо жизнь с ее радостями, и странно противоречили железной скобе подбородка и серым гвоздям глаз. У него были румяные щеки и изящной формы руки с мягкими пальцами и каменной хваткой запястий.
Господин Нан вздохнул. Не то чтоб Нижний Город был столь уж опасным местом. Государь, однако, не собирался ждать приключений, а собирался их искать. Еще хорошо, если все кончится тем, что он подберет какую-нибудь девку в сточной канаве… Государь рассердится на Нана, если приключений не будет; а если приключения будут, они наверняка не понравятся государю – и он опять рассердится на Нана!
Господин Нан отпер потайной шкаф под полкой с богами-хранителями, достал оттуда небольшой нож с широким лезвием и ручкой слоновой кости, и, стукнув зубами, сунул его в рукав. Нож этот явно обличал суеверие его владельца: в костяную ручку был вставлен талисман «рогатый дракон». Талисман был шириною в палец и формой напоминал небольшую репку. С острого конца репки торчал серебряный крючок, которым ловят демонов, а с тупого конца свисали три красных хвостика крученого шелка. Поперек талисмана шла надпись травяным письмом. В рыночной лавке талисман не показался бы Нану за вещь. В талисман был вмонтирован маленький, но мощный лазер.
Господин Нан, он же Дэвид Н.Стрейтон, один из нескольких десятков землян в империи, попросту спер этот лазер у своих коллег в желтом монастыре Харайна, куда был послан императорской канцелярией по странному делу об убийстве городского судьи. В общем-то Стрейтону не полагалось иметь таких вещей во избежание необратимых последствий.
«Ладно, – подумал Нан, – чудес в городе случается в среднем четырнадцать с половиной в сутки. Заявленных чудес. Пять лет назад их, как, кстати, и самоубийств, было вдвое меньше. Так что чудо – не беда, а вот если что случится с государем…»
Тут, словно в ответ мыслям Нана, небо, круглое, как око Бужвы, померкло. Загрохотало. Глаз неба раскрылся, и золотой трезубец с силой ударил в далекие башни дворца под серебряной сеткой. Все четыре ножки мироздания подломились, и на город налетела страшная весенняя гроза.
«Если, – подумал Нан, – государь хочет приключений, – так пусть они послужат на пользу государства, то есть карьере господина Нана». И он стал набрасывать в голове план, обладавший, как впоследствии выяснилось, ста семью достоинствами и одним недостатком. Достоинства плана были в его непогрешимости, а недостаток был в том, что план полетел кувырком.
* * *
Гроза кончилась, и Нан отбыл во дворец. Секретарь его, Шаваш, заперся в кабинете и стал дотошно обыскивать полку с духами-хранителями, сейф с улыбающимся Бужвой, книги и папки с трехцветными кистями. Он сам не знал, чего искал, – а не нашел ничего. Даже потайной ящичек под полкою духов был пуст.
Шаваш вышел во внутренний сад, покрутил головой, поднял и повесил на ветку мокрую ленту со знаком счастья, сбитую грозой.
Секретарю господина Нана было немного за двадцать, и он был очень хорош собой, с золотыми кудрями, выбивающимися из-под строгой пятиугольной шапочки, и глазами цвета полуденного солнца. Хорошенькое его лицо по желанию владельца его было то невинным, как у юной девушки, то преданным, как у старого пса.
Вырос Шаваш на улице: быть бы ему шельмой и вором, если б Нан не пригрел беспризорника… А так Шаваш стал начальником, ходил в камчатом кафтане, в сапожках, подбитых шелком, и с каблуками в два пальца высотой. Шаваш любил высокие каблуки, ибо из-за голодного детства был невысок.
До недавних пор он был предан Нану по-собачьи, и они были близки, как ядро ореха и его кожура. После дикого дела в провинции Харайн душа Шаваша как-то смутилась. Он все не мог забыть, как Нан сжег на свечке донос об участии желтого монаха в заговоре против империи, а доносчику положили на голову мешок с песком, и как местный чиновник Бахадн, упившись вином, рыдал на плече у Шаваша: «Оборотни в монастыре живут, сорока богами клянусь, оборотни… Был ведь уже такой случай с храмом Шакуника».
«Гм… оборотни» – думал Шаваш. Надо сказать, что, в отличие от своего начальника, Шаваш был вольнодумцем. Даже, попросту говоря, атеистом.
Тут в дверь заскреблись, – это местные лавочники пришли поклониться новому начальству. После ухода их Шаваш вызвал к себе двоих сыщиков, и, блаженно жмурясь, сказал:
– Э. э, – кстати… Я бы желал иметь сведения обо всех чудесах, происходящих в городе. Это, знаете ли, дает хорошее представление о настроениях народа.
* * *
Но в эту ночь государь так и не пошел в город. Днем он стоял у окна и глядел на небо в серебрянной сетке. Дул редкий восточный ветер, как-то невзначай пахнуло запахом Нижнего Города и чуть ли не цветущими тополями. Налетела гроза, и у Варназда начался приступ астмы.
Астма у государя была вот отчего:
Государь Варназд был младшим сыном государыни Касии, моложе наследника на семь лет. Он рос в тепле и холе, но однажды, когда брату его было пятнадцать, брат в зале Ста Полей ударил его по лицу со словами: «Мать любит тебя больше, потому что ты моложе, но смотри…»
Когда брату было восемнадцать, многие заговорили, что регентше пора уступить бразды правления законному наследнику. Вскоре, однако, открылся заговор, затеянный сыном против матери. Высоких заговорщиков поймали с кинжалами в руках. Самого наследника судили в присутствии матери и младшего брата: женщина хотела преподать новому наследнику нравоучительный пример.
Государь плакал и во всем признавался. Он был очень жалок. Он просил оставить ему хоть одну провинцию. Не оставили. Он просил о ссылке. Не позволили. Он стал просить о монастыре. И это не было разрешено.
Государыня Касия махнула рукой. Кликнули палача. Тот в ужасе попятился, увидев, кого предстоит казнить. Воспользовавшись этим, наследник вырвался из рук стражи и бросился, – но не к матери, а к одиннадцатилетнему Варназду, и обхватил его за ноги. Варназд в ужасе закрыл лицо руками, и открыл их, только когда все было кончено. Дело было как раз в пору цветения тополей, и вечером случился первый приступ астмы. Встревоженная мать велела вырубить все тополя во дворце и городе; наместники провинций последовали этому примеру.
Государь жил очень тихо, в покоях, где ковры и стены, запеленутые в шелк, глушили шаги стражников и шепот соглядатаев, под небом, крытым серебрянною сеткою. Он был изящен, как ветка ивы, тонко ценил поэзию и живопись. В нем почти не осталось варварской крови белокурых Амаридов, у него были светло-русые волосы и глаза как горное озеро, которое бывает то голубым, то зеленым, в зависимости от того, что над озером – лес или небо.
А когда государю Варназду исполнилось восемнадцать, мать тихо и просто умерла. Никто не оспаривал у него трона. Тем не менее ни во дворце, ни в Верхнем Городе тополей не росло.
Приступы астмы стали чрезвычайно редки, но вот сегодня почему-то случился один. Государь лежал без сил. Ввели Нана, Варназд слабо указал чиновнику на подушку у изголовья, взял его руку – показалось, что стало легче. Чиновник потихоньку говорил, Варназд заснул. Ночью государь проснулся. Чиновник сидел все так же, рука в руке. Варназд зашептал Нану: «А признайся, что ты колдун и в том деле без колдовства не обошлось?»
Чиновник кивнул: государь заснул, и во сне бродил по улицам Нижнего Города, а чиновник-колдун сопровождал его с рыжим драконом на поводке.
* * *
Небесный Город расположен чрезвычайно удобно. В том месте, где Руна, великая западная река, и Шечен, приток восточной реки, близко подходят друг к другу, провели канал с шириной по дну в сто шагов, а по зеркалу воды – в двести. На берегу канала, между двух рек, выстроили город. Река Шечен со временем повернула течение и теперь как бы впадала в канал. Город, таким образом, хотя и лежит посередине равнины, однако на перекрестке всех водных путей, и с трех сторон окружен водой. Поэтому каждый клочок земли под столицей возделан, а на реках стоят плавающие грядки. К северу и востоку от Верхнего Города и дворца на триста полетов стрелы государев парк. Там с земли не собирают урожай, а только удобряют и поливают. Весной государь проводит в парке первую борозду золотым плугом, и от этого по всей ойкумене распускаются листья и цветы, а птицы начинают спариваться и вить гнезда.
Года четыре назад, чтобы удобней было ходить народу, государь Варназд приказал снести часть стены парка, идущей вдоль канала. Проложили дорогу, а вдоль дороги сам собой вырос рынок. Лавки облепили внешнюю дворцовую стену, словно маргиналии – поля старинной книги. Как и на всяких маргиналиях, мир на этом рынке был вывернут наизнанку: чиновники были только взяточниками, монахи – только обжорами, чародеи – непременно обманщиками, женщины – шлюхами, а воры – те назывались не ворами, а торговцами.
Многие уверяют, что мир наш – лишь иллюзия и обман чувств. Не знаю. Но в отношении Нижнего Города и Рынка (а кто говорит «Нижний Город», тот говорит «рынок») это, несомненно, так. Стоят, теснятся друг к другу лавки, не значающиеся ни в каком официальном кадастре; камни, из которых они сложены, числятся по документам в основании дамб и управ, а люди, которые в них торгуют, и вовсе оформлены мертвецами…
* * *
Три дня государь бродил по Нижнему Городу вместе с Наном и Ханалем – и был горько разочарован.
Он еще при жизни матери любил слушать городские повести, расплодившиеся в последнее время. В этих повестях Нижний Город был удивительным местом. Вот случайное знакомство в харчевне выпрямляет судьбы мира и предотвращает несправедливость; вот оборотень, выползший из далекой норы, выдает себя за человека и открывает торговую лавку; вот молодой человек прибывает в столицу, знакомится с девушкой – а это на самом деле выдра или покойник…
Государя манили чудеса, описанные в повестях, а что он увидел? Улицы мелкие и кривые, кругом вонючие ящики и зонтики на распорках, под зонтиками развешаны тысячи плодов, только не каменных, как в зале Ста полей, а гниющих, облепленных мухами… А девушки, девушки! Лохмотья, наглые личики, деревенский выговор… Почему в городских повестях не сказано, что от прелестной певички пахнет прелым кроликом? Государь загляделся на представление – тут же срезали кошелек и документы.
Улицы были такие кривые и крутые, что государь скоро устал и спросил Нана: «Что они, нарочно селятся горбато?» Надо приказать выровнять холмы и ложбины!» Чиновник почтительно возразил: «В Нижнем Городе нет канализации, очищают его лишь дожди. Вот поэтому простолюдины и селятся по холмам, чтобы дождь все смывал».
Государь вздохнул. Вонь стояла невыносимая, а ведь прошел всего день после сильнейшего ливня!
Попали в один квартал, и вдруг государь увидел, что крыши маленьких домов все сплошь покрыты лепешками! Государь схватил Ханалая за рукав:
– Вы только посмотрите! Прямо как в сказке – домик из леденца, крыша из рисовой лепешки!
– Вай, – сказал Ханалай, – это самые бедные лепешечники! Власти штрафуют их, если они весною и летом разводят во дворе огонь, чтобы печь лепешки, вот они и приспособились печь их на солнце. Два дня печется лепешка. Мы так тоже в лагере делали, когда нас было не больше сотни.
Зашли в харчевню. Один человек, жирный, как охолощенный кот, предложил государю быть у него в частных писцах. Государь написал на пробу одну бумагу, другую, третью – толстяк рвал их одну за другой, как дурно написанные. Государь Варназд заплакал, закрывая рукавом свои чудные опаловые глаза: всю жизнь придворные восхищались его почерком и слогом. Нан и Ханалай подхватили Варназда, спрятали за циновкой в соседней комнате. Государь услышал, как кабатчик спросил:
– Что, господин, этот писец совсем плох?
– Великий Вей! – вскричал толстяк, – это лучший почерк и слог, который я когда-либо видел. Но я клянусь, что собью с этого юнца спесь и заплачу ему втрое дешевле, чем он стоит!
Итак, государь, желая найти сострадательного человека, как это бывает в повестях, ходил по городу, и на расспросы охотно отвечал, что его незаслуженно обидели в Иниссе, и вот он приехал в столицу искать правды. В одной харчевне человек с лицом наподобие перевернутого горшка выслушал его рассказ и заметил:
– Гм… У тебя хорошенькое личико.
Государь вспыхнул и пересел на другую лавку.
– Послушай, ты не так понял, – жарко зашептал перевернутый горшок. – Я вовсе на тебя не зарюсь. Но такое личико, как у тебя, приносит доход. Нынче в столице живет множество богатых вдовушек. Ты приехал хлопотать без связей о безнадежном деле. Воля твоя, а лебезить перед богатой вдовушкой, по-моему, пристойней, чем перед чиновником. Если я сведу тебя с богатой вдовой, почему бы тебе не отдать мне треть приданого в благодарность за услугу?
Государь подивился такому способу делать деньги и покинул харчевню. В другой харчевне государь разговорился с человеком из числа тех, кто торгует ножевыми ударами: несколько неудачных сделок оставили зарубки на его лице.
– Шел бы ты на новый мост, на рынок солдат, – сказал человек. – Что тебе за охота добывать на жизнь взятками? Ты бы, как наемник, немало стоил.
– Какой-такой рынок солдат? – изумился государь Варназд. – Разве государь Меенун не запретил войско? И я не слыхал, чтобы кого-то сейчас набирали в военные поселения.
– Друг мой, – сказал ножевой искусник, – видно, в вашей провинции мало частных богачей. А частного богатства не бывает без частного войска.
В третьей харчевне сидел человек в красной плюшевой куртке, с квадратной челюстью и квадратными носками красных башмаков. Он спросил Варназда:
– Друг мой! Слышали ли в вашей провинции об учении «красных циновок»?
– Слышали, – сухо отвечал Варназд, – что оно колеблет всесилие государя.
– Кто же покушается на государя? – удивился собеседник. – Просто, брат мой, если бы в ваших местах община села на красные циновки, мы бы приезжали туда торговать. Между единоверцами, знаешь, всегда особое доверие в делах.
С этими «красными циновками» вообще вышла противная история. На следующий день государь толкнул на рынке человека, и из того посыпались листки. Государь с извинениями нагнулся собрать и увидел, что это прокламации «красных циновок», весьма гнусные. Уверяли, например, что старший брат его не казнен, а превращен им, Варназдом, в барсука, и бегает по ойкумене, проникаясь страданиями народа. Государь чрезвычайно смутился, собрал листки, отдал их человеку и ушел.
А в четвертой харчевне… Ах да, в четвертую харчевню, с желтой лепешкой, прибитой над входом, Нан государя не пустил. Сказал: «Сюда приличные люди не ходят», – взял за руку и увел. Точно ребенка! Так что на следующий день государь проснулся с неприятным чувством: так и мерещилась эта желтая лепешка у входа. Что такое! Сам Нан в одиночку отправился к варварам, а своего государя не пускает в харчевню!
* * *
Итак, три дня государь провел, запершись с Ханалаем и Наном, и первый министр Ишнайя три дня размышлял, что предпринять по этому поводу.
– Государь, – молвил на четвертый день господин Нан, во дворце все считают, что вы обсуждаете с нами, запершись, важный указ. Но ведь указа нет, и вашу тайну скоро узнают. Что же делать?
– А вы, господин Нан, – предложил Варназд, – напишите какой-нибудь указ поважнее.
На следующее утро Нан пришел с указом о южнохарайнском канале. Этот печальный канал строил еще основатель династии, и не достроил, хотя только по делу о «серебре и яшме» на строительство канала было отправлено сорок тысяч человек. Сейчас при дворе партия Мнадеса представляла строительство этого канала как государственную необходимость, а партия Ишнайи была против.
Ишнайя уверял, что, во-первых, канал этот нужен скорее для перевозок, чем для орошения, а перевозить грузы можно и соседним каналом через провинцию Кассандана. А во-вторых, канал идет через такие болота, что попытка проложить его трижды кончалась восстаниями, и у государства просто нет возможности оторвать от земли и утопить в болоте десятки тысяч крестьян. Злые языки добавляли, что если канал будет проложен, Ишнайя потеряет половину богатых кассанданских взяток.
Указ господина Нана хитро учитывал возражения Ишнайи. Стоимость строительства исчислялась в двадцать миллионов. Предполагалось собрать эти двадцать миллионов с маленьких людей, взамен выдавая им особые бумажки. Люди, ставшие пайщиками предприятия, и должны были нанимать рабочих.
Таким образом, государство не несло ответственности за судьбу рабочих, а рабочие, со своей стороны, шли на стройку не по принуждению, а добровольно. Бумажки-акции предполагалось продавать на особом рынке.
Варназд взял указ, писанный на зеленой полосе узкого шелка, повертел его и неожиданно спросил:
– А что бы с таким указом сделала государыня Касия?
Чиновник позволил себе осклабиться и ответил, что государыня Касия приказала бы свить из указа веревку и повесить на ней автора. Государь вздохнул и подписал указ.
Ах, если бы господин Нан знал, какую беду навлекает он на себя этим указом! Но господин Нан ничего такого не думал, а только радовался, что Ханалаю на следующий же день пришлось уехать в провинцию Харайн, дабы приступить к выполнению указа, и в государевом сердце у Нана не осталось соперников.
* * *
Итак, государю Варназду казалось, что в эти три дня никаких чудес в Нижнем Городе не было. Надо сказать, он ошибался. Чудеса были. Одна баба, три года беременная, разродилась добрым десятком бесов; в портовых складах по ночам безобразничали оборотни; а воришка по прозвищу Цепкий Хвост с помощью черной магии наконец добыл себе в помошники бесов, и посадил в каждый палец по бесу. Возможно, это были те самые бесы, которыми разродилась вышеупомянутая баба.
Но главное чудо было такое:
В десяти государевых шагах от столицы в деревне жил крестьянин Лахут Медный Коготь. Медным Когтем его известно за что прозвали. Еще в молодости, когда у него не было этого прозвища, и был он голь перекатная, сделал он себе в лесу расчистку. Община расчистку отобрала и разделила по справедливости. С годами Лахут забрал большую власть, пол-деревни пошло ему, как говорится, в приемные отцы. А приемный отец – это вот что такое: продать землю нельзя, а отдать приемному сыну – можно. Есть, впрочем, и другие способы.
Лахут потребовал расчистку обратно. Началась склока. Расчистка как-то заросла в пастбище, и Лахут послал туда работника пасти телят. Год работник Лахута пас там телят, а потом как-то утоп. Лахут на это ничего не сказал, а послал другого работника, очень дюжего. Этот работник тоже год пас телят, а потом его нашли с расколотой головой. Третьим вызвался пасти племянник Лахута, и Лахут добыл ему меч и рогатое копье. Прошел год: что ты будешь делать, заколдованное место, опять сгиб человек! В деревне все сходились на том, что тот, первый работник, был человеком жадным до богатства и поэтому, утонув, обратился в злого духа и стал губить прочих. Это с корыстолюбцами обыкновенная история.
Лахут, будучи другого мнения, повздыхал и поехал в столицу. В столице ему не понравилось: навоз течет бесполезно в реку, шум, гам, перекупщики торгуют на рынке втрое дороже, чем покупают у Лахута. Лахут долго ходил, везде подносил на «кисть и тушечницу». Наконец его свели с одним чиновником, и Лахут изложил свое дело:
– Убили племянника, а до этого – двоих работников. И я знаю, кто, потому что на убийцу в это время бросилась собака и вырвала клок из штанов. Он заколол собаку, но клок из штанов остался в ее пасти. А он так до сих пор и ходит, оторванный, потому что других штанов у него нет, а пришить – лень.
Чиновник велел прийти через день. Лахут пришел через день. Чиновник выпучил глаза и заорал:
– Ах ты бесчувственная тварь, стяжатель! Да как ты смел зариться на общинную расчистку! Здесь тебе не деревня, где ты помыкаешь людьми, как хочешь, а столица! Вот я тебя упеку! У племянника твоего был меч в личном пользовании – за такие вещи наказывают всю семью преступника, не считая детей во чреве матери! Притом про клок из штанины ты мне все наврал, и я так думаю, что, в случае чего, вся деревня покажет, что ты этому оборванцу сам подарил дырявые штаны, стало быть, и племянника сам убил… не поделили, чай, чего…
У Лахута глаза стали треугольные от ужаса. А чиновник распинался целый час и так напугал деревенского богача, что Лахут ему отдал все, что взял с собой и еще посулил каждый месяц присылать по головке сыра, лишь бы закрыли дело. Лахут вернулся на постоялый двор, стал пить чай на дорогу и плакать. Вдруг видит, – входят в харчевню трое.
– Что, – говорит самый старший, – и на тебя, хармаршарг, нашлась управа?
«Хармаршарг» значит «сын тысячи отцов». Раньше так называли государя, а теперь богатея. Лахут поглядел на старшего и говорит:
– Сколько у меня отцов, это не твое дело, разбойник, а ведь и у тебя их было немало: один обтесал ноги, другой руки, третий уши, – и все, видать, хозяйствовали в спешке.
А что этот человек – разбойник, Лахут сразу угадал по выговору, да еще прибавил:
– Ты, чай, клеймен, что повязку носишь!
– А ты, – заухал разбойник, – степенно ходишь, чтоб на подметках дырок не разглядели!
– Тут будут дырки на подметках, – разозлился Лахут, – тут чиновники и без штанов оставят, да еще спасибо велят сказать.
– А какая твоя беда? – спросил Лахута второй человек.
Лахут взглянул, и этот второй ему как-то необыкновенно понравился: молодой чиновник, платье потрепанное, но чистое. Лицо нежное, прозрачное, верхняя губка как-то припухла, глаза опаловые, большие, чуть испуганные, брови изогнуты наподобие ласточкина крыла. Лахут горько заплакал и все рассказал: и как убили племянника, и как в одной управе чиновник взял у него деньги, усадил на лавочку, велел ждать – и пропал с деньгами бесследно, и про того чиновника, которому обещал головку сыра. Вздохнул и посетовал, что корыстолюбивые чиновники обманывают государя и народ. А клейменый помигнул спутнику да и спрашивает:
– А сколько ты мне, хармаршарг, дашь, если я сведу тебя с государем?
Деревенский богач рассердился:
– Куда тебе, висельник, до государя!
– Не твое дело, – говорит клейменый, – я, может, ходы знаю.
Лахут дал ему десять желтеньких, разбойник нанял на рынке какую-то бочку и провез в бочке Лахута во дворец. Спутники клейменого куда-то пропали. Вот Лахут вылезает из своей бочки: дивный мир! Хрустальные фонари сияют, как тысячи солнц, колеблются невиданные цветы и травы, по лугам гуляют заводные павлины. Клейменый тащит Лахута по пестрой дорожке, а Лахут не знает, на том свете он или на этом. Вот они обогнули беседку, похожую на тысячелистый цветок, Лахут глядит – за беседкой огромный пруд, на берегу пруда гуляет черепаха из золота, над черепахой растет золотое дерево, а к дереву идет государь со свитой: одежды так и плывут по воздуху, на лице – рисовая маска.
«Распуститись», – говорит государь, и на золотом дереве распустились цветы. «Созрейте», – говорит государь, – цветы пропали, на ветвях повисли золотые яблоки.
Государь взял в руку яблочко.
– Какая твоя беда? – спрашивает Лахута.
Тут старик повалился ему в ноги и заплакал:
– Ах, государь, бес меня попутал! Я думал, мне голову морочат, а теперь вижу – настоящий государь! Как соврать? Сто полей – и все государевы! Я великий грешник! И расчистку я обманом отобрал, и племянника убил из-за дележа денег! Тот чиновник верно угадал: только штанов я не дарил, а выдрал клок загодя и повесил так, чтоб непременно стащили! А отчего все? Оттого, что рынок близко, растет бесовство, сводит покупателей с продавцами! Государь! Запрети рынок, – не вводи народ во искушение!
Тут уж многие среди придворных заплакали. С этой-то историей Лахут и вернулся в деревню. Государь простил ему преступление. Землю Лахут всю раздал, переродился совершенно, посветлел, сам в город не ездил и другим заказал. Из деревенского богача стал деревенским святым.
Мы с этим Лахутом еще встретимся.
* * *
Из-за указа о харайнском канале золотоволосый секретарь Нана, Шаваш, не знал передышки, и ему не то что до сводок о чудесах, – до девиц и вина, и до тех не было дела.
В третий день, покончив с указом и побывав у нужных людей, Шаваш выхлопотал себе пропуск и отправился в главный архив ойкумены, именуемый Небесной Книгой, и расположенный в северном округе дворца.
Площадь перед дворцом истекала потом и зноем, праздный народ расхватывал амулеты и пирожки, скоморохи на высоком помосте извещали, что сейчас будет представление «Дело о подмененном государе».
Дело о подмененном государе было вот какое: окружавшие прежнего молодого государя монахи-шакуники сгубили несчастного, вынули его душу и захоронили. Вместо государя приспособили полосатого барсука, облитого государевой кровью. Вышла кукла, точь-в-точь государь; эта-то кукла полтора года и правила. Затем шакуники принялись за государыню. Добыли лягушку, истолкли ее в пыль, пыль зашили в платье лунного цвета, поднесенное государыне. Изготовили восковую персону и стреляли в эту персону заговоренными стрелами. Каждый раз, когда стреляли, у государыни Касии колотилось сердце. Под окнами дворца зарыли человеческий скелет, обрядив его в одно из старых платьев государыни. Омерзительные планы.
Все это вышло наружу с надлежащими доказательствами, нашли и скелет, и куклу. Монахи сначала запирались, некоторые имели наглость хохотать и утверждать, что такие вещи вообще невозможны, но тут уж они поступили неумно, потому что все знали, что в храме Шакуника умеют творить чудеса, на этом храм и держался.
Шаваш протолкался сквозь толпу, собравшуюся смотреть на злодеяния монахов, и, взмахнув пропуском, прошел во дворец меж каменных драконов, взвившихся в воздух на широко распахнутых створках ворот, и неподвижных, с выпученными глазами, стражников. Его интересовали совсем другие монахи, кукольных представлений о которых никто не ставил. Шаваш хотел посмотреть все, что имеется в главном архиве ойкумены о желтых монастырях.
Шаваш был из числа тех, кто рассылает циркуляры, а не тех, кто читает книги, – в Небесной Книге он никогда не был, и вблизи огромный ее купол, вздымающийся из каменной площади, сплошь покрытой письменами, произвел на него известное впечатление. Место это было знаменитое, про него рассказывали массу историй. С правой стороны стоял храм, где хранилась Книга Судьбы, и однажды поймали там бесенка, который за взятку вздумал выскоблить в ней пару строчек; а с залой левого книгохранилища случилась еще более скверная история. Бесы пристали к тамошнему смотрителю с просьбой, чтобы он позволил справить им в зале свадьбу; тот, за мзду, согласился. Бесы справили свадьбу, а наутро все буквы в книгах левого книгохранилища перевернулись задом наперед.
Не желая привлекать чьего-либо внимания, Шаваш выхлопотал себе пропуск с красной полосой, позволявший лично ходить меж полок, и к полудню он умучился и заблудился, а, обнаружив, что в этом книжном месте и поесть-то прилично негде, и вовсе стал кусать губы от злости. Редкие книгочеи с испачанными чернилами пальцами с недоумением проходили мимо изящного золотоволосого чиновника, с наглым выражением лица и в бархатном плаще с аметистовой застежкой, – явно из того новейшего поколения, что охотится за деньгами, девицами и государственной казной, – который растерянно сидел на полу в окружении пыльных фолиантов, и выглядел неуместно, как роза на капустной грядке.
Наконец Шаваш уселся у окошка с видом на каменные плиты и злополучное левое книгохранилище, и принялся просматривать разные упоминания о желтых монастырях. Гм, желтые храмы, числом тринадцать штук, очень древние, старейший из существующих – в провинции Инисса, еще до ее присоединения к империи… Монахи возделывают свои поля, не потребляют мяса и орехов, живут в отдалении от властей и не пускают оных за стены, почитают бога по имени Ир, каковой бог изображений не имеет, но иногда рождается в том или ином монастыре, после чего вселяется в какого-нибудь монаха, отчего монах приобретает способность исцелять болезни и повышать урожай. Так! Значит, изобразить его нельзя, а родиться ему можно… Знаем мы, откуда такие боги, и как возрастает урожай… Чиновники в этот год завышают цифры из уважения к традиции, вот он и возрастает… Деревенский какой-то бог, обветшалый, пахнет от него шаманством, нарушением законов о несущестовании колдовства и временами, когда не было государства, немудрено, что монастыри почти опустели, в иных едва два-три монаха, – отчего же в Харайнском монастыре их двадцать?
«Был уже такой случай с храмом Шакуника», – плакал тогда Бахадн, – но случай как раз был совсем другой. Был гигантский банк шакуников, кожаные их деньги, миллионы акров земли, копи, заводы и мастерские, шакуники притязали на всемогущество и ошивались при дворе, лягушек, может, в платье государыне и не зашивали, а заговор – был. А эти что? Тринадцать монастырей, затерянных по болотам, да и из этих монастырей, только один, кажется, примечателен. Шакуники сами объявляли себя колдунами, а эти прячутся, как землеройка в траве, не случись того дурацкого убийства, и не заметишь…
Шаваш зажмурился. Перед глазами его предстали тысячелетние стены желтых монастырей, стены, за которыми кончалась юрисдикция государства и власть государя; государя, от взгляда которого расцветают золотые деревья, государя, повелевшего занести в Небесную Книгу каждую травинку на земле и каждую звезду на небе.
И тут же, без предупреждения, у Шаваша заболела голова.
Он закрыл глаза и даже вспискнул. Когда он открыл глаза, к нему, по пятицветной дорожке, важно шествовала фея. Белая запашная юбка так и колышется, концы широкого пояса трепещут за спиной, как крылья, рукава кофточки вышиты цветами и листьями, ресницы летят, как росчерк пера над указом дивных черных глаз, в черных волосах наколка – лак с серебром. Дешевенькая наколка.
Фея подошла и строгим голосом спросила, какие ему записать книги. Шаваш, опустив глаза, сказал, что ему нужна «Повесть о Ласточке и Щегле».
– Сударь, – серьезно возразила девушка, – за «Повестью о Ласточке и Щегле» нет нужды ходить в Небесную Книгу, ее можно купить у любого лоточника на рынке.
Тут она покраснела, ахнула и сказала:
– Как вам не стыдно, сударь! Я, конечно, понимаю, молодым девушкам подобает сидеть взаперти. Но дед мой болен и слеп, если я не буду ему помогать, его лишат должности. Он вот уже сорок лет смотрит за Небесной Книгой; а сюда, сударь, ходят серьезные юноши, и никто из них не просит у девушки «Повести о Ласточке и Щегле».
Повернулась и убежала. Резные рукава вспорхнули, легкие, как крылья бабочки. А ведь нынче немодно, чтобы рукава были легкие. Модно зашивать в рукав тяжелого «золотого государя», чтобы он просвечивал сквозь кружева на женской ручке.
Шаваш раскрыл рот, внизу живота словно заломило. «Это кто ж у тебя дед-то, – подумал он, – это что же у тебя дед за дурак, чтоб держать такую красоту без занавесей и циновок!» И тут же почему-то подумал, что уж свою жену никуда пускать не будет, сказано, береги добро от воров и чиновников, если хочешь, чтобы не украли.
* * *
Три дня государь бродил по рынку и Нижнему Городу вместе с Наном и Ханалаем, и никто пока об этих прогулках не знал: во всяком случае, никто из людей первого министра, господина Ишнайи.
Ишнайе было уже за шестьдесят. Звезда его взошла еще при государыне Касии. В начале царствования государыня сильно ополчилась на «твое» и «мое», отчасти потому, что другой претендент на престол, экзарх Харсома, совсем распродал свою провинцию, Нижний Варнарайн, стяжателям, а про чиновников говаривал: «Когда берут корзинкой или сундучком – это, друг мой, взятка, а когда берут баржами и амбарами – это уже торговля». После смерти преступника Харсомы в провинции началось непристойное замешательство. Собрались пятеро крупнейших казнокрадов, позвали сотню казнокрадов поменьше и объявились, совместно, регентами его сына.
Много гнусного могло из этого выйти, если бы не безграничная преданность чиновника по имени Арфарра – имя это еще не раз встретится в нашем повествовании. При этом-то Арфарре, подавившем мятеж железом и кровью и ставшем араваном провинции, и начинал господин Ишнайя, нынешний первый министр. Был он в ту пору совершенно неподкупен и прям, выдвинулся очень скоро. Араван Арфарра испытывал в чиновниках большой недостаток. Дошло до того, что многим резали уши, сажали в колодки и оставляли в управе – а то вести дела было некому. Сгубила Ишнайю страсть к алхимии и колдовству. Проведав о ней, главный монах-шакуник, некто Даттам, который даже Арфарре был не по зубам, велел зарыть в болоте сундучки с золотыми слитками, а колдуна научил, как себя вести с Ишнайей.
Колдун поколдовал-поколдовал да и сказал Ишнайе, где лежит «небесное золото». Ишнайя отрыл сундучки; пришли преданные Даттаму чиновники, учинили золоту опись; номера на слитках были казенные. Ишнайя покорился и быстро пошел в гору. Грехопадения своего, однако, не забыл, и лет через десять, когда государыня Касия расправлялась с сообщниками сына, имел удовольствие спросить у Даттама:
– Ну? Кто из нас лучше знает черную магию?
Даттам рассмеялся и ответил что он, Даттам, всего лишь тень бога Шакуника, бога знания и богатства, и что бог Шакуник, если захочет, превратит государей в тыквы, а землю покроет щебенкой и рудными отвалами. Едва успели накинуть колдуну на голову мешок: а все-таки он ухитирился моргнуть глазом через мешок, и там, куда он моргнул, земля стала как дохлый рудный отвал.
После этого Даттама забили палками на глазах Ишнайи, и все говорили, что Даттам вел себя очень достойно. Многие были недовольны Ишнайей за Даттама и особенно за храм Шакуника с его пропавшими знаниями. Ишнайя унаследовал остров близ столицы, где была усадьба Даттама, храм и фабрика, на которой, по преданию, из хлопка делали искусственный шелк. Но по приказу государыни Касии колдовскую ткань сожгли, а храм, говорят, разлетелся сам, как лопнувший бычий пузырь.
Ишнайя оставшееся добро вскоре стократ умножил, и даже быстрее, чем Даттам. Даттам ведь, хотя и звался монахом, наживал деньги ради денег, возбуждая безполезные желания в себе и опасную зависть в других, и вкладывал деньги, так сказать, в вещи. Что же до господина Ишнайи, тот дарил золото людям, видя в друзьях и надежных стражей имущества, и лучшее средство его умножения.
* * *
Итак, утром четвертого дня первый министр явился к государю Варназду, и государь стал хвалить сделанное Наном в провинции Харайн.
– Да, – сказал министр Ишнайя, – это был превосходный выбор, и господин Нан сделал все, как надо. Он убил наместника провинции и аравана провинции. Сектанту, еретику – даровал прощение, разбойникам – также. Потом взял двести золотых связок от некоего Айцара, главы харайнских богачей; уничтожил за это следы участия Айцара в заговоре с целью отпадения от империи, заговора, первой жертвой которого был убитый судья; приписал это убийство отравленному им аравану провинции, врагу Айцара. Под предлогом борьбы с кучкой варваров передал в руки богачу командование войсками и сделал разбойника – наместником. Вот увидите, государь, не пройдет и года, как Айцар и этот Ханалай поднимут мятеж!
– Это все? – заколебавшись, проговорил государь.
Господин Ишнайя почтительно потрогал новый указ и спросил:
– Почему господин Нан не сомневается, что маленькие люди отдадут двадцать миллионов за такое болотистое дело и преуспеют там, где не преуспел сам основатель династии?
– Так почему?
– Потому что один маленький человек, по имени господин Айцар, уже покупает бумажек на десять с четвертью миллионов. Нан уже получил свою долю. А наместник Ханалай получит ее после того, как обеспечит стройку рабочими. Добровольный найм! Как же!
Государь выхватил у Ишнайи бумаги. По одной выходило, – да, столичный инспектор брал, по другой – было за что брать. Еще было письмо арестованного наместника сыну, с жалкими словами и припиской: «Если тебе скажут, что я покончил с собой – не верь».
– Вы думаете, государь, этот Ханалай – такой весельчак? Его люди сырую человечину ели, а не сырых сусликов… Господин Нан его всю дорогу натаскивал: ешь побольше да шути погрубее – как раз угодишь государю.
Государь молча повернулся и вышел. Он ушел в сад – зал, имеющий вместо крыши – небо, и велел привести Нана. Потом отменил приказ, решив, что дождется вечера. Потом ему стало досадно.
Каков негодяй! Клялся, что акции принесут доход маленьким людям, и вдруг половина канала уже в руках богача!
Он бы разгневался на Нана, выплыви столь быстро тайна его прогулок – а теперь ужаснулся, как ловко этот чиновник умеет прятать концы в воду.
Потом он вдруг ясно понял, что не хочет видеться с этим человеком. Он мучительно ясно представил, что все эти дни Нан опекал его, как больного ребенка. Поняв же, император вызвал своего молочного брата, Ишима, и лично продиктовал ему приказ об аресте Нана. Пусть господин Нан по крайней мере отдаст себе отчет в том, кто чьей распоряжается судьбой.
Пришел еще чиновник, скребся. Государь затопал ногами: он хотел быть один. Потом он понял, что все равно не один: кругом дворец, и каменные звери, и статуя государя с крысиной мордой. Где можно быть одному? Что он, мальчик, что ли?
* * *
В четвертый день шестого месяца Шаваш с утра явился к городскому префекту на Серединную Площадь, чтобы получить от него список кандидатур для преставления к наградам. Префект пригласил секретаря господина Нана в сад, и они некоторое время погуливались по дорожкам, распространяя вокруг себя благоухание. Дорожки были засажены бедренцом и тимьяном, которые сама природа устроила так, чтобы они благоухали, когда чиновник наступает на них ногой. Они посидели в беседке, покормили уточек, выплывших из резного домика, выпили чаю.
– Здесь, я гляжу, одни ваши родственники, – заметил осторожно Шаваш, просмотрев список.
– Я был бы низким и бесчестным человеком, – ответил префект, – если бы стал хлопотать для посторонних и умалчивал о достоинствах дорогих мне людей.
По возвращении Шаваша в управу ему доложили: девушку зовут Идари, и дед ее – один из известнейших книгочеев.
Жила она в казенной шестидворке у Синих Ворот с дедом, с матерью, с младшей сестрой и целым выводком тетушек. Бедствовала семья изрядно и даже непонятно было, как уцелела, – отец Идари, по имени Адуш, был другом приснопамятного Даттама и вместе с ним был арестован за многознание и колдовство.
Шаваш запомнил адрес и, запершись, занялся своим платьем. Шаваш, бывший побирушка, всегда одевался так, чтобы просителю было понятно: тут придется подносить не «на тесьму и на бязь», а на «шелк и бархат». Видом своим Шаваш остался доволен. В Небесной Книге, точно, сидели серьезные юноши из лицеев и старички, располневшие от грусти… Но девушка в кофточке с легкими рукавами подошла именно к нему. Потому что серьезные юноши не могли позволить себе золотого шитья на обшлагах; потому что серьезные юноши не скалывали бархатный плащ аметистовой застежкой; потому что у серьезных юношей пальцы были в чернилах, а не в перстнях.
Дождавшись полудня и оставив Нану записку о том, что он ушел в префектуру, Шаваш отправился к Синим Воротам.
Предместье бурлило и дышало: полуголые красильщики развешивали высоко над улицей хлопающие полотнища, мимо Шаваша тащили коромысла с плодами и фруктами, у зеленщика разгружали воз, полный капусты, и мясник поддувал тушку козы, готовясь содрать с нее шкуру.
Молодой секретарь прошел под белой стеной с резной галереей раз, другой, третий. Как он ни старался, он ничего не мог разглядеть за ставнями, стыдливо, как ресницы, опущенными. Шаваш в досаде повернул голову.
Улица была наводнена зеваками, мимо несли паланкин в форме розового цветка. Лепестки цветка раздвинулись, девичья головка, вся в алых лентах и золотистых локонах, глянула на Шаваша. Шаваш прижал руки к груди и поклонился: паланкин был казенный, со знаками отличия министра финансов.
Тут вверху стукнула ставня, и кто-то опростал ведро с горячими помоями прямо на бархатный плащ и ламасские кружева кафтана. Розовые лепестки паланкина сдвинулись: внутри захихикали. Мясник перестал надувать козу и захохотал. С резных галерей, из ставней, увитых голубыми и розовыми ипомеями, высовывались любопытные женские лица. В беленой стене шестидворки распахнулась дверь, из нее выскочила пожилая женщина, всплеснула руками и закудахтала:
– Это племянница все, племянница! – громко и визгливо говорила она то Шавашу, то зевакам. Затеяла мыть пол. Я ее так всегда и наставляла: смотри, куда выливаешь воду, смотри!
Тут прибежала другая тетка, помоложе, в суконной синей поневе и кофточке с рукавами, вышитыми мережкой, увидела изгаженный плащ и так и села, помертвев, на порог. Муж ее, балбес, за всю жизнь не нажил такого плаща. Ладно бы плаща! А вот второй год просишь бархату на юбку-колокольчик, уже и Нита сшила себе такую юбку, и Дия, и в храм показаться стыдно – то приласкаешь мужа, то прогонишь – а юбки все нет. «Вот, шляются важные сынки, – плакала уже в мыслях женщина, – теперь он поднимет шум, мужа выставят с должности и с шестидворки».
– Что такое? – спрашивали в толпе.
– А вот этот щеголь, – объясняли, – вздумал приставать вон к той, в кофточке с мережкой, она его возьми и окати.
– Ба, – сказал кто-то, – да в кофточке с мережкой – это Изана. Станет она такого окатывать! Она каждый месяц в новой юбке ходит – откуда у честной женщины каждый месяц новая юбка?
– Ничего подобного, – говорили дальше, – этот чиновник ходил к дочери министра. Отец ее узнал об этом и нанял людей, чтобы покрыть его грязью перед народом.
– Братцы, – вопили в харчевне напротив, – где оборотень?
Женщина в синей кофте сказала решительно, что надо бы платье простирать и просушить, но ведь на это уйдет столько времени, а господин чиновник, верно, торопится с важным визитом. Другая, помоложе, в кофточке с мережкой, завела синие глаза и начала плакать. Шаваш почтительно поклонился и сказал, что важного визита у него нет, что он очень рад будет вымыться и подождать, пока высохнет платье; только вот напишет приятелю записку, чтобы тот не волновался.
Шаваша с поклонами и охами провели в дом. Чистенькие стены, деревянная лестница скрипит, как сверчок; пыль и полумрак от книг и закрытых ставен. Шаваш поглядел на горку зерна перед черепахой Шушу и подумал, что в этом доме, верно, только боги едят, как следует.
Девушки, разумеется, в общей комнате не было. Было большое смущение, потому что по записке, отправленной Шавашем, в дом пришел мальчишка с корзинкой. В корзинке был маринованный гусь, холодная баранина, нарезанная дольками, жареная кошка, пирог, печения, фрукты и два кувшина белого вина.
Хозяин вышел к обеду в строгом мышином кафтане:
– Да, сударь! Внучка моя слишком неосторожна, да и молодые чиновники в нынешнее время легкомысленны. Говорят, к такому способу прибег герой «Повести о Ласточке и Щегле».
«Ну, почтительная внучка», – ахнул Шаваш.
Старик насмешливо поглядывал на него за обедом. Шаваш ничего не ел, был рассеян и все время норовил поворотиться глазами к занавеске, ведущей на женскую половину. Занавеска колыхалась, и за ней хихикали.
Помыли руки, принесли чай. Старик осведомился о семье и должности Шаваша. Шаваш отвечал, что он – сирота и секретарь господина Нана, нового начальника парчовых курток в западной части Верхнего Города. Старик про себя усмехнулся.
Всякий богатый – либо вор, либо наследник вора. Этот, стало быть, не наследник.
Потянулась приличествующая случаю беседа о процветании государства и добродетели человека, и чем дальше она длилась, тем больше Шаваш раздражался. Старик был из той самой, ненавистной Шавашу породы людей, которые разглагольствуют о том, что истинное богатсво – не в увеличении имущества, а в ограничении желаний, и которые осуждают взяточников, главным образом потому, что сами ни разу не были на таком месте, где им предлагали взятку; и чем больше Шаваш раздражался, тем больше улыбался он собеседнику. Внезапно Шаваш спросил:
– Я, простой секретарь, не могу сравниться с вами в познаниях. Скажите, если бы вы точно знали, что в ойкумене действует некоторая тайная сила, совершенно, однако, не отраженная в донесениях и отчетах, что бы вы сказали об этой силе?
Ученый ответил с улыбкой:
– Логически рассуждая, такая сила должна быть всемогущей. Вопрос ваш, впрочем, тонок и напоминает определение бога, данное Инаном. Инан доказывал всемогущество бога именно тем, что тот умеет скрывать от недостойных любые доказательства своего существования.
«Бес бы тебя побрал с твоими богами», – подумал чиновник.
Наконец явилась младшая из тетушек, которая уже сменила кофточку с мережкой на какую-то другую, павлиньих цветов, и объявила, что платье высохло. Тетка жмурилась и строила Шавашу глазки. Она была наделена двумя признаками красоты из двадцати четырех.
Шаваш откланялся и ушел. С резной галереи вслед ему глядела Идари, девушка с воздушными рукавами, и ее младшая сестра, баловница и хохотушка. Идари разболтала сестре о вертопрахе, спросившем «Повесть о Ласточке и Щегле», и это сестра плеснула ведро с помоями.
– Ах, какой хорошенький, – сказала младшая сестра. – Миленькая, ведь он из-за тебя в Небесную Книгу пришел. Он, верно, видел тебя в розовом платье на полуденном празднике.
Идари покраснела. Ей, точно, приглянулся золотоволосый чиновник; снился ночью, норовил пощупать… Доселе ей никто не снился. Был, правда, один в Небесной Книге, давно уже, варвар с карими глазами. Говорили, он из государева рода. Этот Кешьярта никогда не улыбался и на нее не смотрел. Одет он был бедно, книги подбирал странно. Идари казалось, что он тоже не из тех людей, которые проводят жизнь в Небесной Книге, и ей казалось, что ничего хорошего не выходит, когда в Небесной Книге начинают читать те, для кого она не предназначена.
– Я так думаю, – сказала маленькая сестра, вертушка и хохотушка, – ты должна его полюбить из одного только дочернего долга. Потому что тот варвар, Кешьярта, сгинет мелким чиновником, а этот секретарь, если смилостивится, похлопочет за нашего отца. Глядишь, воскресят.
* * *
Через час император, в одежде провинциального чиновника третьего ранга, шел по улице Нижнего Города, под названием – Двери Счастья. Двери Счастья были узки и грязны, поросли мохнатыми рыбьими головками. В ушах Варназда зазвучал голос Нана: «Вверх домам расти запрещено, дабы не возноситься гордыней выше казенной управы. А на проезжую часть, мешать прохожим – пожалуйства…»
– Ты чего торгуешь тухлятиной? Вот я конфискую товар!
Варназд оглянулся. Смотритель порядка в парчовой куртке, стоя у рыбного лотка, складывал в корзину живых карпов. Рыбы бились и подпрыгивали.
– Господин смотритель, – плакала торговка, – как же можно, вы ведь вчера десять штук взяли!
– А сегодня, – возразил стражник, – ко мне брат приехал. Что я, скотина бесчувственная, чтобы не кормить брата?
И пошел к следующей лавке. Государь Варназд отвернулся и побежал прочь. «Место, где торговцы творят обман, искушают чиновников», – мелькнуло в его голове. Наглые торговки хватали его за рукав; было невыносимо жарко, пахло отбросами. Все суетились о своем, на Варназда никто не обращал внимания, как в детстве, в покоях матери, – торговки не в счет.
Варназд вдруг обнаружил, что он не хочет быть один. Ему хотелось заплакать. Он взбежал мимо грязных нищенок в небольшой храм Иршахчана. Пахнуло прохладой и нежной плесенью на желтых и синих квадратах ста полей.
Сначала государю показалось, что в храме никого нет, кроме каменного человека с лицом мангусты, потом он увидел, что на коленях перед статуей стоит какой-то оборванец. Оборванец долго молился, а потом, будучи, верно, голоден, запустил руку за священное померие и вытащил из чаши перед каменной мангустой коровай: шесть видов злаков, седьмой боб. Государя покоробило не столько святотатство, сколько хладнокровие, с которым оно было совершено. Бродяга хотел было съесть подношение, но вдруг расхохотался и швырнул хлебец обратно, чаша зазвенела, по храму прошел гул. Государя опять резануло по сердцу. Он не знал, что Иршахчану давно дают камень вместо священного хлеба.
Оборванец пошел из храма. Варназд успел рассмотреть его в косом луче: юноша, высокий и стройный, белокурые волосы спутаны, глаза карие, холодные и наглые, ресницы длинные, как у девушки. Что-то в этом лице его удивило. Варназд вышел из храма и последовал за юношей.
– Скажите, – через некоторое время как бы случайно обратился к нему Варназд, – я из провинции… по делу…
Понемногу разговорились. Юноша сказал, что его зовут Дох и что он приехал поступать в высшую школу. Суждения юноши были, действительно, тонкие и глубокие.
Улица взобралась на холм, вони стало меньше, из-за глухой стены пахнуло садом. Государь остановился. Молодые люди стояли у харчевни с белой глухой стеной и лепешкой, приколоченной над входом. Это была та самая харчевня, в которую Варназд хотел зайти еще позавчера, но Нан взял его за руку, как несмышленыша, сделал вид, что не заметил, и увел.
– Друг мой, – сказал Варназд, – я устал, взойдем, выпьем по чашке чая.
Юноша заколебался, Варназд насилу его уговорил.
Вошли в предписанного вида садик. Низкие столики под полотняным навесом-солнечником, пруд – государево око, в пруде – священные рыбки, посередине пруда статуя государя Иршахчана. Статуя служила часами, и государева тень указывала на первый вечерний час, Час Башен. Юноша сказал:
– Друй мой! Я недавно обедал, ограничимся чаем.
– Друг мой, – возразил Варназд, – у меня есть деньги; я очень рад нашему знакомству; я как будто впервые обрел друга, и я почту себя обесчещенным, если вы не разделите со мной трапезу.
Толстая служанка принесла им положенное: вареные бобы с подливой и рис. Государю совсем не хотелось бобов, но он понимал, что Дох без него есть не станет. Еще он вспомнил, что вареные бобы он имеет право есть только один день в году, в четвертый день новогоднего праздника, когда простой народ обязательно ест мясо.
Тут послышались крики, и в сад ввалилась целая компания оборванцев, уже пьяных и преувеличенно ярко одетых. У главаря их было смуглое личико и черные как ежевика глазки. Было видно, что он только что перешагнул возраст, когда за воровство кончают рубить руки и начинают рубить головы.
В харчевне засуетились. Откуда что взялось – слуги тащили вино, финики, жареный миндаль, баранину в чашечках… Государь подозвал служанку:
– Я хотел бы мяса. Принесите, я заплачу.
– Деньги, юноша, – сказала толстуха, – еще не самое главное в жизни, и правильно говорят, что они возбуждают нечестивые мысли. По лицензии нашей харчевне позволены только бобы и рис. Этих людей стражники уважают и не станут вмешиваться, а из-за вас будет скандал.
Варназд с досадой всплеснул рукавами. За соседним столом захохотали. Государь замолк и пододвинул к себе тарелку. Спутник его начал есть только после него, и ел медленно и осторожно, как человек воспитанный или долго голодавший и знающий, что нельзя набрасываться на еду. Вначале, однако, он встал, зачерпнул первую ложку, прошелся до пруда и опростал ложку в жертвенное блюдечко рыбам. «Что за человек, – подумал Варназд, – то он обирает моего предка, то совестится». Когда юноша шел обратно, главарь оборванцев, – звали его, кажется, Харрада – схватил его за руку:
– Эй, ты чего кормишь дармоеда?
Юноша стряхнул руку и объяснил спокойно:
– Это не дармоед, а великий государь Иршахчан.
Харрада захохотал так, словно хотел вывихнуть глотку, и компания его прямо-таки затанцевала от смеха. Кто-то запустил в пруд обглоданной костью, а потом стали кидать куски мяса и дорогие фрукты. Кисть винограда чуть не попала государю Варназду глаз. В садике явно начиналось внушительное безобразие.
– Пойдемте отсюда, бога ради! – шепнул государь.
Но раньше, чем юноши успели подняться, Харрада швырнул на землю блюдо с дорогой рыбой белоглазкой и закричал:
– Эй, надоело есть эту дрянь! Хочу рыбу из императорского фонтана!
Собутыльники в ужасе переглянулись. Кто-то проговорил: «Рада, ты пьян». Харрада запустил руку за пазуху, вытащил пригоршню «золотых государей», и вскричал:
– Меняю рыбу на «государя»!
Один из собутыльников, по имени Расак, взбежал по мостику к статуе и стал ловить рыбок шелковой косынкой.
– Быстрей! – закричал главарь.
Но рыбки все выскальзывали из косынки Расака. Юноше явно было неудобно. Если он вставал на колени, его пятки упирались в статую, если он садился на корточки, в статую упирался его зад. Приятели Расака смеялись над его усилиями, а Расак наконец с досадой обернулся к статуе за спиной:
– Это он мне мешает! Чего он здесь стоит вообще?
– Он, друг мой, меряет время, – наставительно сказал главарь, Харрада.
– Я могу мерять время не хуже его, – завопил Расак.
Расак уперся руками в талию истукана и поднатужился. Старый император с головой мангусты оглушительно обрушился в воду, крупные брызги сверкнули на солнце, Доха и государя обдало с головы до ног. Расак, в мокром кафтанчике, вскочил на место каменного зверя. Он был в два раза ниже, и тень его не достала до делений на мраморкой кромке пруда. Время исчезло. За столом захохотали:
– Расак! Ты не можешь исполнять обязанности Иршахчана, у тебя человеческое лицо!
После этого о рыбках забыли. Расак вернулся к компании, и главарь посадил его на колени. Он разломил гуся и поднес его Расаку, но тот не стал есть гуся, а сунул его за пазуху. Тогда Харрада вытер свои руки о волосы Расака. Расак зарделся от радости.
Государь был растерян и подавлен. Он читал в старинных книгах, что на таких вот дружеских угощениях горожане читают стихи и любуются священными рыбками, плещущимися в светлых струях пруда, а тут… Он опять дернул Доха за рукав и смущенно прошептал: «Бога ради, пойдем, мне неприятно». Дох усмехнулся и молча пошел за государем к выходу из харчевни.
Проходя мимо пруда, Дох спрыгнул в воду и, один, поволок на место каменного государя с лицом мангусты.
– Ну, силища! – восхитился главарь.
Расак, вспыхнув, вскорчил с его колен и побежал к юноше, назвавшемуся Дохом. В руках его мелькнула тонкая бечевка, укрепленная меж двух костяных палочек, – Расак накинул эту бечевку на шею Доха и стал его душить. Дох выпустил статую и ушел с головой в пруд. Варназд бросился на помощь товарищу: его подхватили под локти.
В следующую секунду руки юноши взметнулись из пруда, словно выныривающий баклан, и сомкнулись стальной хваткой на шее Расака. Тот, кувыркаясь, полетел в воду. Дох одним прыжком вскочил на бортик, сдернул с шеи удавку, сунул ее в рот, разорвал зубами и выплюнул в лицо выскочившему из воды Расаку. Расак засопел и вытащил из сапога короткий меч с рукоятью цвета морковки.
Безоружный его противник отпрыгнул назад, – и тут ему под носок попала одна из императорских рыбок, выплеснувшаяся из-за драки на траву. Юноша по имени Дох взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие, и упал глазами вверх. Расак прыгнул ему на грудь и занес меч. Государь страшно закричал.
Незнакомец левой рукой перехватил руку Расака, а ногою ударил его в грудь. Меч выдернуло из руки Расака, словно гвоздь из гнилой доски. Расак пролетел в воздухе и шваркнулся о ножку стола. Ножка подломилась, и кушанья всех четырех сортов и пяти видов посыпались наземь.
Дох подпрыгнул спиною и вскочил на ноги. Служанка истошно орала. По саду уже бежали парчовые куртки. Потасовка улеглась. Главный в компании, Харрада, щурясь, тыкал пальцем в государя и Доха:
– Эти двое утопили в пруду государеву статую… Мы хотели им помешать.
– Документы!
Государь похолодел. Он вспомнил, что документы как-то всегда брал Нан, и что документов нет. Он представил себе, совершенно отчетливо: утренний прием. Зала Ста Полей. Один писец шепчет другому писцу: «Вчера государь буянил в городе, переодетый, утопил статую предка; рядом случилось пятеро юношей – они-то и отправились в каменоломни за святотатство».
– У меня нет документов, – сказал Варназд.
Дох, новый знакомый, молча протянул свои. Стражник весело ухмыльнулся. Государя и Доха подхватили под локти. Харрада, главный в компании, упер руки в серебряный пояс и попросил показать ему документ Доха. Стражник с поклоном передал лопух.
– Да, тут действительно, кажется, описка, – промолвил главарь, – но ее можно исправить.
Он вынул из рукава, не считая, пачку «розовых», вложил в лопух и вернул обратно. Стражник закрыл и раскрыл лопух. Деньги исчезли. Стражник почтительно возвратил лопух Харраде, ярыжки повернулись и вышли. Дох потянулся за своим документом. Харрада засмеялся.
– Как тебя зовут на самом деле? – спросил он Доха.
Юноша молчал.
– Сколько ты заплатил за этот лопух?
– Десять «розовых».
Харрада расхохотался:
– Друг мой! Тебя надули, такая работа не стоит и трех!
Государю стало горько. Два часа они с Дохом говорили, и о «наставлениях Веспшанки», и о «море поучений» и о стихах Ашонны… А о своей беде – или преступлении – Дох, стало быть, не сказал? Или он, Варназд, не так спрашивал?
Меж тем Харрада обнял Доха, подошел к столику, с которого служанка еще не убрала чашечек из-под бобов, и ударом ноги опрокинул столик на землю.
– Великий государь Иршахчан! Если он такой великий – чего он кормит тебя бобами? Садись ко мне – я накормлю тебя мясом!
Так государь Варназд и белокурый юноша, который, как читатели уже догадались, был тот самый Киссур, что утек из городской тюрьмы, подсели к веселящейся компании. Стол был, как говорится, лес мяса, пруд вина. Прибежали девочки, плясали на руках. Потом опять пили. Варназд чувствовал себя счастливым. «Интересно, арестовали уже Нана или нет?» – подумал он, и с досадой вспомнил, что покинул дворец раньше, чем Ишим принес перебеленный указ на подпись. А без подписи арестовать не посмеют, на все этим чиновникам нужна бумажка.
– А почему стражники меня отпустили, – спросил новый знакомый, – если распознали подделку?
– Бедные люди эти стражники, – сказал главарь Харрада, – им казна уже третий год не платит, – денег нет.
– А на что ж они живут? – изумился государь.
– А честные люди сложились и платят, – ответил Харрада.
– Вы воры? – спросил государь.
– Друг мой, – наставительно произнес Харрада, – зачем обижать людей кривыми именами? Положим, у кого-то отняли имущество. Если отнял чиновник, это называется конфискацией, а если отнял простой человек, это называется воровством. А какая разница?
Новый знакомый вмешался в разговор:
– Разница в том, что следует за чем. Кража – это когда отбирают чужое. А конфискация – это когда отбирают украденное.
– Друг мой Дох, – захохотал Харрада, – ты пришел к определению справедливого вора, ибо первыми воруют чиновники и стяжатели, а мы, действительно, грабим лишь награбленное.
Часа через три компания покинула харчевню и пошла берегом канала. Уже темнело. Над водою вставал золоторогий месяц, по воде плыли льдинки и рыбьи кости. У далекого островка в дельте реки, впадающей в канал, разгружалась баржа.
– Вот, – поднял руку Харрада, – показывая на баржу, – истинные воры.
– А что там? – спросил государь.
– Загородная усадьба первого министра Ишнайи, – ответил Харрада.
– Это та, где раньше был храм Шакуников? – спросил юноша, назвавшийся Дохом. Глаза его засверкали, как два раскаленных пятака, и он так и вытянул шею, вглядываясь за реку.
– А ты что знаешь об этой усадьбе? – подозрительно уставился на незнакомца Харрада.
– Я слыхал, что главный колдун шакуников, Даттам, время от времени вылазит из своей могилы на этом острове, и уже загрыз несколько глупцов, совавшихся к нему с неуместными вопросами. На могиле колдуна вырос страшный тополь, но как только чиновники приходят рубить запретное дерево, оно оборачивается репейником или терном.
– Глупые выдумки, – живо перебил его один из воров, – колдун действительно бродит на острове по ночам, а что касается тополя над его могилой, – это самое обыкновенное дерево: просто министру из гордости не хочется его рубить, и при каждом земельном обходе он приказывает чиновником, чтобы тополь внесли в ведомость как репей или там сливу.
– Он обманывает государя, – возмутился государь.
А белокурый незнакомец, представившийся Дохом, усмехнулся и сказал:
– Если бы первый министр обманывал государя только насчет какого-то старого тополя, мне бы не пришлось покупать лопух за десять «розовых».
С реки дул резкий и наглый ветер, сердце государя ныло от желания посмотреть на дерево тополь: дерева этого он никогда не видел, и оно представлялось ему каким-то дивным чудовищем.
– Если первый министр тебе насолил, – сказал Харрада, – почему бы тебе не отплатить ему той же монетой? Усадьба, судя по спущенным значкам, сегодня пуста: наверняка там найдется хорошая добыча. Или ты боишься?
– Я ничего не боюсь, – сказал незнакомец, – пошли.
* * *
Отыскали чужую лодку и поплыли втроем: государь, белокурый юноша по имени Дох и главарь Харрада.
Тополь посереди храмовых развалин оказался унылым деревом с округлыми листьями и серебристой корой, изъеденной страшными трещинами рака.
– Господин Даттам!
Государь обернулся: это звал новый знакомый.
– Ты что, с ума сошел, – звать покойника? – зашипел Харрада.
Сразу за развалинами начиналась небольшая рощица, а за ней – стена желтого кирпича. Харрада выбрал одно из строенией, примыкавших к ограде, и принялся за дело. Через час он совершенно бесшумно вынул несколько кирпичей, а потом вытащил из рукава матерчатую змею, просунул ее в отверстие и тихо зашипел. «Если там кто-то есть, – объяснил Харрада, – он увидит змею и завопит».
Но никто не завопил, и не прошло и двух минут, как государь вслед за Харрадой влез в какой-то темный склад. Вдоль стен были навалены тюки с казенными печатями, и у дальнего конца склада, от потолка до пола, качались две гигантские чаши весов. Государь надорвал один из тюков: там был шелк с рисунком из золотой и серебряной листвы.
У министра была своя фабричка, производившая шелка на шесть миллионов в год, а казенные печати стояли на тюках затем, чтобы провозить эти тюки беспошлинно. И хотя государь об этом не знал, он прекрасно понял, что в частный дом министра тюки с казенной печатью честным образом попасть не могут.
Харрада сказал, что добыча вполне успешная, и что он знает лавку, где ткань возьмут за полцены. Каждый из юношей взял по мешку и потащил к дыре. Государю было необыкновенно хорошо. Он представил себе, как он приносит этот мешок во дворец, и как первый министр растерянно кается перед мешком… «А Харрада… С Харрадой я буду ходить каждый день, и он мне будет показывать, кто из сановников меня обворовывает…»
Государь сбросил тюк на траву и прыгнул следом.
– Вот они, голубчики! – заорал сверху чей-то голос, – и в тот же миг на голову государя накинули мешок.
И кто хочет узнать, что случилось дальше, – пусть читает следующую главу.
Глава вторая,
в которой беглец из городской тюрьмы мстит изменникам императора
В это самое время господин Нан в синем кафтане без знаков различия шел по улице Синих Теней. Три часа назад ему сказали: «Государь уехал в Бирюзовую рощу. Государь не хочет вас видеть». «Ничего не понимаю», – подумал Нан, – «почему меня не арестовали? Государю сказали обо мне какую-то гадость, вероятно, подлинную, вероятно, господин Ишнайя». Впрочем, гадость – это лишь предлог. Истинная же причина была в том, что государь устал от опеки. Ибо Нан ни мгновенья не сомневался, что государь пошел в Нижний Город.
Движимый непонятным любопытством, Нан отправился в приемную господина Андарза, начальника Ведомства Справедливости и Спокойствия, своего непосредственного начальника, и просидел там часа два. Трое чиновников нечаянно толкнули его, а секретарь, к которому он подошел, так виртуозно надавил пером, что тушь брызнула Нану на ворот.
В эту самую минуту растворились двери, и из них появился, к величайшему изумлению Нана, господин Андарз, почтительно поддерживавший своего злейшего врага, господина Мнадеса, главного управителя дворца. Андарз увидел Нана, схватил его за забрызганный ворот и закричал, что Нан позорит богов сыскного ведомства, являясь в таком виде в приемную. Выпустил ворот и пропал. Из этого Нан заключил, что донос на него составляли не в канцелярии дурака Ишнайи, а в канцелярии умницы Андарза, и это было совсем плохо, потому что мало кому удавалось сорваться с крючка доносов, материал для которых собирали люди Андарза.
Нан понял, что Андарз дорылся до заговора господина Айцара. Он подумал: «Государю, наверно, сказали, что я взял сто золотых связок за то, чтобы замять дело о заговоре богача против империи, а Мнадесу, наверно, сказали, что я взял за такое дело двести золотых связок, а так как Мнадесу я отдал только четверть этих денег, Мнадес возмутился и отступился от меня».
Нан попытался разыскать Шаваша – но вместо Шаваша лежала записка, что он, мол, в префектуре. Нан пошел в префектуру, но Шаваша там не было. Нан подумал, что карьера его погибла, – а если искать сейчас государя с сыщиками, то погибнет, вероятно, не только карьера, но и самое Нан.
Господин Нан облачился в синий суконный кафтан, дошел до перекрестка с храмом Иршахчана, прошел по набережной и шагнул в харчевню с фонарем в форме виноградной кисти у входа и круглой лепешкой над воротами. Господин Нан не забыл взгляда, который кинул на него государь, когда Нан увел его от харчевни. Нан был очень обрадован этим взглядом.
Харчевню эту облюбовала компания молодого Харрады, сына первого министра. Нану очень хотелось, чтобы государь навестил харчевню и встретился с Харрадой, по собственному желанию и против воли Нана. Нан полагал, что сумеет сделать так, что встреча эта кончится очень скверно для Харрады и для его отца. Теперь Нан не был так в этом уверен.
В харчевне, в саду, трое ярыжек волокли из воды государя-мангусту. Нан посидел за столиком, поболтал со слугой. Он узнал, что мангусту сшиб молодой Расак, друг Харрады, и что была большая драка с двумя бродягами: у одного лопух липовый, другой вообще без лопуха. С двумя? И как это – липовый?
Нан недовольно покрутил головой. Стало быть, государь уже нашел себе в компанию какого-то бандита, да еще из тех, кто заступается за каменных болванов, потому что вряд ли это государь отстаивал честь небесного предка. Ничего себе, однако, сила – этого истукана и пятерым не поднять!
Нан вышел из харчевни и пошел к реке. Голова у него кружилась. Молодой Харрада и государь ушли в обнимку: хуже этого ничего не могло быть.
«Сегодня – подумал Нан, – кто-то где-то сорвет шапку с прохожего. Или повесит дохлого козла на воротах управы. Потом… Потом ночные пирушки. Пьяные драки. Первые убитые. Ограбленные лавки. Ярыжки, которые боятся ночью арестовывать грабителей и убийц, из опасения, что один из них – государь. Радостные сплетни в народе – как приятно, что справедливый государь и справедливый вор – одно и то же лицо!»
Ознакомиться с жизнью народа!
Половина Харун-аль-Рашидов империи кончала самой гнусной и безнаказанной уголовщиной.
Господин Нан дошел до берега канала и стал глядеть на далекий остров в полумиле от берега, остров, где, как он знал совершенно точно, юноши превращались в свиней. Золотистая, как дыня, луна уже зрела на небе, далекие звезды раскачивались над верхушками деревьев. Вдалеке, на набережной, выбирал из лодки рваные сети запоздавший рыбак. Нан подошел к рыбаку и дал ему «розовую», чтобы тот перевез его к острову.
Рыбака, нанятого Наном, звали Абана Шипастый, и был Абана Шипастый одним из лучших карманников при шайке Свиного Глазка. И предавшийся мрачным размышлениям Нан, выйдя из лодки, даже не заметил, что его кошелек и его кривой нож с талисманом вида «рогатый дракон», с тремя кисточками и серебряным крючком для ловли демонов, – переменил владельца.
* * *
Шаваш вернулся в управу в третью дневную стражу. Красота! Гранитные пеликаны на створках ворот стояли так высоко, что, казалось, заглядывали в небеса, двор за воротами был усыпан опавшими лепестками вишен, солнце плавилось на золоченых шпилях. Во дворе толклись просители и доносчики. Один толстяк жарко шептал соседу:
– Сам видел – прорицатель эту, видишь ли, «жену» взял и эдак легонько тряхнул, и тут же кожа с нее сползла, как промасленная бумага, а из-под кожи – лезет, извивается – и в кувшин! Нынче, друг мой, оборотней очень много. В спокойные времена нечисти нет, есть одни боги. А сейчас пройди по рынку, так почитай, каждый третий будет с барсучьим хвостом…
Шаваш углядел среди маленьких просителей человека с корзинкой замечательных персиков. Это его немного насмешило, – он понял, что человек больше ничего не принес. Шаваш очень любил персики, – он почему-то принял человека, обещал поспособствовать, проводил до порога и заперся в кабинете. Голова, болевшая с утра, немного прошла. Шаваш ел персик, глядел в полуденный сад и думал о разнообразных взаимоотношениях оборотней и населения вообще и о желтых монахах в частности.
Спросить у Нана? Нет. Не стоит. Шаваш задумался, как вел себя Нан в Харайне, и решил, что Нан вел себя так, будто его кто-то шантажировал.
Потом Шаваш поднял глаза и едва не подавился персиком: по саду, ко внутренним дверям управы, шел желтый монах. Шаваш узнал одного из харайнских монахов, по имени отец Сетакет.
Через десять минут Шаваш принимал вместо отсутствующего Нана желтого монаха.
Шаваш громко удивлялся событию чрезвычайно редкому, хотя и незапрещенному – действительно, желтый монах пришел в управу! Надо сказать, что изумление Шаваша было мнимым. Он отлично знал, что вчера столичные желтые монахи вернулись из Харайна пешком в свой монастырь (иначе, чем пешком, они не ходили), что их сопровождал этот харайнский монах, что в миру, судя по документам, монаха звали Хибинна, и был он родом из провинции Чахар, из деревеньки Саманнички.
По непредвиденной случайности Шаваш, бывшая столичная шельма, обладая изрядными знакомствами в мире скорее преступном, нежели добродетельном, помнил некоего Хибинну Чахарца, по прозванию Шиш Масляный. Шиша зарезали в пьяной драке, а документы его – очень хорошие документы – его любовница пустила на рынок.
Монах сказал, что хочет дождаться господина Нана, Шаваш прижал руки к груди и сказал, что Нан во дворце и что он, Шаваш, будет рад его заменить. Монах задергался, засмущался, а потом вдруг сказал, что хотел бы вернуться в мир, что он получил на это благословение отца-настоятеля и теперь хочет получить еще и документы.
– По-моему, – нерешительно наклонил голову Шаваш, – прецедентов нет. Я не слыхал, чтобы желтым монахам позволено было возвращаться в мир.
– Я не слыхал, чтобы это было запрещено, – возразил отец Сетакет.
«Странная логика», – отметил Шаваш. Или это ловушка, или… В голове его мгновенно сложился план. «Я его отпущу. Он станет мирянином. Как только он станет мирянином, станет возможно его арестовать. Я выдам ему документ, а потом подложу девицу или подсуну ворованное. После этого я возьму его и сделаю с ним все, что полагаю должным. Подозрения мои, вероятно, чистый вздор… Что за время – ни за так пропадет человек».
Они немного поговорили. Шаваш стал заполнять бумаги, потом извинился и вышел. Отец Сетакет подоткнул полы желтого балахона, расположился на кресле поудобнее и стал ждать.
Человека, пришедшего к Шавашу, на самом деле звали Свен Бьернссон. Уроженец одной из первых земных колоний на планете Кассина, выпускник Третьего Технологического на Гере, нашумевший своими работами на стыке топологии и физики, («поверхности Бьернссона» существенно прояснили топологический механизм гиперпространственного перехода), – Бьернссон в свое время одним из первых ознакомился с результатами экспедиции Ванвейлена в этот отсталый мир в дальнем уголке галактики и поднял крик о необходимости исследования и изучения таинственного объекта, который невежественные туземцы почитают под именем Желтого Ира.
Миром за стенами монастыря Бьернссон до недавних пор не интересовался соверешенно. Да вот хотя бы – есть все-таки в этой безумной стране частная собственность или нет – даже и на такой фундаментальный вопрос Бьернссон не мог ответить. Хотел вот спросить Стрейтона…
Интересуясь только Желтым Иром, Бьернссон не очень разобрался в том, что делал Нан в провинции, едва заметил разгром варваров, смерть аравана и смерть наместника. Он усвоил только одно: что его коллега, Лоуренс, устрашившись исследований, отдававших чертовщиной, мистикой и девятым – от опыта – доказательством бытия Божия, сделал следующее: взял кота, – ах, как хорошо Бьернссон теперь помнил этого проклятого, серого с проседью кота, пустил кота в алтарь, где покоилась, в виде шара, божественная субстанция. После этого, по непроверенным сведениям, божественная субстанция для удобства кота приняла облик мыши, и кот ее сожрал. Засим Лоуренс запихал кота в мешок и полетел в далекий остров в северном океане, а по дороге утопил кота в кратере морского вулкана.
Бьернссон знал, что скоро их, ученых, воротят домой, монастырь пропадет; попросился у отца-настоятеля, старенького уроженца провинция Инисса, идти вместе в столицу, а в столице попросился в мир.
Бьернссон ждал полчаса. Шаваш вернулся, улыбаясь, протянул Бьернсону бумаги:
– Тут, увы, еще некоторые формальности. Мне нужно несколько часов. Я почту за честь навестить вечером монастырь и отдать вам документы.
Маленький чиновник стоял вполоборота к окну: в золотистых его глазах отражались облака и далекие шпили управ. Бьернссону вдруг стало ужасно неловко. Он понял, что, в сущности, обманывает этого славного мальчика. А вся Федерация – обманывает вейцев. Посмотрим, приглядимся, а там уж и поможем… Четверть века уже смотрят: четверть века с тех пор, как Ванвейлен грохнулся об эту планету и так глупо, так непростительно себя повел!
Чушь! Просто где-то в городе, полагающем себя настоящим Небесным Городом, бизнесмены и политики смертельно испугались тех непредсказуемых изменений, которые внесет в хрупкое международное равновесие, и так подтачиваемое диктаторами и хапугами всех мастей, этот мир, с его невостребованными залежами, с его трудолюбием.
Бьернсон вспомнил один из сценариев, темпераментно изложенный ему месяц назад.
Мы вмешиваемся. Чиновники начинают распродавать империю оптом и в розницу, благо покупателей хватает. Тайные общества подымают визг. Сектанты, вымазав волосы глиной, дабы быть невидимыми, начинают резать небесных корыстолюбцев. Чужаки продолжают свою просветительскую деятельность под прикрытием орбитальных фортов и веерных излучателей, наивно полагая, что веерный излучатель – это посильнее магии сектантов. Добродетельные чиновники и правительство, радуясь, что наконец-то найден идеальный козел отпущения, заключают с сектантами братский союз. Небесных грабителей, насаждающих корыстолюбие и зависть, вышибают с планеты; построенные ими заводы экспроприируют; еще полвека – и в космос летят корабли очередного Иршахчана (проставить порядковый номер), отменившего «твое» и «мое» в пределах планеты и горячо желающего отменить «твое» и «мое» в пределах галактики.
«Четверть века отговорок – подумал Бьернссон, – и с каждым годом наша вина все тяжелее. Жертвы эпидемий, наводнений…»
Бьернссон очнулся. Шаваш, улыбаясь, протягивал ему бумаги.
– Жить вам будет негде. Если вы сочтете возможным перебеливать некоторые справки, я бы постарался предоставить вам комнату при управе…
– Послушайте, Шаваш, – хрипло сказал Бьернссон. – Я…
Физик остановился. Молодой чиновник, с длинными завитыми волосами, в желтом бархатном кафтане, шитом узлами и листьями, предупредительно глядел на него.
– Вы, – вежливо повторил Шаваш.
«Бог мой, ну что я ему скажу, этому мальчику, – подумал физик. Он меня за сумасшедшего примет. Бывали уже такие случаи».
– Я вам очень благодарен, – сказал Бьернссон.
* * *
Свен Бьернссон вышел из кабинета Шаваша и зашагал по увитой зеленью галерее, щурясь и вспоминая лицо Шаваша. «Какой славный мальчик, – думал он. – Притом, слухи о здешней бюрократиии сильно преувеличены. Как легко он согласился. Хорошо, что я не застал Стрейтона, – Стрейтон, вероятно, упрямился бы дольше».
Через два часа Бьернссон предстал перед настоятелем, старым вейцем, и сообщил, что гражданские власти не стали чинить ему никаких препятствий.
– Очень хорошо, сын мой, – сказал настоятель, и посмотрел куда-то в сторону. Бьернссон тоже скосил глаза в сторону и вдруг увидел, что настоятель смотрит на седого с проседью кота, того самого кота, которому Лоуренс скормил божественную субстанцию.
– Мяу, – ласково сказал кот и пошел навстречу Бьернссону.
Все вейские слова вылетели из головы физика.
– Во имя отца и сына, – с ужасом сказал он, поднял руку и перекрестил кота. Немыслимое животное не сгинуло, а Бьернссон упал на пол и потерял сознание. Настоятель, старый монах, взял кота на руки и долго глядел на упавшего человека. Глаза его из серых почему-то стали цвета расплавленного золота.
– Отец Нишен, – произнес наконец настоятель, обращаясь к другому монаху-вейцу, – когда придет этот чиновник, Шаваш, известите его, пожалуйста, что в документах больше нет надобности.
* * *
Когда с государя сняли мешок, он обнаружил, что лежит посереди мощеного двора: над ним, пританцовывая, хохотал Харрада, и высоко вверху, на галерее второго этажа, в руках его слуг и товарищей пылали факелы, и свет их, мешаясь со светом луны, плясал на красных лаковых столбах и оскалившихся драконьими мордами балках.
– Ну, мерзавцы, – пнул Харрада государя, – теперь говорите, кто вы такие и чего залезли в мой дом.
– Позови стражу! – закричал Варназд.
Харрада расхохотался.
– Зачем? У тебя лопуха нет, у того – поддельный. Кто вас хватится – коза в родном огороде?
Новый знакомец государя, притороченный к бронзовой решетке, молча и злобно дергался, пытаясь высвободить руки. Харрада повернулся к нему и высунул от удовольствия розовый язык.
– Как тебя зовут по-настоящему? – спросил он.
– Это все, – за то, что я оскорбил твоего дружка?
– Не дружка, а подружку, – хихикнул Харрада.
Новый знакомый сплюнул от отвращения.
Харрада вздыбился и заорал, чтобы ему подали плетку. Расак испугался. Он знал, что Харрада уже не раз убивал вот так людей, и боялся, что, если убивать людей, это когда-нибудь кончится плохо. Расак подошел к Харраде, пошарил по нему руками и запрокинул голову:
– Рада, – сказал он, – пойдем. Эти двое подождут.
Глаза Харрады стали млеть; он и Расак ушли, а обоих юношей отволокли в какой-то сарай и привязали к прокопченным столбам.
* * *
В сарае было темно и страшно. Слезы душили государя. Воображению его доселе рисовалось – он называет себя, все падают на колени. Государь был умным юношей, и понимал, что Харрада сочтет его сумасшедшим, но на всякий случай тут же прикончит. «Весь мой народ, – подумал государь, – состоит либо из обиженных, который никто не защищает, либо из обидчиков, которым никто не препятствует».
– Как ты мог, – с упреком сказал государь новому знакомому, – решиться на грабеж?
Тот молча пыхтел, пытаясь выдернуть столб. С крыши летели соломенные хлопья. Прошел час. Юноша выдохся и затих.
– Как ты думаешь, – сказал Варназд, – он нас отпустит?
– Отпустит, – сказал белокурый юноша, назвавшийся Дохом, – поплюет в рожу и отпустит на тот свет.
– Как тебя все-таки зовут и что ты натворил?
Юноша помолчал в темноте и потом сказал:
– Меня зовут Кешьярта, а мать называет меня Киссур. Я родом из Горного Варнарайна. Это самый конец ойкумены, если не считать западных островов за морем, оставленных по приказу государя Аттаха.
– Про острова – это сказка, – перебил вдруг государь.
– Это не совсем сказка, – возразил Киссур, – потому что двадцать пять лет назад в Варнарайн, который был тогда не провинцией, а самостоятельным королевством, приплыл корабль из Западных Земель. Многие считали, что это предвещает несчастье, и, действительно, через полгода наш король признал себя вассалом империи; кончилось имя Киссур и началось имя Кешьярта. Один человек с корабля, его звали довольно странно – Клайд Ванвейлен – этому сильно помог.
Киссур замолчал. Государь вдруг заметил за ним, в темноте, несколько любопытных крысиных глаз. Государь сообразил, что перед ним один из тех, кого его мать называла «знатными варнарайнскими волчатами».
– Государыня Касия, – продолжал Киссур, – проявила милосердие и не рубила голов тем, кто на это не набивался. Детей знати забирали в столицу. Я с двенадцати лет учился в лицее Белого Бужвы. Я всегда желал увидеть Западные Земли, подал доклад, даже чертежи кораблей разыскал – не разрешили. Тогда я отпросился на родину, взял людей и лодку и поплыл. Через месяц, действительно, приплыли в Западную Ламассу. Город пуст, разрушен, одни дикари орут на птичьем языке.
Откуда взялся этот корабль четверть века назад?
Когда я вернулся в столицу, меня арестовали, сказали, что я нарушил запрет на плавания. А потом пришел человек от первого министра и объяснил: «Все знают, что Западная Ламасса ломится от кладов, потому что когда жители уезжали, они не знали, что не вернутся, зато знали, что на том берегу золото конфискуют. А ты золота привез очень мало, стало быть, украл. Поделишься – выпустим, нет – напишем, что готовил золото для восстания». А его нету в Ламассе, золота. По-моему, дикари разорили клады. Мы убили немножко дикарей: а золота все равно нет. Меня приговорили к клеймению и каменоломням. Я, однако, бежал.
Варназд, в темноте, покраснел до кончиков ушей.
– Погоди, – сказал он, – к клеймению! Но ведь на таком указе должна стоять подпись императора!
– При чем здесь император? – возразил Киссур, – это министр виноват.
– Погоди, – заупрямился государь Варназд, – если государь подписал указ, не читая – значит, он бездельник, а если прочел и послал на каторгу человека, который первым за триста лет поплыл за море – так он негодяй.
Киссур молчал.
– Скажи мне, Кешьярта, честно, – продолжал государь, – что ты думаешь о государе?
Киссур молчал.
– Неужели ты им доволен?
– Друг мой, – проговорил Киссур. – Вот если бы нас тут было не двое, а трое, и один бы ушел, а мы бы принялись судачить о нем и поносить его в его отсутствие, как бы это называлось?
– Это бы называлось сплетней.
– Так вот, друг мой. Мне, может быть, и есть что сказать императору. Только говорить такие вещи за глаза – это много хуже, чем злословить. Потому что через слово, сказанное в лицо государю, можно и головы лишиться, и мир изменить; а если сплетничать о государе за глаза, то от этого ничего, кроме дурного, для страны не бывает.
Тут белокурый Киссур поднатужился и вытянул столб из половицы, как морковку из земли. Сарай крякнул. Киссур соскоблил с себя веревки, словно гнилые тыквенные плети, и вынул из сапога длинный кинжал. У кинжала была голова птицы кобчик и четыре яшмовых глаза. Посереди двуострого лезвия шел желобок для стока крови. Киссур разрезал на товарище веревки и сказал:
– Вот этим кинжалом шпионы империи убили моего отца в тот самый день, когда последний король Варанарайна признал себя вассалом империи.
Юноши прокопали в крыше дыру, вылезли, перемахнули через стену усадьбы и побежали через развалины монастыря к берегу. И тут, у поворота дорожки, у старого тополя со страшными язвами рака на серебристой коре, Варназд вдруг увидел человека. Тот был выше государя Варназда и выше государя Иршахчана. На нем был зеленый шелковый паллий монаха-шакуника, и плащ цвета облаков и туманов, затканный золотыми звездами. Глаза у него были как два золотых котла.
– Щенок Касии, – сказал человек, – это тебе за меня и за моих убитых друзей.
Человек взмахнул плащом, плащ взлетел выше тополей и облаков, золотые звезды посыпались тополиным пухом. Государь вскрикнул и схватился за горло: астма!
* * *
Очнувшись, государь обнаружил, что лежит под позолоченной чашей, украшенной мерцающими плодами и славословиями государю, и вода из этой чаши течет ему за шиворот, а оттуда – в канавку. Четверо парней растянули на земле Киссура, словно шкуру для просушки. Лицо Киссура было залито кровью, и губы у него были словно у освежеванного хорька. Куда-то в кусты за ноги волокли мертвого слугу.
– Что же ты не бросил этого припадочного, – спросил Харрада, склоняясь над Киссуром, – ты бы успел бежать!
Киссур не отвечал. Харрада схватил у слуги лук, намотал белокурые волосы Киссура на конец лука и стал тыкать его лицом в сточную канаву.
– Собака, – закричал Киссур, выплевывая вонючий песок, – когда-нибудь государь узнает всю правду и покарает продажных тварей!
Вокруг засмеялись. А Харрада присел на корточки, словно от ужаса, и вдруг заорал, выкатив глазки:
– Ба! – я сам буду государем! Разве мало первых министров садилось на трон? Отец говорил мне: из этого Варназда такой же государь, как из мухи – жаркое! Он даже не читает до конца указов, которые подписывает!
Харрада был, конечно, сильно пьян: как можно говорить такое даже в шутку?
– Позови стражу! – закричал государь.
– Ба! – сказал Харрада. – Вы слышали: этот вор залез в мой дом, а когда его поймали, стал говорить, будто первый министр непочтителен к государю.
Государь в ужасе закрыл глаза. Все вокруг: и ночной сад, и пьяный хохот, и эта ваза, украшенная его личными вензелями, и холодная земля и вода, казались ему жутким сном. Вот сейчас господин Нан разбудит его и все уладит, стоит только открыть глаза.
Государь открыл глаза. На краю лужайки стоял Нан, одетый отчего-то в полосатую куртку слуги первого министра. Нан совершил восьмичленный поклон и сказал:
– Господин Харрада! Ваш отец узнал, что сегодня ночью вы познакомились с двумя молодыми людьми. Полагаю, это они? У того, в зеленом кафтане, на подкладке должна быть метка: желто-серый трилистник.
Кто-то задрал государю полу: метка, действительно, была.
– Ваш отец требует этих людей к себе.
Харрада глядел, набычась. Он был пьян и не помнил этого человека среди доверенных лиц отца.
– А зачем они отцу?
– Не знаю, господин, – ответил Нан, – думаю, ни за чем хорошим.
Начался спор: отпускать негодяев или не отпускать? Расак, юноша рассудительный, тихонько говорил Харраде о гневе отца. Пленников отвели в беседку. Время шло.
Руки Нана были холодны от пота. Доселе им не встретилось ни одного знакомого. И, самое нехорошее, – переодеваясь полчаса назад в кафтан кстати подвернувшегося слуги, Нан заметил, что то ли обронил свой рогатый нож с лазером, то ли утопил.
Наконец пленников свели к пристани. У пристани стояла лодка: из нее выбирался человек в синем с золотом платье. Нан побледнел.
– О, – сказал Расак, – господин министр сам изволил…
Первый министр дико глянул: он мгновенно узнал и Нана и государя.
– Убейте их, – закричал он.
В ту же секунду Нан прыгнул с обрыва тропинки, и кинжал, позаимствованный им у слуги вместе с платьем, оказался у горла первого министра. Ишнайя только заводил ошарашенные глаза.
– Эй, как тебя, – Харрада! – закричал Нан. – Эти двое – мои кореша! Я честный вор и не люблю резать людей, но я замочу даже государя, не то что этого сморчка, если ты тронешь моих друзей!
Харрада дал знак отпустить обоих юношей. Все четверо забрались в в лодку. Нан крикнул, что оставит Ишнайю на том берегу, и потребовал, чтобы гости побросали в лодку кое-какое золотишко. Все поразились нахальству вора.
Ишнайя обмяк в руках Нана. Это был человек тучный, заплывший жиром: нож под горлом мешал ему говорить. Киссур, ни слова ни говоря, схватил весла, лодка помчалась стрелой. Варназд истерически всхлипывал. Лодка подошла к северному углу дворца. Нан закричал, чтобы открыли ворота.
Киссур сложил весла, насмешливо поклонился и кинулся в воду. Государь всплеснул руками и потерял сознание.
* * *
Белая бахрома рассвета уже оторочила черное покрывало ночи: человек, которого мать называла Киссур, вылез на берег в том же месте, где и первый раз. Он дошел до старого тополя и позвал снова:
– Господин Даттам!
Тишина.
– Господин Даттам! – сказал Киссур. – Если ты боишься меня испугать, то мне уже приходилось драться с покойниками. А если ты боишься, что я буду мстить за отца, – ты не думай, я знаю, что не ты его убил, а чиновник по имени Арфарра и заморский купец по имени Клайд Ванвейлен. Но я знаю, что там не обошлось без колдовства, и что это, наверное, было колдовство храма.
– Даттам! – продолжал Киссур. – Я сегодня молился государю Иршахчану, чтобы он дал мне возможность поговорить с государем Варназдом и рассказать то, что я думаю про этих заморских торговцев. Но я вижу, что истинные боги нынче ничего не могут поделать. Даттам! Я готов продать душу тебе и Шакунику – помоги мне отомстить за отца! Я клянусь – я разыщу человека по имени Клайд Ванвейлен, даже если мне придется ради этого залезть под землю или на небо!
Но человек, или нечеловек в зеленом паллии, затканном золотыми ветвями и пчелами, либо не слышал слов белокурого варвара, либо не хотел ему показываться.
Киссур усмехнулся и пошел прочь.
На этот раз усадьба была освещена, на пристани копошились слуги с факелами. Из дворцовой кухни шел дым, похожий в лунном свете на хвост быка, поднятый перед дракой. Киссур запрыгнул на стену и увидел, что слуги тащат подносы с едой в длинную беседку из розового камня.
Киссур скатился со стены, подобрался к кухне, провертел дырочку в оконной бумаге и стал смотреть. Посмотрев, он отошел и встал за широким платаном. Вскоре на дорожке показался слуга с подносом в руках, в белой атласной куртке, лиловых штанах и лиловом поясе. За поясом у слуги был меч. Киссур выступил из-за дерева, взял поднос и поставил его на землю. Выпрямляясь, он схватил слугу за ноги и ударил слугой о корни платана. Слуга вспискнул и помер.
Киссур переоделся в лиловые штаны и белую куртку, взял серебряный поднос с гусем, положил на поднос меч и пошел. Меч этот Киссуру не понравился. Это был вейский меч, придуманный для простолюдина, а не для всадника. Он не вел за собой руки, и не рубил, а колол. Судя по глупой большой гарде, похожей на корзинку для фруктов, кузнец больше думал об удобстве защищаться, чем об удобстве убивать.
Прошло столько времени, сколько нужно, чтобы оперить стрелу – Киссур вошел в тускло освещенную беседку. Стены беседки были из розового мрамора, и девушки на мраморных барельефах изгибались, подобно дымкам из курильниц. Харрада и четырнадцать его товарищей сидели вокруг столика на затканных золотом подушках, и обсуждали, скоро ли поймают воров.
– Чего-то ты замешкался с гусем, – проворчал Харрада, – Надо тебя выпороть.
– Напротив, – приглушенно возразил Киссур, – я явился слишком быстро.
– Что с твоим голосом? – удивился Харрада.
– Песок из канавы, в которую ты меня окунул, набился мне в горло.
С этими словами Киссур отбросил поднос и взялся за меч: Расака он перерубил с одного удара. Кто-то заверещал. Киссур оборотился и рассек крикуна от ключицы до паха.
В Киссура полетела миска: Киссур отбил миску мечом, схватил со стола нож и пригвоздил того, кто вздумал швыряться мисками, к подушке, на которой тот сидел. Тут у Киссура на губах выступила пена, а глаза выкатились и завертелись, и когда он опамятовался, ему стало трудно отличить мертвых от пьяных. Он подошел к Харраде и ткнул его сапогом:
– Вставай и бери меч.
Харрада лежал как мертвый. Киссуру, однако, казалось, что он его не убивал.
– Ладно, – сказал Киссур, – если ты мертв, значит, ты мертв, а если ты жив, значит, тебе суждена гнусная смерть. Пусть же годы, отнятые у тебя, прибавятся государю, – и с силой вонзил меч.
Меч перешиб позвоночник и ушел глубоко в пол. Киссур наклонился и снял с пояса Харрады свой старый кинжал с головой кобчика, а вейский меч так и оставил торчать. Потом он встал на колени, окунул рукава и ладони в расплывшуюся под мертвецом кровь и провел ладонями по лицу.
Киссур вытер кинжал о полу, взял со стола гуся и большую лепешку, сдернул скатерть, завернул в нее гуся и лепешку и выпрыгнул в окно. За столом осталось десять мертвецов и пятеро пьяных.
Киссур спустился к реке. На нем не было ни царапины, но он шел, оставляя за собой нетвердые следы, и время от времени стряхивая кровь с рукавов. Он вошел в воду и проплыл под нависшими кустами к пристани. Там он подкараулил еще какого-то человека в желтом с зеленом платье: это было платье личной охраны первого министра. Он убил его, раздел и бросил в воду, а одежду его завернул в непромокаемую нижнюю скатерть вместе с лепешкой и гусем.
Киссур переплыл весенний канал и забился под какую-то корягу. Там он переоделся в платье убитого им слуги, поел гуся, и пошел прочь из города.
Через час он подошел к городским воротам. Факелы гасли и чадили в утреннем тумане, ворота были только-только открыты, возле них стояла цепь солдат. Киссур изумился такой прыти: затем он, однако, и переодевался в желто-зеленое.
– Пропустите, – нагло обратился Киссур к офицеру, взмахнув трехцветным лопухом.
– Ты из охраны первого министра? – ухмыльнулся офицер. Киссур кивнул. В тот же миг Киссура подхватили под руки, а офицер с удовольствием ударил его наотмашь.
* * *
– Киссур Белый Кречет? – переспросил Нан. – Что ж – это объясняет, почему он вернулся за своим кинжалом.
Государь лежал в постели, а Нан и молочный брат Варназда, Ишим, сидели на ковре у изголовья. Был уже день, но в спальне было темно. С потолка глядели звезды, луны и несколько богов.
– Где Харрада? – спросил государь. Он слегка задыхался. – Я хочу… Я его…
Господин Нан мягко, но с подробностями стал рассказывать, что случилось с юным сыном первого министра.
Варназд закрыл глаза. «Песок из канавки набился мне в горло»… Киссур принял меня за вора. Он не знал, что я тоже собираюсь отомстить».
– Скольких человек он убил? – спросил государь.
– Одиннадцать. Харраду, Расака, еще восьмерых в зале, и слугу, который нес пирог. Расак был, говорят, юноша бедный и рассудительный. Он два раза вешался, чтоб не быть с Харрадой, а в тот раз нарочно увел своего дружка, и выпросил у него вам двоим прощение. Киссур убил Расака первым, а Харраду – последним. Меч прошел через позвонки и живот, и ушел в пол так, что я потом еле выдернул. После этого он огляделся и взял свой кинжал. Еще он взял гуся и лепешку, он ведь был голоден.
Государь лежал, уткнувшись в подушку.
– Какой ужас, – проговорил он.
Нан засмеялся в темноте.
– Киссур Белый Кречет опередил вас, государь.
– Как вы смеете, – сказал Варназд, – я приказал взять мерзавца живым, я хотел…
Государь замолк. Нан и Ишим тоже молчали.
– Что было дальше? – тихо спросил государь.
Нан тоже понизил голос.
– Говорят, он был ранен. На тропинке, которой он шел к воде, капли крови… Он мог перебраться на другой берег только вплавь, а ведь сейчас в воде очень холодно…
Варназд опять стал плакать, потом заснул.
Нан вышел из государевой спальни, покусывая губы. Государь только и спрашивал, что об этом Киссуре! Великий Вей, – разве справедливо, если этот варвар станет соперником Нана в любви к государю! Но, увы, был только один человек, – Шаваш, секретарь Нана, которому Нан мог сказать, что было б хорошо, если б Киссур утонул, как бы ни обстояли дела на самом деле. Но Шаваш как сквозь землю провалился.
* * *
Государь Варназд проснулся вновь где-то среди ночи. Раздвинул полог. Ему было больно и жарко, небосвод на потолке кружился и падал вниз.
– Господин Нан! – в ужасе закричал Варназд.
Дверь мгновенно приоткрылась, чиновник скользнул внутрь, вновь сел у изголовья и взял руку. Варназду сразу стало покойней. «Если бы мать хоть иногда так приходила ко мне», – подумал он. Вдруг он вздрогнул.
– Нан, – зашептал государь, – скажи, мне достаточно одного твоего слова: брал ты двести тысяч от некоего Айцара или нет? И замышялял ли он заговор? Или нет – не говори… Только не лги…
– Заговора не было и быть не могло, – ответил чиновник, – а деньги я взял.
Заговор, однако, был. Черт бы побрал человека по имени Дональд Роджерс!
– Почему?!
– Потому что два умения равно необходимы чиновнику – умение брать взятки и умение толковать о справедливости. Потому что, если бы я не взял этих денег, господин Айцар, ни в чем не виноватый, сказал бы: «Этот чиновник ведет себя вызывающе», – и я бы погиб. Потому что имущество чиновника заключается в связях, а связи покупаются подарками; потому что всякий указ исполняется лишь за деньги; потому что новый араван Харайна заплатил за свое место шестьсот тысяч, и рассчитывает вернуть эти деньги с народа к осени.
Государь смотрел вбок. У окна, увитого золотыми кистями небесного винограда, чуть шевелились тяжелые знамена со знаками счастья, и шелковый потолок, круглый, как небо, возвышался на восемью колоннах, опирающихся о нефритовый пол, квадратный, как земля.
– А если я казню всех взяточников?
– Араван Арфарра сделал это в своей провинции четверть века назад. Столбы на площадях подмокли от крови, чиновников не хватало, они сидели в управах прямо в колодках. А брали невиданно много – за риск.
– А если я искореню богачей? Ведь это они соблазняют людей из управ?
– Лучшие люди всегда стремятся к успеху. Если искоренить богачей, лучшие люди будут стремиться не к обогащению, а к власти. Дети крестьян захотят стать чиновниками, а дети чиновников захотят остаться чиновниками. Те, кто выбился наверх, будут казнить друг друга. Те, кто остался внизу, будут добиваться своего восстаниями. Если люди стремятся к наживе, им нравится спокойствие. Если люди стремятся к власти, им по душе смута. Если люди стремятся к наживе, сердце правителя спокойно. Если люди стремятся к власти, сердце правителя в тревоге, и он каждый день казнит людей, предупреждая заговоры. Такой правитель говорит: «Народ мой беден, но зато я имею больше власти». Но разве казнить людей – это значит иметь больше власти?
– А если я узаконю рынок в Нижнем Городе?
– Тогда вы восстановите против себя всех тех, кто живет поборами с незаконного рынка; всех чиновников и воров. А половина воров – члены еретических сект.
– А если я оставлю все как есть?
– Тогда, – сказал господин Нан, – все больше крестьян будет уходить с земли в город, и все больше честных чиновников – уклоняться от службы. Тогда богачи будут все больше обирать народ, а народ будет все громче говорить о том, что богачи его обирают. А если народ не будет знать, что ему говорить, уклонившиеся от службы чиновники его научат. Тогда одни общины превратятся в легальные формы существования еретических сект, а другие распадутся, и крестьяне из них уйдут в контрабандисты и разбойники. Тогда справедливые воры перестанут действовать поодиночке, а станут объединяться в союзы и партии. Тогда в провинциях разгорятся мятежи, а при дворе разгорятся споры, кому подавлять мятежи, потому что при подавлении мятежа можно выгодно нажиться.
А когда окажется, что речь идет не о том, чтоб нажиться, а о том, чтобы выжить – тогда позовут на помощь конницу варваров. Тогда государство бросит притеснять богатых людей, ибо поймет, что всякий, имеющий дом, бережет и дуб, под которым стоит его дом, а не имеющему дома дуба не жалко. Тогда-то государство увидит в зажиточных людях свое спасение, и позволит им организовывать отряды самообороны. Боясь во время мира предоставить самостоятельность хозяйственную, во время смуты предоставит самостоятельность военную. И после этого, государь, уже неважно, кто победит: варвары, повстанцы, или люди с оружием. Государство погибнет, и люди будут убивать друг друга из выгоды и поедать друг друга от голода.
Чиновник замолчал.
– А вы, Нан, можете ли все исправить?
– Да, – ответил чиновник.
Государь уцепился за его руку и не отпускал, пока не заснул. Уходя, Нан оглянулся: улыбка на лице молодого государя была совершенно как у ребенка, которому пообещали волшебную дудочку.
«Будь я проклят, – подумал Нан, – если знаю, как все исправить. И уж точно буду проклят, если все не исправлю».
Глава третья,
в которой новый министр проявляет редкое благоразумие
Шаваш явился во дворец под утро. В саду, перед покоями нового фаворита, уже толпились придворные. У круглой решетки фонтана громко рыдал начальник дворцовой охраны, ближайший друг арестованного Ишнайи.
– Какой позор, – плакал он, не таясь, – почему не мне дали арестовать преступника!
Нана Шаваш застал в кабинете с указами и людьми. Решения Нана были безошибочны, кисть так и летала по бумаге. Нан поднял безумные глаза и вежливо сказал:
– Где вы были, Шаваш! Вас искали всю ночь.
Шаваш, поклонившись, объяснил, что он уезжал за город отвезти документы отца Сетакета, и протянул записку: «Господин Шаваш! Сожалею, что ввел вас в ненужные хлопоты с документами и, разумеется, прошу никого не разыскивать по поводу моей смерти. Передайте, пожалуйства, господину Нану, что в монастыре ему очень благодарны за то, что он нашел и вернул кота настоятеля».
– Какого кота? Что за чушь? – спросил недовольно Нан.
– А того, который пропал в Харайне, – пояснил Шаваш. – Настоятель в нем души не чает, а по-моему, жирная животина.
Нан моргал, а Шаваш, кланяясь, закончил:
– А монах сегодня вечером пришел на Синий Мост и на глазах всех тамошних булочников кинулся вниз. Там такое течение, что тело так и не вытащили. Я…
Тут господин Нан не сдержался и заорал:
– Слушайте, Шаваш, какое мне дело до котов и желтых монахов!
Через десять минут Шаваш рвал из секретарских рук бумаги с теплыми еще печатями на именах. Глаза у него, при виде имен, стали круглые и восторженные. Все желтые монахи вылетели у него их головы.
* * *
Неделю император не вставал с постели, и всю неделю в городе шли аресты. Никто из близких господина Ишнайи не мог быть спокоен за жизнь свою и имущество. В первые часы арестовывали больше именем государя, а вскоре – именем господина Нана.
* * *
Уже после полудня секретарь Нана, Шаваш, со множеством «желтых курток» явился к другу первого министра, министру финансов Чаренике, начинавшем свою карьеру еще при государыне Касии.
Чареника был человек мелкий и злобный, пытал людей по пустякам. Глазки у него лезли на переносицу, про таких говорят: не будь носа, глаза бы друг друга съели. Впрочем, в полнолуние он постился и мыл ноги нищим. До Чареники финансы были просты: каждый крал, сколько мог. С Чареникой стало хитрее.
Шаваш вошел: ах, какой чертог! мраморные дорожки, порфировые колонны. Наборные потолки впятеро выше разрешенных в частном строении. Наборные потолки были выше вот отчего: государыня Касия несколько раз выпускала государственный займ. Получить по нему деньги стало трудно, и маленькие люди продавали билеты за два-три процента от стоимости. Другое дело люди уважаемые – те покупали билеты маленьких людей и получали от казны полный выкуп. (Никто никого не обманывал: маленькие люди ведь не обязаны продавать билеты, так? И государство ведь обязано платить по займу, так?)
Впрочем, есть у министра финансов и другие способы поднять повыше потолок.
Господин Чареника встретил Шаваша с лицом белым, как бараний жир. Шаваш показал ему пачку документов.
– Это ваша подпись?
– Моя, – опустив глаза, согласился господин министр.
– Господин Нан хочет предъявить эти бумаги государю, – сказал Шаваш.
– Понимаю, – произнес господин Чареника, и лицо его из белого стало зеленым, как заросший ряской пруд.
– Господин Нан, – продолжал Шаваш, – желает предъявить эти бумаги государю. Он не понимает, каким образом на них могла оказаться ваша подпись. Он считает, что эта подпись поддельная. Он поручил мне оставить эти бумаги у вас и ждет вас завтра с исчерпывающими разъяснениями.
Шаваш повернулся и пошел к двери, а господин Чареника упал на колени и полз на ним некоторое время, волочась брюхом о пол, а потом перевернулся на спину и стал кататься по ковру и по бумагам и хохотать, как филин, пока лицо его из зеленого не стала красным, как глиняный кирпич.
Шаваш вышел: у порога кабинета, прибежав проститься с отцом, стояла золотоволосая девушка. Это была та самая девушка, которая так звонко хохотала, когда Шаваша вчера утром облили помоями. Глаза от ужаса большие, как блюдца, волосы без шпилек… Впрочем, Шаваш заметил, что она сначала уложила волосы, а потом вынула шпильки.
Шаваш переложил пустую папку с яшмовой застежкой в левую руку и почтительно поклонился девушке. Девушка ахнула и упала ему на руки, понимая, что отец это одобрит.
* * *
Шаваш поехал к министру финансов, Чаренике, а господин Нан отправился к главе ведомства Справедливости и Спокойствия господину Андарзу.
Господину Андарзу в это время было лет пятьдесят. Это был человек неравнодушный к мальчикам и девочкам, с красивым крепким телом цвета топленого молока, с крупной головой и большими глазами василькового цвета. Нос у него был с горбинкой.
Это господину Андарзу принадлежал знаменитый совет наказать реку, в которой промок государь, так, чтобы отныне в реке не утонула даже курица. Реку разобрали на двести каналов. Все левобережье превратилось в болота. Из средств, отпущенных на рытье каналов, вышло множество домиков для Андарза и для горячо любимых родственников и близких.
Кончили церемонию закладки последнего канала; господин Андарз вернулся в свою изящную виллу и открепил от стены шелковый свиток с вышитой на нем старой картой столицы.
Небесный Город, как мы помним, был защищен от врага с трех сторон, каналом и двумя реками. Теперь он был защищен и с четвертой, с северной, землями, которые можно было в любой миг превратить в непроходимые болота. Андарз заплакал и сказал племяннику: «Друг мой! Когда государь вправе наказывать реки, и об этом можно сказать народу, а военачальник не вправе укрепить Небесный Город на случай вторжения, – друг мой! Что-то тут не так!»
Тут племянник вспомнил, что еще год назад Андарз показал ему проект северных оборонительных сооружений и пожаловался: «Если я стану их строить, недруги сживут меня за то, что сею панику. А, не дай бог, явятся варвары или повстанцы, меня опять-таки казнят за непринятие мер».
В глазах людей осведомленных Андарз был человеком погибшим по двум причинам.
Первая, не столь важная, заключалась в том, что Андарз был ближайшим другом Ишнайи и главой «парчовых курток». «Парчовые куртки», личная государева охрана и городская стража из варваров – это были три главные военные силы столицы, и ни для кого не было секретом, что Андарз людей содержал в порядке, а варвары позарастали в своей слободе лавками.
Во дворце не знали точно, что произошло меж государем и Ишнайей, но знали, что Ишнайя заманил государя к себе и так крепко поссорился с ним, что велел убить. Из чего вытекало, что Ишнайя в наступившей неразберихе надеялся захватить престол, а сделать это можно было только при безоговорочной поддержке страшных «парчовых курток». Это была неглавная причина.
Главная же причина была та, что господин Мнадес, управитель дворца, и глава Ведомства Справедливости и Спокойствия Андарз были смертельными врагами. Оба они собирали ламасские вазы, широкогорлые и тонкостанные, и про вазы эти в народе говорили, что каждая из них ростом с человека, но даже если бы она была ростом с сосну, то и тогда кровь и слезы, пролитые министрами, чтобы заполучить эту вазу, переполнили бы ее широкое горлышко.
Среди ламасских ваз было две парных вазы, самец и самочка, украшенные парящими орлами и расписанные с такой искусностью, что казалось, будто божьи птицы на вазах кричат и поют крыльями. Волею судьбы одна из парных ваз была у Андарза, а другая – у Мнадеса, и Андарз не раз говаривал: «Что ж! Либо я конфискую у него божью красоту, либо он у меня».
Вот поэтому вражда между Мнадесом и Андарзом была совершенно неистребимой. Ибо когда речь идет о таких незначительных вещах, как убеждения, дружба или любовь, то их можно переменить в один миг или притвориться, что переменил, а когда речь идет о вазе, то трудно, согласитесь, притвориться, что она стоит в доме господина Мнадеса, если она стоит в доме господина Андарза.
Да! У господина Андарза был большой недостаток. Передавали, что когда министр полиции говорит, глядя в глаза собеседнику, он всегда лжет, а когда министр полиции говорит, глядя на ламассую вазу, он всегда говорит правду. Зная этот свой недостаток, министр полиции никогда не говорил с людьми, глядя на ламассую вазу.
В эту ночь господин Андарз пировал в доме своего друга, скорее раздетый, нежели одетый, в окружении нескольких девиц, в которых мужчины изливают свое семя, среди роскоши, похищающей душу из тела и яств, наполняющих рот слюной. Вдруг вбежал его племянник, в боевом кафтане и с мечом на боку.
– Дядюшка, – завопил он, пуча глаза, – господин Ишнайя заманил государя в свою усадьбу и велел его убить там! Но эта проделка не удалась из-за Нана!
– На что же рассчитывал этот негодяй Ишнайя? – вскричал Андарз.
– Дядюшка, говорят, что он рассчитывал на вашу помощь!
Андарз протрезвел и выскочил во двор, но увидел, что люди из дворцовой стражи уже окружили усадьбу. Он заметался и побежал в кладовую. Там у двери сидел старый сторож в травяном плаще, таком оборванном, что ни дать ни взять – огородное чучело!
– Сюда, господин! – позвал сторож.
Андарз метнулся в кладовую. Там, вровень с полом, стояли, вкопанные в землю, большие сосуды с пахучим чахарским маслом, которое идет на куренья богам. Андарз снял крышку с початого сосуда и прыгнул вниз, а сторож подал ему полую бамбуковину, чтобы можно было дышать. Андарз сидел в этом сосуде, и, так как была еще весна, вскоре ему стало ужасно холодно. Он не знал, что делать, и начал молиться. И одну минуту он думал: «Надо выскочить из сосуда, в котором так холодно, и упасть в ноги Нану: авось он тогда пощадит жену и детей». А другую минуту думал: «Нет, стоит перетерпеть этот холод: авось не найдут».
Тем временем в кладовую пришли солдаты из государевой стражи и спросили сторожа:
– Ты не видел изменника Андарза?
– Никак нет, – ответил верный слуга.
– А что у тебя за вино в сосудах?
– Это не вино, – ответил сторож, – а чахарское масло для воскурений.
– Что ты ерунду порешь, – возразил солдат, – на рынке я за все свое месячное жалование не могу купить плошки чахарского масла, как же оно может стоять в таких больших кувшинах? Сдается мне, что это вино, и что его можно выпить.
Они стали сшибать крышки с сосудов, и один охранник сказал:
– А это что за соломина торчит?
Соломину вынули, Андарзу стало нечем дышать, он забулькал и полез из сосуда. Андарз был храбрый человек, он выхватил у солдата меч и отрубил ему кисть. Но другие солдаты дрались лучше, чем он мог предполагать, и вскоре его прижали к земле и как следует побили.
На Андарзе была щегольская рубашка, с низким вырезом и откидными рукавами. В эти рукава было заткано много золота, и они свисали до колен. Солдаты связали этими рукавами Андарзу руки за спиной, надели на него поводок и погнали перед своими конями. Андарз шел, опустив голову, но тут набежало много народу, особенно женщин, всегда обрадованных несчастиями людей, подозреваемых в богатстве. Они кололи его ухватами в подбородок, так что он должен был поднимать голову, и ему насыпали множество дряни в глаза и на одежду.
Андарза привели обратно в дом. Там на диване сидел Нан, в боевом кафтане и со стражниками. Андарз покровительствовал новому фавориту лет восемь назад, но впоследствии пути их разошлись. Андарзу сняли с шеи поводок и развязали руки.
– Вчера, – сказал Нан, – негодяй Ишнайя высыпал перед государем много слов про меня и про харайнский канал. Это были не очень-то лестные слова. Ишнайя сам не обладал такими познаниями.
– Ах, – сказал господин Андарз, – это был человек, составленный из глупости и преступлений всякого рода, и его дружба была для меня тяжелей, чем клевета, которую он изливал на других.
После этого люди вокруг Нана стали спорить, что делать с Андарзом, и все они были несогласны в способе казни. А Нан сидел молча и ел Андарза глазами, а пальцами потирал воротник в том месте, на котором утром Андарз углядел пятно.
– Не могли бы вы мне показать свою дивную коллекцию? – вдруг спросил Нан.
Андарз попросил позволения переодеться, и это было разрешено. Дом у Андарза содержался на старинный манер, в нем были не часы, а рабы для называния времени, и специально выращенные карлики. Все эти люди сбежались, рыдая. Камердинер, плача, вымыл Андарзу его волосы цвета кленовой патоки, и Андарз тут же велел остричь их, потому что ему было неприятно представить их концы в крови.
Андарз с Наном прошли в галерею. Андарз зажег светильники и стал смотреть на ламасские вазы и на кружевные облака и весенние поля, нарисованные на вазах. Вот: леса и горы, олени бродят по горным тропкам, рыбаки плывут по реке меж тростниковых зарослей, утки сидят на зимнем снегу: у одной утки оттопырена лапка. Над ней стоит красиво одетый юноша и хочет взять утку в руки, а утка плачет, потому что понимает, что она все равно умрет, и глядит на свежий снег и на то, как в реке купается зимнее солнце. И господин Андарз, министр полиции, тоже заплакал, как утка с оттопыренной лапкой.
– Что бы вы делали, – шевельнулся за спиной Нан, – если б Ишнайя был на свободе, а государь – убит?
– Будь ты проклят, – сказал Андарз, – честнее изменить гоcударю, чем другу.
Нан хлопнул в ладоши. За дверью застучали сапоги. Андарз побледнел и обернулся.
– Я хотел бы, – проговорил Нан, – заменить вам друга. Три вещи скрепляют дружбу, – совместная трапеза, совместные тайны и взаимные подарки. Господин Мнадес сегодня, по моей просьбе, подарил мне «кружащего орла» – я хотел бы утешить им вас в неcчастии.
Двое парчовых курток осторожно внесли в зал плетеный короб. В коробе сидела ваза с кружащим орлом. Нан обернулся и поднял светильник.
– Великий Вей, – произнес он, – но где же первая ваза?
Андарз долго молчал.
– Вчера утром, – наконец заговорил он, – я подарил первую вазу господину Мнадесу, за сведения о вас и о заговоре Айцара.
Нан положил руку на плечо Андарзу, и оба чиновника долго любовались вазой.
– Это для меня большая честь, – серьезно сказал Нан, – что моя голова так дорого стоит.
Через два часа, после короткого нервного припадка, Андарз лежал, завернутый в мокрые простыни, под пологом синего шелка. Перед ним, освещенный одинокой свечой, парил «Кружащий орел», и стояла ваза с уткой на весеннем снегу, повернутая другим клеймом: юноша гладил утку по голове, и утка жмурила черный глазок. Ни девиц, ни вина не было. В изголовье сидела и перебирала волосы молодая жена. «Эх, зря я остриг волосы», – подумал Андарз.
– Что, – спросила женщина, – будет ли это человек больший, чем Ишнайя?
– Да, – ответил министр полиции, – потому что многие на его месте наслаждались бы в галерее моим страхом, или собой, и только. Он же наслаждался и работой древних мастеров, и такую вещь, как умение видеть красоту, нельзя подделать.
* * *
Через неделю, в двадцать третий день восьмой луны, благоприятный для назначений на должности, на две тысячи сто восемьдесят третьем году царствования государя Иршахчана и седьмом году царствования государя Варназда, в зале Ста Полей государь Варназд разбил личную печать преступника Ишнайи и назначил первым министром страны Великого Света господина Нана, обладающего всеми шестью добродетелями и тремя достоинствами, человека истины и справедливости, выходца из сонимских крестьян.
Люди осведомленные знали, что государь предлагал Нану две печати – круглую и квадратную, государственную и дворцовую, – иначе говоря, хотел отдать ему и должность первого министра, и должность главного управителя Дворца, нарушая незыблемое правило разделения и взаимного доносительства. Но Нан напрочь отказался, заявив, что господин Мнадес, главный управитель дворца, его друг и учитель, и что того, кто предает друзей, бесы серебряными крючьями уволокут в ад.
На следующий день в городе был праздник. В первый раз за сто лет государь вышел на площадь к народу, и в присутствии государя огласили манифест:
«Страна горит от распада и смуты. Зубы бедняков почернели от корней лотоса, души чиновников почернели от жадности. Как устроить порядок в государстве? Как сделать так, чтобы человек с печатью не мог взять у крестьянина даже яйца, не заплатив за взятое? Как сделать так, чтобы чиновник мог без препятствий думать об общей пользе, а простолюдин мог без препятствий думать о собственной выгоде? Почтительнейше прошу подавать доклады».
После этого началось веселье; по улицам побежали плясуны, ряженные богами и демонами. Везде разбрасывали деньги и билетики государственной лотереи и раздавали просяные пироги, круглые, как небо, и рисовые пироги, квадратные, как земля.
Вот горшечник Нох получил рисовый пирог и кружку пальмового вина и сел на площади под большую катальпу, вместе с другими, стоявшими в той же очереди. Вино и пирог были самого отличного качества, и один из соседей Ноха сказал:
– Хорошо бы министров сменяли почаще; глядишь, на одних пирогах отъедимся. Интересно, когда этого Нана сменят, пирог будет такой же хороший, как сейчас, или такой же плохой, как после казни Руша?
– А по-моему, – высказался Нох, – в манифесте сказали неправду. Дело не в том, что в стране много горя, а в том, что этот Ишнайя навел на государя порчу.
Тут они стали выяснять, кто из них стоял ближе к государеву помосту и какой был рисунок на сапожках государя и на жезле в его руках, потому что все они видели государя впервые.
А один из собравшихся, крестьянин, пригнавший в столицу скот на продажу, подпер пальцем губу и сказал:
– Нехорошо получается!
– Что нехорошо?
– Вот я позавчера пригнал на рынок баранов, и двадцать из ста забрали «на государев стол». И в деревне каждый раз, когда приходит мытарь, мы платим – «на государев дом», «на государеву одежду». И вот, отдаю баранов, а сам думаю: «Какой огромный, однако, у нас государь! Обычному человеку на обед хватит бараньей ножки, а нашему государю мало двух десятков баранов. Немудрено, думаю, что по слову того, кто съедает зараз двадцать баранов, размножаются птицы и цветут злаки. Большое счастье быть под таким государем». А сегодня я пришел – гляжу, государь такого же роста, как я, а если раздеть, так и пониже будет. Как же он съест двадцать баранов?
– Ах ты деревенская чушка, – наставительно сказал Нох, – государь может принимать любое обличье: и кролика, и дракона, и тысячехвостого змея. Он к тебе, чтобы не пугать, вышел в человеческой личине, а ты проявляешь непочтительность!
Много, много было в те дни чудес, предвещающих благоприятное развитие событий! В государевом парке нашли на дорожке кучку опалов от животного «небесный огонек», которое во время доброго правления испражняется драгоценными камнями, а во время злого правления испражняется дерьмом; в Западной Реке видели купающегося кита счастья. А знаменитый вор Свиной Глазок, колдун и чернокнижник, ограбив усадьбу Таута-Лаковарки, напустил на нее из рукава огненного дракона Варайорта, чтобы богачам вроде Таута было неповадно грабить нарол; об этом случае тут же сложили пьесу, и в пьесе говорилось, что то был не огненный Варайорт, а опал, оставшийся от животного «небесный огонек».
* * *
По возвращении из города государь Варназд велел привести бывшего министра. Тот был очень жалок. Государь спросил его, на что он рассчитывал, крикнув слугам убить пленников. Ишнайя ответил:
– Я подумал, что если упасть на колени, я смогу еще вымолить себе жизнь, но жизнь моего сына уже ничто не спасет. А если убить государя, то в наступившей суматохе и с помошью верных друзей можно добиться многого! Во всем, Ваша Вечность, виноват злой умысел богов, которые высоких из зависти повергают в пыль, а низких – возвышают!
Государь Варназд засмеялся и сказал:
– Что ж! Я главный бог ойкумены и исполню любую твою просьбу, если пожелаю.
– Простите меня, – сказал Ишнайя.
– Нет.
– Тогда – оставьте жизнь.
– Нет.
Ишнайя побледнел; Нан велел охранять его строже, чем священную мышь перед гаданьем. Он не знал, что случилось на острове после бегства императора, хотя был человек умный и поэтому догадывался о многом, что предшествовало ему.
– Государь, – сказал бывший первый министр, – вы действительно бог. Только боги властны над жизнью и смертью. Сыну моему лишь семнадцать. Он еще образумится. Он очень хорошо рисует: пощадите его! Это я виновен в том, что не успел его воспитать.
Император повернулся и ушел.
Впоследствии господин Нан узнал от бывшего министра много полезных сведений, соблазняя жизнью сына, пока тот, как человек умный, не заподозрил правды и не потребовал с сыном свидания.
* * *
Неподалеку от городской префектуры располагалась двухэтажная харчевня. Перед харчевней стояли два столба со славословиями государю, а на вывеске красовались три печатных пряника на зеленом поле. Пряники были нарисованы плохо и издали походили на три монеты. В этой харчевне имели обыкновение встречаться люди, подозреваемые в богатстве, любители поесть и поиграть.
В «сто полей» они не играли, потому что это игра для чиновников. Притом же в нее всегда играют двое, и один непременно должен проиграть. Играли они в карты, в игру, называемую «мешки и лепешки». В эту игру играло сразу много человек, но к ореховому столу не допускались люди случайные и неблагоразумные.
Главное в этой игре – набрать как можно больше очков. Играют обычно парами и тройками, и замечено, что если партнеры – новички, то они, не доверяя соседу, частенько проигрывают. А если партнеры друг другу доверяют, то между ними наблюдается не столько дух соревнования, сколько дух взаимопомощи, и так они, любезно уступая партнеру козырь или ход, в конце концов набирают очков неизмеримо больше. И если в среднем по городу больше сотни очков игроки не набирали, то в этой харчевне, благодаря взаимопониманию, набирали до тысячи и выше.
В этот вечер люди за ореховым столом собрались на полчаса раньше.
– Господин Нан, – сказал один из них, – человек добра и справедливости, благоразумный, из умеющих соглашаться с собеседником.
– Господин Ишнайя, – сказал другой, – был человек мелкий и злобный, пытал людей по пустякам и делал множество неправд в государственной казне.
Больше господина Нана не обсуждали, а обсуждали, много ли ожидается в этом году из Чахара шелка и каков будет в Иниссе урожай перца. Договорились также не покупать у мелких поставшиков чай дороже, чем «полтора за горсть», и не продавать чай в лавки дешевле, чем по «три с половиной за горсть», – ибо и здесь договор способстсвовал общему выигрышу. Кто-то заметил, что новый первый министр при вступлении в должность не обновил, как положено, указов о справедливых ценах, а цены на рынке тем не менее не прыгали. Собеседник согласился, что надобно посмотреть, чтобы они и в эту неделю не прыгали, дабы поддержать начинание министра.
* * *
Через неделю новый министр Нан отправился за город, в поместье министра финансов Чареники. Собралось самое изысканное общество, катались на лодках и пускали фейерверки.
– Господин министр, – сказал Чареника, совершив девятичленный поклон, – как мне отблагодарить вашу скромность и великодушие! Поистине, лишь ваша снисходительность позволяет мне наслаждаться красотой этих мест.
После обеда господин Чареника пригласил гостей пойти по старой дороге, полюбоваться закатом. Стали подниматься вверх по изгибам ручья и заметили, как вниз плывут узорные листья: на листьях было вызолочено имя господина Нана.
– Верно, это кто-нибудь из небожителей забавляется, – восхитились гости.
На горе как бы серые дымки вились в развалинах храма. Зодчий выстроил храм недавно, и строил сразу поэтические руины. Выбежали красавицы всех четырех видов, закружились перед гостями и растаяли в тени деревьев. Мята и парчовая ножка струили изысканный аромат, солнце садилось в розоватые тучи у горизонта.
Великий Вей! Как мимолетна жизнь! Где нынче крылья бабочек, родившихся прошлой весной? Где слава царств и мощь правителей? Где господин Ишнайя, по вкусу которого Чареника и выстроил этот храм в роще? Поистине – все живущее – недолговечно, все мятущееся – успокаивается, гордец погибает от собственной гордости, а униженный погибает от унижений, и удача губит человека удачливого, а неудача губит неудачника.
Всех охватила легкая грусть. На обратном пути заговорили о вечном круговороте в природе, о путях гибели и упадка царств. Господин Чареника вздохнул и сказал:
– Самое страшное для государства – это когда финансы приходят в расстройство. Если налоги скудны и нерегулярны – ничто не спасет тогда государство.
Первый министр сказал:
– Вы славитесь проницательностью: укажите средство помочь беде!
Министр финансов Чареника поклонился:
– Средство есть, и весьма старое: позволить частным лицам принимать участие в хозяйстве, и всемерно поощрять частную инициативу в деле сбора налогов.
Нан насторожился.
– Нынче наместники и араваны, – продолжал Чареника, – все просят снизить налог. А вот возьмите собравшихся. Многие из них имеют некоторые деньги. Они были бы счастливы выплатить налоги вперед, – а там уж неважно, вернут они свои деньги или нет. Это низкие люди заботятся о выгоде, а справедливый человек думает о том, как помочь государству.
Господин Нан кивнул головой. Средство помочь государству было старое, и воскресший император Аттах так изъяснял это средство: «нынче целые провинции отданы на откуп, каждый старается дойти до денег не смекалкой, а монополией. Те, кто побогаче, не строят, не трудятся, а только вноcят деньги в казну, а потом собирают с провинции сколько могут: втрое ли, впятеро больше – уводят овец, продают людей за долги. Те, кто победнее, не строят, не трудятся, потому что все, созданное честным трудом, откупщик отберет». Бог с ним, с воскресшим императором Аттахом.
Господин Нан обвел взглядом собравшихся насладиться закатом: были тут люди с мелкими должностями, но не было людей с мелкими состояниями.
– То, что вы предлагаете, – сказал господин Нан, – мера, действительно, спасительная для государства, но зачастую губительная для богатых людей. Ведь как случилось при Золотом Государе Ишевике? Деньги за налоги были отданы государству, а потом многие сектанты и даже чиновники стали распускать слухи, что деньги уже заплачены, и налогов можно не платить. Возникло состояние, близкое к недовольству. Государь простил народу недоимки, которые, собственно, причитались уже не ему, а откупщикам: так-то богатый человек был сделан бесплатным чиновником и разорен совершенно. Нет, – закончил решительно Нан, – надо думать не только о пользе государства, но и о выгоде лиц, владеющих крупными состояниями.
Тут, однако, пожаловал дворцовый чиновник: государь Варназд просил первого министра во дворец. На разукрашенных лодках спустились вниз, господин Нан распрощался с гостями.
* * *
На следующий день Чареника сидел в своем кабинете. У него была маленькая слабость: министр финансов любил, чтоб подпись на указе блестела, и не посыпал ее никогда песочком, а ждал, пока бумага или шелк высохнут. В кабинете его поэтому стояло несколько столов, и на них сохли бумаги с подписями. Тут вошел секретарь Чареники, человек, исполненный всяческого воровства, поклонился и сказал:
– Не стоит опять заводить разговор, подобный вчерашнему, потому что вчера вечером в зале Ста Полей господин Нан сказал очень громко: «Три вещи не должны становиться частной собственностью: это армия, судопроизводство и налоги».
Господин Чареника вскочил так, что листы с сохнущими подписями вспорхнули и разлетелись по полу:
– Ничего, – закричал Чареника, – я еще ему зубы обломаю, обломаю зубки-то! Ишь он мне вздумал толковать про пользу и выгоду!
Господин Чареника подумал, вышел из кабинета и прошел переходами и галереями в женскую половину.
Дочь его резвилась в саду с белками и подругами. Господин Чареника спросил дочь, о чем она так долго беседовала вчера с секретарем министра, молодым Шавашем. Девушка покраснела и сказала, что ни о чем дурном она не говорила, а просто спросила – правда ли, что первый министр намерен Шаваша усыновить?
«Гм», – сказал себе господин Чареника. Секретарей нередко усыновляли или брали племянниками, потому что сын не имеет права свидетельствовать против отца.
Вечером Чареника опять позвал к себе секретаря и спросил:
– Как ты думаешь, что я собираюсь предпринять?
– Я думаю, – ответил секретарь, – что вы хотите поискать неприятностей в прошлом господина Нана, и, думается мне, что, начав искать, эти неприятности легко будет найти.
– А почему ты так думаешь?
– А потому, – сказал секретарь, – что я полгода назад был в провинции Соним, откуда Нан родом. Его деревню двадцать пять лет назад утопило из-за разворованной дамбы. Мальчик учился при храме и незадолго до беды, как оказалось, ушел из дому. Только через два года узнали, что он уцелел. Я нашел список книг, по которым господин Нан мог учиться в храме, и прочел его сочинение – и в его сочинении упоминаются немного другие книги.
Чареника, который ничего этого не знал, улыбнулся и произнес:
– Поистине ты угадал мои намерения, но лишь часть.
Глава четвертая,
в которой Свен Бьернссон жалуется первому министру на свои приключения
– Спокойствие, – сказал, немного шепелявя, собеседник Нана, – спокойствие – вот корень благосостояния. В спокойные времена люди честны и благородны, в во время больших перемен верх берут негодяи. Ах, господин Нан! Вы проявили редкую скромность. В столице, однако, упорно говорят о больших переменах?
– Намерения государя, – возразил первый министр, – всегда неизменны и безупречны. Негодяй изобличен. Спокойствие восстановлено. Я – лишь слуга государя, перо в его руке. Тем ли, другим пером пишет государь – какие могут быть от этого перемены?
При имени государя собеседник почтительно поклонился, и сообщил, что от взгляда государя созревают все двенадцать тысяч злаков, и деревья меняют листву по его указу, – как будто Нан этого сам не знал.
Нан и его собеседник cидели в небольшой двуступенчатой комнате. Все располагало к домашней, дружеской обстановке, – взять хотя бы красную циновку, на которой расположились собеседники вместо официальных кресел; все дышало стариной. Ужин был необычайно скромен, – ни мяса, ни вина. Впрочем, он кончился, и теперь хозяин и гость беседовали и пили из глиняных чашечек в форме раcпускающегося бутона чуть красноватый, с мятным привкусом напиток: не чай, а особую траву. «Экая дрянь», – подумал Нан, осторожно поднося чашку к губам.
Собеседник Нана имел на себе строгий черный кафтан и черную же шапочку, стянутую вокруг головы шнурком; телом был бел, чист и восхитительно жирен той невероятной и очень здоровой толщиной, которая отличает идолов бога богатства. Отчего-то левая половина его тела была чуть толще правой. Левая щека тоже была вздута с детства, и казалось, что этот человек держит за щекой померанец и оттого шепелявит.
В верхней нише у стены сидела женщина и плела красную циновку. Стены и пол комнаты тоже были устланы красными циновками, и было непонятно, где кончается циновка, которую плетет женщина, которая сидит в комнате, и начинается комната, в которой сидит женщина, которая плетет циновку.
Женщина была сухонькая, проворная, с плавными движениями рук, с белоснежным лицом, алыми щечками и черными соболиными бровями – писаная красавица в старинном значении этого слова. Иначе говоря, лицо ее густо, как маска, покрыто было белилами. На щеках были нарисованы два красных овала, а брови густо выведены сурьмою. Прочие женщины давно перестали быть писаными красавицами, забросили традиции безыскусной старины и даже пили уксус и мел для придания себе очаровательной бледности. Но в этом доме традицию соблюдали в мельчайших подробностях, и полагали, что косметика, как и одежда, создана для того, чтобы прятать, а не подчеркивать.
Собеседник Нана, сидевший на простой циновке и пивший красноватую дрянь из глиняной чашки, был, по сведениям Ведомства Справедливости и Спокойствия, одним из самых богатых людей империи. Кроме того, он имел двенадцать колен в родословной, что было весьма необычно для страны Великого Света, где государь Иршахчан отстригал родословные вместе с головами. Звали его Шимана Двенадцатый.
Шимана Первый, живший лет триста назад, законоучитель «красных циновок», был человеком ученым и тихим. Он все задумывался, как совместить божие всемогущество и существование зла и болезней, и решил, что в действительности никакого зла нет, а есть лишь морок, на который надо открыть людям глаза. К нему приносили больных, он клал их на красную циновку, объяснял, что здоровье – от бога, а болезнь – от собственного мнения, люди отбрасывали собственное мнение и уходили здоровыми. Многие, впрочем, оставались сидеть на красной циновке.
Через пять лет Шимана поссорился с одним из учеников. Тот лечил заблуждения не так, как надо, и насылал на учителя бесов. После этой ссоры строение мироздания радикально переменилось. Оказалось, что бесы и зло – вещь реальная, и весь телесный мир сотворен отпавшим учеником Всевышнего.
В качестве способа борьбы с мировым злом Шимана Первый рекомендовал соблюдать добродетель и не есть мясо, нечистый плод соития и вместилище родственных нам душ. Никаких более широкомасштабных мер он не предвидел.
Ладно. Шимана продолжал лечить больных с прежним успехом и умер ста восемнадцати лет.
Шимана Третий жил при Золотом Государе и учил, что не все телесное достойно проклятия. Так, из четырех разрядов зверей: млекопитающих, птиц, рыб и пауков – три сотворены господом, и только четвертый – дьяволом. А среди четырех разрядов людей: чиновников, монахов, простолюдинов и богачей – три сотворены Господом, и только четвертый – то бишь богачи – дьяволом.
Вскоре Шиману Третьего стали называть воскресшим государем Аттахом, и он сильно помог тогда другому воскресшему государю Аттаху. Оба воскресших заняли столицу и стали выяснять, кто воистину воскрес, а кто нет. Выяснилось, что воистину воскрес другой император Аттах, а Шимана – самозванец. Другой император Аттах не возражал против учения Шиманы и не отрицал за Шиманой способность творить чудеса, но упорно считал, что чудеса Шимана творит с помощью грамоты от дьявола. Поскольку грамота эта была записана на обратной стороне его кожи, с Шиманы содрали кожу вместе с грамотой от дьявола и распяли на Синих Воротах. Он потерял способность творить чудеса, сдох и засмердел.
Учение, однако, не пропало. Сектанты не раз поднимали восстания, а, впрочем, приписывали себе и чужие заслуги, так как члены тайных сект только при пытках страдают застенчивостью, а на рынке распускают такие басни, что слухи множатся, множатся, как усы у растения земляника.
Но как бытие моря не состоит из одних ураганов, так и бытие секты не состоит из одних бунтов, и в мирной жизни зачастую именно сектанты-то и занимались мелкой торговлей и контрабандой. Совершенная честность и взаимное доверие между рассеянными по империи «красными циновками» сильно способствовали прибыли. Учение о богачах, сотворенных нечистым, отошло на второй план, зато начались разговоры о том, что есть мясо – грех, обрабатывать землю и убивать при этом множество живых душ – тоже грех, трепать лен или дубить шкуры – тоже грех. Оказалось, что меньше всего оскверняешься телесным миром тогда, когда торгуешь или даешь деньги в рост. Притом же сектантов учили воздержанности и отвращению к роскоши.
Сект было много, и не все они богатели так благопристойно, как «красные циновки». Например, «дети старца» из горной провинции Кассандана имели обыкновение употреблять для общественного соития с небом травку «волчья метелка». Сами члены секты никогда, кроме как по торжественным случаям, травку не употребляли, не пили ни водки, ни вина. Однако в последнее время именно они поставляли священную травку мирянам.
А Шимана Двенадцатый занимался: тканями, рудами, печатным делом. Половина галунов империи изготавливалась на станках в действительности принадлежащих ему. При этом Шимане очень легко было откупиться от чиновников, и совершенно невозможно – от конкурентов, то есть от городских цехов. Народ в цехах наблюдал и доносил, а то и просто жег чужие станки. Чтобы избавиться от городских цехов, Шимана купил у покойного министра Ишнайи привилегию учреждать станки по деревням, где цехов не было, и теперь деревни провинции Чахар продавали галунов, шелка и кружев на двести миллионов в год, а половина крестьян сидела на красных циновках, так как работу в мастерских Шимана давал единоверцам.
Сразу после падения Ишнайи городские цеха подали Нану коллективную жалобу на Шиману, в которой требовали уничтожения деревенских цехов и искоренения вредной ереси.
Господин Нан полагал, что Шимана Двенадцатый о вере ничего не думает, а думает лишь о выгоде. По мнению господина Нана, навыгоднейшая финансовая операция, которую мог проделать Шимана в данных условиях, заключалась в следующем: не давать новых взяток ни Нану, ни другим чиновникам, – бездонная бочка сыта не будет. Уехать в провинцию Чахар, где, из-за непростительной халатности Ишнайи, половина крестьян сидит на красных циновках. Продать станки во всех остальных провинциях, купить оружие для красных циновок Чахара и заняться учреждением предприятия по имени государство.
Не получив до сих пор от Шиманы ни гроша, господин Нан имел все основания полагать, что дело обстоит вышеуказанным образом, ибо таковы уж законы хозяйства, велящие человеку вкладывать деньги в то, что в данный момент сулит наибольшую выгоду. Словом, Нан не имел причин жаловаться на Шиману, но имел причину его повесить.
– Да, – говорил меж тем Шимана, – множество моих братьев в Чахаре держит ткацкие станки по деревням. Как обрадовала их казнь мерзавца Ишнайи и государев манифест! Знаете, у одного от радости в саду ранней весной расцвели розы! И вдруг мы узнаем, что мастера чахарских цехов подали на нас жалобу, и ссылаются в ней на слова вашего манифеста о том, что «надобно сделать так, чтобы маленькие люди могли трудиться для собственной выгоды». Они утверждают, что маленький человек не получит выгоды, став рабом богача, и что маленькие люди могут защитить свою свободу, лишь объединившись в цеха. От этакой жалобы, – грустно заключил Шимана, – та вишня, что расцвела в саду, увяла.
– Цеха, – сказал хмуро министр, – это несчастье страны! Мелкий ремесленник стремится сделать поменьше и продать подороже. Крупный предприниматель, наоборот, ищет выгоду в том, чтоб продавать больше, хотя б и по дешевой цене. Маленький ремесленник с помощью цеховой монополии навязывает бесстыдные цены и держит товар, пока не найдет покупателя. Крупному торговцу выгодно продать товар побыстрей, чтобы опять вложить деньги в дело. Маленький ремесленник только в одном-единственном городе имеет защищенное цехом право работать мало, а получать много: это называется «привязанность к родине». Крупный предприниматель едет туда, где выгодней. Это называется – выравнивать цены, не прибегая к указам.
– Я высоко ценю вашу откровенность в разговоре со мной, – сказал Шимана. – Жаль, однако, что слова манифеста столь неопределенны. Правда ли, что в согласии с жалобами цехов вы издаете указ, подтверждающий старые запреты на станки и машины?
– Да, – сказал Нан. – В этом указе – окончательный и подробный перечень запрещенных машин. Почему бы не усовершенствовать станки так, чтоб они не попадали под перечень?
Глаза Шиманы забегали, как две мыши. Он надулся.
– Господин Нан, – сказал он, – у наших братьев есть угольные копи в Кассандане. Они очень глубоки и вот-вот остановятся из-за трудностей, связанный с откачкой воды, а паровой водоподьемник, который это делает, запрещен государыней Касией! Что же нам – по три сотни лошадей на руднике держать?
– От одного ученого чиновника, – прищурился Нан, – я слыхал, что этот водоподъемник – не очень-то хорошая вещь, потому что цилиндр в нем то нагревается, то остывает. А если цилиндр будет столь же горяч, как и пар, то отдача от машины возрастет впятеро. Он принес мне чертеж такой машины, и объяснил, что она может быть использована для чего угодно, не только для подъема воды.
Шимана надулся еще больше. Был этот чиновник и у него! Был и показал документ, по которому он признавался автором изобретения и должен был получать за него деньги, – десятую часть от угля, сэкономленного его машиной по сравнению со старой. Еще две десятых получали министры Нан и Чареника, которые тоже как-то при этом числились. Это, значит, опять: он, Шимана, ставит станки, а министр еще получает с этого проценты? А он хоть представляет себе, сколько стоит заменить хороший станок на лучший?
И Шимана сказал, как отрубил:
– Новшества – опасная вещь. Они придуманы для выгоды частных лиц и в ущерб общему благу.
Это было веское замечание, но господин Нан, словно и не расслышав таких слов, с наслаждением смаковал красноватый напиток в глиняной чашке.
– Восхитительно, – проговорил министр, – восхитительно. Что же это – травы, ягоды, листья?
Шимана очень вежливо улыбнулся.
– И листья, и ягоды, а главное – молитвы, сопутствующие заготовке. Это тайна моей паствы.
– Не стыжусь признаться, – произнес первый министр, – я просто очарован «красной травой». Право – пил бы ее каждое утро, если б был запас.
– О чем разговор, – вскричал Шимана, – почту за честь завтра же прислать хоть мешок!
Они поговорили еще немного. Министр распрощался и отбыл. Шимана Двенадцатый, один из богатейших людей империи и наследственный пророк «красных циновок», остался наедине с писаной красавицей, плетущей циновку. Он немного помолился, а потом сказал:
– Светлая матушка! Это человек похож на камень александрит, на солнце он синий, а при свече он красный! При мне он бранит монополию цехов, а с цеховым мастером он бранит монополию крупных торговцев! Почему бы не поднять восстание в Чахаре? Можно будет отделиться от империи и провозгласить эру Торжествующего Добра!
Писаная красавица молча плела циновку.
– Приходил ко мне вчера юноша, некто Ридин, – продолжал Шимана, – и спрашивал, правда ли, что тот, кто убьет врага веры, попадет на небеса? Вот Ридина-то завтра бы и послать с мешком «красной травы» в подарок.
– Треть трав нынешнего года, – сказала женщина – пустишь на семена. Построишь сушилки. Купишь в столице харчевни, и в провинции тоже. Повесишь вывески: «Здесь подают красную траву».
– Светлая матушка, – опешил Шимана, – что ты такое говоришь?
– Дурак ты, – сказала женщина. – Если первый министр будет пить «красную траву», через месяц вся столица станет ее пить. Будет тебе денег на паровой станок и на все прочее.
* * *
Господин Нан вернулся в свою резиденцию у Нефритовых Ворот. Спать он, однако, несмотря на поздний час, не собирался. Он спустился в кабинет, где со стен глядели головы священных птиц, соединных по двое цепочкой, зажег серебряные светильники на высоких одутловатых ножках, и, прежде чем сесть за бумаги, подошел поклониться полке с духами-хранителями.
На полке в западном углу стоял парчовый старец, яшмовая черепаха, еще двое богов пониже чином, и, как положено, маленькая куколка, – предыдущий хозяин «тростниковых покоев». Предыдущим хозяином был ныне покойный Ишнайя. Тут серые глаза Нана сделались совершенно безумными: жертвенная плошка перед куколкой покойника была пуста, а ведь, уходя, Нан оставил в ней целую корову, то есть коровай – ну да покойнику все равно.
Нан шарахнулся в сторону и схватил тяжелый подсвечник.
– For God’s sake, David!
Нан выругался и опустил подсвечник. Из-за бархатной портьеры вышел Свен Бьернссон. Выглядел он неважно, как говорится: штаны из ботвы, кафтан из листвы, а шапка из дырки.
– Ну и нервы у господина министра, – сказал Бьернссон и уселся в глубокое кресло о шести ножках.
«Так я и знал, что он жив», – подумал Нан.
– Как вы сюда попали? – осведомился он.
– Не бойтесь, господин министр, меня никто не видел. У вас есть служаночка Дира: прелестная девушка, но несколько ветрена. Я вот уж третий день состою ее временным женихом. А сегодня она оставила для меня калиточку открытой и послала записку, как пройти: она меня ждет через час.
Нан пинком распахнул дверь: никого. Министр подумал и вышел из кабинета, заперев его на ключ. Через десять минут он вернулся с большим узлом и корзинкой. В корзинке была маринованная утка, несколько лепешек «завязанных ушек», фрукты и сыр. Глаза Бьернссона при виде корзинки разгорелись.
– Вы не представляете себе, Дэвид, – проговорил он минут через пятнадцать, с набитым ртом, – какая это мерзость – голод! Признаюсь – это было основное ощущение, которое я испытывал последние несколько дней. Оно заслонило всю радость знакомства с вашей очаровательной страной.
– Да, – сказал Нан. – Мой секретарь был прав. Желтые монахи не совершают самоубийств. Так что вы увидели, вернувшись в монастырь?
– Как что? Кота. Того самого, которого Лоуренс отправил в дальнее путешествие.
– Глупости, – сказал Нан, – Я позавчера посетил настоятеля. Наверное, похожий кот, и все.
Бьернссон засмеялся:
– Конечно, господин министр, – если вам удобней считать кота похожим, то считайте.
– И что же вы сделали, увидав похожего кота?
– Да как вам сказать. Я вдруг понял: выправить документы, вызвать массу недоуменных вопросов у всякого там начальства сразу в двух мирах… Не лучше ли просто пропасть?
– Что вы сделали?
– Ну что… Нырнул с моста… Холодно, но вытерпеть можно… Переплыл поток. На первых порах мне повезло: я, знаете ли, угодил в толпу, которая грабила дом арестованного. Правда, – продолжал Бьернссон со смешком, – слухи о бесчинствах толпы сильно преувеличены. В этом доме мало чего осталось после стражников вашего Шаваша. Я так даже думаю, что народ пускают затем, чтобы никто потом не мог разобраться, кто сколько награбил награбленного.
Нан выразительно молчал. Бьернссон понял, что социологические отступления господина министра не очень интересуют, и продолжал:
– Меня приютили, – сказал Бьернссон, – я купил документы.
Министр усмехнулся.
– Дэвид, – сказал жалобно Бьернссон, – я влип! Я купил вот эти документы, а потом…
Первый министр взял протянутый ему лопух и присвистнул. Бьернссону продали лопух сектанта из «знающих путь», который год назад убил двух ярыжек, бежал и пропал: а вот три дня назад участвовал в ограблении усадьбы Таута-лаковарки.
– Три дня назад, – это были вы? – спросил хладнокровно Нан.
– Нет! То есть не совсем я. То есть… Нан, меня подставили.
Бьернссон горестно махнул рукой.
– Чего вы хотите?
– Государев знак. Бродячего монаха-хоя.
Министр кивнул. Империя не очень любила, когда подданные уходили в монастыри. Люди государственно мыслящие всегда называли монахов дармоедами и обманщиками и заставляли их держать специальные экзамены. Зеленые монахи-хои были одними из немногих, которым разрешалось после экзаменов нищенствовать.
– Зачем? – спросил Нан.
– Странный вы человек, Дэвид. Зачем? А ни зачем. Нашу лавочку, наверху, в еще одном небесном городе, прикрывают, забирают всех домой. А я домой не хочу, осточертело мне между банковской карточкой и выхлопной трубой. Свежим воздухом хочу подышать.
Бьернссон замолчал. Они глядели друг на друга: землянин в голубом кафтане, шитом круглыми цветами и жемчужными травами, и землянин в конопляной куртке с завязочками.
– Вы, Нан, – сказал Бьернссон, – очень рациональный человек. Я не знаю, что вы говорили в ночь переворота императору, но бьюсь об заклад, – это все звучало внятно и разумно. И бьюсь об заклад, что, пока вы говорили, вы не думали ни об Ире, ни о душе народа, ни о прочих вещах… Вам ведь очень неприятно, Нан, что Ир и прочие вещи существуют, так? И вы просто забываете об их существовании. Действуете так, как будто их нет. И что же из этого выходит? А вот вам пример, – полковник Лоуренс, будь ему земля, точнее, почва Веи пухом, – тоже попытался исходить из того, что такие вещи, как Ир, не должны существовать. И попытался привести мир в соответствие со своими представлениями. И что же из этого вышло? Бог знает что из этого вышло, – мы даже не представляем себе, ни вы, ни я, никто во всех трех мирах, что из этого вышло. А вы даже не хотите думать об этом. Вы надеетесь перевернуть судьбы страны, а сами не можете понять, что произошло с котом настоятеля.
– Произошло чудо, – спокойно сказал Нан. – Еще в этот день трое человек видели девятихвостую лису. Одной женщине явился призрак мужа, убитого месяц назад в Чахаре, и назвал имя убийцы. Арестовали у Красных ворот колдуна за незаконные заклинания… И еще девять или десять чудес. Итого, – тринадцать с половиной чудес, среднестатистическая норма.
Бьернссон засмеялся:
– Ну хорошо. Вы проведете реформы и совладаете с двенадцатью с половиною чудесами. А куда вы денете одно, настоящее?
Нан, скосив глаза, задумчиво изучал лопух, столь неудачно приобретенный Бьернссоном.
– Значит монастырь закрывают?
– Закрывают-закрывают, – замахал руками Бьернссон, – высокая комиссия нашла дальнейшие поиски бога нерентабельными, – все закрывают, даже базу в северном море. Впрочем, насчет базы ходят слухи, что ее согласен финансировать Клайд Ванвейлен, – знаете, тот, который четверть века назад первый грохнулся об эту планету. Он, оказывается, стал миллиардером, – видно, его здесь научили, как делать людям гадости.
Первый министр молчал, выжидая, что будет дальше. Его глаза цвета карамели смотрели вежливо и равнодушно.
– Кстати, о гадостях, Дэвид, поздравляю! Какие слухи бродят о причинах казни вашего предшественника! Самый рациональный – такой: государь и господин Нан обернулись котами и пошли гулять в Нижний Город, а министр Ишнайя, проведав об этом, чуть не загубил государя-кота.
– А что ж, по-вашему, произошло на самом деле?
– Полно, Дэвид! Это было неизбежно: все ползло и лопалось, нужен был козел отпущения.
И Бьернссон опять с наслаждением запустил зубы в лепешку «завязанные ушки».
– Ладно, – сказал Нан. – Я вижу, вам угодно, чтоб начальство вас считало мертвым. Вы прячетесь от своих, не от вейцев. Спасибо хоть, что меня сочли вейцем. А если я вас – выдам?
– Ой, – сказал Бьернссон, – если меня увезут с планеты, я проем все ваши потроха. Я буду везде кричать, что вас надо убрать любой ценой, я буду популярно разъяснять, что из таких, как вы, вырастают маленькие фюреры, я буду красноречивей Демосфена…
– А если я вас убью?
Бьернссон вздохнул.
– Я безобиден, Нан. Я ни во что не полезу. Может, даже пригожусь…
– Убирайтесь, – сказал Нан, – пока целы. Я не дам вам документов. Без документов вас зарежут в первой же канаве, а с документами – во второй, и я не желаю быть с этим связанным.
Бьернссон с некоторым трудом доел лепешку и стал глядеть на Нана грустными серыми глазами. Он не ожидал, что этот человек ему откажет.
– Ладно, – проговорил Бьернссон, – будем считать, что я зашел к вам, чтобы отдать вот это. До свидания.
И с этими словами Бьернссон вынул из-за пазухи тряпочку и протянул ее Нану. Нан развернул тряпочку. В тряпочке лежал длинный нож, а скорее талисман «рогатый дракон», с серебряным крючком для ловли демонов и тремя кисточками красного шелка, – тот самый, который у Нана украли две недели назад. Нан потерял дар речи.
– У министров, – усмехнулся Бьернссон, – я гляжу, скоропортящаяся судьба, и чиновнику эта штука нужнее, чем бродяге. Только не хватайтесь за него так же быстро, как давеча за подсвечник.
Встал и пошел к двери.
– Откуда это у вас? – заорал Нан.
– А у вас? Вам в Харайне дали лазер. По казенной надобности. Кто соврал, что его утопили варвары?
– Но тут же, – жалобно сказал министр, – какие-то биоритмы, датчики… Мне же говорили: из него могу стрелять только я. Совершенно надежно.
Физик засмеялся.
– Сразу видно, что вы не технарь, Дэвид. Иначе бы вы знали, что совершенно надежная техника отличается от ненадежной тем, что ненадежная отказывает регулярно, а надежная – в самый критический момент. Я могу вам изложить полсотни способов надуть этот датчик… И вот представьте себе, я иду по этому разграбленному саду, у костра сидит веселая компания, а над костром жарится бывший хозяйский баран. Меня страшно волнует этот баран, я подхожу, сообразив, что как представитель народа имею право на конфискованное. И вдруг я замечаю в руках главаря этот талисман, который я, если помните, сам оборудовал, и вся эта компания в демократическом порядке обсуждает, много ли талисман стоит, и умеют ли из него вылетать драконы.
Только тут Нан понял, как это физик пристал к воровской компании. В глубине души министр был совершенно поражен. «Этот человек мог бы не отдать оружие просто так, а пытаться меня шантажировать», – подумал Нан. «Либо он понял, что это кончилось бы для него очень плохо, либо, несмотря ни на что, у него есть особое чутье… Нет, он выживет и поумнеет».
Тут Нан вспомнил, что рассказывали об ограблении Тауталаковарки, и похолодел.
– Так, – cказал Нан, – значит, когда вас загнали в сарай…
– В лаковарку, – поправил Бьернссон.
– В лаковарку, – это вы расплавили стенку… А что сказали ваши товарищи?
Бьерннсон закусил губу.
– Право, – сказал он, – даже обидно! Наш главарь, Свиной Глазок, как и большинство здешних донов, пользуется репутацией колдуна. Я стоял в углу, а он размахивал факелом и произносил слова, которые я никогда не слышал, так что не знаю, относятся ли они к разряду собственно заклинаний или ругательств. Нервы у всех были взвинчены… Словом, решительно все мои товарищи рассказывают, что изо рта Свиного Глазка вылетели двадцать тысяч драконов и проели стенку. И первый, кто в это свято верит – он сам. И хотя мое авторское самолюбие оскорблено, я не протестую.
«Будем считать, что он прав, – подумал Нан. – Там, говорят, был сущий ад, сгорели все бочки с лаком, если хозяин, конечно, не прибедняется от налогов. Даже Шаваш ничего не заметил – или мне не сказал…»
Нан вздохнул, встал, подошел к каменному столику для лютни, нажал где-то сбоку и вынул из тайника – укладку, а из укладки – медальон. Медальон он протянул Бьернссону, тот стал внимательно глядеть.
– Сейчас по империи бродит человек. Ему двадцать два года, и он очень похож на человека, здесь изображенного. Он называет себя Киссуром, или Кешьяртой и считает себя сыном человека по имени Марбод Белый Кречет, хотя этого не может быть, потому что он родился через три года после смерти Марбода. Он был чиновником империи, доплыл до Западных Земель и был посажен за это в тюрьму: он, видите ли, не привез золота. Он не нашел золота, потому что золото выгреб Ванвейлен. Он не нашел разбитого корабля Ванвейлена, потому что у вас, слава богу, хватило ума предусмотреть такую возможность. Я хочу найти его. Я дам вам документы, вы будете бродить везде, кто знает…
– Экий, – сказал Бьернссон, вглядываясь в медальон, – Колумб.
Министр засмеялся:
– Вы неисправимый европеец. Этот человек мог плыть на Запад только за двумя вещами: за золотом для восстания или затем, чтобы отомстить за смерть своего отца соплеменникам Ванвейлена.
* * *
Бьернссон ушел. Первый министр посидел еще немного, покрошил зерна в чашку покойнику, взял фонарь и пошел мокрым ночным садом к третьем флигелю. Женщина при виде его вспорхнула:
– Господин министр! Я и не мечтала…
Нан швырнул ей записку, посланную Бьернссону.
– Убирайся!
Женщина удивилась:
– Ну и что? Это мой двоюродный брат.
Нан расхохотался.
– Я все знаю, – завизжала женщина, – ты не приходил ко мне полмесяца! Тебе теперь дочка Андарза нужна: а кто тебе пять лет дырявые носки штопал?
Министр сел за стол и начал что-то писать на розовом листе.
– Никуда я не уйду, – верещала женщина.
– Вот по этой бумаге, – сказал министр, – ты получишь в провинции Варнарайн десять тысяч. Тот человек, что выплатит деньги, оформит дарственную на дом и сад. Срок получения денег истекает через две недели. Если ты уедешь завтра же утром, то, может быть, успеешь их получить.
Министр повернулся и ушел. Женщина села на ковер и стала горько плакать. Утром она уехала.
* * *
А еще через три дня после разговора первого министра с Бьернссоном шайка Свиного Глазка была арестована по приказанию Шаваша. Этому многие удивлялись, потому что Шаваш в молодости знался со Свиным Глазком, и все считали, что людей Свиного Глазка теперь оденут в парчовые куртки, а шайку Бородатки, у которого со Свиным Глазком была вражда, ждет плохой конец. Но в парчовые куртки одели Бородатку, и Бородатка арестовал Свиного Глазка.
Едва Свиного Глазка ввели в кабинет, как Шаваш, выпучив глаза, заорал:
– Негодяй! Так это ты занимаешься колдовством и грабишь честных людей!
Свиной Глазок, совсем не ожидавший такого приема, застучал от ужаса зубами и что-то проговорил, но в этот миг один из охранников ударил его под ложечку.
– Громче говори, – закричал Шаваш, – ты на допросе, а не на рынке!
От таких слов разбойник растерялся и заплакал. Он-то надеялся, что рассказ о том, как он может колдовать, устрашит начальника, а вышло все наоборот! И Свиной Глазок решил выложить все, как было.
– По правде говоря, – пробормотал Свиной Глазок, – я вовсе не умею колдовать!
– Что ты врешь, – грубо оборвал Шаваш, – все твои люди видели, как ты в лаковарке вытряхнул из своего мешочка дракона!
Свиному Глазку продели руки в кольца и стали бить палками с расшепленными концами, и он показал следующее: «Всю свою жизнь я жил разбоем и обманывал своих людей относительно того, что умею колдовать. А мешочек, который я носил с собой под видом мешочка с костями бога Варайорта, я украл двенадцать лет назад из Харайнского храма. Когда нас заперли в лаковарке, я, не зная никаких заклинаний, воззвал к Варайорту так: „Ты знаешь, я не умею колдовать, но я всегда уверял, будто ты мне помогаешь. И если ты мне сейчас не поможешь, то репутация твоя потерпит ущерб, а если поможешь, я пожертвую в твой храм синюю кубышку“. Тут Варайорт сжалился и послал драконов».
Шаваш навострил ухо и спросил:
– Что за кубышка? Когда ты ее пожертвовал?
– Ах, – ответил Свиной Глазок, жмуря глаза, – я пожалел пожертвовать эту кубышку, и оттого-то меня и поймали. И если вы пошлете со мною двух стражников, я сочту за счастье преподнести эту кубышку вам, а не Варайорту, в надежде заслужить ваше расположение.
Синюю кубышку отрыли, но она не помогла Свиному Глазку. Шаваш каждый день допрашивал Свиного Глазка, куда девался новенький из шайки. У Свиного Глазка вместо шкуры остались одни лохмотья, но куда делся новенький, он не знал.
Что же касается соучастников ограбления, то каждый из них рассказывал о происшествии по-разному. Шесть разбойников рассказывали о драконах, один – о песчаной змее о шести хвостах, в точности такой, какою в детстве пугала его мать, а еще один утверждал, что перешел стену по радужному пути, – этот баловался учением сектантов Семицветной Радуги. «Это бесполезно, – наконец с тоской сказал себе Шаваш, – в лаковарке они видели нечто такое, что не отвечало их обыденной картине мира. И когда эта картина мира разбилась вдребезги, они схватились за представленья из сказок. Они ошибаются не сейчас, они ошиблись на самой первой стадии восприятия, потому что человек может увидеть только то, что научили его видеть окружающие. Как бы и со мной не случилось подобное!»
* * *
Свиной Глазок предлагал Шавашу большие деньги. Шаваш деньги взял, но побоялся, что если сослать разбойника в каменоломни, тот станет болтать о том, что спрашивал Шаваш. По приказанию Шаваша на Свиного Глазка оформили бумагу, что тот заболел и умер в тюрьме, а потом завернули в циновку и задавили.
Шаваш набрал оплавленного гранита в усадьбе Таута-лаковарки и снес эти камни одному человеку, у которого были всякие приспособления для насилия над природой. Тот сказал:
– Удивительный феномен! С одной стороны камню было холодно, а с другой – просто страшно как жарко.
– А человек так не мог сделать? – спросил Шаваш.
– Что вы! Вот эти белые глазки кипят при температуре в три тысячи градусов, а такой температуры не бывает даже в лучших печах под давлением. Разве только это сделал монах-шакуник: они, говорят, умели плавить гранит, как воск.
Шаваш рвал на себе волосы, что не арестовал разбойников сразу же, как уcлышал о чуде в лаковарке и узнал по приметам новенького пропавшего желтого монаха. Шаваш надеялся, что тот совершит еще несколько чудес, от которых ему будет трудно отвертеться, а тот взял и пропал: уже второй раз ушел из-под носа Шаваша, словно почуяв беду.
Больше всего Шавашу не нравилось, что этого человека никто толком не заметил. Скверно, если у человека есть оружие, которым можно разрезать каменную стенку. Но еще скверней, если человек при этом умеет отвести всем глаза так, чтобы его никто не заметил. «Не думаю, – сказал себе Шаваш, – что я первый занимаюсь расследованием таких чудес. А из того, что я не первый занимаюсь таким расследованием и ничего о своих предшественниках не слышал, следует, что я выбрал не самый простой способ самоубийства».
Глава пятая,
в которой Киссур, благодаря счастливой случайности, возбуждает сострадание прекрасной дамы
Надо признаться, что юноша по имени Кешьярта, или Киссур Белый Кречет, много чего не сказал государю.
Начать лучше, пожалуй, с того, что по законам империи Киссур не был сыном Марбода Белого Кречета, потому что у Марбода сыновей не было. Была вдова, Эльда-горожанка. Эту-то Эльду через два года после смерти Марбода взял в жены, по обычаю, его старший брат Киссур. Еще через год родился маленький Киссур, – и, опять-таки по обычаю, в таких случаях первенец считается родившимся от первого мужа.
Поэтому все в округе считали Киссура сыном Марбода.
Чиновники империи в это время разрушали незаконнорожденные замки, а наследников забирали в столичные лицеи, и там с ними обращались очень хорошо. Многим знатным это не очень-то нравилось. Мать Киссура, Эльда, однако, сама отвезла его в Ламассу, а на прощание повторила: «Хорошенько запомни, что твоего отца убил чиновник по имени Арфарра и человек по имени Клайд Ванвейлен, приплывший с западных островов и обратно не ехавший».
Киссур, теперь уже Кешьярта, учился очень хорошо. Он обнаружил, что многое, произошедшее в год смерти государя Неевика в Верхнем Варнарайне и многое, касающееся мятежа Харсомы и Баршарга, можно прочесть лишь в Небесной Книге. Он выхлопотал соответствующий пропуск.
Он узнал, что чиновник по имени Арфарра, убив его отца, стал араваном Нижнего Варнарайна, через год был клеймен и сослан, а в ссылке его отравили. Никаких упоминаний о Клайде Ванвейлене и его товарищах он не нашел: если они и были, то кто-то умудрился вымарать их из самой Небесной Книги.
Он обнаружил, что человек по имени Даттам, который был тоже замешан в убийстве, погиб через десять лет после смерти Арфарры, когда начались сильные гонения на колдунов вообще и на храм Шакуника в особенности.
Киссур стал искать путь в западные земли. Незаметно для себя он приобрел огромное количество сведений по истории. Эти сведения не во всем совпадали с официальной версией истории.
Официальная история исходила из идеи непреложного закона. Непреложный закон истории заключался в том, что государство, подобно луне или зерну, обречено на умирание и возрождение. Есть время сильного государства и время слабого государства. Когда государство сильно, чиновники справедливы, знамения благоприятны, урожаи обильны, земледельцы счастливы. Когда государство слабо, чиновники корыстолюбивы, знамения прискорбны, урожаи скудны, а земледельцы, будучи не в состоянии прокормиться, уходят с земли и пускаются в торговлю.
Но как только Киссур стал рыться в отходах истории, в донесениях и документах, эта общая идея как-то пропала. По документам, например, следовало, что мятеж Харсомы не удался не из-за непреложного закона, а из-за случайной измены; и притом Харсома мог еще победить, если бы его немного погодя не зарезал один из его охранников. Киссур также обнаружил, что и некто Баршарг мог бы многое натворить, если бы чиновник по имени Арфарра не провел Баршарга так же, как он до того провел короля Варнарайна.
Задолго, впрочем, до этого Киссур слышал уличные песни о справедливом чиновнике Арфарре и благородном разбойнике Бажаре. После знакомства с архивами он понял, что народ, действительно, прав, и еще подумал: «Хорошо, что Арфарра погиб. Потому что нельзя б было не отомстить ему за отца; однако ж и жить после этого было бы безобразием. А вот Ванвейлена убить надо».
Киссур подал доклад о том, как плыть в Западные Земли. Доклад сушили-вялили, потом отказали. То же – второй, третий раз. Киссур закончил лицей с отличием, получил мелкую должность в провинии Инисса, однако отпросился на год на родину.
Эльда посмеялась над его докладами и сказала, что не за должностью она его посылала в Небесный Город.
Тогда Киссур сказал, что съездит туда, куда она хочет: набрал людей, по-прежнему верных роду Белых Кречетов, снарядил лодку и уплыл на Запад. Через восемь месяцев он вернулся и сказал матери, что они, наверное, сбились с пути или еще что, потому что Западная Ламасса пуста и дика, и никаких родичей Клайда Ванвейлена там нет. Тогда Эльда сказала, что в двух днях пути есть двор Дошона Кобчика, сына Хаммара Кобчика, который тоже убивал Марбода, и что это лучше, чем ничего.
Киссур на это возразил, что он не хотел бы убивать сына за то, что сделал отец, и Эльда спросила, желает ли он, чтобы она рассказала об этом ответе соседям? Киссур попросил ее подождать, сошел во двор, оседлал коня и уехал. Те, кто встречали его по пути, видели, что ему не по душе эта поездка. Он вернулся через четыре дня, и Эльда ни о чем его не спрашивала. Тогда Киссур из хвастовства вытащил меч прямо в горнице и стал счищать то, что на него налипло. Эльда сказала, чтобы он перестал сорить в горнице, потому что она не хочет, чтобы хоть что-то от такого человека, как Дошон, было у них в доме, и что его отец в прошлые времена так бы не поступил. Киссур возразил:
– В прошлые времена об этом сложили бы песню, а меня за это повесят.
Эльда сказала ему, чтобы он не болтал глупостей, потому что здесь тоже живут не дураки, и ни один человек, из их людей или из людей Дошона, не упомянет его имени.
Киссур прожил еще три дня и уехал. По прибытии в столицу он подал доклад о своей поездке, умолчав лишь о том, что случилось с Дошоном. На следующий день его арестовали. Недели две он сидел в клетке, а потом его вызвали на допрос и следователь спросил, чего он, по его собственному мнению, заслуживает. Киссур сказал, что он ослушался закона и заслуживает казни топором или секирой. Cледователь удивился и спросил:
– Не лучше ли вам тогда вернуть золото?
Тогда Киссур тоже удивился и спросил, в чем его обвиняют. Тут-то следователь сказал, что в Западной Ламассе должно быть много золота. А Киссур золота не привез, стало быть, похитил государственное имущество, и, верно, с мятежным умыслом.
* * *
Следствие по делу первого министра Ишнайи велось спустя рукава. Множество людей, несомненно виновных, не были даже арестованы, другие выпущены при личном содействии господина Нана. Пришло распоряжение никого не клеймить: вообще у деловых людей сложилось самое благоприятное впечатение, и все говорили, что господин Нан не посадил никого, не будучи к тому вынужденным. Пострадали лишь люди, вовсе не имевшие заступников или вызвавшие чей-то личный гнев.
Заступников у Киссура не было, но и обвинений, собственно, тоже. О причинах опалы министра слухи ходили самые невероятные. Киссур, признав себя слугой министра с самого начала, не стал переменять показаний. Он-то считал, что в противном случае ему придется отвечать и за убийство Дошона, и за побег из тюрьмы, и за резню на островке. Он и не подозревал, что опала министра как-то связана с его спутниками, одного из которых он принял за вора, а другого – за его племянника или сына.
Почти год Киссура продержали в тюрьме, а к концу зимы отправили в Архадан, исправительное поселение в провинции Харайн.
Первый министр Нан разыскивал Киссура исподтишка и на воле, ему и в голову не пришло искать его среди арестованных слуг Ишнайи.
* * *
Порядки в Архадане были не из лучших с точки зрения справедливости. Начальник Архадана, господин Ханда, и жена его, Архиза, правили Архаданом без препон, привыкли смотреть на ссыльных преступников как на свою собственность и поэтому весьма их берегли. Ремесленников и мастеров, если хорошего поведения, они отпускали в соседний город на оброк. Киссура, как негодного к другим работам, определили в поле.
Плантация, куда его привезли, была небольшая: посереди два дома без мебели, где зимой держали людей, по тысяче штук, хижина счетовода с двумя яблонями, маленькая кумирня, сахарная мельница и завод; чуть дальше винокурня, где гнали сахарную водку. Господин Ханда был в этих местах государь земной и небесный: над плантацией, на склоне горы, высился его белый дом, окруженный стенами и садами.
Большинство товарищей Киссура в детстве кормилось с земли, им даже как будто нравилось в ней пачкаться. Киссур землю и мотыгу сразу возненавидел, и притом был к ней мало привычен. В первый день он не выполнил половины урока. То же повторилось и на следующий.
На третий день надсмотрщик-заключенный, из бывших чиновников и человек уважаемый, велел возместить недостающий урок палками. На четвертый день Киссур остался в бараке, сказав, что палки вещь позорная, а копаться в земле еще позорней. Тогда его спуcтили в каменный мешок и крикнули, что воды в мешке довольно, аж по пояс, а больше бездельникам ничего и не полагается.
После этого Киссур вышел работать на поле со всеми, и надзиратель решил, что он смирился.
Недели через три Киссура, вместе с другими, выкликнули на работу в хозяйский сад, связали цепочкой и повели через стены и ворота почти к самой вершине горы. Нужно было срубить старые дубы и еще кое-что: госпожа Архиза хотела в этом месте прямую аллею и павильончик рядом. Киссур махал топором до полудня, а потом сел передохнуть и глянул вниз.
Великий Вей! Какое диво!
А сад был и вправду очень хорош и устроен соразмерно, подобно целому миру, но миру, отличному от нашего. Вода в фонтанах стремилась вверх, а не вниз; ручные белки и олени бродили, как в золотом веке; на деревьях зрели расписные яблоки, а многочисленные озера, сверху, были как зеркала: сад умножался в них тысячекратно и становился безграничным. О, сад! Музыка услаждает лишь слух, живопись услаждает лишь зрение. Сад же, подобно самой жизни, действует на все чувства сразу: благоухают цветы, шепчут струи, рука скользит по шелковой траве…
Вдруг Киссур увидел: слева раздвинулись цветущие рододендроны, на полянку выехало несколько всадников, и впереди – женщина: в светлые косы вплетен жемчуг, алое платье заткано серебряными пташками.
– Ты чего расселся? – услышал Киcсур, и тут же надзиратель полоснул его кнутом: хотел показать перед хозяевами усердие. Киссур вскочил, поглядел на топор в своей руке и подумал: «Экий хороший топор!» Поглядел на кнут в руках надзирателя и сказал:
– Экий дурной кнут!
– Ты чё? – сказал надзиратель, отступая и меняясь в лице. Киссур размахнулся и, швырнув топор, попал надзирателю поперек шеи. Надзиратель упал на траву, дрыгнул ножкой и умер. Обух у топора был очень широкий, рана развалилась, топор подумал и выпал из шеи.
Всадники заверещали. Киссура схватили: он не сопротивлялся. Женщина в алом платье подъехала ближе. Киссур опустил глаза: ему было мучительно стыдно за тряпье, в которое он был одет.
– Тебя что, – спросила женщина, – первый раз в жизни ударили?
– Что ж, – возразил Киссур, – он бы меня рано или поздно забил! Я, признаться, не хотел так скоро мстить, но и не мог стерпеть такую несправедливость на ваших глазах.
Кто-то в свите засмеялся, а женщина удивилась, потому что у юноши был отменный столичный выговор. Она махнула рукой, – Киссура увели и заперли в подвале господского дома.
* * *
Женщину в алом платье, затканном серебряными пташками, звали Архиза. Она была женой начальника лагеря. Было ей лет сорок, но она была все еще очень красива: с тонким станом, высокой грудью, чудными пепельными волосами, с бровями, похожими на летящий росчерк пера; руки ее были, правда, несколько грубоваты.
В юности госпожа Архиза спала за занавесями с белыми глициниями, вызывая восхищение посетителей утонченностью и образованностью. Была, однако, женщиной рассудительной и на красоту свою смотрела как на капитал, который надо вложить в дело; денег не швыряла. Капитал уже несколько поблек, когда один из посетителей, господин Айцар, выдал ее замуж за довольно ничтожного человека, господина Ханду. Архиза похлопотала и выискала мужу его нынешнюю должность. Кроме того, муж с радостным трепетом обнаружил, что богатство его жены гораздо изрядней, чем ему представлялось, и не лежит в сундуках, а вложено весьма прибыльно. Жену свою он любил до безумия.
Архиза была женщина жадная и до имущества и до любовников: она-то и заправляла всем в лагере, а муж только ставил подписи.
На следующее утро господин Ханда за утренним чаем робко спросил у жены совета: что делать со вчерашним убийцей?
– Знаешь, милый мой, – сказала Архиза. – Я посмотрела его дело, – это странное дело. Никаких постраничных обвинений не предъявляли, сослали как слугу господина Ишнайи, за день до опалы принятого на службу. А между тем выговор у него отменный… Знаешь ли ты, что никто ничего не слыхал о сыне Ишнайи и его товарищах? Как бы этого мальчика не хватились в столице через год-другой.
Господин Ханда понурил голову и подумал: «Стало быть, этому вертлявому Мелие – отставка. Однако то, что она говорит о мальчишке, может быть, и правда».
Привели Киссура. Господин Ханда хмуро прошелестел бумагами и сказал:
– Я так и не понял из документов, за что тебя осудили?
– За то, в чем я не виноват, – ответил Киссур.
– Бедный мальчик, – сказала Архиза. – Ну, хорошо, допустим, господин Ишнайя провинился, но при чем тут другие? А за что наказан министр?
– Я не знаю, – ответил Киссур и замолчал.
«Это хорошо, – подумала женщина, – он умеет быть преданным и молчать».
* * *
Так-то Киссур был отправлен в канцелярию. Первый же отчет, им переписанный, чрезвычайно порадовал госпожу Архизу: какой отменный почерк! Госпожа поручила ему выправить докладную записку – не только почерк, но и слог оказался отменный.
Господин Ханда лично попросил его составить весьма сложную накладную. Киссур постарался. Господин Ханда прочел бумагу, усмехнулся и велел переделать все заново. То же случилось и со второй бумагой. Третью бумагу Ханда, поморщившись, принял. Один из секретарей Ханды полюбопытствовал, так ли плох новый писец. Ханда с досадой ответил, что все три бумаги составлены безупречно, но для юноши будет много полезней, если он не будет задаваться.
Прошла неделя. Господин Ханда взял молодого заключенного себе в секретари. Вскоре супруги уехали в город и секретаря увезли с собой.
Дом Архизы в городе Таиде был одним из самых блестящих, каждый вечер гости, изысканное угощение. Дамы ездили на богомолье и вместе пряли шерсть. Мужчины, цвет общества, славили добродетель и ум красавицы-хозяйки. Киссур, хорошо одетый, со своим столичным выговором и образованием, был всеми отмечен.
Прошло еще немного времени, и Киссур понял, что влюблен в Архизу: эта мысль ужаснула его.
Надо сказать, что Киссур очень мало знал женщин, а тех, которых знал, безотчетно воспринимал по образу и подобию своей матери. Несмотря на весь столичный лоск и тонкое обращение, Киссур детство все-таки провел в горном замке, а в столице многое пропустил мимо ушей.
Государыня Касия в свое время возобновила старую традицию: чиновники сидят за бумагами, а жены собираются в тростниковые хижины прясть шерсть. Это оказалась очень полезная традиция: чиновники не встречались друг с другом по видимости, а жены вместе пряли шерсть, и много было такой шерсти напрядено, что у самого Парчового Старца голова пошла бы кругом. На эти посиделки женщины приводили детей; а дети – своих товарищей из лицея. Потом стали приходить жены таких людей, которые уже и чиновниками-то не были, и установился совершенно особый тон: люди радовались жизни, и других радовали.
Киссур, однако, свободное время, как мы помним, проводил в архивах, а на посиделках не бывал. И зря не бывал. Ибо, скажем прямо, если бы он на этих посиделках бывал, то он и к Западным Землям поплыл бы на год раньше, и вернулcя бы героем, и сейчас был бы крупным чиновником, – может, даже начальником Западных Земель.
Надобно сказать, что госпожа Архиза ханжой не была, однако на первое место ставила интересы дела. Интересы дела требовали уважения к общеcтвенному мнению, а общественное мнение полагало, что жене равно необходимо и иметь любовников и говорить о добродетели, так же как мужу равно необходимо брать взятки и говорить о справедливости.
Киссур, почувствовав, что любит Архизу, не знал, куда деться, потому что Архиза была замужем и честной женщиной, и муж ее подарил Киссуру жизнь. Он подумал, что если выдаст себя хоть нескромным взглядом, то Архиза его тут же прогонит: а эта мысль была нестерпима. Он стал избегать званых вечеров.
Архиза меж тем чувствовала в юноше некоторую дикость, но полагала немыслимым целомудрие в человеке из окружения Харрады. Неужели этот столичный чиновник даже в несчастии пренебрегал провинциалкой! Поначалу она просто заигрывала с ним, но, видя холодность его, встревожилась. Постепенно прихоть ее превратилась в опасение, что она уже слишком стара. Она гляделась в зеркало, плакала, даже звала гадалку, и однажды сказала самой себе: «Я думала – это последнее увлечение, а это – первая любовь».
Одного из управляющих госпожи Архизы звали отец Адуш. В молодости он был мирским братом при монастыре Шакуника и одним из лучших тамошних колдунов. Киссур немного сошелся с отцом Адушем. Он и не подозревал, что этот человек – отец той черноволосой девочки, что всегда так быстро приносила ему документы в Небесной Книге.
* * *
Осень Бьернссон провел в западном Хаддуне, зимой он ушел на юг, в теплую Иниссу, а с началом весны его потянуло обратно в Харайн.
В пути, застеснявшись безделья, он прилепился к какой-то общине и ходил с ними на поля. Он думал, что будет непривычен к огородной работе, но работал сноровистей многих. Он оставался на земле еще полмесяца, зачарованно следя, как лезут из земли ростки: и сами ростки, и письмена трав и цветов были обыденным и дивным чудом. Ведь если человек строит дом или лепит горшок и ложится спать, то утром, проснувшись, находит последний кирпич на том месте, где он его положил, а если человек растит тыкву, польет ее и уходит спать, то, проснувшись, находит на тыкве вместо десяти листочков – одиннадцать, и большой желтый цветок с усиками или столбиком внутри. Разве ежедневное чудо перестает быть чудом?
Бьернссон был счастлив; ему не было дела до других, другим не было дела до него. Он не боялся ничего потерять, потому что ничего не имел. Он ночевал на сеновалах и под открытым небом; бывало, ученые чиновники почтительно приглашали его потолковать о сущности человека. Он уклонялся:
– Как только мы употребляем термин «сущность», мы перестаем говорить о сущности. Давайте лучше слушать, как говорят звезды и облака.
Он питался подношениями и тем, что выставляют у придорожных камней, как откуп домовым и разбойникам, разговаривал с крестьянами и часто отдавал им то, что подавали ему. Раньше Бьернссон всю жизнь куда-то торопился и спешил. Каждый день он давал себя клятву отдохнуть, но, едва он принимался отдыхать, каждая минута отдыха казалась ему смертным грехом. Теперь он был очень счастлив.
В первый раз он встревожился в середине лета. Он сидел в стогу с косарями. Он помог им косить, пообедал с ними ячменной лепешкой и лохматой травой, его разморило на солнышке, и он заснул. Через час он открыл глаза и услышал щебет птиц и шепот косарей.
– Говорят, – сказал один из косарей другому, – небесный государь недавно вызвал к себе Яшмового Аравана и послал его на землю собирать материалы для доклада, потому как время несчастий.
– Глупости, – возразил второй крестьянин, – мертвые не оживают, и Яшмового Аравана никто не убивал. Вместо него зарезали барашка и представили гнусному министру печень и сердце барашка. А Яшмовый Араван с тех пор бродит по ойкумене и творит чудеса: бывает, выйдет из леса к косарям, только взглянет – а копны уже сметаны.
Холодок пробежал по спине проснувшегося Бьернссона. Первый креcтьянин задумчиво поглядел туда, где золотились копны, и сказал:
– Да! Мы ведь думали, тут на неделю работы, – а управились за день.
Так человека в конопляных башмаках и куртке, подхваченной гнилой веревочкой, впервые назвали воскресшим Яшмовым Араваном: араваном Арфаррой.
* * *
В это время был такой случай. У одного горшечника из города Ланасса в провинции Харайн завелась дома нечисть. Днем еще ничего, а ночью – бегают, визжат, бьют готовый товар… Всех женщин перепортили. Горшечник ходил сначала к казенным колдунам, потом к черным – ничего не помогало. Как-nо утром соседка ему говорит:
– Знаешь, я вчера во сне побывала в небесной управе, и мне сказали, что у деревни Белый Желоб под именным столбом спит человек. Разбуди его и поклонись в ноги: он тебе поможет.
Горшечник тотчас же отправился в путь, и, действительно, нашел под именным государевым столбом человека. Тот сидел и ел лепешку. Горшечник рассказал ему все.
– А я-то тут при чем? – рассердился святой.
Но горшечник, как было велено, не отставал от него, плакал и стучался головой. Святой встал и пошел: горшечник быстро пополз за ним на коленях. Так он полз часа два. Наконец святому надоело, он сломил ветку, стегнул ей по земле и подал горшечнику:
– На! Пойдешь домой, отхлещещь этим каждую половицу: вся нечисть сгинет.
Горшечник поспешил домой, – и что же! С того дня все бесы пропали совершенно.
Этот святой был Яшмовый Араван.
* * *
А еще была такая история: одна женщина хотела пойти и поговорить с Яшмовым Араваном, он как раз недавно проходил мимо соседнего селенья. У околицы ее нагнал староста:
– Куда идешь?
Женщина распищалась, как мышь под сапогом, а староста вытащил плетку и погнал ее домой, сказав, что она и так задолжала кругом господину Айцару, и что дела ее поправятся скорее, если она будет плести кружева, нежели бегать за попрошайками.
Женщина вернулась, стала плести кружева и горько плакать. Вдруг все как-то прояснело перед ее глазами, и она услышала все те ответы, которые хотела услышать от Яшмового Аравана. Все было внятно и просто: а когда женщина очнулась, то увидела, что сплела кружев втрое больше, чем обычно.
* * *
Вскоре после этого случая Бьернссон проходил через маленький уездный городок, недалеко от Архаданских исправительных поселений, и остановился, не в первый уже раз, у крестьянина по имени Исавен, уважаемого одними за зажиточность, а другими за добропорядочность. Хозяин принял бродячего монаха радушно. Накормил, разговорился. В доме как раз гостило несколько чиновников.
– Жаль, – промолвил один из чиновников, – что человек, обладающий такими достоинствами, как ваши, уклонился от служения государю, – если бы вы служили государю, вам не пришлось бы довольствоваться чашкой риса.
Бьернссон возразил:
– А если бы вы могли довольствоваться чашкой риса, вам бы не пришлось служить государю.
Утром праведник засобирался в путь. Хозяин вынес ему на прощание корзинку с едой. Там лежали сладкие апельсиновые лепешки, козий сыр, кусок копченой свинины и еще много всякого добра, а поверх всего крестьянин положил красивый шерстяной плащ.
Бьернссон взял лепешки и сыр, а от остального отказался.
– Друг мой, – взмолился хозяин, – нехорошо отказываться от подарков, сделанных от чистого сердца. Ты делаешь меня плохим человеком в глазах деревни, скажут: «Праведник не взял у богача».
Бьернссон улыбнулся и сказал:
– Что ж! Я, пожалуй, попрошу у тебя подарок.
Крестьянин запрыгал от радости.
– У тебя, – продолжал Бьернссон, – есть сосед по прозвищу Птичья Лапка, и у него пятеро ребятишек. А он, за долги, уступает тебе поле. Оставь это поле ему.
– Вай, – сказал крестьянин, – это же глупость, а не человек. И я заплатил ему за это поле!
– Ты что, Бог, – сказал Бьернссон, чтобы называть человека глупостью? И разве я говорю, что ты не по праву берешь это поле? Я говорю – иди и попроси у него прощения, и от этого прощения урожай на твоих полях будет много больше.
И как праведник сказал, так оно и вышло.
Так-то Бьернссон стал просить подарки и проповедовать, что дело не в богатстве, а во внутреннем строении души. Бывает, что завистлив бедняк, бывает, что завистлив богач, а дурная зависть портит всякое дело. Бьернссон понял, что если он не будет говорить, то ему припишут чужие слова. А если он будет говорить, то его слова будут значить, может быть, не меньше, чем слова господина первого министра.
* * *
В начале осени в доме госпожи Архизы был праздник; катались на лодках, пускали шутихи. Праздник был отчасти по случаю дня Небесной Черепахи, отчасти по случаю приезда в город первого богача Харайна, господина Айцара.
Айцар был человек не слишком образованный, однако из тех, в чьих руках деньги размножаются, как кролики. В народе таких людей считают оборотнями. Киссур был среди меньших гостей, и Айцар ему страшно не понравился, – у этого человека были слишком широкие кости и слишком грубый голос, и само его занятие было не из тех, что способствуют добродетели и справедливости.
За ужином толстый Айцар принялся громко рассуждать о прошлогоднем государевом манифесте; ни для кого не было тайной, что сочинял манифест сам господин Нан. Манифест призывал подавать доклады о том, как улучшить состояние народа в ойкумене, и все знали, что лучшие из докладов будут оглашены через восемь месяцев пред лицом государя в зале Ста Полей.
Некоторые из молодых чиновников собирались писать доклады и, пользуясь случаем, стали расспрашивать господина Айцара о мнениях и предпочтениях первого министра, близкого его друга. Господин Айцар пожевал губами, ополоснул розовой водой руки из услужливо подставленного кувшина, и сказал:
– Господин Нан сведущ в классиках, уважает традицию. Посмотрите на манифест: какое богатство цитат! Ни одной строки, которая не была бы взята из сочинений древних!
Тут Киссур ступил вперед и громко сказал:
– Господин Нан невежественен в классиках, или нарочно перевирает цитаты. Вот: в своде законов государя Инана сказано: «Чтобы чиновник не мог взять у крестьянина даже яйцо, не отчитавшись во взятом. А в манифесте процитировано: «Чтобы чиновник не мог взять у крестьянина даже яйцо, не заплатив за взятое».
Гости замолкли. Господин Айцар насмешливо крякнул. «Какой позор, – подумал господин Ханда, муж Архизы, – так открыто обнаруживать свои отношения с моей женой». Один из местных управляющих Айцара изогнулся над его ухом и догадливо зашептал, что новому любовнику госпожи Архизы, видать, ревность что-то подсказывает в отношении Айцара, но такт мешает бросать при гостях обвинения, которые заденут честь любезной начальницы.
Но господин Айцар был человек умный. Он поглядел на Архизу и на Киссура и подумал: «Госпожа Архиза сегодня очень хороша, как бывает женщина уже любимая, но еще не любовница. Видимо, люди менее проницательные боятся объяснить мальчику, в чем дело, опасаясь мести женщины добродетельной, а люди более проницательные боятся объяснить мальчику, в чем дело, опасаясь его самого. У этого юноши глаза человека свободного, и понимающего свободу как право на убийство. Плохо перечить человеку с такими глазами».
После фейерверка господин Айцар подозвал Киссура и сказал:
– Молодой человек, окажите мне честь: соблаговолите прийти ко мне завтра в начале третьего. У вас, говорят, отменный почерк и слог?
Слова эти слышала госпожа Архиза. Она побледнела и заплакала бы, если б слезы не портили выраженье ее лица.
* * *
На следующее утро господин Ханда, муж Архизы и начальник лагеря, вызвал Киссура к себе. Он вручил ему бумагу: указ об освобождении за примерное поведение.
– Вы так добры ко мне – как отец к сыну! – сказал Киссур, кланяясь.
Господин Ханда закусил губу и побледнел, но, когда Киссур выпрямился, лицо у начальника лагеря было опять очень вежливое. Он протянул Киссуру большой пакет с печатью и сказал:
– Этот пакет я должен доставить с верным человеком в пятнадцатый округ. Времена нынче опасные, на дорогах много разбойников, а о вашей храбрости слагают легенды. Не согласитесь ли вы взять на себя это поручение?
Киссур поклонился и сказал, что тотчас же отправится в путь. В канцелярии ему выдали подорожную, суточные и этакий кургузый меч.
У ворот управы он, однако, столкнулся со служаночкой Архизы: госпожа просила его зайти попрощаться. Киссур покраснел и заволновался, но не посмел отказать.
Госпожа Архиза приняла его в утреннем уборе: сама свежесть, само очарование, сквозь белое кружево словно просвечивает розовая кожа, пепельные волосы схвачены заколкой в форме листа осоки. Киссур взглянул на эту заколку, и ему показалось, что она воткнута в его сердце.
Подали легкий завтрак, к завтраку – чайничек с «красной травой». «Красная трава» была модным питьем. Моду пить ее по утрам ввел господин первый министр, все бросились подражать, и Архиза очень завидовала «красным циновкам», которые невероятно обогатились, торгуя заветным напитком.
Поговорили о том, о другом. Архиза заметила, что чашка Киссура стоит полная.
– Вам не нравится «красная трава»? – спросила она.
– Признаться, нет, – покраснел Киссур. Он думал о другом.
«Да – подумала Архиза, – он пользуется любым поводом выразить свое несогласие с первым министром».
– Ах, друг мой, – сказала Архиза, – сердце мое сжимется при мысли о вашем отъезде.
– Отчего же? – спросил Киссур.
Архиза покраснела.
– Дороги неспокойны, – прошептала она. – А потом, у вас столько завистников.
Тут Киссуру принесли чай, и маленькая чашка утонула в его руке. Архиза прикрыла глаза и представила себя на месте чашки. Щеки ее запылали: она была на диво хороша в эту минуту. Она впервые любила. Она не знала, что делают в таких случаях. Его нет – и сердце разрывается от тоски. Он приходит, сидит среди гостей: сердце тут же боится, что он пришел по долгу службы и смотрит на нее, как на начальство.
Но сегодня она полагала юношу своей собственностью. Айцар, что-то учуяв, вчера просил Киссура себе. Архиза взамен отдала ему заключенного, весьма сведущего в механике, устроившего ее новую сахарную мельницу. Такие люди теперь приносили наибольшую прибыль. Архиза имела все основания считать юношу своею собственностью: то, за что ты заплатил, тем ты владеешь, – разве не так, особенно сейчас?
– Как вас зовут на самом деле?
– Киссур.
– Киссур … Это не из имен ойкумены.
– Мои отец и мать были варвары, из Верхнего Варнарайна.
Они спустились в сад, чудный сад госпожи Архизы.
Архиза, в бело-розовом платье новейшего фасона, подобного стиху Ферриды, полному намеков и обещаний, перебежала через радужный мостик, глянула вниз. Сердце ее затрепетало. «Несомненно, он любит меня, ибо только любящий может быть так слеп, – думала она, не применяя, однако, этих слов к себе. – Он принимает меня за добродетельную провинциалку…»
Тысячи мыслей вспыхивали в ее голове: попросить его не уезжать сегодня, тихонько сунуть в руки записку… в записке ключ и просьба прийти вечером во флигелек. Во флигельке ужин, накрытый для двоих, убранная постель… Нет! Такое дело сойдет с неопытным юнцом, но не с человеком из окружения Харрады: он сделает со мной все, что хочет, – но куда денется его любовь?
Они остановились перед зеленой лужайкой. Вверх поднимались огромные стрелы тяжелоглаза, усеянные тысячами белых и розовых цветов. На самом деле то была не лужайка, а озерцо. Тяжелоглаз цвел два-три дня в году: в эти дни стебли и корни вбирали в себя углекислый газ и всплывали, озеро превращалось в лужайку, плотно заставленную тяжелыми бело-розовыми копьями. Едва лепестки опадали, корни наливались крахмалом и вновь тонули. За цветущими стеблями был виден островок с разрушенным храмом, опутанным павиликой и розами. За храмом в лачужке жил нанятый за особую плату отшельник. Запах тяжелоглаза сводил с ума.
– Какие красивые розы, – сказал Киссур.
– Правда? Решитесь ли вы, однако, сорвать хоть одну?
Архиза вскрикнула. Киссур спрыгнул в воду под лужайкой: зеленые листья затрещали, белые и розовые лепестки разлетелись по воздуху. Через десять минут юноша, весь облепленный и мокрый, выскочил на берег. В руках его была огромная белая роза. Архиза вдела цветок в волосы, и капли воды заблестели в них, как бриллианты.
– Великий Вей! – вскричала Архиза, – но в каком вы виде! Разве вы можете ехать курьером! Есть ли у вас другое платье?
Киссур потупился. Другого платья и вправду не было и, что хуже всего, не было денег.
– Исия-ратуфа! – продолжала женщина, – ваши волосы совсем мокрые. Нет, решительно вам нельзя ехать сегодня. Пойдемте, здесь есть флигелек… Я поселила их из милости, старичок и старушка.
Они прибежали во флигель, уютный, как чашечка цветка. Старичка почему-то не было, Архиза, немилосердно краснея, что-то прошептала старушке, та заквохтала и побежала куда-то.
– Переодевайтесь же, – теребила юношу Архиза, – сейчас принесут другое платье. Что скажут, увидев вас в таком виде. Ах, я погибну в общем мнении!
Киссур нерешительно отстегнул меч и поставил его к стене. Женщина стащила с него кафтан и стала расстегивать рубашку. Киссур в смущении шагнул назад и сел на что-то, что оказалось широкой постелью. Архиза перебирала его волосы: запах белых и розовых лепестков был упоителен. «Нет, – я не отпущу его, – подумала Архиза. Я знаю – муж замыслил какую-то гадость по дороге».
Она вынула из рукава бумажку с ключом от этого самого флигеля.
Киссур глядел на нее, с одеяла, расшитого цветами и травами, сверху вниз. Ах, как она была хороша: брови изогнутые, словно лук, обмотанный пальмовым волокном, и взгляд испуганной лани, и платье, подобное солнцу, луне, и тысяче павлинов, распустивших хвосты, – красота, от которой падают царства. Киссур встряхнулся. Ему нужен был, перед поездкой, совет от кого-нибудь живого: от меча, коня или женщины.
– Госпожа Архиза, – сказал он робко, – ваш муж велит мне ехать прямо сейчас. Но утром я опять получил письмо от господина Айцара: он просит меня быть у него днем. Стоит ли мне остаться?
У женщины перехватило дыхание. Что скажет Айцар людям, узнав, что она спуталась с человеком из окружения поверженного министра! Что скажет Айцар Киссуру, поняв, что тот любит ее как добродетельную жену…
Архиза выпустила, словно очнувшись, ворот рубашки.
– Что ж, – сказала она с упреком, – вы все-таки робеете перед ним!
– Ничуть, – возразил Киссур, – этот человек глядит на весь мир, как на монетку в своей мошне (на самом деле господин Айцар глядел так только на госпожу Архизу, имея все к тому основания), а кончит он плохо, ибо богатство, не растраченное на подаяние и наслаждение, непременно приносит несчастье.
Женщина заплакала.
– Прошу вас, – сказала она, – не ходите к нему! Это дурной человек, страшный человек. Он с детства не сделал шагу без гадкого умысла. Он сеет самые гнусные слухи; он очень зол на меня. Муж вынужден ему угождать. Признаться ли – он и меня преследовал гнусными домогательствами. Я выгнала его, и с тех пор он от домогательств перешел к клевете.
Глаза Киссура налились кровью, он вскочил и вцепился в свой кургузый меч.
– Я пойду и поговорю с ним, – зашипел Киссур.
Архиза побледнела и упала бы, если бы Киссур не выпустил меча и не подхватил бы ее. Теперь она висела у него на руках, а он стоял без кафтана и в расстегнутой рубашке, а старушка с одеждой все чего-то не шла.
– Великий Вей! Вы сошли с ума! Вы погубите мою репутацию и счастие мужа. Я запрещаю вам идти!
– Нет, я пойду!
– Да что дает вам право заботиться обо мне?
– Что дает мне право? – вскричал Киссур. – Моя…
И бог знает, чем бы он закончил фразу, – но тут во флигель вошел господин Ханда. Госпожа Архиза вскрикнула, Киссур отскочил в угол. Начальник лагеря молча оглядел красного, взъерошенного юношу, свою прелестную жену, откашлялся и сказал, что лошади давно готовы и что молодой чиновник должен ехать.
* * *
А в столице месяц шел за месяцем; минула церемония летней прополки риса, и сбор урожая, прошла церемония в честь осенних богов, начались зимние дожди, каналы вздулись, и жители столицы прыгали по соломенным мостовым на высоких деревянных поставках. Вдвое больше стали арестовывать ночных пьяных, чтобы было кому утром чистить мостовые. Наконец наступила весна, в государевом саду заволновались поля крокусов, семи цветов и семидесяти оттенков: много ли, мало взять слов, – красоту этого все равно не опишешь.
Государь Варназд отдал Нану в жены свою троюродную сестру, красавицу семнадцати лет. У нее были маленькие ручки и ножки, и когда жениху показали ее брачное стихотворение, Нан сказал, что оно написано без грамматических ошибок. Больше он ничего не сказал.
По некоторым личным причинам Нан предпочел бы жениться на дочери Андарза, но ему льстило, что его сыновья будут принадлежать к императорскому роду. Из-за ее высокого положения Нан пока не брал никаких других жен. Впрочем, Нан ее нежно любил. В начале весны она принесла Нану наследника, и министр два дня плакал от счастья, а на третий день подписал указ, избавляющий от налогов деньги, вложенные в расширение хозяйства.
Шаваш теперь стоял во главе всего секретариата первого министра. Он редко появлялся в зале Ста Полей и никогда не возглавлял церемоний. Деятельность его была совсем незаметна. Господин Нан любил повторять: «Самое главное – иметь систему и не иметь ее. Самое важное – иметь правильных людей в правильных местах. Ибо любая реформа бессильна, если чиновники недоброжелательны, и любое начинание успешно, если заручиться поддержкой друзей». В результате незаметной деятельности Шаваша люди, верные Нану, становились во главе управ и провинций, а люди, неверные Нану, оказывались втянуты в довольно-таки гнусные истории.
Дело с женитьбой Шаваша на дочери министра финансов Чареники продвигалось скорее медленно, чем быстро, и было заметно, что Чареника хочет этой женитьбы больше, чем Нан. По совету Нана Шаваш оказался замешан в нескольких скандальных происшествиях в домах, куда мужчины ходят изливать свое семя. Стали говорить, что это человек несемейный, а так: которая под ним лежит, ту он и любит. Чареника, однако, продолжал свататься.
* * *
Всю весну, несмотря на постоянные хлопоты, Шаваш навещал домик из шестидворки у Синих Ворот, где по утрам был слышен, словно в деревне, стук подойников и хруст зерна в зернотерке, где пахло парным молоком и где по столбикам галереи вились, раскрываясь к утру и увядая к вечеру, голубые незатейливые цветы ипомеи.
– Посмотрите, роса на этих бледных лепестках блестит поутру совершенно так же, как роса на золотых розах государева сада, – говорил Шаваш.
– Ах, – отвечала Идари, опуская головку и закрываясь веером, – я не пара для вас, сударь! Вы видитесь с государем, а я – дочь преступника.
Шаваш являлся с приличествующими подарками. Женщины дивились: да он и сам дивился себе в душе. Иногда Шаваш приносил с собой бумаги, из числа более невинных, и работал с ними в нижней комнате, рядом с жаровней, кошкой и тремя старыми женщинами, склонившимися над вышивкой и плетеньем.
Тогда Идари оставалась за решетчатой перегородкой и читала ему что-нибудь или пела.
Шаваш приносил в дом разные сладости, а на весенний праздник второй луны принес двух кроликов, и сам зажарил их с капустой и травами так, как то делали богатые люди в его деревне: и долго смешил всех, рассказывая, как его однажды позвали готовить такого кролика и как он его украл.
Наконец Шавашу это надоело, и он дал тетке Идари и на юбку, и на сережки. Вечером, прощаясь, тетка раскланялась с ним не у наружных дверей, а на пороге нижней залы, и убежала в кухню, где подопревало тесто. Шаваш осторожно шагнул в сад, схоронился под скамьей в беседке, а ночью залез к Идари в окно, измяв и оборвав цветы ипомеи, и сделал с ней все то, что полагается делать мужчине и девушке после свадьбы и что не полагается делать до свадьбы; и Шавашу это время показалось много лучше, чем то, что он проводил в домах, где мужчины сажают свою морковку. А Идари заплакала и сказала:
– Ах, сударь, молва сватает вас и Янни, дочь министра финансов.
– Я поступлю так, как ты скажешь, – проговорил Шаваш, целуя мокрые от слез ресницы.
– Сударь, – отвечала Идари, – я бы хотела, чтобы вы взяли замуж Янни. Мы с ней подруги с детства, и шести лет поклялись, что выйдем замуж за одного человека. Она призналась мне в планах, которые имеет ее отец, и я сказала: «Вряд ли такой человек, как Шаваш, удовольствуется одной женой». А она заплакала и ответила: «Ты права, и я думаю, чем брать в дом нивесть кого, лучше взять второй женой верную подругу – меньше будет скандалов. Вот если бы ты вспомнила наши детские клятвы и согласилась бы стать второй женой».
* * *
Обе помолвки состоялись в один и тот же день. У Чареники были плохие соглядатаи, и он не знал, что Шаваш путался с одной из невест до свадьбы.
Через неделю император подписал указ о создании Государственного Совета, и Шаваш вошел в совет одним из младших членов, оставаясь одновременно главой секретариата Нана.
Через месяц Шаваш на вечере у министра полиции Андарза пожаловался, что, оказывается, отец его второй жены – государственный преступник. Еще через две недели Шаваш выехал с особой бумагой от господина Андарза в исправительное поселение Архадан, в провинции Харайн. Он ехал с неохотой и тосковал о розовых ипомеях в домике у Синих ворот.
Отъезд Шаваша породил множество слухов. Консервативная партия видела в этом отъезде тактичное предупреждение самым горячим головам. Люди из «задиристой клики», наоборот, уверяли, что услуги, оказанные Шавашем в Харайне, будут столь значительны, что послужат поводом для экстраординарного назначения.
Так или иначе, Шаваш должен был вернуться к зиме, к поре, приличествующей свадьбам и докладам, подаваемым императору, и друзья и доброжелатели Шаваша в столице следили за отделкой его прелестного нового загородного дома.
Глава шестая,
в которой Киссур встречается с таинственным отшельником и размышляет о том, как восстановить справедливость
Киссур ехал быстро, имея привычку спать в седле. Дорога до города Седды была действительно неблизкая. В первые дни Киссур ехал по ухоженным местам. Куда ни глянешь – мужчины работают в поле, а женщины сидят на пороге или под большим дубом и плетут, плетут кружева. Опустят на мгновение коклюшки, откусят рисовую лепешку и опять плетут. Киссур дивился трудолюбию здешнего народа: сердце радовалось.
Потом пошли предгорья Голубого Хребта, который разделяет провинциии Чахар и Харайн, – темные ущелья, горные болотца с тростниками… Людей стало меньше, а бесов и прочей нечисти, наоборот, больше. Как-то ночью Киссур ехал по болоту, образовавшемуся после сошедшего ледника, и со всех сторон к нему сбегались голубые огоньки душ, красивые, как павлиньи глаза с платья госпожи Архизы.
Жители империи были смирны и недрачливы, как при жизни, так и после, – в Горном Варнарайне у покойников был совсем иной нрав! Знатные мертвецы являлись обратно в виде черных вихрей, и ходил слух, что если человек сумеет вонзить в середину вихря меч, то на мече останется кровь и сила покойника перейдет в него.
Однажды, когда еще Киссур едва доставал головой до стремян коня, он играл на коне в мяч. Другие мальчишки играли битами, а Киссур выпросил у матери отцовский меч. Вдруг с дальнего холма к ним направился черный столб: мальчишки бросились врассыпную, к Киссур поскакал навстречу покойнику, размахнулся и нанес удар. Меч вырвало из рук; коня Киссура, дивного коня с умными глазами и длинной челкой, бросило в ближайший ручей, а самого Киссура только повертело в воздухе и шваркнуло в ивовый куст.
Покойник страшно рассердился: поснимал крыши с домов, ощипал в одном дворе всех кур и вывернул донышком наружу священный котел под катальпой.
Через неделю дядя Киссура пришел за советом к старой женщине и сказал, что, скорее всего, покойник был не простой, а отец Киссура, и стоит ли об этом говорить самому мальчику?
– Думается мне, – ответила старая женщина, – что Киссур сам понял, на кого замахнулся. Я бы на месте Эльды не толковала бы ему столько об отце.
* * *
Начальник горного округа, к которому послали Киссура, принял его весьма радушно. Сын его, Мелия, сказал Киссуру:
– Послезавтра я устраиваю в горах охоту. Если вы, человек из столицы, не побрезгуете нашим ничтожным обществом, мы будем счастливы полюбоваться вашим искусством.
Мелия был юноша мелкий и гадкий, души у него было на самом донышке, а ума и вовсе не было. Он, однако, умел говорить комплименты дамам и делать бескорыстные гадости.
Охота вышла отменной: пестрые перья так и летели перед всадниками. Киссур, без сомнения, был лучшим из охотников, даже Мелия не мог с ним тягаться. Мелие было досадно, он думал: ну, конечно, где нашим глупым горам равняться с раздольями государева парка. Досада его проистекала оттого, что он сам имел счастие пользоваться вниманием госпожи Архизы прошлой зимой, а в пакете, который привез Киссур, господин Ханда написал, как обстоят дела, и выказал волнение за жену, которая связалась с врагом первого министра.
На привале расположились у старого храма, – к деревне спускалась хорошо утоптанная тропка, далеко внизу золотились на солнце стога. Киссур спросил, чей это храм. Мелия скривился и сказал, что вообще-то храм посвящен местному богу-хранителю тюрем.
– Но двадцать лет назад неподалеку убили аравана Арфарру. Вскоре после этого одна баба подбирала колоски и присела под горой отдохнуть. Вдруг навстречу ей из лесу выходит призрак в лазоревом плаще, шитом переплетенными ветвями и цветами, и говорит: «Я, араван Арфарра, за верность государю пожалован почетною должностью бога-покровителя пыток, а жить мне определили вот здесь» – и показал храм на горе. Баба заплакала, а призрак в лазоревом плаще сказал: «Не плачь. Настанут скверные времена, я вернусь на землю и наполню корзины бедняков головами богачей. Но для этого вы каждый день должны кормить меня и почитать, ибо даже боги не оказывают благодеяний без подарков». Тут призрак исчез. Баба очнулась – глядь, а ее корзинка полна колосьями доверху. Перевернула корзинку, и из нее выпала большая яшмовая печать. Печать носили из дома в дом, пока не конфисковали, а жители деревни повадились ходить в храм и оставлять на ночь горшки с едой у околицы.
– И что, – справился Киссур, – пустеют горшки-то?
– Отчего же не пустеть? – возразил Мелия. – В этих горах и разбойники, и отшельники водятся. Подойдут к дому, увидят горшок – поедят и уберутся, а нет – так еще влезут и хозяев с перепугу порежут.
* * *
Киссур выменял в деревне овцу, взрезал ей горло и заночевал в храме, надеясь на встречу с призраком. Но то ли покойника не было дома, то ли он гнушался Киссуром.
Утром, на обратном пути, Киссур спросил Мелию:
– Я заметил, что в храме все ленточки и пища очень старые, не меньше двух месяцев. Тропа заросла травой. И плиту под алтарем разорвало.
Один из спутников засмеялся.
– А, – сказал он, – теперь новая вера. Месяца два назад косили здесь сено. Вдруг вышел из лесу оборванец, помог. На следующий день бабы пошли в храм молиться и увидели вот эту самую разорванную плиту. Этот оборванец уже третий месяц как шляется по провинции, называет себя воскресшим Арфаррой, но ничего, к мятежу людей не склоняет.
Мелия задумчиво сказал:
– Я видел этого человека. Отец приехал в деревню благословлять рассаду; там как раз был этот человек. Накануне у отца украли церемониальную чашу. Отец позвал крестьян и проповедника, и пригрозил, что накажет всю общину, а побродяжке сказал, что это из-за его проповедей народ не доверяет установленным церемониям и велел отыскать вора. Побродяжка собрал всех крестьян, дал каждому по палке и сказал, что у вора за ночь палка вырастет на четверть.
– И что же, – выросла?
– Нет, но вор не спал всю ночь и в конце концов обрезал палку настолько, насколько она должна была вырасти.
– Это вряд ли можно назвать чудом, – засмеялся кто-то.
– Несомненно, – сказал Мелия. – Однако если б эти палки роздал я, или мой отец, или ты, никто бы не поверил, что они вырастут.
– Трудно будет, – сказал кто-то, – этому человеку найти общий язык и с господами и со слугами. Твоего-то отца он утешил, а что твой отец сделал с вором?
– Простил, – сказал Мелия, и от досады засунул палец в рот.
Ох! Ну зачем его, Мелию, понесло рассказывать эту историю! Неуемный его язык! Дело в том, что еще года два назад отец его вынул из казенной чаши самоцветы и вставил вместо них вареные камни. Крестьяне – они ведь не понимают, настоящий камень или вареный, а духам урожая все равно. Из-за этих подменных камней отец и не захотел звать официального сыщика: у казенных людей на такие дела крысиный нюх.
И вот вора нашли, отец уже собрался его вешать, а яшмовый араван вдруг возьми и скажи: «А ведь эту чашу воровали дважды: видишь поддельные камни? Друг мой, если ты не простишь второго вора, придется мне отыскать первого». Ну откуда, мать твоя баршаргова коза, у этого оборванца умение отличить вареный камень от настоящего?
– Да, – сказал один из спутников, – стало быть, правда, что по слову этого оборванца из камней капают слезы, потому что если уж твой отец по его слову кого-то просил, то куда там камням с их слезами.
Юноши засмеялись и стали наперебой рассказывать байки о чудесах, потому что, действительно, чудо важная эстетическая категория, хотя верить в чудеса чиновнику неприлично. Киссур слушал их молча: он не находил ничего удивительного в том, что убитый колдун воскрес, и только думал, что ему все же придется убить мертвеца.
* * *
В середине осени Шаваш прибыл в Харайн: он ехал инспектировать исправительные поселения на дальнем юге провинции. В городах его принимали отменно. Подарки так и сыпались, чиновники только и говорили о блестящих способностях и безупречных манерах нового члена Государственного Совета.
Приехав в столицу провинции, Шаваш вдруг вспомнил о виденной им два года назад дочке убитого судьи: нежная была красота. Шаваш полюбопытствовал. Чиновник доложил, что вдова умерла полтора года назад, а дочка пошла по рукам. Редкого образования барышня, все плакала и бранила гадалку, которая обещала ей в мужья блестящего столичного чиновника.
В этот день наместник Ханалай устроил для Шаваша пирушку, позвал лучших девиц. Девицы закидали Шаваша цветами, шутили, пели – молодой чиновник сидел грустный, не выбрал ни одной. Девицы тоже жутко опечалились, – ведь удайся им разохотить инспектора, то и цена была бы им отныне выше.
Наутро Шаваш вышел на плоскую крышу управы наместника. Уже выцвели звезды, пропал утренний туман, – словно сдернули покрывало с разноцветных домов. К закрытым воротам Верхнего Города собирался народ; важный чиновник выкатился к статуе государя Иршахчана оповестить бога о начале дня, и вороны уже слетались к алтарю на ряженку и рис, принесенные в жертву.
На причале рыбаки выгружали рыбу, ждали инспектора. В Нижнем Городе коньки крыш из крашеного пальмового листа чуть просвечивали сквозь зелень садов, за рекою шли сады и поместья уважаемых людей, и там же – священная дорога к желтому монастырю. Неприятная дорога, – поля быстро кончались, начинались исцарапанные скалы, лощинки с мутной водой, с ошером и камышом, и котловина. Над котловиной – небо, в котловине – озерцо, а на склоне, на полпути к небу, еще полгода назад, торчал монастырь.
Теперь монастыря не было: монахи исчезли из него неизвестно когда, а потом в провинции случилось очередное землятрясение, монастырь засосало в трещину и засыпало сорвавшимся гребнем котловины. Нечего было и думать раскапывать развалины, ни одного крестьянина Шаваш бы на такое дело не нашел, – однако, облазив эти места тайком, Шаваш обнаружил россыпи камней, оплавленных сверхвысокой температурой, – интересное, однако, было землятресение в монастыре… И чего они, спрашивается, сгинули: спугнуло их что-то, или монастырь был как кокон, из которого вылупилась бабочка?
Тут Шаваша тронули за плечо: ярыжка в желтой куртке протянул ему письмо. Это был очередной отчет о человеке, называвшем себя Яшмовым Араваном: где прошел, что сказал, кого исцелил.
– Человек этот очень изменился, – кланяясь, доложил соглядатай. – Месяц назад я спросил его, что лучше – богатство или бедность, и он ответил, что важнее всего внутренее устроение души. Бывает, что бедный мучится от дурной зависти, а бывает, что богатый. А дурная зависть портит всякое дело. А месяц назад его спросили о том же, и он рассказал притчу о двух братьях, чернокнижнике и початом кувшине. А когда он кончил притчу, он спросил, что лучше, быть бедным или богатым? И крестьяне сами ему ответили хором, что лучше всего внутреннее устроение души. По моему ничтожному мнению, проповеди его скромны и несуетны. Это, конечно, если слушать его самого, а не чудесным образом за десять верст.
Шаваш глядел на город под ним и думал, что тот, кто имеет силу, всегда скромен и несуетен. Разве Нан говорит: «Я приказываю?» Он говорит: «Смею ли я, ничтожный, надеяться». А сектанты и шарлатаны потрясают котомкой с прорехой и, растопырив глаза, верещат: «Мой учитель умел сдувать горы, сам я мог бы запихнуть весь мир в эту котомку, но из сострадания к миру я предпочитаю украсить ее прорехой». Шаваш с детства презирал всех тех, кто имел обыкновение грозиться ураганами, чтобы выпросить чашку рисового отвара.
Но Яшмовый Араван, беглый монах из пропавшего монастыря, вел себя совсем не как обыкновенные колдуны. Он не собирал последователей и не обещал им, что в грядущем, когда все будут братья, его сторонники будут первыми среди братьев. Он был вежлив к мирозданию, как первый министр. У него не было соучастников, у него были только слушатели. Ведь нельзя же арестовать крестьян за то, что они приходят послушать о том, как делать добро! И вот нет ни одного человека, которого можно было бы арестовать за сообщничество с Яшмовым Араваном, и нет ни одного крестьянина, который не был бы готов ему повиноваться!
Глаза Шаваша стали рыбьими, бешеными. Яшмовый араван? Воскресший бог? Недостойно просвещенного человека верить в подобное. Что ж – боги не ходят среди людей и не умирают, проверим-ка это, яшмовый араван!
* * *
Через три дня инспектор Шаваш прибыл в Архадан. Госпожа Архиза провела его своим дивным садом. Показала и тенистый грот, где жил в рубище специально нанятый отшельник, и павильончик на месте вырубленных дубов. Шаваш выразил восхищение фонтанами и чудесными механическими зверями. Шаваш признался, что господин министр как раз сейчас переустраивает унаследованный сад на Даттамовом острове, но и мечтать не может о подобных чудесах… Госпожа Архиза заколебалась. Госпожа Архиза сказала, что была бы счастлива сделать подарок первому министру. Но садовник, который все это устроил, вы знаете, бывший монах-шакуник: а им запрещено бывать в столице.
Так что все сошло замечательно: Шавашу даже не пришлось упоминать, что Адуш – его будущий тесть. Собственно, не очень ловко было б об этом упоминать, потому что за эти два дня Шаваш получил от госпожи Архизы все то, о чем так мечтал Киссур, но это время показалось Шавашу не лучше, чем то, что он проводил в домах, где мужчины тратят свое семя.
Утром третьего дня Шаваш попрощался с прекрасной госпожой и сошел вниз. К парадному крыльцу подали паланкин с открытым верхом. Паланкин был весь украшен резьбой и походил на розовый столик с перевернутыми ножками. Сквозь резную листву било солнце, выстроившиеся вдоль аллеи конные чиновники пожирали глазами модное платье столичного инспектора. Вынесли подарки: часы с крышкой из хрусталя, шкатулочки, короба с едой, и старенького заключенного, в синей арестантской курочке и с руками, продетыми в деревянные кольца.
– Немедленно снимите кольца, – возмутился изящный инспектор. – Отец Адуш, – прошу вас в паланкин!
Старичок выпрямился при виде чиновничьего кафтана. Его затрясло от злобы, как крупорушку.
– Смеет ли, – ядовито сказал заключенный, – ничтожный преступник сидеть на одной подушке со слугой государя?
Стража запихала его в паланкин, – старичок забился в угол и блестел оттуда на Шаваша злыми глазами.
Шаваш не торопился с известием о своем сватовстве. Весь день пытался он накормить или разговорить старика: бесполезно! Шаваш впервые встречался с такой ненавистью. Впрочем, он хорошо знал биографию своего будущего тестя, одного из лучших колдунов храма Шакуника.
Предыдущий начальник был изрядный дурак и сначала обращался с заключенным хорошо; надеялся, что тот добудет ему золото или предскажет судьбу. Отец Адуш некоторое время морочил ему голову, но золота все-таки не сделал, начальника взяла досада, и отец Адуш отправился качать воду в рудники. Там он, войдя в долю с лукавым смотрителем, поставил водоотливную установку, – начальник, узнав про это дело, лично разложил колдуна и на малых козлах, и на больших, а кожаные ремни с машины велел ему сьесть на собственных глазах. Три года отец Адуш жил под землей в шахте, и, будучи нежного сложения, весь уже покрылся какими-то водяными пупырышками. Ногти с пальцев тоже пропали. Потом начальство сменилось, госпожа Архиза вынула отца Адуша наверх и спросила, для чего еще, кроме шахты, годится его водоотливная установка. «Для фонтана». – сказал старик и сделал такой фонтан, что, действительно, множество людей стало приезжать любоваться садом мужа госпожи Архизы, и владелец сада совсем пошел в гору. А недавно, после манифеста первого министра, госпожа Архиза велела отцу Адушу погодить с фонтаном и опять делать водоотливную установку.
Шаваш еще и еще раз продумывал свой план касательно Яшмового Аравана. Без лишней скромности он находил его безупречным.
Старик сидел в кружевных подушках паланкина, нахохлившись, как больной фазан. Шаваш поглядел на него, усмехнулся и сказал:
– Я гляжу, вы очень ненавидите… тех, кто погубил храм?
– А хотя бы и так?
Шаваш вскинул брови:
– Ого! Вы не боитесь так разговаривать с инспектором?
– А чего мне бояться, мальчишка? Вы уже отняли у меня все!
– А что именно? – мягко спросил Шаваш.
– Вот, – отняли, и даже не заметили, что! Вот, положим, если бы вы не брали взяток, – хрипло смеялся старик, – ну, предположим такой невероятный случай, – что бы с вами стало?
– Думаю, – высказался Шаваш, вспомнив о кое-каких подписанных им приговорах, – сослали бы за взяточничество.
– Именно, – сказал отец Адуш, – за взяточничество, чтобы вам было обидней всего. Вот и мне обидно, что я посажен за колдовство.
– Шакуники, – возразил Шаваш, – изо всей силы старались прослыть колдунами. Говорили: можем изрубить горы голубыми мечами, можем мир свернуть и положить в котомку, хвалились, что взяли зеркало из небесной управы и видят каждую звезду в небе и каждую травинку на земле.
Старик усмехнулся.
– Что ж! Еще бы десять лет: завели бы и зеркало, как в небесной управе.
– И что же, – справился вкрадчиво Шаваш, – вы тогда бы сделали с управами земными?
Старик почуял подвох.
– Ничего. Чем бы они нам мешали?
– Ну, а что бы вы сделали с другим храмом?
– С каким?
– С другим, который тоже возмечтал бы о небесном зеркале?
Старик фыркнул. Мысль, что кто-то больше монахов-шакуников знал о тайнах природы, показалась ему совершенно несообразна. Потом он внимательно поглядел на Шаваша.
– А вы, молодой человек, читали наши тайные книги? Осмелюсь спросить: много ли вы поняли?
Шаваш помолчал.
– Ваши так называемые тайные книги, – наконец улыбнулся золотоволосый чиновник, – которые вы сочиняли сами, чтобы попугать обывателей, такая же ложь, как династийные истории. В истории прошлого царствования, например, сказано: Горный Варнарайн покорился покойному императору оттого, что варвары уважали благую государеву силу, а в вашей книжке – оттого, что колдун Арфарра засыпал весь город пылающими листьями. Не верю я ни в то, ни в другое – а Горный Варнарайн все-таки пал, и храмы ваши действительно отчего-то взлетели на воздух в один и тот же день.
Отец Адуш раскрыл рот и в ужасе уставился на Шаваша: такого о благой государевой силе, пожалуй, и он бы не решился сказать. «Ну и молодежь пошла», – мелькнуло в его голове.
– Да, – продолжал Шаваш, – я думаю, вы бы стерли храм-соперник, как зерно в крупорушке.
Шаваш достал из-под подушки ларец и раскрыл его. На бархатной подушечке лежали два камня с оплавленным бельмом: один из той самой стены в лаковарке, которую, видите ли, сожрал тысячехвостый дракон. Другой был взят из развалин желтого монастыря.
– Вы больше меня понимаете в тайнах природы, – сказал Шаваш, – и я хотел бы, чтобы вы осмотрели со мной место одной недавней катастрофы. Как знать, – может, вы еще сведете счеты с теми, кто погубил ваш храм.
* * *
Через неделю Киссур знал окрестные горы лучше старожилов, из любого распадка выходил кратчайшим путем к Государевой дороге. Киссур, однако, заметил, что охотники никогда не ходили на высокую гору слева от перевала. Гора походила на вздыбленную кошку и поросла соснами до самого белого кончика. Киссур спросил о причине.
Глаза Мелии злорадно взблеснули, а впрочем, Киссуру могло показаться.
– Я, – сказал Мелия, – не очень-то верю в колдовство, но то, что на этой горе творится, иначе как бесовщиной не назовешь.
– Это ты про Серого Дракона? – спросил, подъехав и премигнувшись с Мелией, один из его друзей.
– Не знаю, – насмешливо встрял другой, – дракон он или нет, но тех, кто ей не понравился, эта тварь засушила. Лучше бы нашему гостю не ходить к кошачьей горе.
– Не верю я в крылатых ящериц, – сказал Мелия. – А вы? – оборотился он к Киссуру.
– А я их не боюсь, – ответил тот.
На следующий день Киссур и Мелия из любопытства отправились в хижину к отшельнику, которого звали Серым Драконом. День был холодный и грустный. Дороги скоро не стало, Киссур и его спутник надели лыжи. Лес был завален буреломом, идти было нелегко, мокрый снег с ветвей скоро нападал за ворот. Великий Вей! Неужели где-то внизу ранняя осень, цветут глицинии, благоухает мята? Заметили брошенную часовню, но отдохнуть побоялись, пошли дальше. Мелия сказал что-то про разбойников.
При этой часовне когда-то была деревня, на краю деревни – источник, а в источнике – дракон. Дракон каждый год требовал девушку, иначе не давал людям воды. Девицы умирали от омерзения. Государь Иршахчан, пребывая с войском в этих краях, возмутился и лично убил дракона. Вода в источнике после этого шла кровью и слизью, а потом иссякла совсем. Оказалось, что дракон морочил людей, и поил всю деревню не водой, а своим, драконовым, ихором. Пришлось переселить людей в другое место, обучить церемониям и прополке риса.