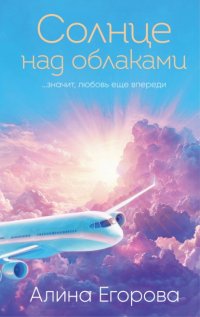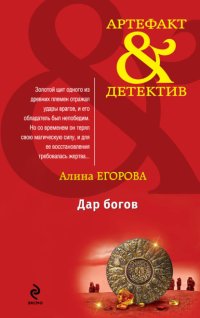Читать онлайн Судьба уральского изумруда бесплатно
- Все книги автора: Алина Егорова
Посвящается Ясне Канарской
1942 г. Соломино, Белгородская область
– Гутарят, в Хермании каждому свой дом дают с участком: хочешь – картоплю сажай, хочешь – синенькие, хочешь, гарбузы выращивай. В общем, что хочешь, то и делай, – заключил Савелий. Он заглянул к куму за лопатой – у своей черенок сломался, а точнее – сломали.
– То все брехня! – авторитетно заявил кум Степан Кочубей. – Дулю тебе даст немчура, а не участок с домом! Ишь, размечтался!
– Это Советы все отобрали, а немцы дадут. Отчего же землю не дать, ежели работник добрый?
– Оно и видно, как дадут! Догонють и еще раз дадут – по хребту лопатой! – проворчал Степан. Немцам он не доверял, как не доверял любой власти, кроме царской.
– Сашок сам виноват – нечего было по двору шнырять, – стал оправдывать Савелий немецкого солдата, огревшего по спине соседского паренька его лопатой – от этого черенок и сломался.
– Выходит, моя Верка тоже виновата, что не вовремя за водой вышла, – рассердился кум. Бедная Вера стала первой жертвой в Соломине. Ее, как дичь, немцы гнали на мотоциклах ради забавы. Испуганная женщина бежала, что было сил, а когда споткнулась и упала, встать уже не смогла – ее беременный живот переехали мотоциклом.
– Даааа, – протянул Савелий, – с твоей племяшкой они не правы. Жаль, добрая баба была. Давай, что ль, помянем.
– От ведь! Они опять за свое! – всплеснула натруженными руками Пелагея. Она еще с улицы заметила Савелия и, как ведьма, влетела во двор через скрипучую калитку. Степан нарочно не смазывал петли калитки, чтобы слышать, как она открывается.
Савелий хозяйку дома побаивался – язык у Пелагеи был острым, как бритва, и рука тяжелая. Он взял лопату и поспешил уйти.
– Так я не понял, кум. Ты будешь записываться в Херманию или как? – ехидно спросил напоследок Степан.
– Я?! Нее, я не могу. Я думал, кто из ваших захочет.
– Захочет – не захочет… Запишут – и спрашивать не станут, – отрубила Пелагея. – В Черемошном открыли биржу, там всех посчитали и велели явиться с вещами на станцию. А кто не придет, казали, тех хаты сожгут вместе с родичами. Ой, що робится! Що робится! Лятуйте, люди!
– Да не голоси ты, Федоровна! Не так страшен черт, как его малюют, – высунулся Савелий из-за забора.
– Тебе хорошо болтать, ты один, как сыч. А у меня две дивчины. Нельзя им в Херманию – пропадут. Ганка хоть и бедовая, все равно за нее душа болит, а Нина – та совсем еще дитенок, едва шестилетку закончила.
– Да, вашей Ганке сам черт – не брат. Держись, Хермания! – усмехнулся Савелий. – Нина с такой сестрой, как за скалой. Ганка никому ее в обиду не даст. Она у вас що хлопец.
– Ладно тебе, холера, на дивчину брехать! – возмутилась Пелагея. – Иди лучше до своего двора, пока самого не обидели!
– Злая ты баба, Пелагея! Ну и то верно, мне пора, замешкался я с вами, – спохватился Савелий.
– Чего он приходил? – подозрительно пробурчала Пелагея, когда исчезла из виду косматая голова гостя.
– А шут его знает! Шатается по дворам, на работу в Херманию записываться агитирует.
– Гнать его надо было сразу в три шеи! – разозлилась Пелагея. – Бабы гутарят, что Савелий в старосты метит. Изуверам хочет служить!
– Оно, может, и к лучшему. Кум хоть и шкура, да свой. Может, через него мы какую поблажку получим.
– Тьфу ты! Не нужно нам ихних поблажек! Ничего не нужно! Выметались бы, фашисты проклятые, восвояси, подобру-поздорову! – злилась Пелагея. Она с остервенением сорвала с веревки застиранное белье, перекинула его через плечо и пошла в дом, покачивая пышными бедрами.
– Вот чертова баба! – произнес Степан. За эту горячность он и любил свою Пелагеюшку. Старшая дочь Ганна пошла в мать – такая же горячая и фигуристая. Вот только как бы эта горячность не довела их семью до беды.
Немцы что-то говорили и ржали, ржали и говорили…. Что они говорили, Нина разобрать не могла. Топот их сапог по деревянным половицам в сундуке воспринимался, как глухой стук. Речь – гортанная, неразборчивая. Словно каши в рот набрали, думала Нина. По немецкому у нее в школе была пятерка, но то в школе. Их Анна Назаровна на уроках говорит четко и внятно, совсем не так, как эти носители языка, что ворвались в их хату и сейчас всюду шарят.
– В огороде. Картопля в огороде. Идемте! – ровный голос отца.
– Нема ничего! Самим исты нечего! – отчаянный возглас матери.
– Пелагея! – Как догадалась Нина, отец сурово взглянул на маму. Он всегда так смотрел – и на маму, и на них с сестрой, когда речь шла о чем-то важном. – Битэ, херы солдаты. В огород!
Выпроваживает! Из хаты выпроваживает! – обрадовалась Нина. Скорей бы ушли, а то ужасно надоело тут лежать! Сундук был с отверстиями для воздуха в задней стенке, так что дышать было терпимо, но приходилось скрючиваться в три погибели из-за тесноты. Сундук имел двойное дно и был изготовлен отцом специально для Нины. Рослая Ганна в сундук помещалась едва, и, как она сказала: лучше сдохнуть, чем в нем застрять! Ганну прятали в шифоньере за одеждой и мешками. Шифоньер у них тоже был с секретом: он стоял у стены с нишей. Отец не стал снимать заднюю стенку шифоньера, а сделал в ней потайную дверцу. На своем веку Степан Кочубей повидал революцию, раскулачивание, коллективизацию, доносы и аресты. Пригодится, считал он. Вот ниша и пригодилась.
Как ни странно, Нина сожалела, что успела спрятаться до того, как на пороге появились незваные гости. Если бы не родители, она бы показала немцам, что нисколько их не боится. В своих фантазиях девочка представляла, как она отважно сражается с фашистами: то с вилами гонит захватчиков прочь из села, то выхватывает у немца автомат, направляет его на врагов и они удирают, сверкая пятками, то верхом на коне и с красным флагом возглавляет народное сопротивление. В глубине души Нина понимала, что силы неравны и что ее переломят, словно воробышка, но как же хотелось проявить героизм! Чтобы все, а особенно комсорг школы Витя Подьяченков, увидели, какая она храбрая и ловкая, сорвиголова, настоящая Жанна д'Арк! И совсем не такая, какой ее воспринимают в Соломине: ни мягкая, ни беззащитная, вовсе не кулема. А еще все, особенно родня, считают ее маленькой, а ей, между прочим, уже почти четырнадцать. Отец с матерью стесняются пояснять, зачем ей необходимо прятаться от немцев, они говорят, чтобы не поколотили. А она и без них знает – чтобы не ссильничали. Нина слышала, как незадолго до оккупации Соломина родители обсуждали, куда их с Ганкой девать. Мать причитала, говорила: «ссильничают дивчин! У Ганки хоть мужик был, а Нинка совсем малая». Мать хотела отправить их к родне в Ростов, а отец сказал, что в Ростов теперь не попасть, и придумал в старом дедовом сундуке соорудить двойное дно. Наверх набросал грязных тряпок, чтобы немцы, если заглянут, побрезговали бы в них копаться, а низ оборудовал для Нины. Авось, бог милует.
В хате стихло. Родители то ли вышли, то ли сидели, как мыши, боясь издать звук. Нина повернула затекшую шею, чтобы прислонить ухо к щели. Прислушалась. Негромко брякнула посуда. Мама хлопочет по хозяйству, – определила Нина. Девочка тихо поскреблась по стенке сундука – два коротких, как уговаривались.
– Сиди еще, оголтелая! – велела Пелагея. – А ну как вернутся?!
Раздался топот. Не быстрый, немецкий, а основательный, родной. Вернулся отец.
– Ушли, холера их дери!
Нина нетерпеливо зашебуршилась. Одновременно из шифоньера выбралась Ганна.
– Они что, нашу картоплю забрали?! Вот бесы проклятые! Креста на них нет! Сначала Советы все до нитки обирали – сколько ни зробишь, все в колхоз сдай. Теперь эти вурдалаки присосались! Шоб им поперек горла встало!
– Забрали, ироды! Що нам исты теперь?! – взвыла Пелагея.
– Прекратить лятунку! – скомандовал Степан. – Лихо разбудите! Найдем що исты. Сами целы, и слава богу!
– Нет сил терпеть это! Я лучше служить пойду, чем смотреть, как немчура здесь хозяйствует! – не унималась Ганна. Взгляд, полный решимости, подбородок вперед – Нина с восхищением смотрела на отважную сестру.
– Кому служить?! Красным?! – изумилась Пелагея. – Побойся бога, дочка! Это они, голытьба клятая, разорили родовую усадьбу Кочубеев в Диканьке, так что твоему отцу оттуда пришлось бежать и прятаться здесь. Они твоего деда расстреляли! И тебя в девятнадцать годов вдовою сделали. Забрали мужика ни за что, вы с ним даже детей не успели народить.
Ганка задумалась: как ни желала она верить в обратное, а мать права – ее мужа Леню по нелепому обвинению в шпионаже арестовала и убила советская власть.
– А кому еще? Не немчуре же! – не желала мириться Ганна. – Подамся на восток, через Разумное, пока его немцы не заняли. Там, может, на фронт возьмут, а может, к хоспиталю прибьюсь, буду санитаркой.
– Я тоже на фронт! – выбралась из сундука Нина. – Ганка! Я с тобой хочу!
– Мала еще! – хором ответили мать с сестрой.
– В хоспиталь – це дило, – одобрил Степан. – Тут фриц надолго застрял, холера его дери! Житья от него не будет. А в хоспитале спокойнее и при харчах. Только как пробраться в то Разумное? В кольце мы, девоньки.
– А мы ночью, окольными дорогами! – загорелась идеей Нина.
– Кто это, мы?! Ты в хате останешься! – окоротила сестру Ганна.
– Ну, Ганн! – заканючила Нина. – Я буду тебя слушаться.
– Если пойдешь, то с Ниной! – велел отец. – Опасно ей тут оставаться. Когда фриц лютовать начнет, ни сундук, ни шифоньер не спасут. Это сегодня я их надурил, в следующий раз может не выйти.
Испуганная толпа, состоящая в основном из стариков, женщин и детей, стояла перед бывшим клубом, а ныне немецкой управой, в ожидании своей участи. Соломинцев сюда согнали быстро, не давая даже одеться-обуться. Дело происходило ранним утром, так что многие были подняты с постелей. Полицаи – в своем большинстве местные хлопцы, что отлынили от призыва, – хорошо знали, сколько в хатах народа, и нещадно выгоняли всех.
Люди держались семьями. Старшие, словно предвидя исход, заслоняли собой младших. Пузатый немец с погонами, непонятно какого звания, обращаясь к толпе, говорил на ломаной смеси всех известных ему славянских языков. Из его нервной речи следовало, что соломинцев ждет казнь, если они не выдадут партизана.
Наступила тишина, через полминуты прерванная суматошной бабой Михеихой:
– Лятуйте, люди! Що робится а-а-а!
Ее вопль подхватили другие бабы, раздался детский плач.
– Где партизан?! – повторил немец, направляя автомат на толпу.
По крикам и побелевшим лицам сельчан было видно, что они бы и выдали партизан, только их никто отродясь здесь не видел.
– Ложь – казнь! – разорялся пузан. – Партизан – казнь!
Он тряс в воздухе мятым листом бумаги, на котором кривыми буквами было написано: «Фашисты вон!!!»
– Кто писать?! Кто весить?! – Немец тыкал пальцем в сторону ворот клуба, на которых раньше вешали объявления и афиши.
– Казнь! Все!
– Да сознайся уже ты, падлюка! Все село погубят! – раздался истеричный женский крик.
Кричала Евдокия, жена кузнеца. На ее мужа еще в прошлом году пришла похоронка, а она осталась одна с пятью детьми – мал мала меньше. Дети, хныча, тулились к ее плотному телу. Полчаса назад на их глазах полицаи застрелили бабушку за то, что она отказалась идти к управе.
Не дождавшись признаний, очкастый немец отдал короткий приказ стрелять.
Истошные крики раздались раньше, чем из автоматов вылетели веера пуль. Кто-то инстинктивно успел упасть на землю, кого-то заслонили односельчане. Кровь, боль и страх. В воздухе повис дух смерти.
Когда стрельба прекратилась, Нина осторожно выползла из-под тяжелого тела отца. Рядом лежали мать и сестра.
– Ааааа! – завопила девочка. Она увидела кровь на отцовской рубахе.
– Мама! – Ганна трясла ватное тело матери.
Пелагея умерла мгновенно. Пуля попала ей в висок. Степан повалился на землю, закрывая собой дочерей, как только увидел взмах автоматов. Он успел, а его жена – нет. Она, как любая женщина, замешкалась перед тем, как ложиться на землю. Секунду раздумывала: не замарается ли одежда? Пелагея всегда была аккуратной, ни в доме, ни во внешнем облике никогда не допускала неряшливости. Она даже белье во дворе вешала в особом порядке: светлое со светлым, темное с темным.
– Папа, ты ранен? – встревожилась Ганна.
– Это Петькина кровь. Вон он, лежит, горемычный. Идемте скорее отсюда, – приказал отец. Он сгреб дочерей и попятился прочь.
– А как же мама?! – уперлась Нина. Она рванула к телу матери. – Мы не можем ее тут оставить!
– Пойдем! Так надо! – поймал за руку младшую дочь Степан. – Ганна! Веди ее!
Крупный, неуклюжий и сильный Степан Кочубей походил на медведя. Возле клуба раздавались плач и крики. Выжившие оплакивали своих близких, а Степан, только что потерявший жену, невозмутимо направлялся домой. Казалось, у этого человека нет сердца и он не чувствует ни горя, ни страха. Страха действительно не было – Степан свое отбоялся, а горе… горе, огромное и невыносимое, он усилием воли держал глубоко внутри. Было не до переживаний – спасти бы дочерей. Он, прошедший Империалистическую войну, знал немчуру как облупленную. Сейчас кто-нибудь из сельчан по дури рыпнется на немцев, те ответят автоматным огнем, достанется всем без разбора. Надо уносить ноги подобру-поздорову. А Пелагеюшку они обязательно заберут, когда все утихнет.
Прошло девять дней со дня массовой казни у клуба. Соломинцы поминали погибших всем селом. Горе коснулась всех: каждый понимал, что если в этот раз удалось уцелеть, то лишь случайно. Эти поминки не походили на те поминки, что бывали в Соломине раньше. Поминая умерших, сельчане про себя думали, что скоро и сами отправятся вслед за ними. Люди не сомневались, что казни будут продолжаться.
– Двенадцать человек! Двенадцать живых душ загубили! Из-за какой-то паршивой бумажки! – негодовала Ганна.
– А вдруг в наших краях появились партизаны? – с надеждой предположила Нина.
– Я бы этих партизан своими руками задушила! Бумагу измарали и в кусты. Кому нужны их писульки?! Только люди погибли! Маму из-за них убили!
Нина была не согласна с сестрой, но возразить ей было нечего. Девочка считала, что в борьбе с врагом и жизнь свою отдать не жалко. Важно показать, что народ не сломить и не запугать.
– Тююю! Та якие там партизаны! То Приходьки внук по дури отчебучил, – вздохнул Степан.
– Васька?
– Он, поганец. В партизан решил поиграть, холера его дери! Давеча очередные каракули пытался на управе повесить, и если бы бабы его не поймали, опять бы людей хоронить пришлось. Если бы осталось кому.
– А с Васькой что? Его немцам сдали? – испугалась Нина.
– Пожалели дурня. Ведром по хребту огрели и Приходьке отвели. Дед ему всыпал по первое число, чтобы головой думал.
Пелагею похоронили рядом с ее племянницей Верой, а больше на соломинском кладбище могил семьи Кочубей не было. Большой старый склеп с гербом князей Кочубеев, где лежали все предки Степана, остался на Полтавщине.
– Спи спокойно, – произнес вдовец.
– Мамочка, любимая! Скоро и мы к тебе ляжем! Будем все вместе спать вечным сном! – отчаянно всплакнула Ганна.
– Типун тебе на язык! – шикнул отец.
– Скоро нас в Херманию погонят на работы. Так я скажу, что лучше в родную землю уйти, чем сгнить на чужбине, – возразила ему старшая дочь.
Степан не стал спорить, в словах его дочери была доля истины. По-хорошему бы бежать из Соломина, но после случая с листовкой на дверях клуба немцы усилили бдительность, и покидать село стало очень опасно.
Полгода назад. Ивангород
Этот дом, давно впитавший в себя кислый старческий запах, который не перебивал даже корвалол, был обычно погружен в тишину, а сегодня содрогался от повышенного тона Лидии. Она ходила из гостиной в спальню, из спальни в кухню, там гремела посудой, затем возвращалась в комнаты и переставляла вещи. Ее когда-то красивые, а теперь высохшие со слоящимися и оттого коротко подстриженными ногтями руки не знали покоя. В нервном напряжении Лидии требовалось себя занять какой-нибудь работой: нужной, ненужной – любой, тогда она немного успокаивалась. При этом разражалась тирадой:
– Нет, ну каков прохиндей! Каков наглец! Сто лет знать не хотел бабушку, ни разу не навестил, даже не позвонил, слегла – так и вовсе думать о нас забыл, при встрече отворачивался, как бы не обременили его какой-нибудь просьбой. «Скорая» уехать не успела, он тут как тут! Как баба Нина? – интересуется. А в глазах вопрос: не померла ли? Если бы не отец, как шваркнула бы, летел бы он у меня отсюда со свистом к себе в нору и не высовывался бы!
Алевтина молча кивала, сидя в своем углу, оставшемся еще со времен ее детства, когда она гостила у бабушки Нины – на сложенном кресле-кровати, придвинутом к широкому подоконнику, переделанному в письменный стол. Она перебирала нехитрые предметы: стопка карманных календарей, фантики от шоколадных конфет, записная книжка, тетрадь… бабушка сохранила ее детские вещи.
– И ведь не стесняется, гаденыш! На голубом глазу мне говорит: теть Лида, что я могу взять? Я сначала не поняла, о чем это он, а оказалось, Игорь за наследством явился. За наследством! При еще живой бабушке! Ни стыда, ни совести! Ты слышишь?
– Да, – в очередной раз безучастно кивнула Алевтина.
Нина Степановна Новикова доживала свой непростой век в больнице, ей осталось совсем немного – считаные дни. Врачи никаких обнадеживающих прогнозов не давали. За годы болезни бабушки Нины ухаживающая за ней Лидия окончательно вымоталась, и у нее уже не осталось душевных сил кому-либо сострадать. Ее муж Сергей, который приходился Нине Степановне сыном, помогал жене в уходе за собственной матерью по мере возможности, а точнее, желания. Он нарочно нашел вторую работу, чтобы как можно меньше вовлекаться в это безрадостное дело. Другие родственники больной нашли причины, чтобы самоустраниться. Вышло так, что ухаживала за бабушкой, в общем-то, посторонняя ей женщина – невестка. Лидия покорно приняла на себя этот крест. Она все понимала: не должна, может так же, как и все, отказаться, но ею двигало какое-то необъяснимое чувство: то ли это было чувство долга, то ли чувство вины – долг быть хорошей и вина, если бросит пожилого человека.
Еще не старая – она только-только вышла на пенсию – Лидия погрузилась в мрачный мир немощи. Не ради наследства, конечно же. Наследовать там особо и нечего – мебель, кухонная утварь да тряпки – все хоть еще добротное, но устаревшее. Квартира давно переписана на Сергея, а ей, Лидии, в случае развода, от которого никто не застрахован, этой квартиры не видать. Выставят ее за дверь, глазом не успеет моргнуть. В благородство мужа Лидия не верила – свое «благородство» он уже проявлял не раз, чего стоит одна история со свекровью, уход за которой он с легкостью на нее спихнул, сделал из жены сиделку, будто бы так и надо. И даже спасибо не сказал и не попросил поухаживать за своей матерью. Все сложилось само собой. Когда Нина Степановна еще ходила, Лидия приезжала к ней помогать по хозяйству. Она освобождалась после работы раньше мужа, поэтому логично было забегать в магазин для свекрови и прибираться в ее доме ей. Нина Степановна старела, помощи требовалось больше, навещать старушку приходилось чаще, и когда она слегла, Сергей предложил переехать в квартиру своей матери – так удобнее за ней ухаживать. Подразумевалось, что все тяготы по уходу за лежачей больной возьмет на себя Лидия. Лидия взяла – а кому еще их брать? О пансионатах Нина Степановна не желала слушать: «В своем доме умирать буду!» – говорила. Даже при осложнениях в больницу ложилась с боем. Сергей тоже был против специализированного учреждения. «Сдать родную мать в богадельню?! Никогда!» При этом сам за ней ухаживать не желал, аргументируя тем, что взрослому мужчине неэтично смотреть на свою родительницу в голом виде. Тот факт, что любимой жене, может быть, неприятно лицезреть все части тела пожилого, чужого ей человека, и не только лицезреть, но и ежедневно прикасаться к ним, мыть, менять подгузники и пропитанное болезненным старческим запахом белье, Сергей не учитывал. Не хотел. Сиделку Нина Степановна тоже яростно отвергала («Это же посторонний в доме!»). И в этом сын ее поддерживал. Услуги сиделки стоили дорого, поэтому, если бы удалось Нину Степановну на нее уговорить, тогда семья едва сводила бы концы с концами.
Лидия работала, как лошадь, сама уже начала болеть: то давление скачет, то мигрень, то спину прихватит – поди, потаскай на себе человека. Нина Степановна хоть и не крупная, а все равно не пушинка. Да и от такой жизни настроение не поднимается: мыть, кормить, убирать, горшки выносить… и так ежедневно, в течение нескольких лет без отпуска и выходных. Лидия перестала чувствовать себя человеком со своими потребностями и желаниями, она превратилась в функцию. На себя не оставалось ни времени, ни сил. Даже голову себе вымыть могла не всегда и ела урывками и в напряжении, ожидая, когда позовет больная. Своего угла и того не было – в доме свекрови Лидия не чувствовала себя хозяйкой. Чтобы обеспечить лежачую больную всем необходимым, их с Сергеем квартиру пришлось сдавать, так что там постоянно жили чужие люди. Каким тут может быть настроение? От такой жизни в петлю полезешь и не жизнь это вовсе, а существование – тяжелое, монотонное и безрадостное. Лидия стала ворчливой, язвительной, даже злой. Сергей вместо того, чтобы подключиться к уходу за собственной матерью, дулся и старался реже появляться дома. В доме Новиковых давно повисла тема развода, которую никто не решался озвучить: Сергей боялся потерять привычный комфорт и бесплатную обслугу, а Лидии казалось нелепым разводиться на старости лет, ибо – что скажут люди?
– Это у них, у Потаповых, семейное. Сами ничего в дом не покупают, чужим барахлом пользуются, – продолжала ворчать Лидия. Несмотря на то что в квартире присутствовала Алевтина, Лидия говорила все это для себя, произносила вслух свои мысли. А для кого еще говорить? Дочери не интересно, Сергею – тоже. Он вообще ничего знать не хочет, что касается дома. Скучно ему.
– Что мать его, Зойка, постоянно наследствами разживалась – за всю жизнь кастрюли своей не купила, – что теперь сын ждет, когда ему с неба свалится. Непутевые эти Потаповы! – махнула она рукой. – А ведь с такими перспективами были! Зойкиного мужа на тепловой станции начальником назначили, сама Зойка собиралась в институт на заочное. Переехать к морю хотели, чтобы свой сад и терраса, увитая виноградом. Им Зойкины родители хорошо помогали. Ах, какие у Зойки были родители! Жаль прожили недолго. Как раз после их смерти все у Потаповых и покатилось кувырком: Феликс запил, Зойке уже не до института было – Игорька бы поднять. Жаль ее, конечно, по-человечески! Неплохая она, в общем, женщина, горемычная только. – Лидия запнулась: а сама-то ты, Лида, счастлива? Какое там!
За вымытым стеклом на декабрьском ветру покачивал голыми, раскидистыми ветками старый боярышник. Голуби жадно клевали на снегу кем-то брошенные семечки – за без малого сорок лет, когда впервые Лидия вошла в этот дом, декорации вокруг нее не изменились. А ведь когда-то она мечтала побывать в Черногории. Еще в студенчестве подрабатывала инструктором по скалолазанию, ездила в Крым и на Карпаты. Потом замужество, работа, затяжные периоды безденежья. С Сергеем только раз к морю съездили, сразу после похорон сына Костика, чтобы прийти в себя. Так что Лидия тогда моря совсем не почувствовала. В остальное время лето всегда на даче проводили – огород ухода требовал. Она бы сто лет не видела бы этот урожай, они что, картошку не могли купить? Да свекровь упиралась, Нина Степановна ведь деревенская, без огорода не могла. Дачу ту уже продали, Феликсу срочно понадобились деньги, как он говорил, на новую жизнь. Они тогда с Зойкой окончательно разругались, и Феликс думал купить себе за полярным кругом жилье – ближе к работе. Нина Степановна тогда решила деньги от продажи дачи отдать Феликсу, а свою квартиру Сергею. Квартиру на Сергея Нина Степановна переписала сразу же, как только продала дачу, чтобы не обидеть младшего. Феликс, как и ожидалось, деньги пропил. Дачи не стало, что для Лидии обернулось облегчением.
– Так вся жизнь и пролетела, – грустно произнесла Лидия. – Слышишь, дочь?
Алевтина слушала вполуха. Она понимала, как матери непросто: столько лет тащить на себе и дом, и больную бабушку. Мама сама уже не совсем здорова – от такого образа жизни сложно не заболеть, и возраст уже дает о себе знать. После того, как бабушку положили в больницу, Лидии стало немного легче, но она и не думает отдыхать: сразу схватилась за тряпку и наводит чистоту – не умеет сидеть без дела, отвыкла. Алевтина старательно уговаривала свою совесть, что мама сама так решила, чтобы она не меняла свою жизнь, не взваливала на себя уход за бабушкой. Да, у нее мама золотая. Будет надрываться, но помощи не попросит, а предложишь – откажется. Справедливости ради стоит заметить, что никто из родни Лидии помочь не рвался. Алевтина поначалу заикнулась, что ей, наверное, следует остаться. Найдет в Ивангороде работу, чай, не совсем деревня. На что мать решительно сказала: брось, Аля. Сама справлюсь. Ты молодая, не нужно тебе свою жизнь ломать. Подумай, в кого ты тут превратишься: в угрюмую, замотанную тетку без семьи и личной жизни! Я не хочу для тебя такой судьбы. Еще неизвестно, насколько все это затянется. Может, на месяц, а может, и на годы.
Лидия как в воду глядела: болезнь свекрови продолжалась в течение восьми лет. За это время Нина Степановна перенесла несколько микроинсультов, ломала шейку бедра, ее частично парализовало, она давно уже утратила способность подниматься с постели. Для Лидии это значило, что она не могла надолго отлучиться из дома, должна была готовить специальную еду и кормить ею свекровь, делать ей массаж, мыть ее, выносить утку и слушать старческое брюзжание. С годами и на фоне прогрессирующих болезней Нина Степановна становилась все более невыносимой. Она упрекала невестку в нерасторопности и подозревала, что та старается загнать ее в гроб. В приступах просила позвать священника и нотариуса, чтобы исповедоваться и написать завещание на несуществующие сокровища. Иной раз требовала собрать всю родню, чтобы попрощаться и между всеми разделить свое добро. Так в доме Новиковых стали появляться давно забытые родственники – некоторых из них Лидия видела впервые. Стала заходить Зоя Потапова, помогать – не помогала, все больше вела беседы с Ниной Степановной. О чем они разговаривали, Лидия не знала, ее в компанию не приглашали, да ей и некогда было. Свекровь потом Лидии чуткость второй невестки ставила в пример. Вот, говорила, поучись, Лида, дипломатии у Зои. Так слушать умеет и такая внимательная, не то что ты. А тебе слова не скажи, все фукаешь и фыркаешь. Никакого уважения! Лидия молча кивала и шла мыть судно. Одному богу было известно, откуда у этой женщины столько терпения и как она все это вынесла.
В этот раз прогнозы врачей выглядели наиболее пессимистично. Нина Степановна и сама чувствовала скорый конец. Глаза ее как будто стали яснее, а разговоры при этом оставались бредовыми: она несла околесицу про принадлежащий ей огромный изумруд. Старушка настояла на приезде Алевтины, говорила, что должна успеть попрощаться с внучкой. Видя, что дело совсем худо, Лидия вызвала дочь из Петербурга. «Похоже, все. Уходит бабушка», – сказала она со вздохом. И было сложно понять, что он значил: сожаление или облегчение.
– Жиг’обаска! Жиг’трест! Саг’делька на ножках! – картаво бурчал Игорь Потапов, спускаясь со второго этажа бабы Нины, откуда его только что выставили. И хоть на дверь ему указала Лидия – обладательница довольно-таки поджарой фигуры, Игорь сердился не на нее, а на Алевтину. По его мнению, не будь сестры, наследство перепало бы ему. А кому же еще? У бабы Нины внуков больше нет. Дети не считаются, они уже старые, им не надо.
Детей у бабы Нины было двое: Феликс и Сергей. Старший из сыновей, Феликс – спившийся отец Игоря, с которым Зоя, вдоволь намучившись, развелась, когда Игорь «вырос» – в его тридцать лет. Бывшие супруги разменяли полученную Феликсом от станции еще в лучшие времена квартиру на две «живопырки». С тех пор Феликс Потапов не объявлялся ни у матери, ни у брата, ни у Зои с Игорем. Сергей не без просьб Нины Степановны как-то пытался его разыскать. Узнал только, что тот вроде подался на север за большим рублем. Там и сгинул.
Придя домой, Игорь сразу нарвался на мать. Разговаривать не хотелось. Он вообще не собирался идти в дом бабы Нины, да мать настояла, говорила, сходи, напомни о себе. Сходил. И что в итоге? Как Бобика за дверь выставили! А он говорил: нечего там делать! А мать свое нудила. Во всем она виновата!
– Как там? – спросила Зоя с порога.
Игорь поморщился: не отстанет ведь!
– Никак! – процедил сквозь кривые зубы Игорь и поспешил в свою комнату. Он плюхнулся на диван и уткнулся в смартфон. Зоя последовала за сыном, деликатно присела на край дивана и принялась втолковывать свое видение:
– Бабка Нина тебя за внука никогда не считала. У нее есть любимая внучка – Алька, с ней она всегда нянчилась. Еще младшего, Костю, признавала, пока с ним не случилось несчастье. Так же и отца твоего нагулянного сыном не считала – мешался он ей. Все с младшеньким, с Сереженькой, носилась, как с писаной торбой. А папаня твой был так – подай, принеси. И звала она его Филькой. Как дворового пса.
Не отрываясь от смартфона, Игорь хмыкнул:
– Так вот почему он стал скотиной!
Игорь никогда не называл отца отцом, всегда только местоимением – «он».
– Не исключаю, что твой папенька так себя по-свински вел под влиянием бабки Нины. Это она его против нас с тобой науськивала! – Зоя завела свою любимую пластинку – свекровь она недолюбливала и при случае всегда выставляла ее в невыгодном свете.
– Да слышал я уже это, – отмахнулся Игорь. – Ма! Чай есть?
– Сейчас принесу! – метнулась Зоя на кухню и уже оттуда продолжила: – Вот увидишь, старуха все Альке завещает. А по закону, между прочим, вы с Алькой равноправные наследники.
– Там же Дядьсег’ежа – наследник пег’вой очег’еди, все ему отойдет, – проявил юридическую осведомленность Игорь.
– Дядя Сережа и так уже квартиру получил. С него хватит! Хочу тебе сказать, твой дядя Сережа не большого ума, даром, что начальник. Техникум паршивенький закончил, а держится, словно у него диплом Сорбонны. Вот у твоего отца образование достойное, престижный вуз, а толку… – Зоя вздохнула, сожалея о своей нескладной судьбе. Когда за Феликса выходила – за такого красивого, умного и перспективного, – думала, счастливый билет вытащила, а оно вот как обернулось. Не разглядела в нем тяги к зеленому змию. И как ее так угораздило? – Мог бы человеком быть, и мозги были – все пропил. А у дяди Сережи мозгов никогда не было. Ему невдомек, что изумруд не выдумка. В образовании у него пробелы. Я сомневалась, но долго изучала этот вопрос и пришла к выводу.
1831 г. Урал
– Благодарствую, барин! Удача тебе будет! – Прошка радостно сунул полученный от Якова Васильевича гривенник за пазуху и бросился целовать своему благодетелю руки.
Яков Васильевич резко отстранился.
– Ну! Прокопий! Что вздумал?! Ты это брось!
– Удача, говорю, будет, барин! – не унимался юродивый. – Глаз порадует!
– Какой я тебе барин, – нахмурился Коковин. – Вот выдумал. Да ну тебя! – Он махнул рукой, с сожалением взглянул на Прошку, вздохнул и заторопился на службу.
– Ха-ха-ха, раздувай, гармонь, меха! – звучал за его спиной хрипловатый голос Прошки.
Яков Васильевич Коковин, директор гранильной фабрики, в прошлом был крепостным. Хотя с тех пор, как он получил вольную, а затем постепенно, благодаря своему трудолюбию и таланту приобрел вес в обществе, прошло много лет, Яков Васильевич не терпел, когда его называли барином.
Прокопий Скуратов, Прошка, юродствовал третий год – с тех самых пор, когда его придавило гранитной глыбой на каменоломне. Скуратов был хорошим работником, прилежным и сообразительным. Ему пророчили старшинство в артели, а там, глядишь, и в управляющие выбился бы, если бы не роковая случайность, изменившая всю его молодую жизнь. Был Прокопий славным работником, человеком с ремеслом, девки заглядывались. А как пришибло его, то стал он никому не нужным нищим юродивым. Люди жалели его, иные насмехались и гнали взашей. Яков Васильевич, проходя мимо, всегда что-нибудь подавал, ибо сам вырос в бедности и знал, что все под богом ходят, зарекаться ни от чего нельзя. Коковин хотел было пристроить убогого к себе на фабрику, чтобы тот выполнял нехитрые поручения, да Прошка оказался слаб умом даже для самой простой работы. Слаб – не слаб, а только иногда как скажет чего, так его прозорливости позавидует любой мудрец.
Вот и в этот раз слова Прокопия Скуратова о предстоящей удаче, что порадует глаз, воплотились полностью. К полудню Яков Васильевич и думать забыл про малахольного Прошку и его странные предсказания. Что ему, директору большого производства, помнить про юродивого, когда голова забита делами. Ему доложили, что на рынке крестьяне продают «худые зеленоватые аквамарины». Один из таких «аквамаринов» и доставили Якову Васильевичу для опознания, поскольку Коковин отлично разбирался в камнях.
– Что за диво! – воскликнул Коковин. По характерным особенностям директор определил, что это никакой не аквамарин, а самый доподлинный изумруд.
Яков Васильевич немедленно распорядился разыскать крестьян, продававших эти камни, и узнать, где они их нашли. Выяснилось, что наткнулся на «худые аквамарины» смолокур Максим Кожевников. Он добывал в лесу смолу и в корнях вывороченного дерева обнаружил несколько зеленых кристаллов. Это случилось недалеко от реки Токовая, рядом с Екатеринбургом, куда впоследствии вместе с Кожевниковым и выехал Коковин. Невзирая на январский холод, директор гранильной фабрики лично осмотрел место обнаружения драгоценных камней. Наряду с обычными работниками Яков Васильевич долбил мерзлую землю, хоть мог этого не делать. Коковиным двигал азарт первооткрывателя, когда от предвкушения находки горят глаза и не чувствуется ни холода, ни голода, ни усталости. Через два дня непрерывной работы он наткнулся на изумрудную жилу.
Коковин не верил своим глазам – найденные минералы были великолепны: крупные, прозрачные, густого зеленого цвета. Несомненно, это были камни берилловой группы, но такой насыщенности цвета изумрудов Яков Васильевич еще не встречал. Оказалось, что это свойственно только уральским камням благодаря высокому содержанию железа и хрома.
По возвращении в Екатеринбург Яков Васильевич вдохновенно принялся за огранку добытых камней. Талантливый камнерез, создавший не одно изделие, украсившее императорский дворец, Коковин получал удовольствие от работы руками, особенно с таким превосходным, но капризным материалом. Огранять изумруд оказалось нелегко, любое неточное движение оборачивалось трещинами или сколами. Ограненные камни он отправил с курьером в Санкт-Петербург, где находка привела в восторг Николая Первого и вызвала настоящую сенсацию среди его окружения. Столичные ученые мужи подтвердили: это действительно изумруды, да еще какие! Таких изумрудов в мире по своей красоте и качеству еще не находили. Это событие положило начало добыче изумрудов в Российской империи. Прежде мир знал лишь колумбийские, египетские, бразильские, австрийские и афганские изумруды. Российские изумруды отличались чистотой и насыщенностью цвета, а также наименьшим количеством дефектов, что делало их престижными и притягательными. О таких драгоценностях мечтали любые иностранные правители – они предлагали наладить торговлю уральскими самородками, что, несомненно, пополнило бы российскую казну. Однако император от столь заманчивого предложения отказался и запретил вывозить изумруды из страны и лишь на свое усмотрение иногда дарил их иноземным послам.
По указу Николая Первого Максим Кожевников был награжден большой денежной премией, а директора Екатеринбургской гранильной фабрики представили к ордену. В Петербурге продолжали праздновать грандиозный успех. Потеснив пользующиеся популярностью в ту пору аквамарины, изумруды тут же вошли в моду. Каждая дама из высшего общества желала иметь украшения с восхитительными зелеными камнями; не отставали и мужчины – они заказывали себе роскошные перстни с уральскими смарагдами. Кабинет Его Императорского Величества издал указ, согласно которому Екатеринбургской гранильной фабрике надлежало провести поиски новых месторождений изумрудов и немедленно поставлять самородки ко двору.
Первый прииск, открытый Кожевниковым и Коковиным, назвали Сретенским. Он дал множество огромных по величине и качеству прекрасных изумрудов. Спустя два года крестьянами Корелиным и Голендухиным был открыт новый прииск, названный Мариинский. Это был звездный час Якова Васильевича Коковина. Он проживал одни из своих счастливейших лет и не подозревал, какие испытания готовит ему судьба.
Наши дни. Игорь
Легко сказать, поговори с сестрой. Легко сказать, убеди поделиться. На эту жирную рожу противно смотреть! Сразу видно, что своего не упустит.
Игорь Потапов воплотил намеченный матерью план лишь отчасти: он приехал в Санкт-Петербург. На деньги матери, разумеется, поскольку свои у него долго не задерживались, а Зоя, привыкшая экономить и откладывать на черный день, скопила небольшую сумму. В Петербурге Игорь собирался поселиться по-родственному у сестры. С детства он усвоил мысль, что ехать можно лишь туда, где будет, у кого остановиться. Поэтому в их семье ценились знакомые, проживающие в курортных городах и в столице. Связь с полезными знакомыми поддерживала Зоя. Она присылала им поздравительные открытки, иногда звонила, чтобы поговорить ни о чем. Цель была одна – когда-нибудь к ним приехать или попросить выслать что-нибудь, чего у них, по мнению Зои, полно и обойдется дешевле. К родственникам обращаться с просьбами и останавливаться у них, в представлении Зои, можно было по умолчанию, но все равно, перед тем как приехать, Зоя предпочитала для верности подмаслить.
В этот раз Зоя решила, что задабриванием сестры займется Игорь, а она и так проделала немало работы: разузнала у Лидии адрес Алевтины, и что она побывала в Соломине. С остальным мальчик должен был справиться сам – столько лет его учила!
Выйдя из вагона на платформу Витебского вокзала, Игорь бодрым шагом направился в город. Он никогда раньше не бывал в Петербурге, что не мешало ему хорошо ориентироваться – толпа сама несла его в нужную сторону. Игорь предварительно изучил маршрут до дома Алевтины: четыре остановки на трамвае и пешком около трехсот метров.
Ходить Игорь любил – привык, потому что всегда жил без автомобиля. Это он считал своим преимуществом. У него удивительным образом получалось преподносить свои недостатки в качестве достоинств, часто без всякой логики, добавляя к ним оправдательное «зато»: «Я не богат, зато не ворую», «временно не работаю, зато не курю».
До нужного дома на Боровой улице Игорь добрался быстро, и тут его ждало первое разочарование: вход под арку дома Алевтины преграждала решетка, а вокруг никого, кто бы мог ее открыть. Игорь потянулся к телефону, но руку тут же отдернул – пусть его приезд будет сюрпризом. На самом деле Игорь не знал, что сказать сестре. Когда предстояло озвучить просьбу, его решительность вмиг улетучилась. Немного подумав, Игорь решил, что, увидев его на пороге, Алевтина сама все поймет, так что ничего говорить и просить не придется.
За все время, пока Игорь ждал сестру – в сквере напротив ее дома, во дворе, на лестничной площадке – везде, он несколько раз принимал решение плюнуть на затею с изумрудом; дважды высказал матери по телефону свое недовольство и получил от нее разрешение поселиться в гостинице, «но только в какой-нибудь недорогой, иначе у нас нет столько денег».
Игорь едва не просмотрел, когда в десятом часу Алевтина неспешно приблизилась к калитке, ведущей в ее двор-колодец. Она замешкалась, ища в сумочке брелок от домофона, и тут же была настигнута братом.
– Ээээ! – прокричал Игорь вместо приветствия. – Я это… тебя жду.
– Игорь?! – удивилась Новикова. – Что ты тут делаешь?
– Ну как? Вот, – продемонстрировал он огромный рюкзак. – Я у тебя поживу? – И, чтобы сестра не скрылась за решетчатыми воротами, затараторил: – Мне на паг’у дней только. Ну как на паг’у? Дела все пог’ешаю и поеду. Да я много места не займу. Могу в кухне спать на г’аскладушке. У тебя есть г’аскладушка? Если нет, могу на полу в спальном мешке. Я его с собой взял, на всякий случай. Хе-хе, – Игорь нервно хохотнул. – С похода остался. Я прошлым летом в поход ходил на озег'а. Ты когда-нибудь была в походе?
– Игорь! – серьезно произнесла Алевтина, прервав его словесный поток. – Все это очень интересно, но я устала и хочу домой.
– Ну, так я…
– Нет. Ко мне ты не пойдешь. Мне это неудобно.
Она решительно шагнула во двор и, не оборачиваясь, словно никакого Игоря нет, направилась к парадной.
– Сука! – зло прошипел Игорь. – Жиг’ная, зажг’авшаяся сука!
Наши дни. Алевтина
Какая нелепица и глупость! Какая глупая нелепица! – негодовала Алевтина. – Этот Игорек – одно сплошное недоразумение! – Несмотря на то что брат был старше ее на четыре года, Алевтина всегда его называла Игорьком. Отнюдь не из теплых чувств, а чтобы подчеркнуть к нему снисхождение, как к маленькому ребенку. – И с виду он – сплошное недоразумение! Эти его давным-давно вышедшие из моды рубашки, постоянно мятые брюки, сандалии, надетые на носки… Стыдно людям сказать, что этот несуразный мужчинка ее родственник. А эта его убогая речь в сочетании с картавостью! – Алевтину передернуло. Она не терпела картавых – сказывалась работа в театре, где не держали актеров с плохой дикцией, хотя в последнее время и такие стали появляться, что Новикову неимоверно раздражало. А может, раздражение появлялось в силу собственного перфекционизма, помноженного на нелюбовь к людям.
Алевтина всматривалась в вечерний сумрак сквера, то ли желая увидеть там Игоря, то ли чтобы убедиться, что он ушел. Встреча с братом не оставила ее равнодушной. Алевтина не понимала, отчего Игорь, все свои сорок три года просидевший в Ивангороде, вдруг решил приехать в Петербург? То, что он явился к ней, было как раз в порядке вещей, как говорит мама, у Потаповых простота в крови. На гостинице экономит, это понятно. Там, у калитки, разговаривая с Игорем, Алевтина едва не поддалась родственным чувствам и не согласилась приютить незваного гостя. Вовремя одумалась. У кого, у кого, а у Алевтины Новиковой голова правила сердцем – жизнь научила. «Не маленький, найдет, где переночевать, и вообще думать надо, прежде чем в гости ехать без приглашения!» – разозлилась она тогда.
И все-таки, что его сюда принесло? – задавалась она вопросом. – Приехал погулять? Возможно, только на какие шиши? Потаповы живут очень скромно, Игорек больше, чем на еду, никогда не зарабатывал. Вряд ли тетя Зоя оплатила ему такое недешевое удовольствие. В «дела», которые Игорь собирался «порешать», Алевтина не верила. Насколько она знала, у Игорька отродясь никаких серьезных дел не было, поскольку сам он был весьма легкомысленным. Всеми делами занималась его мать, тетя Зоя. Да и у нее дела были по большей части нехитрые: где что купить дешевле, чтобы сэкономить копейку. Тогда Алевтина еще не сопоставила эти два события: кончину бабушки и приезд Игоря.
* * *
Андрей Вислоухов был хорошим актером. Особенно лет двадцать назад в кинофильме о разведчиках, где он играл одну из главных ролей. Тогда в статного красавца с обаятельной улыбкой влюбилась половина женского населения страны. С годами его былая привлекательность поблекла. Свою лепту внесли ненормированный график, гастроли, бесконечные презентации, которые проходят, как водится, не без возлияний. Постепенно Андрей Вислоухов из популярного красавца театра и кино превратился в актера второго плана. На театральном олимпе ему уверенно наступали на пятки молодые таланты. Уже давно их, а не Вислоухова приглашали на роли роковых красавцев и смелых рыцарей. Вопреки отразившимся на внешности следам времени, в свои сорок семь лет Вислоухов выглядел все еще притягательно. Он походил на избалованного хозяевами породистого кота: холеный, слегка упитанный, вальяжный, импозантный и очаровательный. По старой памяти ему иногда перепадали ведущие роли, но уже не бравых офицеров, а благочестивых отцов семейств, князей, крупных начальников и высокого ранга военных. Если Вислоухов играл маргинала, то непременно в прошлом интеллигента со сложной судьбой. Чуя свой творческий закат, Вислоухов вкладывал в игру все силы. Даже эпизодические роли он исполнял с блеском. Но, увы, это удавалось ему не всегда, порой Вислоухов играл из рук вон плохо, или, как говорят танцоры, в полноги. Причиной тому были настигнувшая его депрессия из-за профессиональной невостребованности и ее спутница – водка.
Несомненно, Андрей Вислоухов был хорошим актером. Был – потому что пятнадцатого июня в начале одиннадцатого вечера его труп с проломленным черепом обнаружили в гримерке театра «Скоморох».
Он сидел спиной к двери, опустив голову на стол, и если бы не бурая лужица крови и неестественно повисшая рука, можно было бы решить, что актер прикорнул. Бледная и растерянная администратор театра «Скоморох» Алевтина Новикова стояла рядом. Это на ее крик прибежали коллеги и вызвали полицию.
Первой в гримерку вошла Раиса Дульснина, за глаза Райка-Дульсинея – возрастная актриса, на которой режиссеры давно поставили крест. В театре ее держали из сострадания к ее несложившейся личной жизни. Три развода и сын-наркоман – несчастная баба, говорили о Райке и прощали ей многие завихрения. Дульсинея считала себя незаслуженно задвинутой, в чем обвиняла весь мир и особенно театральное руководство, а также «бездарных» коллег-конкурентов. Дульснина часто приходила на чужие репетиции, с надеждой ожидая, что ей предложат роль. От безделья старая актриса плела интриги и перемывала всем кости; как акула чувствует кровь, Раиса чувствовала почву для сплетен. И, конечно же, она не пропускала ни одной театральной вечеринки.
– Я ясно слышала, как Новикова в гримерке ругалась с Вислоуховым. Прямо перед его смертью ругалась! – заявила Дульснина прибывшим полицейским.
– Вы уверены? – усомнился Небесов. Чтобы вот так сразу найти убийцу… оперативник не рассчитывал на легкую удачу. Хотя, чем черт не шутит – всякое бывает.
– Что же я, по-вашему, умом тронулась?! – Дульсинея выдержала паузу, как в драматической сцене. – Конечно же, уверена!
– И что вы слышали?
– Новикова кричала. Нет! Она верещала диким голосом. Она всегда верещит, когда очень злится. Так вот она проверещала: «Сволочь ты, Вислоухов!», а потом еще что-то, я не разобрала, что. Я тогда в конце коридора была, но слышала – так громко она верещала! Я прямо опешила: Алевтина обычно сдержанная и спокойная, ну точно, как замороженная рыба! А тут ее прорвало. Ну явно случилось что-то экстраординарное! Я подошла ближе и уже перед гримеркой услышала отчаянное: «Господи! Прости меня!» Как пить дать, прикончила его в горячке, а потом сообразила, что натворила, и раскаиваться стала.
Небесов бросил взгляд на Новикову. Лицо спокойное, бледное и безучастное. Было трудно понять: это хладнокровная невозмутимость убийцы или безразличие уставшего человека.
– И вообще, – понизив голос, добавила Раиса, – не в первый раз Новикова подзалетает! Ее уже увольняли за пропавший ноутбук.
– Какой еще ноутбук, когда он пропал? – заинтересовался оперативник.
– Да… это… не важно, – замельтешила Дульсинея, сообразив, что брякнула лишнее. – Давно дело было, и я перепутала. То не в нашем театре случилось.
Предполагаемое орудие убийства – старый военный бинокль со следами крови – обнаружили сразу. Потертый от времени и тяжелый, бинокль лежал на этажерке при входе.
– Если им приложить, в самый раз будет! – прокомментировал эксперт. – Пальчики хорошо отпечатались. Картина маслом, а не пальчики!
– Вот и славно! – сообщил Осокин. – Скоренько закончим это дельце, и спать-отдыхать.
Если бы вызов поступил не в половине одиннадцатого, а чуть позже, то на место происшествия пришлось бы ехать другому дежурному следователю, а Осокин отправился бы, как он любил выражаться, спать-отдыхать.
– Что у нас со свидетелями? – обратился Осокин к коллегам. – Всех записывайте! Кто был в здании, всех пишите! Чтоб ни одна муха мне нос не подточила!
– Комар! – поправил Небесов.
– Что, комар?
– Носа не подточил. У мухи нет носа, у нее хоботок.
– А чем она, по-твоему, в навозе копается? – заворчал следователь. – Собрались умники! Посмотрим, как вы эту кучу разгребать будете! – Осокин не терпел выскочек и всезнаек, особенно из тех, кто был моложе его.
– Как скажете, – простодушно согласился Небесов и отправился работать со свидетелями.
А в здании театра «Скоморох» в тот вечер была тьма народу по случаю капустника, иными словами – корпоративной вечеринки.
Несколькими часами ранее
– Как ты вырядилась?! А разрисовалась! Это же пошлятина и безвкусица! – раздраженно прошипел Дарье на ухо Андрей, при этом его лицо выражало нежность. Со стороны казалось, что он ласково воркует со своей пассией.
– А мне нравится! – взвизгнула Дарья и отскочила в сторону.
– Сними это безобразие! – обольстительно улыбнулся Вислоухов.
– Не сниму!
Вечеринка была в самом разгаре: кто-то уже изрядно набрался и не вязал лыка, кто-то был занят беседой, другие ели, пили, плясали…. Никто не обратил бы внимания на начинающуюся между ними ссору, если бы Дарья не выражала свои эмоции так громко.
Окружающие с любопытством уставились на парочку, предвкушая спектакль. Реплика девушки звучала неоднозначно, поэтому всем стало любопытно, что она отказывается снять: вульгарные колготки в сеточку, короткую – короче некуда – юбку, подростковый, усыпанный блестками топ, слишком маленькую для ее большой головы аляповатую шляпку, огромное ожерелье или все вместе. Даже в актерской среде, где эпатаж был явлением само собой разумеющимся, поведение и наряд девицы выглядели нелепо.
– Тогда мы отсюда уходим! – с тем же нежным выражением лица тихо произнес Вислоухов. Мягкой тигриной поступью он подошел к своей спутнице и взял ее за руку. Дарья вырвалась, фыркнула и неуклюже, делая широкие, насколько ей позволяли высокие каблуки, шаги, направилась к выходу.
– Да легко! Ваш капустник – фуфло! – заявила она во всеуслышание.
– Дашеньке не стоило пить. Она шутит. У них в Троицком так шутят, – попытался сгладить неловкость Андрей. Быстрыми размашистыми шагами он догнал Дарью. – Как ты себя ведешь?! Стыдоба! – понизив голос, произнес Вислоухов. – Скажи, что ты пошутила!
Будучи девушкой простой, Дарья не считала нужным скрывать от окружающих свои эмоции.
– Сам придурок! – крикнула она на весь зал.
Андрей вырос в интеллигентной петербургской семье врача-кардиолога и военного. Отец-офицер привил ему галантность и те нынче старомодные манеры, которые вызывают благосклонность женщин. Вислоухов считал, что что бы ни происходило, на людях необходимо держать лицо, а также не выносить сор из избы, не компрометировать даму и непременно ее проводить.
От Дарьи уже простыл след, где-то в холле слышался цокот ее каблуков. Резкая и быстрая, она стрелой пролетела через коридоры театра. Плотному, не первой молодости Вислоухову за ней было не угнаться. Он отлично оценивал свои силы, но оставаться в зале не мог. Андрей отправился за своей подругой и больше на вечеринке не появлялся.
Алевтина
За восемь лет работы в театре Алевтина Новикова насмотрелась закулисных представлений едва ли не больше, чем на сцене. В их «Скоморохе» постоянно проходили сабантуи и внеурочные сборища, но ни о какой сплоченности коллектива и речи быть не могло. Здесь никто ни с кем не дружил и никому не доверял. Сотрудники объединялись в группки против кого-то или чтобы посплетничать, развеять скуку. Ссорились, завидовали, плели интриги. Сама Новикова старалась держаться со всеми одинаково вежливо, но без излишней любезности, чем у многих вызывала раздражение. Впрочем, веди она себя как-то иначе, все равно в «Скоморохе» нашли бы к чему прицепиться – здесь сотрудники друг друга не любили. Новикова тоже на работе не питала ни к кому теплых чувств, но должность администратора обязывала проявлять дружелюбие.
Как же ей это надоело! Кто бы знал, как раздражали эти рожи! Тупые, нахальные, лживые! Каждый с огромным самомнением и претензиями. К каждому надо найти подход, подобрать слова, выслушать. И все это за копеечную зарплату. Но ничего, скоро все закончится. Еще немного потерпеть, и можно будет послать эту работу к чертовой бабушке. Можно будет вообще не работать. Да, так она и сделает. В первую очередь уедет на какой-нибудь курорт, полежит под пальмами, поплещется в море, выспится! Отдохнувшая, начнет приводить себя в порядок. Сначала прическа. Она легче всего исправляется. Только не как обычно подравнять концы, а основательно, со всеми процедурами, чтобы ее роскошные волосы стали еще роскошнее. Затем косметолог. Что-то надо делать с кожей, избавиться от брылей и подтянуть контур.
Даже немного жаль расставаться, – снисходительно подумала она. Алевтина за столько лет привыкла к своему рабочему месту, маленькому, но отдельному кабинету в конце коридора, к дороге на работу, да и к этим опостылевшим рожам сотрудников тоже.
Очередной капустник. Все, как всегда: сначала выступление руководства, затем пьянка. К счастью, их Леонид Павлович был краток и речами не утомлял. Произнес два слова и отчалил. В этот раз даже на протокольные пятнадцать минут не задержался – у него возникли какие-то срочные дела. Алевтина старалась по подобным мероприятиям не ходить, но когда на них ожидалось появление Палыча, как сотрудники между собой называли директора, присутствовать ей приходилось.
Сабантуй был в самом разгаре, многие уже набрались. Шум, музыка, споры, смех – все как обычно. В этот раз театральные кумушки обсуждают Дашку. Оно и понятно: дерзкая, видная и несуразная со своей провинциальной манерой себя вести и одеваться. Она все делает невпопад: стоит, сидит, смеется, говорит. Она вообще не понимает, о чем идет речь, пытается делать вид, что в курсе происходящего, отчего выглядит еще глупее. Над Дарьей зло смеются. Особенно женщины, да и мужчины тоже. Ей мстят за то, что им не двадцать лет. За ее безвкусный короткий топ, за голые ноги, за неуместно огромное ожерелье, за то, что ей в силу молодости можно так выглядеть и так держаться, а им, увы, уже нет. Над приведшим ее Вислоуховым никто не смеется – он может позволить себе любую компанию, Андрей вне обсуждений. Он всеобщий любимец и душа общества.
Хоть Алевтине совсем не нравилась Дарья – в первую очередь своими невоспитанностью и необоснованным гонором – сейчас она ей посочувствовала. «Сожрут», – подумала она, глядя на театральных дамочек. Уж эти прожженные склочницы никому не позволят спокойно сопровождать Андрея. Все кости перемоют и высмеют. Вон как оживились, наблюдая очередную Дашкину оплошность. Дарья никак не возьмет в толк, что в общественном месте неприлично громко разговаривать. Дашкин голос звенел слишком громко, так, что ее было слышно на фоне музыки и общего шума. Девушка словно пыталась доказать всем, что она здесь звезда и достойна всеобщего внимания. В какой-то момент ей это удалось – гости оторвались от своих дел и с любопытством наблюдали за Дашкиными выпадами. Зашушукались, засмеялись. Кто-то ее поддел. Дарья огрызнулась, как обычно хамовато и неумно, что еще больше раззадорило толпу.
«Дурочка, сама виновата, знала, куда идет, я ее предупреждала, – подумала Новикова. – Она, конечно же, смерила меня своим надменным взглядом и скривилась в ухмылке, мол, что ты понимаешь, старая перечница».
Алевтина неприязненно поморщилась. Ей стало стыдно за Дашку и за коллег. Она поставила свой бокал с бордовым невкусным вином и тихо вышла из зала.
Дарья
«Мощно я Алку сделала! Она офигела, увидев ожерелье. Аж побелела, бедняжка! Не ожидала, что я его надену. Еще накануне предупредила, сказала, типа неуместно. Понятно, что завидует.
Если мозгов нет – это диагноз. Кто же сдает свои явки? Только такие безнадежные тупицы, как Новикова. Железное правило: своего косметолога, парикмахера, бровиста, маникюршу, а также мастера по ресницам и скулам не выдавать! Иначе окажешься в конце очереди или, хуже того – вообще к ним не прорвешься. С ювелиром другая история: сдашь его, и у тебя вместо эксклюзива окажется ширпотреб. Каждая вторая будет носить такие же украшения, как и ты. И стоило делать их на заказ? С таким подходом можно сразу идти в ювелирный магазин, а не обращаться в мастерскую».
Здесь Дарья сгущала краски. Ювелир, порекомендованный ей Алевтиной, ширпотребом не занимался. Каждое его изделие было уникальным, хотя определенный стиль прослеживался. Ожерелье, которое он сделал для Дарьи, поражало воображение: девять огромных изумрудов сплелись в виноградную гроздь, пышная золотая лоза обвивала шею, подчеркивая принадлежность обладательницы к стану обеспеченных людей.
Это просто бомба! Куда там Алке с ее вшивенькими двумя камушками! Умойся, нищебродка! И вы, все остальные, умойтесь! Чего уставились?! Ну, смотрите, смотрите! И завидуйте молча!
Дарья полюбовалась эффектом, произведенным на капустнике. Судя по тому, что на нее смотрели и обсуждали, эффект удался.
Алка сегодня без своего вшивенького изумрудного колье. Жаль. Было бы здорово невзначай встать с нею рядом, чтобы все увидели разницу. В торговле это называется «вилка». Ну и так вышло шикарно.
Алка все-таки не выдержала и ушла. Еще бы! Такой бомбический удар под дых. Даже жаль ее, кулему. Всю жизнь торчит в своем театре на скрепкоперекладывательной должности. Мечтает выйти на сцену хотя бы с кофейником и ужасно завидует артистам. Куда ей в артистки с ее коровьей фигурой! И старая она уже. Скоро и с этой работы попрут. Тогда ей один путь – в гардеробщицы. Даже кассиром не возьмут из-за ее унылой рожи. Вечно кислая, будто лимонов объелась. Ну как с такой рожей ходить! Всех людей вокруг распугает. У нее билеты покупать никто не захочет, а театру нужны продажи. Как и везде. Сейчас век продажников.
Дарья год работала менеджером по продажам и на этом основании считала, что знает о торговле все.
«Алевтина неудачница, так как живет по шаблону: школа, институт, замуж, конечно же, неудачно – нормальные мужики в сторону таких даже не глядят, работа от звонка до звонка за копейки; потом пенсия, огород и лавочка в парке. А надо сломать шаблон, иначе сольешь свою жизнь в унитаз. Вот, например, она, Дарья, смотрит на жизнь широко и четко знает, чего хочет. Все только самое лучшее, никаких шаблонов и никаких компромиссов! Если выйдет замуж, то только за того, кто ее полностью упакует «от» и «до». На дядю горбатиться не станет, откроет свое дело, наймет работников, а сама будет ездить по миру и наслаждаться жизнью. Жизнь слишком коротка, поэтому надо тратить ее только на удовольствия. Инстаграм у нее не просто так, а для дела. Сейчас там девятьсот четырнадцать подписчиков – почти тысяча! Ей будут предлагать рекламу, присылать подарки, приглашать в отели на лучшие курорты. Надо лишь как следует раскрутиться. Только такие отсталые и бесперспективные клуши, как Алка, в это не верят. Дарья вспомнила, как похвасталась перед Новиковой пятисотым подписчиком, предвкушая прибыль от рекламодателей. Алевтина одобрительно закивала, при этом на ее лице была кривая ухмылка. Прошлый век – что с нее взять? Козлик, между прочим, ее через Инстаграм нашел. Андрюша – через «вконтактик», что тоже говорит о ее популярности. До «инсты» он не продвинулся – старпер он и есть старпер. Хотя прикольный. Говорят, он был секс-символом. Правда, в прошлом веке. Старые кошелки до сих пор слюни пускают. Каждая мечтает его захомутать. Умойтесь, пенсионерки! Сейчас мое время! Хотя мне Андрюша нафиг не нужен, пусть позлятся. Вислоухов для меня – лифт в богемную среду. Он знает режиссеров и продюсеров, а значит, узнаю их и я. И тогда адьес, старичок! Вали под бок к своим старушенциям!
Чего-то мой старперчик раскипятился. Ревнует, пупсик. А чего ты хотел, Андрюша? Пришел с шикарной девушкой – терпи. На меня всегда смотрели и будут смотреть! Ну, все, разбухтелся! Хватит уже, а? Нет, это невозможно! Весь вечер испортил своим маразмом. Да и делать тут больше нечего. Пойду-ка я отсюда. А ты, Андрюша, давай, побегай за мной!»
Первая половина XIX века
Перовский
Лев Алексеевич Перовский слыл баловнем судьбы. Незаконнорожденный сын графа Алексея Кирилловича Разумовского, он получил прекрасное образование в Московском университете. В молодые годы отличился на войне 1812 года, уцелел в жарких баталиях, заслужил награды, повышение в звании и продвижение по службе. Он был холодным, расчетливым и одновременно страстным и авантюрным. Необычайно удачливый и умный, Перовский не раз, скользив по краю, умудрялся не только выкарабкиваться из сомнительных ситуаций, но и получать от них выгоду. Безудержный и мятежный характер Перовского стал причиной его участия в зарождающемся декабристском движении. Лев Алексеевич вовремя сориентировался в ситуации и на следствии над декабристами дал показания против бывших единомышленников, обернув их в свою пользу. С тех пор Перовский стал любимчиком императора. Каким-то образом он сумел войти в доверие к осмотрительному Николаю Первому, тем самым получил карт-бланш во многих своих деяниях. Имея влиятельного покровителя в лице императора, амбициозный карьерист, не знающий преград на пути к своим целям, каковым являлся Перовский, развернулся с размахом.
Несмотря на все привилегии и возможности, Лев Алексеевич, рожденный вне брака, не мог не чувствовать своей ущербности. Перовский не имел права на наследство, у него не было родового имения, в котором жили его предки, даже фамилию он получил не от отца, графа Разумовского, а по названию поместья Перово. Уязвленное самолюбие стало мощным двигателем многих его инициатив. Полученный при рождении графский титул Перовского не удовлетворял, и он стал-таки князем, но это случилось уже гораздо позже.
Одна из его страстей – коллекционирование – произрастает оттуда же, из детства. Собирая коллекции, Лев Алексеевич стремился заполнить свою внутреннюю душевную пустоту, создать что-то незыблемое и свое, над чем у него была бы безграничная власть. Конечно же, Лев Алексеевич собирал дорогие, уникальные предметы. Увлекаясь минералогией, он собрал большую коллекцию редких камней: античных и современных. Перовский не случайно возглавил Министерство уделов Российской империи и выхлопотал перевод Петергофской гранильной фабрики из Кабинета Его Императорского Величества в ведомство Департамента Министерства уделов. Лев Алексеевич был фигурой неоднозначной. Обладая деловой хваткой и бурной энергией, он добился выделения из казны немалой суммы денег на реконструкцию подведомственной ему гранильной фабрики, навел в ней порядок, пригласил лучших мастеров, наладил поставку минералов из других государств. При Перовском Петергофская гранильная фабрика стала изготовлять в больших объемах отличные изделия из камня. Николай Первый был в восторге от блестящей деятельности своего фаворита, а уж Перовский как никто умел представить свои достоинства в выгодном свете.
Как водится, граф действовал не без корысти: все лучшие камни, поступающие в Министерство уделов, попадали в его коллекцию. Страсть коллекционера, доходящая до безумия, толкала Перовского на преступления. Он плел интриги, шел на подкуп и шантаж. Мало кто из чиновников посмел перечить такому влиятельному и жесткому человеку, как Лев Алексеевич. В итоге граф обзавелся агентами, помогающими ему присваивать казенные драгоценности.
В то время Урал уже поставлял к императорскому двору ценные минералы. Мимо такого лакомого куска алчный граф пройти не мог. Он попытался прибрать к рукам и гранильную фабрику Урала. Талантливый, оборотистый руководитель, Перовский расписал перед императором потрясающие перспективы, которые ожидают Екатеринбургскую фабрику, войди она в его ведомство. Возможно, в тот день не так сошлись звезды, и Николай Первый встал не с той ноги – он император, он волен оставлять свои решения без разъяснений, – а, вероятнее всего, Перовский был не единственным, кто имел интерес к фабрике. На этот раз Николай Первый отказал своему фавориту, и уральская фабрика осталась во власти Кабинета Его Императорского Величества.
Тут бы угомониться и довольствоваться обильными источниками обогащения, которые уже имелись в его власти. Так бы поступили многие корыстолюбивые управленцы, но только не Лев Алексеевич. Отступаться от своего граф не привык. Чтобы получить возможность снимать сливки с Екатеринбургской гранильной фабрики, Перовский решил обратиться к ее директору Якову Коковину. Действовал он через своего человека, директора Петергофской фабрики Казина, ибо лично обращаться «к мелкому дворянишке» не позволял чин. А точнее, чтобы, в случае чего, выйти сухим из воды.
«…я прошу вас вступить со мной по предмету закупки каменья в коммерческую совершенно в частном виде спекуляцию. Извещаю вас, что предложение сие делается мною с ведома вице-президента Департамента уделов Его превосходительства Льва Алексеевича Перовского, признавшего сей способ приобретения каменья верным и поспешнейшим средством к снабжению оными фабрик, а посему я прошу вас за поручение сие назначить в пользу свою известные в коммерции проценты за комиссию и быть совершенно уверенным, что труды ваши по сей операции не останутся без особого внимания начальства…».
Эти строчки легли, как камень на перекрестке дорог. За ними директор Екатеринбургской гранильной фабрики узрел свою судьбу: «прямо пойдешь – шею свернешь…» Предложение Перовского обещало покровительство, благополучие, обогащение, а в случае отказа – всевозможные напасти, какие только способен учинить человек, приближенный к императору.
Долго мучился Яков Васильевич, прежде чем ответить. По поводу сути ответного послания Коковин ни минуты не колебался, так как был человеком чести и никакого расхитительства не допускал. Как наиболее деликатно отказать могущественнейшей персоне – задача была не из простых.
«…мне ничего не остается другого сказать, как принесть вам свою благодарность и за откровенность вашу объясниться с такой же откровенностью… Я не могу сказать, что был беден, но и не богат. Довольствуюсь ограниченным жалованьем, перенося иногда недостатки с надеждою, что когда-либо начальство взглянет на труды мои, твержу пословицу: за богом молитва, за царем служба не теряется, и пока служу, никаких сторонних выгод желать и искать не могу, да и сама заботливость службы того не позволяет. А чтобы быть полезным вверенной управлению вашему Петергофской шлифовальной фабрике, с совершенным удовольствием готов служить вам для выгоды казны без всяких коммерческих видов…», – написал Яков Васильевич Казину.
Глава Екатеринбургской фабрики прекрасно понимал, что своим отказом обрушит на себя гнев графа, который при желании сотрет его в порошок. Коковин уповал на судьбу и на то, что находится вне пределов власти Перовского, ведь Урал оставался в ведомстве Кабинета Его Императорского Величества.
Не пришибло тогда еще гранитной глыбой Прокопия Скуратова, не стал он еще юродивым, не огорошивал еще своими странными пророчествами прохожих. Некому было предупредить Якова Васильевича о последствиях столь дерзкого отклика на обращение придворной особы. Да если бы и был предупрежден, вряд ли Коковин поступил бы иначе, разве что раньше времени утратил бы покой.
Задетый отказом граф развернул кипучую деятельность. Лев Алексеевич мобилизовал свои превосходные дипломатические способности и добился-таки указания министра, предписывающего Коковину выполнять требования Департамента уделов. Не мытьем, так катаньем Лев Алексеевич достиг своего: несговорчивому директору гранильной фабрики впредь ничего не оставалось, кроме как подчиняться приказам Перовского.
С тех пор ручеек драгоценных камней с Урала направился в руки корыстолюбивого графа, а когда в окрестностях Екатеринбурга обнаружили изумрудную жилу, ручеек превратился в бурный поток. По иронии судьбы один из первых уральских самородков, лично ограненный Яковым Коковиным, украсил перстень Перовского. Заботясь о собственном обогащении, Лев Алексеевич распорядился заложить разведку изумрудов в пользу Департамента уделов. Цель Перовского была настолько очевидной, что Коковин, даже находясь под нависающим над ним дамокловым мечом, не смог выполнить требования графа. Яков Васильевич расплывчато ответил, что «для сего нужно особое предписание моего начальства».
Не подчиниться ему, государственному деятелю, столбовому дворянину, другу самого императора?! Перовский впал в ярость. Он расценил демарш Коковина как личное оскорбление, а такого Лев Алексеевич не прощал никому.
Заложник чести, урожденный крепостным, Яков Коковин не мог поступиться собственными принципами. Он хорошо представлял, насколько опасен для него Перовский, но, как всякий русский человек, Коковин уповал на Бога и надеялся на авось. Ко всему прочему, строптивый директор продолжал рассчитывать на покровительство Кабинета его Императорского Величества, в чьем подчинении он все еще находился. Перовскому пришлось вновь обращаться к министру Императорского двора. Вскоре из Кабинета в Екатеринбург поступило строгое предписание «неукоснительного исполнения требований Департамента уделов на счет добывания цветных камней, не исключая из оных и изумрудов».
Разочарованный директор уральской гранильной фабрики противостоять высочайшему указу не имел возможности. Ему лишь оставалось надеяться на благоразумие руководства, ждать, что оно когда-нибудь прозреет и разглядит в Перовском стяжателя. А до этих пор многим драгоценным камням, добытым в уральских копях, суждено было оседать в личных сокровищницах президента Департамента уделов.
Наши дни. Санкт-Петербург
– Вы утверждаете, что бинокль ваш и что вы его нашли в гримерке Вислоухова. Взяли в руки, но когда увидели, что Вислоухов мертв, положили назад.
– Все верно, так и было, – согласилась Новикова.
– С какой целью вы пришли к Вислоухову в гримуборную?
– Хотела попрощаться перед уходом с капустника.
– Хорошо попрощались, от души! – усмехнулся Осокин.
Алевтина сделала вид, что не заметила грубого намека в свой адрес.
– То есть когда вы вошли в гримерку, вы в первую очередь заметили бинокль, а уж потом Вислоухова? При том, что Андрей Юрьевич куда заметнее оптического прибора. Нелогичненько получается. Вы не находите?
Следователь взял манеру интеллигентного хама. Алевтина нисколько не сомневалась, что окажется первой подозреваемой, постаралась набраться терпения и не психовать, что давалось ей с трудом.
– Вы меня неверно поняли, – произнесла Новикова ровным голосом. Она не была актрисой, но долгие годы вращалась в актерской среде, а это способствовало приобретению кое-каких навыков. – Когда я зашла в гримерку, в первую очередь я заметила Вислоухова. Но тогда я еще не поняла, что он мертв. Он сидел ко мне спиной. Когда я увидела бинокль, взяла его в руки.
– А потом положили на место, – заметил Осокин не без ехидства.
– Да, положила! Когда я догадалась, что с Андреем что-то случилось, мне стало не до бинокля.
– Конечно, случилось. Еще бы не случилось после такого удара!
Новикова глубоко вздохнула, чтобы не огрызнуться, хотя нервы были на пределе. Она не хотела опускаться до хамского уровня оппонента. Усталость давала о себе знать, хотелось спать. Ночь давно перешла в утро, а ее до сих пор не отпускали, задавая одни и те же вопросы.
– Зачем же, по-вашему, мне понадобилось убивать Вислоухова? Да еще и в театре, – как можно спокойнее постаралась произнести Алевтина, но ее голос все равно дрогнул. – Не проще ли было бы расправиться с ним на каком-нибудь пустыре или в лесу?
– Это как знать. Люди поговаривают, что у вас с Вислоуховым были отношения. У Вислоухова появилась новая пассия. Как там ее… – Осокин заглянул в бумаги, – Дарья. Деваха молодая, привлекательная. – Он в упор посмотрел на Алевтину. – Вы ведь не могли не понимать, что в вашем возрасте и при вашей гм… не модельной фигуре вы уже вне игры.
– Я в игры не играю, – равнодушно ответила Новикова. «Ах, вон ты куда клонишь! Убийство из ревности! Было бы к кому ревновать», – зло подумала Алевтина.
Новикова никогда не была худышкой, даже в детстве. Плотно сбитая и невысокая, она напоминала скорее пони, чем грациозную лань. В юности ее пухлые щечки с небольшим животиком выглядели мило, она была этакой классической пышечкой – уютной и пленительной. С годами, когда очарование юности прошло, глаза потухли, Алевтина стала обычной толстой теткой, ничем не примечательной, каких вокруг полно. Это было обидно, ведь она чувствовала себя уникальной. Нет, не лучше других, но особенной. И это крупное тело, за последние годы ставшее рыхлым, казалось чужим. Никакие диеты, занятия спортом, позитивные мантры не помогали. Почему-то, как только она решала сесть на диету, нападал безудержный жор. Сразу начинало хотеться есть, и обязательно всего жирного и сладкого. Со спортом тоже не ладилось. Ну не было у нее силы воли! Не было! Зато на ее упитанном лице не появлялись морщины. Но все равно, от этого молодым лицо не выглядело. Что самое отвратительное, этот хамоватый следователь прав: она уже вне игры. Неинтересная полная женщина почти сорока лет. В моде тонкие да звонкие попрыгуньи-стрекозы и яркие бабочки. Как же хотелось однажды проснуться бабочкой! Вот так за одну ночь из усталой, невзрачной гусеницы превратиться в легкую, красивую бабочку.
* * *
Даже бесконечный рабочий день когда-нибудь заканчивается. Дежурство оперативника Михаила Небесова, так беззаботно начавшееся в воскресный вечер, плавно перетекло в ночь и подошло к завершению на рассвете. Голова была тяжелой, как начавшийся понедельник. А еще нужно было заехать в управу, заполнить бумажки. Как же не хотелось! Хотелось только одного – спать. Так бы и уснул по дороге. Но нельзя. Михаил себя знал – если уснет, то потом спросонья ничего уже соображать не будет. Что за собачья работа? Все нормальные люди десятый сон видят, а он как не пришей кобыле хвост болтается в ночи. Радовало только, что Осокин это дело вести не будет. Неприятный мужик, с подковыркой. Кому его передадут, Небесов пока не знал – не его ума дело.
Михаил забрался на заднее сиденье служебной машины и, чтобы не уснуть, стал обдумывать произошедшее. На данный момент картина вырисовывалась следующая.
В театре «Скоморох» во время вечеринки убили актера Андрея Вислоухова. Первой его обнаружила администратор того же театра Алевтина Новикова. По предварительному заключению эксперта, орудием убийства послужил бинокль. На бинокле обнаружены следы крови и отпечатки пальцев. Кому они принадлежат, предстоит выяснить. Вызвавшая полицию актриса Дульснина утверждает, что слышала, как Новикова ругалась с Вислоуховым перед тем, как она увидела его мертвым.
Пока все косвенные улики против Новиковой, она же является главной подозреваемый. Правда, мотив пока не ясен. Осокин склонен считать, что Новикова совершила преступление в порыве ревности. Скорее всего убивать не хотела. Поссорились, приложила попавшим под руку биноклем, да не рассчитала силы. Типичная бытовуха, разве что в театральной среде. Что же, служителям Мельпомены ничто человеческое не чуждо, те же страсти и разборки, все, как у всех. Нужно будет выяснить причину ссоры. На этот вопрос следователю она пока не ответила. Дамочка пребывает в шоке, а потому юлит, молчит или все отрицает.
Кстати, Новикова – не единственная, с кем в тот вечер ссорился Вислоухов. По многочисленным показаниям свидетелей, в банкетном зале в разгар вечеринки Андрей Вислоухов разругался со своей спутницей Дарьей Балашовой. Дарья вышла из зала, за ней последовал Вислоухов. Затем Вислоухова нашли в его гримерке мертвым, а Балашова упорхнула в неизвестном направлении. Ежу понятно, что надо искать подружку Вислоухова, вот только где? В театре ее паспортных данных нет, она там не работала. Говорят, что девушка приезжая, откуда-то из-под Курска.
Дарья
Вот она – жизнь, к которой нужно стремиться! Вот оно – достойное ее окружение! Дарья с восхищением смотрела на гостей закрытого показа головных уборов, куда привела ее Алевтина. Вообще-то Новикова дала пригласительный Вислоухову, но Андрею оказалось лень сюда идти, и он предложил сходить Дарье. Вот везуха так везуха! От Алки тоже бывает прок. Если бы не Новикова, она, Дашка, никогда бы сюда не попала.
По подиуму фланировали модели. Они смотрелись умопомрачительно в своих шикарных шляпах, с невообразимыми прическами, в потрясающих нарядах. Гости тоже были прекрасны: если не такие стройные и высокие, как модели, то обязательно стильные и эффектные. На них хотелось смотреть и разглядывать каждую деталь. Дарья никогда раньше не видела столько красивых людей в одном месте.
Все словно со страниц глянца, думала Дарья. Нет, лучше – из Инстаграма. Ну просто нереальные красотки! Такие ухоженные! Губки, бровки, скулы, идеально гладкие волосы, сделанные груди. В них во всех столько вкачено бабла, что ой.
Хоть показ с фуршетом Дарье очень понравились, она почувствовала неприятный осадок. Все присутствующие дамы оказались упакованы лучше ее. Эти их платья, туфли, сумочки, украшения…. Даже Алка явилась в колье с изумрудами. Так, ничего особенного: два небольших зеленых камня на тонюсенькой цепочке. С ее фигурой только и остается, что цацками брать. Но все же, все увешаны ювелиркой, а она нет. Как нищая. Дарья поежилась: она не любила выделяться в худшую сторону.
Несмотря ни на что, Дарья пришла от мероприятия в восторг. Ей тут очень нравилось. Определенно, нужно вклиниваться в это общество, чтобы стать одной из них. Ей хотелось жить, как они – красиво, с модными вечеринками, в окружении интересных людей. Это не та тухлая жизнь, которая была у нее с Козликом в его Соломине. Он иногда вывозил ее на курорты, когда она сильно канючила, ибо он был не любителем моря и солнца. Они бывали в гостях и на вечеринках, но в основном с Козловым была тоска. И вечеринки те были обычными пьянками. Деревня – чего от нее ожидать? А тут самый гламур. Самое лакшери!
* * *
С тех пор, как Дарья Балашова покинула родное Троицкое, жизнь закружила ее каруселью событий: Курский педагогический колледж, отчисление из него, неудачный роман, аборт, знакомство с заместителем мэра Козловым, сожительство с ним в Соломине, его арест, знакомство с актером Вислоуховым, приезд в Петербург. И вот теперь ее уносила в ночь продрогшая электричка, а ведь еще несколько часов назад она блистала на вечеринке в театре «Скоморох».
Высокая и скрючившаяся, Дашка походила на нескладного, замерзшего воробья и вызывала у окружающих любопытство и жалость.
– Что же ты, деточка, совсем голая?! Разве можно так?! – посетовала пожилая женщина в старомодном вязаном жакете с длинным ворсом. Женщина вошла в электричку на станции Навалочная и села напротив Дарьи. Одетая не по погоде и не к месту, девица сразу привлекла ее внимание, и не только сердобольной женщины – другие пассажиры тоже с интересом разглядывали путешествующую налегке чудачку, но ничего ей не говорили – не хотели нарваться на грубость. Девушка вошла уже в полный вагон на Московском вокзале с грохочущей из наушников музыкой. На просьбу пассажиров убавить звук она огрызнулась, затем демонстративно закинула ногу на ногу и уткнулась в телефон. Если бы Дарья ехала не по маршруту Санкт-Петербург – Малая Вишера, а, скажем, Нижний Тагил – Челябинск, и ее окружали бы не интеллигентные питерские дачники, а суровые уральские работяги, то она услышала бы о себе много нелестных слов и, вероятно, осталась бы без наушников. Девушка очень хорошо чувствовала, когда можно хамить, а когда лучше притихнуть. Здесь, в электричке, среди стариков и неброских скромных женщин, рослая, ярко одетая Дарья держалась нагло. Она смотрела на всех с превосходством, потому что они – все эти аутсайдеры, у которых нет денег ни на жилье в мегаполисе, ни на машину, чтобы ездить с комфортом, – никто и звать их никак. Они вообще не люди, а так – путающееся под ногами недоразумение.
Сонный состав уносил прочь от Петербурга запоздалых пассажиров. Это была последняя дальнобойная электричка. Битком набитый на Московском вокзале, электропоезд стремительно пустел по мере удаления от города. Основная людская масса вышла в ближайших пригородах. Уже после Тосно вагоны заметно поредели, а в Любане поезд практически опустел. Когда состав отправился от станции Чудово, Дарья осталась в вагоне одна, что ее ничуть не расстроило, напротив – девушка подумала, что теперь никто не будет вонять потом и едой.
За окном давно стемнело, пригревшись у окна, Дарья задремала. Ей пригрезилась красивая жизнь: где-то на берегу океана собственная вилла с садом; светские вечеринки в компании мировых звезд, где она блистательная и для всех своя; частный самолет, всегда готовый увезти ее в любую точку планеты. Самолет уже набрал высоту и парил в пронзительно-синем небе. Расположившись в широком бархатном кресле, она потягивает ледяной коктейль, как вдруг самолет подбрасывает, и он начинает стремительно падать. Дарья в ужасе кричит – она не хочет умирать, не хочет терять эту шикарную жизнь, которую еще не успела как следует вкусить. Хлопок головой о холодное стекло вернул девушку в реальность. «Электропоезд прибыл на конечную станцию Малая Вишера», – услышала она из динамиков. Опять серость и пыль, с отвращением подумала Дарья, сонно поднимаясь с места.
Немногочисленных пассажиров платформа встретила равнодушно. Это были в основном непрезентабельного вида мужчины, одетые в удобную походную одежду, и такие же ненарядные женщины с усталостью на тусклых лицах и непременно с пакетами и сумками в натруженных руках. Все они уверенно шли в одну сторону, образуя лохматую толпу. Выйдя из вагона, Дарья потопталась на месте – куда идти, она не знала. Логика ей подсказывала, что нужно двигаться в том же направлении, куда и все, но как же ей не хотелось сливаться с толпой, стать хоть на короткое время, как все они. С презрением она двинулась за людьми. Никто не стал задерживаться на автобусной остановке, знак которой ржавел при выходе в город. Привокзальная площадь быстро пустела. Люди в основном шли пешком, но за кем-то приезжали машины – такие же непрезентабельные, как и все здесь.
Замерзшая и усталая, Дарья с огромным удовольствием села бы даже в самый захудалый автомобиль, но никто ее подвозить не собирался. На нее здесь не обращали никакого внимания – каждый торопился домой, словно вот-вот уйдет последний трамвай или разведут мосты. К чему такая спешка, девушка не понимала. Наверняка ведь весь городок «кошка ляжет, хвост протянет», как говорила ее бабушка. Ничего, сама доберусь! – бодрилась Дарья, не без зависти глядя, как усаживается в старый «логан» толстая тетка с баулами. Знать бы еще, куда идти.
По опыту проживания в подобном городке, Дарья знала, что еще несколько минут, и на площади не останется никого, и тогда даже спросить дорогу будет не у кого. Она решительно направилась к серой «девятке», возле которой замешкался один из пассажиров с электрички.
– Добрый вечер, – улыбнулась Дарья. – Я не местная. Не подскажите, как пройти к Совхозной улице?
– К Совхозной? – Дядька изучающе посмотрел на Дарью, как бы прикидывая, дойдет ли она на своих каблучищах по маловишерским дорогам или нет. – До Совхозной не близко.
– Считай, три квартала будет, – встрял в разговор водитель, мужичок в прожженной куртке. – Тебе что там надо, девонька?
– Пятнадцатый дом, – охотно ответила Дарья и улыбнулась еще шире, в надежде обаять владельца девятки, – я в гости приехала. Из Питера.
– Пятнадцатый дом, где «Хозтовары»? Знаю!
– Возможно. Я не местная. А какой автобус туда ходит? – закинула она удочку. Девушка прекрасно знала, что в таких населенных пунктах, как этот, рейсовый автобус и днем редко ходит, а в столь поздний час и думать о нем нечего. Она завела речь об автобусе в надежде, что ей предложат подвезти. Говорить прямо Дарья не хотела – не любила просить. Особенно тех, кто, по ее мнению, стоял ниже ее на социальной лестнице. Пусть лучше предложат, а она, так уж и быть, согласится.
Предложения не последовало. Водитель поковырял в ухе и изрек:
– А зачем тебе автобус? До Совхозной, если идти дворами, то, считай, рукой подать, – махнул он в сторону дороги.
Дядька, наконец, уложил свои сумки в багажник и уселся на пассажирское сиденье рядом с водителем.
– Остановка на площади, возле ларька. Только автобуса сегодня уже не будет, – пояснил он и хлопнул дверцей.
«Девятка» с урчанием двинулась с места, обдав Дарью клубом пыли.
– Без тебя знаю, чмо! – сплюнула Дарья.
Девушка оглянула опустевшую площадь в надежде найти хоть какой-нибудь транспорт. Она уже хотела было броситься к мотоциклу с коляской, но он оказался безнадежно занятым бабой с тюками, а кроме мотоцикла в округе не осталось ничего.
До двухэтажного кирпичного дома на Совхозной улице Дарья добралась в третьем часу ночи. Ни в одном из окошек свет не горел. Было очевидно, что Катька спит, но Дарья так замерзла и устала, что ей было не до условностей и приличий. Она решительно набрала на домофоне номер Катькиной квартиры. Домофон никаких признаков жизни не подал. «Не работает! – догадалась Дарья и дернула дверь. – В этом Задрищенске все не как у людей!» Дверь не поддалась. Тогда она набрала номер другой квартиры, потом другой… и так звонила всем, пока чья-то добрая рука ей, наконец, не открыла. Дарья воодушевленно взлетела на второй этаж, чтобы штурмовать квартиру подруги.
Она разбудила всех соседей, прежде чем раздалось сонное бряканье Катькиных замков. Растрепанная, в запахнутом банном халате Катерина выглядела хуже, чем на аватарке, хотя и на аватарке, по мнению Дарьи, Катька тоже была «не айс».
«Клуша», – оценила ее про себя Дарья, а вслух произнесла:
– Привет! Стрижка тебе идет. И вообще… ты так круто выглядишь!
– Какая стрижка? – опешила Катя. – Даша! Откуда тебя принесло?! Что ты здесь делаешь?!
– Ну, ты же раньше косу носила, – напомнила гостья студенческие годы. – Ой, что было! Это очень интересная история!
Не умолкая ни на минуту, Дарья проскользнула в глубь квартиры.
– У тебя уютно! Такие милые обои! – похвалила Дарья заурядную обстановку.
– Тише! Моих разбудишь!
– Они спят?! Ой, да завтра же понедельник! – запоздало спохватилась Дашка, понизив голос. – А помнишь, как мы с тобою ночами колбасили? А с утра на пары…
– Мне в семь вставать, – перебила ее Катя. – Обсудим все завтра. Постелю тебе в кухне. Там диван маленький, но другого нет.
– Да мне сойдет!
Катерина с сомнением посмотрела на внезапную гостью. Когда они вместе жили в общаге, Дашке сгождались любые диваны, но потом, устроившись при бизнесмене, подруга стала разборчивой – предпочитала все только «элитное» и дорогое. Останавливалась она исключительно в пятизвездочных отелях. Во всяком случае, об этом свидетельствовали ее фото в социальных сетях. И чего ее принесло в их богом забытый городок?
– Ну, ты написала, что будешь рада встрече, вот я и приехала! – словно прочитала ее мысли Дарья.
Катя ничего не ответила – не нашла слов. Полгода назад Даша появилась у нее на страничке фейсбука и попросилась в «друзья». Пара ничего не значащих фраз, обмен любезностями и «лайками».
Три года проживания в одной общежитской комнате предполагали возобновление духовной близости. Близости не случилось.
Как только Дарья уселась на жесткий кухонный диван, она сразу почувствовала, насколько устала. Ноги с вздувшимися венами гудели, как чумные. Больше всего ей было жаль не ног, а новых миланских туфель, каблуки которых безнадежно испортились на маловишерских ухабах. Катерина коротко задавала какие-то бытовые вопросы, Дашка отвечала односложно. На разговоры не осталось сил. Хотелось смыть с себя дорожные запахи и пыль. Добравшись до ванной комнаты, Дашка смогла лишь ополоснуть лицо – настолько она устала.
Вернувшись в кухню, Дарья обнаружила на диванчике подушку и одеяло. Она попыталась вытянуться в полный рост, но ноги уперлись в ободранную диванную спинку. «Кошка когти точила», – догадалась она. Постель оказалась не самой удобной. Несмотря на некомфортные условия – узкий кухонный диван и тарахтящий, словно трактор, холодильник, Дарья в ту ночь спала как убитая.
1942 г. Соломино. Белгородская область
Наступили голодные времена. Еще перед оккупацией Степан зарезал скотину, разделал ее на куски, засолил и попрятал в разные места под крышей. Пелагея хотела было устроить ему бучу, но поняла, что муж все сделал правильно. Она лишь тихо заплакала, причитая о том, как теперь жить.
Каждый день приходили немцы за провизией, требовали мяса и яиц, ни того, ни другого в доме Степана не было, и тогда оккупанты забрали всю картошку.
Нина с сестрой ходили собирать кислицу и крапиву. Потом из них варили похлебку, добавляя в нее горстку припрятанного Пелагеей пшена.
Село Соломино попало в самое пекло войны, как говорил Савелий, к дьяволу в котел. Линия фронта то приближалась, то снова отодвигалась на восток. В те дни, когда Красная армия подходила к Соломину, для сельчан наступал кошмар. Горели земля и небо. Люди, кто покидал дома и безумно бежал под обстрелом в лес, кто прятался в погребе, рискуя остаться там навсегда. Степан Кочубей, повидавший Империалистическую войну, предусмотрительно вырыл землянку, где и спасалась вся его оставшаяся семья. Горели избы, свистели снаряды, все вокруг грохотало. Нина больше не рвалась воевать, она, закрыв голову руками, тулилась к старшей сестре.
– Чтоб вам пусто было, ироды проклятые! – ругалась Ганна при каждом взрыве.
С неба стремительно приближался к земле дымящийся самолет. На фюзеляже показалась красная звезда. Самолет с грохотом упал во двор Кочубеев и загорелся.
– Етишь твою кочергу! – выругался Степан. Он выбрался из землянки и бросился к дому спасать хозяйство.
Ганна хотела последовать за отцом, но тот ее остановил.
– Береги Нину! – Степан посмотрел на дочь сурово и в то же время ласково, как это умел делать только он. – Даст бог, не пропаду. И помни, о чем я тебе говорил!
– Папа! – оглушительно закричала Нина. Она вскочила, готовая бежать к отцу.