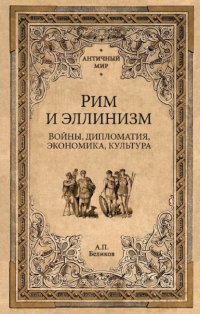
Читать онлайн Рим и эллинизм. Войны, дипломатия, экономика, культура бесплатно
- Все книги автора: А.П. Беликов
© Беликов А.П… 2023
© ООО «Издательство «Вече», 2023
Предисловие автора
Издательство «Вече» предложило «как есть» переиздать мою книгу, вышедшую в свет в 2003 году. Если переписать её заново, используя всю новую литературу, появившуюся с тех пор, то это была бы уже во многом другая книга.
Поэтому пересмотренный и несколько расширенный текст монографии содержит исправления опечаток, некоторых неточностей и формулировок, ныне представляющихся мне не очень удачными.
Содержание и суть книги практически не изменились. Тем более что некоторые высказанные в ней идеи, которые тогда вызывали резкую критику, сейчас уже являются почти общепринятыми как в отечественной, так и в зарубежной историографии. Это и мнение о том, что македонский царь Филипп V совсем не собирался воевать в Италии за интересы Карфагена, а преследовал собственные цели на Балканах, что римская экспансия отнюдь не «направлялась» руками италийского купечества и совершенно не была борьбой за «рынки сбыта», а римский филэллинизм представлял собой не политический, а почти исключительно культурный феномен. К этому следует добавить вывод о том, что греки и римляне испытывали по отношению друг к другу явную неприязнь, а эллины никогда не переставали считать гордых квиритов варварами. И т. д. и т. п.
И напротив, некоторые мнения, высказанные в книге, так и остались дискуссионными или мало разработанными и по сей день. За прошедшие годы на русском языке появилось не так много работ по данной теме, поэтому представляется, что актуальность самой монографии сохранилась, тем более что тираж первого издания был весьма незначительным и практически распродан.
Выражаю глубокую благодарность издательству «Вече» за возможность переиздания книги.
5 февраля 2023 года.
А.П. Беликов
P.S. На книгу была опубликована доброжелательная, написанная в лучших академических традициях, рецензия М.В. Белкина: (Белкин М.В. Рим и эллинизм: попытка решения проблемы // Мнемон. Вып. 2. СПб., 2003. С. 348–355). Не со всем в ней могу согласиться, но искренне благодарен автору за высказанные замечания.
Разумеется, монография, как и любой другой труд, не свободна от недостатков – пусть читатели судят об этом сами.
Введение
Восточная политика Римской республики – сложная дискуссионная тема. И хотя главными объектами этой политики были греки и эллинистические государства, само её начало связано совсем с другим этносом (карфагенянами), а её развитие столкнуло римлян с в разной степени эллинизированными жителями Малой Азии, а позже с евреями, армянами, парфянами. Но определяющими всё-таки были контакты с миром эллинизма: политические, военные, экономические, культурные. Во всём богатстве и многообразии этих контактов и произошло становление римской цивилизации, поэтому дихотомия Рим – эллинизм является принципиально важной – на стыке двух миров рождался новый, похоронивший эллинизм, чтобы расцвести на его обломках. Всегда интересны моменты кризисные, даже «гибельные», поскольку они очень ярко показывают: ничто не гибнет бесследно, ничто и не рождается на пустом месте. Проблема преемственности между эллинизмом и Римом остаётся принципиально важной, поскольку фундамент будущей европейской и даже мировой цивилизации составили именно эти две составляющие: греческая и римская культуры.
Посему взаимоотношения римлян с другими народами мы будем рассматривать вскользь и именно в их связи с главной нашей темой. В некоторых случаях мы даём собственную реконструкцию событий, существенно отличающуюся от общепринятой. Но это будет не описание событий, а их анализ. Работа строится не по хронологическому или территориальному, а по проблемному принципу. Нельзя объять необъятное. Мы будем ставить и пытаться решать проблемы, которые представляются нам наиболее важными, особо дискуссионными или слабее всего изученными.
Всегда особую важность имеют первые шаги, во многом определяющие всё последующее развитие событий. А конец III и начало II в. до н. э. имели исключительное значение для Рима и всемирной истории. II Пуническая война решила судьбу Западного Средиземноморья, Рим стал мировой державой. Борьба с пунийцами влияла на всю политику Рима, и рассматривать какие бы то ни было акции сената последней трети III в. до н. э. в отрыве от неё было бы ошибкой. Данный период знаменателен и другими «судьбоносными» событиями: Иллирийскими войнами, I Македонской войной, ставшими самым началом проникновения Рима в Восточное Средиземноморье. Они не избалованы чрезмерным вниманием исследователей, в чьих глазах грандиозность II Пунической войны несколько затмила эти, как казалось, менее драматические страницы истории.
Наконец, в отечественной историографии до сих пор отсутствует единая обобщающая работа по всему периоду восточной политики Республики – от I Иллирийской войны до аннексии Египта в 30 г. до н. э., хотя существует немало работ по отдельным её аспектам. Наш труд и представляет собой попытку восполнить этот пробел и дать дополнительный импульс к изучению поставленных проблем.
Любопытная закономерность: многие книги имеют заголовок «Эллинизм и Рим…», но почти нет работ «Рим и эллинизм…», поэтому мы попытаемся взглянуть на проблемы их взаимоотношений «с римской стороны», не теряя при этом объективности.
Цели и задачи: проанализировать генезис глобальной римской внешней политики, её становление и развитие, вычленить основные этапы и показать их специфику, проследить связь между внешней политикой и внутренней, политикой и экономикой, выявить особенности «этнического менталитета» квиритов и показать, как он влиял на саму политику. Тема даёт материал для обобщений, выход на важнейшие вопросы: как и почему изменялась политика, как войны меняли Рим? Рассматривается и более широкий круг проблем: агрессия и гегемония, этническая нетерпимость и этноцентризм, взаимодействие народов и возможность «честной политики», принципы устроения государства, которые позволили полиэтническому Риму просуществовать рекордно долгое для империй время.
При работе мы столкнулись со многими трудностями, вроде недоступности некоторых книг и журналов, вообще отсутствующих на территории России. И одной проблемой: многие теории, которые мы пытались доказывать ещё 20 лет назад в студенческих курсовых и дипломной работе и которые тогда воспринимались скептически (связь Пунических войн с Балканскими, нежелание Филиппа V воевать в Италии на стороне Ганнибала, отсутствие филэллинизма в политике…), сейчас в зарубежной историографии считаются уже бесспорно доказанными и очевидными. Посему сноски на эти работы будут, но отдельно будет и авторский текст.
Тема достаточно хорошо обеспечена источниками, хотя и не по всем её периодам и проблемам. Источники можно разделить на три группы.
1. Нарративные. Они являются наиболее информативными и полными. Наибольшую значимость имеет Полибий: 1) очевидец и участник многих описываемых событий; 2) следующий Фукидиду в принципах глубокого исследования явлений. Правда, он не всегда бывает объективен, особенно по отношению к врагам Ахайи этолийцам. Следует учитывать обстоятельства его биографии и тот факт, что он писал не только для греков, но и для римлян, поэтому ему приходилось соблюдать «политкорректность». Однако, несмотря на некоторые недостатки, это по-настоящему научный труд, основанный не только на личном опыте, но и на работе в архивах и обработке воспоминаний «ветеранов». Качество его работы не вызывало сомнений уже у его современников. Давно доказано, что даже «сугубый патриот» Ливий часто использовал его, предпочитая даже анналистам[1]. По оценке самого Ливия, Полибий – «автор, заслуживающий большого уважения» (Liv. XXX.45). Ещё в древности он пользовался огромным авторитетом.
Тит Ливий, пожалуй, самый информативный и обстоятельный источник для огромного периода римской политики. Если бы сохранились все 142 книги его труда, неясных и спорных вопросов осталось бы намного меньше. Очень подробно излагаются сами события, ценно, что автор представляет чисто римский взгляд на них, помогая нам глубже понять саму римскую ментальность и поведенческие модели взаимоотношений. Его труд написан для прославления Рима, он использовал чрезвычайно тенденциозных анналистов, критика источников у него почти отсутствует, поэтому пользоваться им следует осторожно, сверяя со свидетельствами других авторов. Ливий стремится быть объективным, не опускается до явных фальсификаций, но он замалчивает или смягчает то, что могло бы бросить тень на величие Рима. Его зависимость от анналистов снижает качество его сочинения и степень достоверности, особенно в том, что касается «победных реляций»: численность убитых и пленённых врагов, потери римлян, роль союзников в сражениях.
Важен труд галла Помпея Трога в 44 книгах, опиравшегося на утраченные сочинения врагов Рима, представлявших совсем другой взгляд на события, и сохранившийся лишь в сокращённом изложении Юстина. Правда, Юстин сокращал его произвольно и заметно исказил первоначальный текст[2], очевидно, выбрасывая и сглаживая то, что не вписывалось в русло проримского историописания. Однако текст иногда сохраняет антиримскую традицию с её резкой оценкой римской политики.
Грек из Александрии Аппиан, несмотря на ошибки и неточности, часто даёт информацию, которой нет в других источниках[3]. Очевидно, он также использовал не дошедшую до нас эллинистическую традицию, представляющую альтернативную версию событий, не расположенную к римлянам[4]. Он родоначальник принципиально нового построения исторического труда – территориально-этнического, посвящённого событиям, связанным с отдельными странами или народами. Несмотря на некоторые недостатки, «в целом это серьёзный и интересный автор»[5].
Плутарх часто пишет о том, чему другие авторы уделяют мало внимания: о характере героев, их привычках, мелких бытовых деталях, которые позволяют так много узнать о человеке. Информативность его биографий (особенно Марка Антония и Красса) чрезвычайно высока, иногда ему удаётся воссоздать психологически объёмную характеристику личности. Главная трудность при работе с ним: далеко не всегда можно чётко установить, где он приводит исторический факт, а где пересказывает «анекдоты», которые античные люди любили не меньше наших современников. Классический пример – жемчужина, растворённая в уксусе, который Клеопатра выпила без малейшего ущерба для своего здоровья…
Павсаний, написавший большую работу «Описание Эллады», строго говоря, не был географом – он даёт информацию и по историческим событиям, хотя для него это и не являлось главной задачей. Во многом благодаря только ему мы имеем хоть какие-то сведения о Греции после 146 г. до н. э.
Страбон, автор «Географии» в 17 книгах, лично объездил почти всё Средиземноморье, поэтому его труд имеет особое значение. Данные, приводимые им, обычно заслуживают доверия, тем более что он старался использовать авторов, происходящих из описываемых им регионов. Чисто географические сведения его труда много дают для понимания экономики и этнопсихологии стран и народов. Остаётся лишь сожалеть, что вторая его большая работа – продолжение истории Полибия, погибла безвозвратно.
Дион Кассий Коккейан, от труда которого, к сожалению, сохранились лишь фрагменты. Достоинства его работы бесспорны. Он один из последних авторов, решившихся на написание объёмистого исторического сочинения в 80 книгах, что во время его жизни (II–III вв. н. э.) было уже немодным и не пользовалось читательским спросом. Почтенный возраст, в каком он начал свой труд, огромный политический опыт, приобщённость к тайнам правления, явно хорошее образование и несомненные аналитические способности позволили Диону Кассию создать настоящее исследование. Даже немногие полностью сохранившиеся книги (XXXVI–CIV – о событиях 68–10 гг. до н. э.) показывают мастерство грека. Действительно, он «не нуждается в апологии»[6]. У него была возможность использовать не только латинских, но и греческих авторов, многие из которых до нас не дошли. При всей лояльности к римской власти он иногда приводит сведения, отличающиеся от «типично квиритской» точки зрения.
Луций Анней Флор – яркий представитель новой генерации историков-эпитоматоров, вызванных к жизни изменившимися потребностями читателей. К концу Республики «всё пространно изложенное, хотя и продолжало вызывать уважение бездной затраченного времени, уже порождало зевоту»[7]. Составленная Флором краткая история римских войн в двух книгах может быть охарактеризована как «тематический конспект». Труд его официозен, сомнения и размышления ему не свойственны, повторяя предшественников, он пишет: пленённый любовью к Клеопатре, Антоний забыл родину… (XXXI.IV.11.1–3).
Веллей Патеркул оставил краткую историю Рима в двух книгах. Изложение конспективное, что не мешает автору приводить мелкие любопытные подробности и заниматься морализаторством.
Для истории поздней Республики огромное значение имеют сочинения Саллюстия. Современник и участник многих драматических событий, он знал о них не понаслышке. Благодаря общему настрою его трудов (осуждение нравственной порчи римлян) мы много узнаём о глубине морального кризиса, поразившего Республику в последний век её существования.
Гай Светоний Транквилл, живший в императорскую эпоху, проявлял свойственный этому периоду интерес уже не столько к героям, сколько к правителям. Традиционно считается, что как биографа его затмил Плутарх, и сравнение с ним не в пользу Светония[8]. Однако, как нам кажется, его биографии Цезаря и Октавиана выгодно отличаются от описаний Плутарха прежде всего своей документальностью, иногда автор приводит даже тексты документов. Серьёзный недостаток его главного труда – «Жизнь двенадцати цезарей» – заключается в хронологических сбоях, когда он нарушает последовательность событий ради каких-то любопытных подробностей.
Цицерон, как современник описываемых им событий, один из важнейших источников, несмотря на его предвзятость и эмоциональность, впрочем, вполне понятные. Особую ценность имеют его речи и письма, являющиеся великолепным памятником эпохи и дающие большое количество разнородной, но интереснейшей информации. Они дают «непосредственный, живой отголосок событий»[9]. В них тоже заметно стремление оратора показать себя с самой лучшей стороны, но сама специфика эпистолярного жанра вынуждала его кратко и точно излагать события. Мы всецело присоединяемся к лестной характеристике, данной Корнелием Непотом: «Кто прочтёт письма Цицерона к Аттику, тому не понадобится историческое повествование о тех временах. В них так подробно описаны политические страсти вождей, развращённость военачальников и перемены, происходившие в государстве, что всё становится ясным» (XXV.15).
Евтропий, хотя и поздний автор (IV в. н. э.), но стилем очень близкий к анналистам. Он даёт лишь перечень событий, не всегда умея выделить в них главное, изложение неглубокое. Так, уничтожение Коринфа он объясняет «обидами», нанесёнными римским послам (IV.III); обвиняет Антония в том, что тот под влиянием Клеопатры желал царствовать в Риме и затеял междоусобную войну (VII.IV).
Диодор Сицилийский, «великий компилятор», иногда не замечающий противоречий между частями своего текста, заимствованными у разных авторов, отличается многословием и велеречивостью. Главное его достоинство – оно сохранил для нас фрагменты многих утраченных историков предыдущего периода.
Корнелий Непот, пожалуй, самый скучный и сухой автор, хотя и сложно согласиться, что он – «второстепенный историк»[10]. Присущие ему недостатки – неточности и даже фактические ошибки, необоснованные утверждения, поверхностные суждения. Он свято верит, что «римляне доблестью превзошли все народы» (XXIII,1), явно преувеличивает степень влияния Ганнибала на Филиппа V, Антиоха III и вифинского царя Прусия. В то же время он упоминает мелкие подробности событий, ускользнувшие от внимания других историков, а ряд его высказываний показывает, что он пытался проникнуть в психологию человеческих поступков («Нрав человека определяет его судьбу» – XXVI.19), что вызывает уважение. Именно Непот придумал жанр сравнительных биографий, что подтверждает его интерес к личности.
Зонара. Автор поздний и неоригинальный, но иногда он сохраняет следы утраченной античной традиции.
Менее значительные авторы позволяют уточнять сведения наших основных источников. Источники дополняют друг друга, им можно устроить «перекрёстный допрос» и таким образом, выявив расхождения, попытаться установить истину.
2. Эпиграфические источники, несмотря на свою краткость и порой фрагментарность, имеют особую ценность, как свидетельства документальные. Для нашей темы очень полезны оказались сенатусконсульты о правах отдельных греческих городов, свод делосских надписей и эпиграфический материал из Пергама, позволивший уточнить информацию письменных источников и подвергнуть критической проверке некоторые выводы историографии.
3. Археологические и нумизматические источники, при всей сложности их интерпретации, являются той материальной основой, без которой просто невозможно исследовать вопросы экономики и торговли. Они неоспоримо доказывают: утверждения о гибели родосской торговли после 168 г. до н. э. являются, мягко говоря, преувеличением. Анализ находок римских денариев на востоке свидетельствует о слабой роли римской монеты в торговом обороте вплоть до конца I в. до н. э., что отнюдь не может быть случайностью.
Зарубежная историография богаче отечественной, т. к. начала развиваться раньше и всегда обладала большими материальными и «контактными» возможностями. Западное антиковедение полицентрично, представлено большим разнообразием научных школ и направлений, оно тоже не свободно от идеологизаторства, но никогда (за исключением периода германского и итальянского фашизма) не подвергалось давлению со стороны государства. В то же время мы далеки от того, чтобы относиться к зарубежным работам с пиететом, и прекрасно видим как их достоинства, так и недостатки.
Представляется, что развитие зарубежного антиковедения можно разделить на четыре этапа, с довольно условными хронологическими границами, но со специфическими чертами, присущими каждому из них.
1. Период становления: до 1860 г. Недостатки: некритическое отношение к источникам, напыщенность и многословие, тенденция к созданию громоздких общих курсов истории Рима, малое количество специальных работ, посвящённых конкретным вопросам, пересказ фактов и почти полное отсутствие проблематики исследования. Первые труды европейских учёных являлись простым пересказом античных авторов[11]. Правда, это был необходимый этап развития, нужно было накопить материал, реконструировать сам ход событий и их хронологию.
Из наиболее значимых имён выделим Ш. Монтескьё[12], заслуги которого в изучении Античности до сих пор недостаточно оценены. Его философская работа основана на источниках и сопровождается структурным анализом, качество которого неизмеримо превосходит присущие XVIII в. общие размышления. Характер войн и военной организации Рима автор выводит из его социально-политического устройства, трезво оценивает римскую политику, критически излагает материал источников. Автор убедительно объясняет порчу нравов и общую деградацию римлян ролью богатства, успешными завоеваниями и неравенством в распределении земли. На наш взгляд, им верно оценена деятельность Филиппа V, вынужденного подчиняться Риму, и отмечена тяга царя к мелким захватам. «Исторические знания Монтескьё огромны, историческое чутьё изумительно», – нам нечего добавить к этой характеристике А.Г. Вульфиуса[13]. Работа и сейчас не утратила значения, и во многом Ш. Монтескьё опередил науку своего времени, например многотомный труд Ш. Роллена[14], излишне доверявшего источникам. В то же время Ш. Роллен в другом своём многотомнике одним из первых указал на различные варианты договора Филиппа V с Ганнибалом у Полибия и Ливия[15]. Касаясь этого договора, А. Фергюсон пришёл к парадоксальному выводу, что он был заключён в пользу Деметрия Фаросского[16]. Отсюда идёт очень живучая традиция чрезмерно преувеличивать влияние Деметрия на царя.
Заметно выпадает из своей эпохи и книга Герена[17]: объективные оценки событий, римская политика характеризуется без малейшей идеализации, которая была так свойственна всему XIX в. Неслучайно и вполне оправданно «долгое время эта работа считалась одним из лучших руководств по древней истории»[18].
Следующий этап – первые тома «Истории Рима» Т. Моммзена[19], ставшие важной вехой в развитии романистики. Находясь на рубеже выделенных нами 1-го и 2-го периодов, они одновременно стали и шагом вперёд, и шагом назад. По методам исследования они принадлежат уже к новой эпохе: научная критика источников, проблемный характер изложения, анализ событий, оригинальные выводы, много новых идей. Правда, далеко не все выводы бесспорны; так, нельзя падение Македонии объяснять лишь особенностями характера Персея[20]. Вместе с тем, а это и есть шаг назад, автор своим авторитетом надолго закрепил в науке главный недостаток первого периода: идеализацию римлян и их политики. Сам несомненный талант немецкого учёного, соединённый с его полемической страстностью и язвительностью по отношению к оппонентам, явился причиной того, что в историографии стал чуть ли не аксиомой постулат: сенат был не агрессором, а миротворцем. Т. Моммзену принадлежит идея «защитного империализма», оказавшая колоссальное влияние на историографию.
2. Период зрелости: до 1930 г. Однако примерно тогда же появились работы, полемизирующие с таким подходом, а также свойственными Т. Моммзену модернизаторскими тенденциями. Они более академичны, изложение взвешенное, авторы стараются быть предельно объективными и не допускать в научные построения личные симпатии и антипатии, чем так грешили труды Т. Моммзена. Это и есть один из критериев (более зрелые работы, избавившиеся от детской восторженности и юношеской пылкости), позволивших нам начать второй период примерно с 1860 гг. Например, характерен восьмитомник В. Ине, осуждавшего жестокость и коварство римлян, указывавшего на тенденциозность источников и необходимость критического к ним отношения. Его труд создан в противовес Моммзену, к которому автор высказывает антипатию, для него нет героев, и он осуждает жестокость римского характера[21]. На наш взгляд, В. Ине впадает в другую крайность, априори постулируя эту пресловутую жестокость как неотъемлемую черту ментальности квиритов. Ф. Шлоссер и Г. Вебер издали обширные всемирные истории[22], написанные без идеализации Рима, с позиций трезвого академического скептицизма. Реалистическими взглядами отличается и обстоятельная работа Г. Герцберга, сомневающегося в намерении Филиппа V начать решительную войну с Римом и отмечавшего, что величайшая заслуга римлян – это создание единой «национальной державы»[23].
Интересен труд К. Нича[24], выражавшего сомнение в желании Филиппа V воевать в Италии, но не развившего эту мысль. Автор обращался к вопросу, почему сенат так долго отказывался от приобретения провинций. По его мнению, это шло от желания сохранить крестьянское хозяйство и не отвлекать граждан на гарнизонную службу. Эта позиция стала общим местом в историографии, хотя, на наш взгляд, она даёт очень неполное объяснение столь сложной проблемы (см. главу 3). В этой связи нельзя не упомянуть семитомный труд В. Дюрюи. Важен его тезис о том, что сенат, завоевав мир, не знал, как им управлять[25]. Вероятно, именно В. Дюрюи является родоначальником популярной и сейчас теории, объясняющей длительность перехода к провинциям косностью политического мышления римлян. Кроме пресловутой косности, он не касается ни конкретно-политических, ни социально-экономических аспектов, поэтому его концепция по меньшей мере неубедительна.
Ценным вкладом в историографию стала работа «историка-психолога»[26] Г. Ферреро[27]. Она наиболее полно воплотила в жизнь второй принцип, по которому мы выделили период «зрелости» – интерес к психологическому миру творцов истории, стремление вскрыть самые глубинные мотивы поступков человека. Это позволило итальянскому учёному дать прекрасный анализ внутриполитической жизни Рима, показать роль завоеваний в падении нравов квиритов.
Отношениям Рима с Грецией специально посвящена монография Г. Колена. Причиной агрессии на Балканы автор считает самих греков, вызвавших её своими раздорами, настаивает на мягком характере политики сената, cенаторов довольно произвольно делит на либералов, жёстких либералов и сторонников подавления[28]. Большим минусом книги является то, что Г. Колен обошёл концептуальный вопрос, была ли Греция свободной после 146 г. до н. э.[29] Вероятно, именно потому, что ответ на такой вопрос разрушил бы все его построения о благостной роли Рима на Балканах. Это и есть главный недостаток второго периода – в нём господствовала идея «защитного империализма». Развивая её, М. Олло создал теорию превентивных войн[30]. Согласно Т. Франку, во всех войнах Рим защищал себя и свободу союзников[31]. Неудивительно, что американский исследователь внешнюю политику Рима считал «идеалистической», изменение курса связывал всего лишь с возросшим практицизмом, а медлительность перехода к провинциальному устройству объяснял затянувшимися экспериментами с протекторатом[32]. Самый конец периода отмечен становлением новых тенденций: отрицая наличие обдуманного империализма в Риме, М. Ростовцев в то же время отмечает несентиментальный характер римской политики[33], что стало явным шагом вперёд. Это подготовило почву для начавшегося примерно с 1930 гг. третьего периода.
3. Аналитический период: до 1980 г. Для него характерны: 1) возросший интерес к социально-экономическим вопросам, что мы отчасти склонны объяснять желанием западных историков «дать отпор» социологизаторским схемам советских античников; 2) критический пересмотр концепций предшествующего периода; 3) более высокая степень аналитичности; 4) обобщение накопленного материала, создание академических многотомных историй Античности.
Для понимания специфики римской экономики огромное значение имеют 1-й и 4-й тома капитального труда под общей редакцией Т. Франка[34] и ряд специальных монографий авторитетных зарубежных учёных. Монументальную работу об экономике и торговле эллинизма издал М. Ростовцев[35].
Следует остановиться на работе Р. Сайма, применившего новый тогда просопографический метод[36]. Его конечный вывод: политическая борьба в Риме определялась не спором партий или политических программ, а столкновением интересов самых влиятельных фамилий, вокруг которых группировались приверженцы, связанные с ними чисто личными отношениями. И во многом это верно. Дальнейшее развитие метода связано с именами Ф. Мюнцера, Д. Брискоу и других учёных. Просопография интересна и полезна, позволяет получить новые частные факты и уточнить уже установленные, но, на наш взгляд, она является вспомогательным методом и не должна претендовать на глобальные выводы и слишком широкие обобщения. Игнорируя всю сложность переплетения личных мотивов лидеров с конкретной исторической ситуацией, сторонники метода всю социально-политическую борьбу зачастую сводят к столкновениям внутри нобилитета, преувеличивая роль вождей. Это так же неубедительно, как и позиция В. Тарна, среди факторов, определяющих исторический процесс, решающую роль отводящего идеологическому[37].
Важным событием стало издание книги Э. Бэдиана[38]. Ему принадлежит выработка концепции иностранной клиентелы. Осознание её неэффективности привело к прямому управлению завоёванными территориями, но главным фактором Э. Бэдиан считает лишь малую эффективность прежней системы. Важен вывод автора об отсутствии у сената заранее обдуманного плана завоевания Средиземноморья. Признавая наличие римских интересов на Востоке, он в то же время верит и в миролюбие сената.
Для своего времени заметным явлением стало издание многотомной «Кембриджской древней истории». Однако она впитала в себя не только достижения, но и недостатки периода, в частности – концепцию «оборонительного империализма». В итоге она довольно быстро морально устарела, что и привело к новому изданию, которому, похоже, суждена долгая жизнь, т. к. оно избавилось от многих минусов предыдущего. Совместными усилиями западных антиковедов издаётся фундаментальный труд «Подъём и упадок римского мира», первый том которого едва ли устареет, поскольку написан с академической сдержанностью в оценках[39].
Отметим интересную книгу Б. Форте[40], на наш взгляд, незаслуженно раскритикованную М. Кроуфордом за «банальное заключение»[41] о том, что греки не любили римлян, помыкавших ими. Свой вклад в биографический жанр внёс Г. Бенгтсон, но, подобно многим предшественникам, он искусно обошёл дискуссионный вопрос об италийских амбициях Филиппа V[42], якобы действительно имевших место в планах македонского царя.
Длительную дискуссию вызвала неординарная работа У. Харриса, детально исследовавшего римский империализм периода Республики[43]. Книга богата фактическим материалом, содержит новые мысли, опровергает многие устоявшиеся представления. Однако автор почти всё сводит только к жажде славы и добычи, преувеличивает агрессивность римского народа, не затрагивает причин перехода к провинциям, не даёт чёткого решения проблемы аннексии. В проблеме римского империализма учёные разделились на «романистов» и «эллинистов», первые (М. Олло) настаивали на неагрессвности Рима, вторые (Ф. Уолбэнк) проводили мысль об оборонительной позиции эллинистических государств[44]. Оба мнения, на наш взгляд, являются крайностями. И хотя восточной агрессии Рима уделили внимание столь авторитетные учёные, как «патриарх антиковедения» А. Тойнби, Э. Бэдиан, П. Бенеке, В. Эренберг, Н. Хэммонд, Г. Делл и многие другие, некоторые их выводы представляются нам недостаточно обоснованными. Тема римской политики остаётся одной из актуальнейших, можно согласиться с Ю.Е. Журавлёвым, «не только потому, что во многом объясняет дальнейшую судьбу Средиземноморья, но и тем, что оказывается созвучной острым современным международным проблемам»[45].
Из важнейших работ последнего десятилетия периода отметим две. Р. Эррингтон[46] кроме сложнейшей проблемы датировки вступления Этолии в 1-ю Македонскую войну затронул некоторые другие острые аспекты, которых обычно избегают более осторожные исследователи. И. Гарлан одним из немногих указал, что причиной Иллирийских войн были не коммерческие, а стратегические интересы Рима, что отношение сената к этолийцам определялось прежде всего той ролью, которую они играли или пытались играть в жизни Греции[47].
4. Современный период: с 1980 г. Начало периода определено нами довольно условно. Критерии: 1. Нарастающее влияние современной жизни на внутреннее восприятие и оценки далёкого прошлого (не модернизация!). 2. Развитие контактов благодаря электронной почте. Улучшение доступа к информации благодаря Интернету. 3. Увеличение роли ранее «периферийных» центров антиковедения. Растущий международный авторитет финских, испанских, нидерландских, чешских, польских, хорватских античников, в меньшей степени – отечественных. 4. «Примирение» отечественного антиковедения с западным. Нам всегда претило определение «буржуазная наука», ибо наука едина, и делить её таким образом… Уничижительные оценки зарубежной историографии – пережиток «холодной войны» и «противостояния двух миров». Критиковать нужно конкретные построения автора, а не его государственную принадлежность или приверженность другой идеологии.
На рубеже 3-го и 4-го периодов в решении некоторых частных вопросов англоязычная историография превосходила отечественную (оценка политики Филиппа V, соотношение национального и социального в антиримской борьбе греков, роль Рима в восточных событиях, «торговый империализм»). Проблемы борьбы Рима за Балканы наиболее полно освещены в современной англоязычной историографии. Но в постановке общетеоретических проблем наша наука опережала Запад, т. к. опиралась на материалистическое понимание истории и традиционно лучше владела теорией (следствие «насильственного» изучения философии в наших вузах). Сейчас наблюдается выравнивание: мы приняли многие их выводы, вместо общих работ стали чаще писать узкоконкретные; они создают обобщающие монографии, где масштаб и глубина теоретизирования стали на порядок выше (Э. Грюен). Общая черта: чаще проявляется комплексный подход, Античность берут во взаимосвязи социальных и политических аспектов, экономики, культуры, ментальности, этно- и социопсихологии. Новые поколения, более прагматичные, более искушённые в политике и познавшие истинную цену широковещательным заявлениям официальной пропаганды, более критично, трезво и реалистически оценивают характер римской «свободы эллинов», филэллинизма, роль классовых и «национальных» факторов во внешней политике.
Правда, наметилась другая тревожная тенденция: восприятие западной историографии как истины в последней инстанции и неоправданный пиетет по отношению к ней. Ещё на одно прискорбное обстоятельство обратил внимание С.С. Казаров – пренебрежительное отношение к старой литературе. Основанная на блестящем знании классических языков, отличающаяся глубочайшим источниковедческим анализом, она не утратила и долго ещё не утратит своего значения[48]. Добавим, «старая» – отнюдь не всегда «устаревшая», по основательности и глубине проникновения в суть проблем она порой превосходит довольно поверхностные исследования, главное достоинство которых заключается в том, что они – «новейшие». Нельзя отсекать себя от достижений предшественников, нарушая принципы научной преемственности и элементарные нормы этики научного исследования. Многие идеи, выдаваемые за «новации», были сформулированы ещё в XIX в., однако ссылки на их настоящих творцов иногда отсутствуют – автор либо их не знает, либо хочет показать значимость «собственных» выводов. Если одну и ту же мысль излагают учёные прошлого и авторы сегодняшних дней, стало дурной традицией давать сноску лишь на современную историографию, демонстрируя свою «продвинутость» и неуважение к «замшелым авторам». Знание истории становления идей, принципов развития мировой историографии является обязательным условием для серьёзного исследования, и это свойственно лучшим работам современности.
Из принципиально важных отметим работу Ф. Уолбэнка[49], одного из самых глубоких антиковедов мира. Дав общий очерк покорения Римом Востока, он достаточно подробно описал традиционную для эллинистических правителей политику «освобождения» подданных своих врагов, в результате которого «освобождённые» лишь меняли хозяев. Большое количество высококлассных исследований по самой широкой тематике опубликовал плодовитый учёный Э. Грюэн. Он очень много сделал для изучения этнопсихологических аспектов отношений Рима с соседями, мы будем часто ссылаться на его работы. Наиболее важный его труд – «Эллинистический мир и подъём Рима» – является поистине вершиной антиковедческих исследований. Однако общая установка автора, последовательно отрицающего использование сенатом италийского опыта на Востоке[50], систему иностранной клиентелы в Греции[51], наличие неравноправных договоров[52] и римского арбитража[53] является ошибочной. Его теоретические построения не всегда выдерживают проверки фактами, и порой он противоречит сам себе, приводя конкретные примеры из источников[54].
Новейшая литература дала не так много интересных работ по нашей теме. Исследование эволюции эллинистического мира и его взаимоотношений с Римом написал П. Грин. Его оценки взвешенны, а выводы по-настоящему современны, хотя порой он допускает бездоказательные утверждения. Констатируя, что римляне с удовольствием проявляли ксенофобию по отношению к грекам, он полагает, что саму ксенофобию квириты у них же и позаимствовали. А его оценка римско-иудейского договора 161 г. до н. э. представляется нам просто ошибочной[55]. Положению Греции между Македонией и Римом посвятил основательную монографию П. Олива[56]. Испанская историография, долгое время не особо заметная в мире, отметилась основательным исследованием Л. Баллестерос Пастора о Митридате Евпаторе[57]. Очень обстоятельную работу по истории Греции издал Д. Мусти, и хотя из 914 страниц текста интересующему нас периоду отведено меньше ста страниц, в них содержится немало интересных мыслей[58]. Отметим книгу М. фон Альбрехта, по-новому взглянувшего на старый спор о том, кто был выше: Гомер или Вергилий, и «защитившего» римлянина. Выступая против традиционных нападок на римскую культуру, автор отмечает, что Рим был не только посредником греческого влияния, но и создал свой собственный мир образов, практическую жизненную философию, право и систему государственного устройства, ставшую основой большинства европейских государств[59].
На волне гендерной истории очень современную и необычайно психологичную книгу о Клеопатре издала И. Фрэн[60]. Глубиной анализа её работа, пожалуй, превосходит всё до сих пор написанное о знаменитой царице. Финский исследователь А. Лямпела подвёл итог изучению римско-египетских отношений в очень добротной монографии, действительно представляющей собой последнее слово науки[61]. Подкупают краткость и чёткость изложения, самостоятельность автора и его критическое отношение к авторитетам, даже таким, как Э. Грюен. А. Лямпела использовал практически всю важнейшую литературу по своей теме, включая и работы на русском языке, что пока мало характерно для наших западных коллег. К сожалению, работа обрывается 80 г. I в. до н. э., оставив без внимания самые драматичные страницы римско-египетских отношений.
Даже краткий перечень новейших работ показывает неослабевающий интерес к римско-эллинистическим отношениям. Сейчас к таким исследованиям подключились представители стран, ранее не являвшихся признанными центрами антиковедения, – Чехии, Испании, Финляндии. Тем более не следует оставаться в стороне отечественной науке.
Объективно обстоятельства сложились так, что отечественное антиковедение развивалось под сильным влиянием немецкой научной школы. Германское антиковедение с XVIII века занимало лидирующие позиции в мировой науке[62], лишь в середине XIX века оно было потеснено французским, а с начала XX века – английским, вернее англоязычным, ныне доминирующим. Формирующаяся ранняя русская романистика унаследовала как положительные качества немецкой науки (методичность, основательность, опора на источники), так и отрицательные (пересказ источников, многословие, стремление к чрезмерной порой фундаментальности). При этом, в силу особенностей нашей ментальности, работы XVIII – первой половины XIX веков отнюдь не отличались немецкой педантичностью и скрупулёзностью, допускали неточности и даже фактические ошибки, были не свободны от налёта некоторой наивности и даже полёта фантазии в трактовке событий.
Дореволюционная российская историография уделяла основное внимание Элладе, в меньшей степени – царскому и императорскому Риму. Проблематика Римской республики разрабатывалась достаточно слабо – в условиях непрерывно усиливающейся монархии и монархической идеи само обращение к реалиям республиканского устройства общества имело почти крамольный характер и не то чтобы преследовалось, но, скажем так, не приветствовалось. Наконец, чисто психологически историкам были ближе и понятнее монархические эпохи римской государственности.
В развитии нашей темы следует выделить несколько существенно отличающихся друг от друга этапов.
1. Начальный: до 1870 г. В этот период труды русских историков имели преимущественно общий характер и сводились к пересказу источников и выводов немецких авторов[63]. Многие работы были написаны либо дилетантами, увлеченными античной историей, либо «всеобщими историками неопределенного профиля»[64], удовлетворяющими потребность общества в отечественных учебниках и книгах по истории Рима. Качество таких работ было недостаточно высоким, особо оригинальных мыслей они не содержали.
Так, Н. Тимаев, дав весьма поверхностную характеристику Атталу III, обвинял римлян в стремлении к «всемирному владычеству», одновременно утверждая, что они «щадили самолюбие греков»[65]. И. Кайданов идеализировал личность Филиппа V[66]. Н. Зуев в учебнике, написанном в трезвом академическом стиле, вслед за современной ему тенденцией преувеличивал влияние «бесстыжей» Клеопатры на Цезаря и Антония, неверно оценивал их поступки[67]. Этот же недостаток свойствен и очень серьёзному исследованию Н.М. Благовещенского[68]. Краткий очерк римско-греческих отношений дал В.Г. Васильевский[69].
Специальных работ по интересующей нас теме в первый период не создано. Можно отметить лишь небольшую, в 20 страниц, книжку «студента словесных наук» И.А. Решетникова[70], первого, кто на русском языке написал о культурной преемственности между греками и римлянами и попытался, хотя и слишком дилетантски, рассмотреть эту проблему. Вместе с тем отметим два очень важных суждения автора, которые на много лет опередили не только отечественную, но и мировую науку – римляне заимствовали то, «что сходно было с образом мнения их и правления»[71], и «ученики скоро ничем не уступали учителям»[72]. На фоне господствующих в историографии XIX в. уничижительных оценок римской культуры по сравнению её с греческой это высказывание студента Решетникова многого стоит! Очень бегло коснулся этой проблемы в своей общей статье и М.М. Лунин, напыщенно и несколько категорично отметивший, что Рим – вместилище и проводник древних цивилизаций[73]. Ту же мысль в своих «кандидатских рассуждениях», довольно глубоких для того времени, проводит Г.Л. Комаровский: вероятно, он первым в нашей литературе отметил великую роль войны в слаборазвитой римской экономике, проанализировал структуру импорта и экспорта, осудил безудержный грабёж провинций[74].
2. Прогресс и расцвет: 1870–1917 гг. В пореформенной России на основе экономического и культурного подъёма, развития университетского образования появилось больше возможностей для профессиональных занятий римской историей. Развивалась сеть библиотек, пополнялись их фонды, доступнее стала иностранная и переводная литература по Античности. Магистры за счёт государства проходили специализацию в крупнейших зарубежных университетах, получили доступ в библиотеки и музеи европейских столиц. В стране появились специалисты по римской истории. Русское антиковедение развивалось в самой тесной связи с европейской наукой и концентрировалось главным образом в университетах[75]. При этом Санкт-Петербург стал преимущественно центром изучения новых источников, полиса, культуры Античности, а Москва – больше социально-экономической истории[76], что во многом определило последующее развитие антиковедения в нашей стране.
Ряд работ периода имеет косвенное отношение к нашей теме, например трёхтомник И.В. Нетушила о римских государственных древностях[77]. Недостатком книги является отрыв самих государственных древностей от социальных отношений. Фундаментальное исследование М.И. Ростовцева[78] важно для понимания экономической жизни провинций и отношения провинциалов к Риму. Работа В.И. Герье интересна выводами о негативных для Рима последствиях завоеваний[79]. Заметным явлением стали «Очерки истории Римской империи», много внимания уделившие внутриполитической борьбе позднереспубликанского Рима и, в общих чертах, необходимости преобразований[80]. С.А. Жебелёв много сделал для уточнения нескольких конкретных моментов балканской политики Рима[81]. Пожалуй, это единственные специальные работы периода, посвящённые непосредственно интересующей нас теме.
3. Упадок: 1917–1957 гг. После Октябрьского переворота антиковедение, как и всё в стране, оказалось в упадке. По точному определению Э.Д. Фролова, катастрофический обрыв 1917 г. стал трагедией для нашей античной науки[82]. Часть крупных учёных эмигрировали (Ф.Ф. Зелинский, М.И. Ростовцев и другие), некоторые погибли, другие были отстранены от преподавания или вынуждены в своей работе следовать идеологическим установкам партии и правительства. Организованной травле подверглись Жебелёв и Бузескул, из-за тяжёлых условий жизни преждевременно умерли Латышев и Никитский[83]. Нарушилась преемственность поколений в науке. Подготовке специалистов был нанесён огромный ущерб, историки лишились возможности широко контактировать с зарубежными коллегами. В истории утвердился схематизм и социологизаторство. Когда в 1934 г. было восстановлено преподавание гражданской истории в вузах, потребовались специалисты, и пришлось восстанавливать их подготовку. Для развития науки это был сложный период, но следует отметить и некоторые положительные моменты: материалистическое понимание исторических процессов, внимание к социально-экономическим аспектам.
Уже первый советский учебник по истории Рима подробно рассматривал внутреннюю жизнь Республики[84]. В разработке некоторых частных вопросов много сделали С.А. Жебелёв, А.И. Тюменев. Двухтомник В.С. Сергеева осветил многие недостаточно разработанные или спорные вопросы. В частности, важен вывод, что всадническое сословие окончательно сложилось не ранее конца II в. до н. э., интересны исследования юридического положения провинциалов[85]. Краткий, но ёмкий обзор римской политики дал А.Г. Бокщанин[86], правда, не со всеми его выводами мы можем согласиться, особенно – с категорическим утверждением о желании Филиппа V воевать в Италии. Традиционно, вслед за Тюменевым, в нашей науке преувеличивались политическая роль и значение всадников, что заметно и в кандидатской диссертации С.И. Немировского[87].
Интересом к социально-экономическим проблемам отмечен ученик Н.А. Машкина[88]. Труд С.И. Ковалёва, лучший из появившихся до сих пор отечественных учебников по Риму, кратко осветил многие сложнейшие вопросы, в том числе – восточную политику Республики[89]. А.Б. Ранович показал римскую агрессию с точки зрения эллинистических государств[90]. Это первый в отечественной историографии труд, достаточно подробно рассматривающий восточную экспансию Рима, однако общие выводы автора устарели, и далеко не со всеми его утверждениями можно согласиться.
1940–1950 гг. прошли под знаком изучения прежде всего экономических и социально-экономических отношений[91]. На наш взгляд, в какой-то степени этому способствовало и то обстоятельство, что после перемещения столицы в Москву и ослабления качества филологической подготовки античников «питерская школа», опирающаяся на скрупулёзную работу с источниками, несколько уступила свои позиции традиционным направлениям «московской школы», больше ориентированной именно на социально-экономические штудии, что к тому же соответствовало идеологическим установкам эпохи. К сожалению, развитию историографии препятствовали идеологические мотивы, диктат сверху, отсутствие свободы дискуссий, чрезмерное абсолютизирование материальных, социальных факторов[92] и классовой борьбы[93], нападки на «романоцентризм»[94]. Всё это в значительной степени обедняло нашу науку. Некоторые пережитки этого периода не изжиты до сих пор, сказываясь даже в новейших работах.
4. Возрождение: 1957–1991 гг. После смерти И.В. Сталина (1953 г.) должно было пройти какое-то время в научной атмосфере и самом мышлении учёных, с конца 1950‑х, особенно, с начала 1960‑х гг. появились более благоприятные условия для научного творчества, выше стало качество работ, освободившихся от некоторых идеологических догм, но тема Римской республики не пользовалась популярностью. Римско-селевкидские отношения очень подробно изложены в монографии А.Г. Бокщанина[95]. Нам представляется ошибочным мнение автора, что Македонию и Вифинию вступить в союз с Римом вынудила агрессивность Антиоха[96]. Проблему Иллирийских войн затронул известный львовский исследователь римско-карфагенских отношений И.И. Вейцковский[97]. Докторская диссертация Л.Д. Саникидзе[98] едва ли внесла что-то принципиально новое и не стала заметным вкладом в историографию. Важны для темы труды С.Л. Утченко, касающиеся проблемы взаимного влияния внутренней и внешней политики[99]. Двухтомник А.С. Шофмана очень подробно проанализировал римско-македонские отношения и вскользь – взаимодействие Рима с другими странами Восточного Средиземноморья[100]. Статья Е.М. Штаерман «Эволюция идеи свободы в Древнем Риме» позволила с новой стороны взглянуть на проблему филэллинизма и его понимания самими римлянами[101].
В этот период появилось несколько интересных кандидатских диссертаций. Очень спорными являются некоторые положения А.М. Малеванного, впервые в советской историографии специально исследовавшего взаимоотношения Рима и Иллирии[102]. Выходы на внешнюю политику имеет работа О.И. Ханкевич о внутренней политике Республики[103]. Н.Н. Трухина опровергла некоторые устоявшиеся положения просопографических штудий, дала глубокий анализ политической жизни Рима[104]. Мы будем часто обращаться к её работам, сочетающим немецкую скрупулёзность с английским «глобализмом» и французским изяществом изложения. Жаль, что Наталья Николаевна публикуется так редко. Возможно, единственное, с чем трудно согласиться в её выводах, – это признание Катона главной силой, приведшей к падению Сципиона. В.В. Юрьева исследовала последний этап римско-египетских отношений[105]. Международную политику эпохи раннего эллинизма глубоко исследовал В.Д. Жигунин[106]. Интересны диссертации и статьи Ю.Е. Журавлёва[107] и В.И. Перовой[108], хотя далеко не все их выводы бесспорны.
Следует отметить прекрасную главу В.М. Смирина в «Истории Европы»[109] и достаточно спорную, с неточностями и устаревшими взглядами главу А.И. Павловской там же[110]. На конец периода приходится начало научного творчества целого ряда очень интересных исследователей, наиболее полно раскрывшихся уже в 1990‑е гг. Пергаму, Малой Азии и Риму посвящены аналитические статьи О.Ю. Климова[111]. С начала 1980‑х гг. очень плодотворно над историей и историографией римско-эллинистических отношений работает В.И. Кащеев, проанализировавший некоторые сложные конкретные вопросы, редко затрагиваемые нашими исследоваателями[112]. Г.С. Самохина издала несколько интересных статей, имеющих непосредственное отношение к рассматриваемой теме[113].
5. Современный период: 1992–2003 гг. Характерной чертой современного периода стало появление новых центров антиковедения (Саратов, Казань, Нижний Новгород), что обогащает нашу науку. А так же более широкие контакты учёных с западными коллегами, весьма плодотворные, наше антиковедение вновь стало частью мировой науки. Ушли в прошлое нападки на «буржуазную историографию», но появилась другая крайность: явный пиетет к «зарубежным» исследованиям. Отметим и чисто бытовые и материальные сложности «постперестроечного» периода для отечественных историков.
Продолжая исследовать римско-греческие отношения, Г.С. Самохина сконцентрировала своё внимание на изучении личности и творчества Полибия[114].
Для уточнения характера и сути восстания Аристоника много сделал О.Ю. Климов[115], после издания его монографии[116] и защиты докторской диссертации[117] тему Пергамского царства можно считать надолго «закрытой», хотя его позиция по поводу завещания Аттала III нам представляется небесспорной. В.И. Кащеев основательно исследовал проблему римского империализма и взаимоотношений Рима с эллинистическим миром[118]. Работа очень интересная, но, к сожалению, автор заканчивает римско-эллинистические отношения 146 г. до н. э., даже без попытки дать хотя бы общий очерк последующих событий.
После издания монографий Е.А. Молева[119] и С.Ю. Сапрыкина[120] историю взаимоотношений Рима с Понтийским царством в целом можно считать изученной более чем основательно, дальнейшее изучение способно лишь уточнять какие-то частные моменты. В этом плане интересно работают К.Л. Гуленков[121] и Е.В. Смыков[122].
Внешняя политика Антиоха III была подробно рассмотрена С.И. Митиной[123], но ряд её положений следует признать ошибочными – например, тезис о том, что оппозиция Птолемеям со стороны Антигонидов и Селевкидов вызвана господством Египта «на морских путях всего Восточного Средиземноморья»[124], и мнение, что Македония и Селевкиды не соединились против Рима, т. к. ошибочно оценили его присутствие на Востоке «как временное»[125]. Такие взгляды являются несомненным упрощением. Недавняя диссертация А.С. Бурова содержит устаревшие и неверные оценки торговых интересов Рима как причины Иллирийских войн[126]. Общий вывод автора – «серия Римско-иллирийских войн нейтрализовала столь актуальную для Македонии иллирийскую опасность»[127] – нам представляется неприемлемым. Автору следовало задуматься, почему тогда появление римлян в Иллирии сделало македонян злейшими врагами Рима.
Несколько полезных работ опубликовала Т.А. Бобровникова, однако в её интереснейшей монографии о Сципионе Африканском[128] содержится явная идеализация римской политики.
Интересны работы молодого казанского учёного О.Л. Габелко, практически исчерпавшего тему Вифинского царства[129]. Книга А.В. Постернак полезна анализом греко-римской культуры и рассмотрением уровня романизации провинций[130], чему обычно уделялось не так много внимания в нашей литературе. Одну из причин слабой романизации Греции автор справедливо видит в том, что греки плохо поддавались римскому влиянию и относились к римлянам враждебно[131]. Однако мы категорически не приемлем другой вывод, для новейшей работы являющийся явным анахронизмом, – уничижительную оценку римской культуры[132]. Из новейших диссертаций отметим лишь очень глубокую, просто блестящую работу В.О. Никишина, исследовавшего практически не изученный в нашей литературе вопрос о римском «шовинизме» и подробно остановившегося на проблеме взаимного восприятия греков и римлян[133]. Ему же принадлежит ряд интереснейших статей[134], опубликованных в последние годы.
Сложно дать исчерпывающе полный анализ перечисленных работ или отметить все без исключения публикации, посвящённые нашей теме, поэтому мы ограничились самыми важными, на наш взгляд, исследованиями. В целом можно сказать, что, несмотря на обилие литературы, многие вопросы разработаны недостаточно или остаются спорными. Хорошо изучены римско-балканские отношения, взаимоотношения Рима с Пергамом и Понтом. Хуже – контакты Рима с Селевкидами и Птолемеями. Недостаточно исследованы в нашей литературе проблемы дипломатических и военных отношений Рима с Иудеей, совсем плохо – роль экономических и этнопсихологических факторов в восточной политике Республики. Не уделено достаточного внимания важным, на наш взгляд, эпирским событиям 167 г. до н. э., отчётливо показывающим перерождение римской идеологии. До сих пор в нашей науке отсутствуют обобщающие работы по всему периоду 229—30 гг. до н. э., т. е. от первых шагов Рима на Востоке (Иллирийские войны) и до аннексии Египта Октавианом, что знаменовало окончание эпохи эллинизма.
Подводя итог, следует заключить, что тема римского проникновения на Восток остаётся одной из наиболее интересных, актуальных и перспективных тем современного антиковедения. Она никогда не будет исчерпана и ждёт новых исследователей и новых работ.
Глава I
Первый этап завоевания Римом восточного Средиземноморья: Балканы
В I Пунической войне Рим ещё только выходил на широкую политическую арену[135]. Сенат имел ограниченные цели (захват Сицилии), что являлось прямым продолжением южноиталийской агрессии. Роль дипломатии в войне была ничтожна, военные действия велись на небольшой территории. Война стала, в сущности, схваткой из-за Сицилии (Polyb. I.13.2; Liv. XXI.41). Вероятно, тогда же зарождается идея о непобедимости и избранности римлян. Но простой люд от победы почти ничего не получил, раздел земли на «Галльском поле» был каплей в море. Нужны были новые земли, следовательно – новые войны.
В этом кроются истоки римского «империализма». Кроме земельного дефицита, сказывалась бедность Римского государства, при слаборазвитой аграрной экономике реально пополнять казну можно лишь за счёт добычи и контрибуций. Войны консолидировали общину. Они порождались осознанием собственной силы, многовековой психологической привычкой к войне как средству общения с соседями. Римская агрессивность не была в чём-то особой или патологической. Она типична для аграрного полиса. Экспансия, однако, не была «результатом разложения полиса»[136], напротив – она стала его причиной. Римский «империализм» хорошо объясним, поэтому мнение У. Харриса о его тёмных и иррациональных корнях[137], как и утверждения о врождённой воинственности и кровожадности римлян[138], отдают мистикой и не могут быть признаны научными.
Когда после I Пунической войны Карфаген, охваченный восстанием наёмников, был близок к гибели (Polyb. I.6), сенат не воспользовался этим. Восставшим на Сардинии наёмникам было отказано в помощи, как и просившейся в римское подданство Утике (Polyb. I.83). Возможно, сыграла свою роль традиционная римская честность. Кроме того, пунийцы должны были ещё десять лет выплачивать контрибуцию, и незачем было губить их государство. Видимо, главными причинами были именно ещё недостаточная агрессивность Рима, отсутствие установки на уничтожение Карфагена. В 240 г. до н. э. сенат не «поддержал восставших»[139], напротив, помог карфагенянам: запретил италикам торговать с восставшими, вернул пленных, разрешил закупать хлеб и вербовать воинов в Италии (App. Sicil. II.3). Ф. Уолбэнк, на наш взгляд, справедливо подверг сомнению последнее утверждение Аппиана[140]. Фраза автора, что римляне даже отправили послов в Африку, пытаясь прекратить войну (ibid.), и вовсе фантастична – римские посольства обычно вмешивались только в тех случаях, когда хотя бы одна из воюющих сторон была в союзе с Римом.
Когда восстание было подавлено, одолела старая ненависть, и в 238 г. до н. э.[141] Рим «вопреки праву» (Polyb. III.28) занял Сардинию, «желая иметь Тирренское море под своим контролем»[142]. В ответ на возмущение карфагенских послов сенат объявил войну. Воевать Карфаген не мог, поэтому купил мир отказом от острова и выплатой 1200 талантов (Polyb. I.88.12). Одновременно римляне захватили и Корсику, хотя она не была упомянута в договоре[143]. Тем самым Рим получил господство в западном море[144], и он действовал с позиций грубой силы.
С целью пополнения оскудевшей казны Карфагена и подготовки новой войны Баркиды в 237 г. до н. э. начали завoевание Испании. Римские политики оказались не настолько предусмотрительны, чтобы помешать этому. Ближе, на севере Италии, появилась более очевидная угроза: готовился поход галлов на Рим. Решительное вмешательство в испанские дела могло привести к войне, но, несомненно, она протекала бы для римлян более успешно, чем это случилось впоследствии. Только после разгрома галлов в 231 г. до н. э. в Испанию прибыло римское посольство, но не с целью остановить завоевания, а всего лишь с требованием дать разъяснения[145]. Ответ Гамилькара, что цель войны – добыть денег для контрибуции, как ни странно, удовлетворил послов. Когда большая часть Испании была уже покорена, сенат всерьёз встревожился. «Отцы» поняли, что их беспечность позволила врагу усилиться, и пытались поправить ситуацию (Polyb. II.13.3). Новое посольство 226 г. до н. э. заключило договор, что границей Карфагена в Испании будет Ибер. Такая уступчивость объясняется тем, что близилась очередная война с галлами, раздражать пунийцев было неразумно – они быстро усиливались, теперь с ними приходилось считаться. Стало очевидно: новая война неизбежна и её начало – лишь вопрос времени (Polyb. II.36).
С тревогой наблюдая за успехами врага, сенат деятельно укреплял государство. Он уже не мог проводить политику, не учитывая ситуацию на востоке, севере и западе[146]. Как отмечает Полибий, частые войны с италийскими галлами ранее сковывали инициативу по отношению к Карфагену (II.13.5; II.22.9), и могли помешать в будущем. Именно необходимость расправиться с ними до начала ожидаемой войны и привела к широкомасштабным военным операциям на севере Италии. Эту связь отмечает и Полибий, сообщив об установлении границы по Иберу, он тут же добавляет: немедленно после этого была начата война с галлами (II.13.7). Покорив их в 222 г. до н. э. и выведя колонии в долину По, Рим, как казалось, обезопасил себя с севера, присоединением Сицилии – с юга, Корсики и Сардинии – с запада. Обеспечить тыл на востоке ещё раньше и должна была I Иллирийская война.
Причины войны источники трактуют неоднозначно. Все авторы видят их в пиратстве иллирийцев, но Ливий (Per. 20) и Полибий (II.18.12), Аппиан (Illyr. II.7) и Евтропий (III.I) добавляют убийство посла; Флор, выражая крайне тенденциозную римскую версию, «убивает» обоих послов (XXI.II)[147]. Полибий полагает, что другой причиной было усиление пиратского государства (II.2.4), что нам представляется не столь существенным. Дион Кассий указывает на союзные обязательства перед Иссой (fr. 49), что может быть верным лишь отчасти, поскольку римляне осуществляли исполнение своих обязательств только в том случае, если это было выгодно исключительно им самим. Это вообще один из главных принципов римской дипломатии[148]. Более существенно другое наблюдение Диона Кассия и следующего за ним Зонары: римляне хотели наказать ардиэев, которые мешали их плаванию из Брундизи (Dio Cass. fr. 49.2; Zon. VIII.19). Некоторые исследователи, ссылаясь на Аппиана, пишут, что сенат главным образом тревожило расширение пиратского царства[149], однако это утверждение, приписываемое ими Аппиану, не находит подтверждения в тексте самого автора. По версии, приводимой только Аппианом, в состав римского посольства к Тевте входил представитель Иссы Клеемпор (Illyr. II.7). В 230 г. до н. э. иллирийские пираты осадили Иссу, которая недавно стала союзницей Рима (App. Illyr. VIII)[150], после чего к Тевте и прибыли римские послы.
Общепринятая версия Полибия – Ливия о результатах этого посольства слишком драматична, чтобы быть достоверной. Из неё следует, что причиной войны были «бестактность»[151] Луция Корункания и надменность Тевты[152], спровоцировавшей войну[153]; нам такой подход представляется довольно наивным. Полибий, очевидно, использовал тенденциозного Фабия Пиктора, чем и объясняется не свойственная ахейцу излишняя драматичность изложения. Фабий считал, что эту войну (как, впрочем, и все другие! – А.Б.) римляне начали, не имея корыстных целей и не вмешиваясь в чужие дела[154].
Существенно отличается вариант Аппиана, основанный на источниках, «которые мы не можем идентифицировать»[155], но можно предположить, что они были скорее греческими, чем римскими. По просьбе Иссы римляне отправили посольство к Агрону[156], чтобы узнать его требования к Иссе[157]. Ещё до прибытия к царю послы подверглись случайному нападению пиратов, убивших Луция и Клеемпора, за это римляне начали войну (App. Illyr. II.7). Текст Аппиана изобилует фактическими ошибками: Агрон уже умер, Корунканиев было двое (Polyb. II.4.6), иллирийцы хотели захватить Иссу, и не было смысла узнавать их «требования». Далее Аппиан пишет, что ещё в 229 г. до н. э. римляне подозревали Деметрия Фаросского в неверности, II Иллирийскуцю войну относит к 220 г. до н. э., утверждает, что римляне убили Деметрия (Illyr. II.8). Наконец, вопреки тексту Аппиана, римляне не знали практики совместных посольств.
С другой стороны, рассказ Ливия об убийстве посла имеет более фантастические детали, чем у Аппиана[158], следовательно, едва ли заслуживает доверия, как исходящий от анналистов. Аппиан явно сохранил следы традиции, не отражённой в анналах, очевидно – эллинской. Для реконструкции событий, несомненно, нужно использовать обе версии. Основанием для посольства было ограбление италийских торговцев в Фенике (Polyb. II.8.2), участившиеся жалобы на разбой (Polyb. II.8.3) и просьбы Иссы о помощи (App. Illyr. II.7). Посольство было чисто римским, иссии его лишь сопровождали. Луций погиб ещё до прибытия в Иллирию, вины Тевты в этом нет, следовательно, отпадает одно из обоснований войны. Обычай обязывал отправить послов с требованием возместить убытки, но они получали строгие инструкции[159] и не могли допускать никакой отсебятины. Поведение посольства показывает, что Рим не желал сохранения мира, очевидно, вопрос о войне уже был решён.
Тевта едва ли хотела войны, её ответ, что она не может запретить пиратство, не был «наглостью», как пишет Полибий (II.8.13). Напротив, он был максимально мягким[160]. Она действительно не могла контролировать «неофициальное» пиратство[161], которое являлось естественным порождением социально-экономических отношений того времени[162] и было лишь одним из многих занятий иллирийцев[163]. Внутренняя непрочность государства видна и из восстания части племён против Тевты (Polyb. II.6.4; II.8.5). Правда, сильного отпора от ослабевшей Греции пираты не получали. Ближайшими соседями иллирийцев были дарданы, старые враги македонян. Вражда дарданов и иллирийцев сближала последних с Македонией, Агрон стал союзником Деметрия II, который не собирался защищать враждебные полисы от союзных иллирийцев. Напротив, каждый раз, когда Македонии грозила опасность с севера, побуждал их нападать на Грецию, чтобы отвлечь греков[164], и использовал иллирийцев против Этолии. Мнение А.М. Малеванного о традиционной иллирийско-македонской вражде[165] не подтверждается источниками. Некоторые вожди Иллирии позже активно помогали Македонии в её борьбе с Римом (См.: Liv. XL.42).
Тевта, правившая после смерти Агрона (Polyb. II.4.6), повела ещё более широкую экспансию. «Велико было смущение и страх, наведённые иллирийцами на прибрежных греков» (Polyb. II.6.7). Эпир и Акарнания вынуждены были заключить союз с Тевтой (Polyb. II.6.9). Осаждённой пиратами Коркире пытались помочь Ахайя и Этолия, но их небольшой флот был разбит (Polyb. II.6.8). До Агрона пиратство имело целью добыть пропитание[166], при нём – превратилось в «государственную индустрию»[167]. Но существовало ещё и «частное пиратство»[168], не подвластное Тевте. Более того, её усилия запретить пиратство могли стоить ей короны[169].
Весной 229 г. до н. э. римский флот с двумя консулами подошёл к Коркире, захваченной пиратами (Polyb. II.11.3). Сам факт, что были задействованы оба консула, показывает, насколько серьёзно сенат относился к этой войне. Наместник царицы Деметрий Фаросский сдался, уже занятому острову консулы «предложили» отдаться под покровительство. Поставленные перед фактом и надеясь на защиту от пиратов, греки не упрямились (Polyb. II.11.5). Война закончилась быстро. Царица выпросила мир, обязуясь платить дань и прекратить пиратство (государственное! – А.Б..), ей оставили часть бывших владений (Polyb. II.12.3). Тевта просила прощения за убийство посла, произошедшее не при ней (App. Illyr.II.7). Война, однако, не была «лёгкой прогулкой»[170], ардиэи оказали упорное сопротивление (Polyb. II.11.13), вероятно, происходили и партизанские действия против римлян[171]. В результате войны ардиэйское государство фактически было уничтожено.
В историографии доминирует мнение, что причиной войны было пиратство[172]. Упоминаются ещё нападения пиратов на Рим и его союзников[173]. Пиратство беспокоило южноиталийские города[174], главная причина войны – ущерб, причиняемый италийской торговле[175], в частности торговле Брундизия[176]. Мнение Р. Эррингтона, что дополнительная причина войны – подозрительность сената к сильным соседям и его желание делать сильных соседей слабее[177], нам представляется не совсем обоснованным, это наблюдение было бы справедливым не для 20-х гг. III в. до н. э., а для событий, последовавших 30 лет спустя. Особняком стоят две группы мнений: 1) угроза морским коммуникациям в Адриатике[178]; 2) Рим уничтожил пиратство, чтобы приобрести в этом регионе влияние[179] и получить контроль над обеими берегами Адриатики[180].
Медлительность, с какой Рим вступил в войну, породила миф о нежелании воевать вообще, о долготерпении римлян, втянутых в войну против воли и не стремящихся к захватам на Балканах[181], единственной их целью было искоренить пиратство[182]. Но в таком случае почему, подавив пиратов, Рим закрепился на Балканах? А.М. Малеванный, напротив, усматривает причину войны исключительно в агрессивности Рима, ардиэи, как он полагает, занимались не разбоем, а возглавили борьбу с римской агрессией[183]. В таком случае придётся признать, что они начали эту «борьбу» задолго до того, как проявились агрессивные поползновения сената по отношению к Иллирии. Обобщая, он приходит к выводу, что завоевание Балкан Римом вызывалась опасностью со стороны Эпира (?! – А.Б.), желанием обезопасить север Италии от вторжений альпийских и варварских племён (?), стремлением (с середины II в. до н. э.) получить связь со своими провинциями Македонией и Грецией, коммерческой деятельностью италийских купцов на Адриатике[184].
Неубедительны мнения, что причины войны – захват пиратами Коркиры, «важного пункта на морском пути из Италии на восток»[185], имеющего стратегическое значение[186], иллирийская экспансия столкнулась с римскими интересами[187], а главная причина – подозрительность сената к сильному соседу[188]. Сила Иллирии здесь явно преувеличивается, в Коркире Рим не был заинтересован, её падение никак не влияло на сенат или торговлю. Двигавшийся к Коркире римский флот ещё даже не знал о её захвате (Polyb. II.11.2).
Такие оценки причин войны неубедительны. Официальные мотивы: месть за разбой и убийство посла – только благовидный предлог. Причины появления римлян на Балканах более сложны и нуждаются в комплексном рассмотрении. Римские интересы рост «пиратского» царства никак не затрагивал. На жалобы ограбленных купцов не реагировали, они, как и италийская торговля, сенат не заботили. Разумеется, правительство не могло начисто игнорировать их интересы, но они отнюдь не имели приоритета. Сенат не видел оснований проливать кровь римлян ради каких-то торговцев, «многие из которых принадлежали к покорённым Римом народам»[189].
«В прежние времена римляне оставляли без внимания жалобы на иллирийцев» (Polyb. II.8.3). Эта фраза чрезвычайно важна для правильного понимания дальнейших событий. Если теперь сенат снизошёл к жалобам, значит, появилось какое-то важное обстоятельство, отсутствующее раньше. Им было, несомненно, близившееся столкновение с Карфагеном. Война с ним планировалась как связанная с крупными морскими операциями – переправкой войск в Испанию, Сицилию, Африку[190]. Роль морских коммуникаций для переброски и снабжения войск неизмеримо возрастала. Интерес сената к Адриатическому морю начал проявляться ещё раньше, не случайно ещё в 246 г. до н. э. на его побережье была основана латинская колония Брундизий, вскоре ставшая главным восточным портом Италии. Брундизий, безусловно, был основан, «чтобы закрыть Адриатику для карфагенского плавания»[191]. Кроме того, важно было обеспечить тыл со стороны Иллирии и устранить помехи морской торговле, значение которой в военное время всегда возрастает.
Усиление пиратства, принявшего более организованный характер, мешало контактам с соседями через Адриатику, что особенно недопустимо накануне решающей схватки с Карфагеном, которая и стала главной причиной иллирийской экспедиции. Это вытекает из общей установки Полибия: «Антиохова война зародилась из Филипповой, Филиппова – из Ганнибаловой, Ганнибалова – из Сицилийской…» (III.32). В эту преемственность вписывается и Иллирийская война, которую нельзя рассматривать изолированно – «история по частям даёт очень мало для точного уразумения целого» (I.4.10). Достичь его можно лишь соединением всех частей (I.4.11; VII.4.9—11), обращая внимание на предыдущие события (III.31.11).
Исследователи, считающие главной причиной пиратство, игнорируют важный факт: как ранее, так и впоследствии сенат не обращал никакого внимания ни на потребности купечества, ни на морское пиратство, мешавшее торговле. Как справедливо отметил Т. Франк, Рим настолько пренебрегал торговыми интересами, что, заключая договоры с Набисом (197 г. до н. э.) и критянами (189 г. до н. э.), разбойничающими на морях, даже не пытался очистить от них море[192]. Имено поэтому позже пиратство расцвело настолько, что сенат вынужден был вмешаться только тогда, когда оно блокировало поставки хлеба в Рим (особые полномочия Помпея).
Нет оснований говорить и об альтруистическом желании римлян помочь грекам. Скорее Рим заботился о возвышении своего престижа в Элладе. Наконец Риму нужны были хорошие морские базы в Адриатике, которых не было в Италии, что признаёт, кстати, и сам Т. Моммзен[193].
Нельзя было оставить без помощи Иссу. Первому союзнику на Балканах[194] надо было показать, что он не ошибся в выборе покровителя. Только так можно было сохранить прежних союзников и получить новых, что было особенно важно на Балканах, где Рим делал первые шаги. Римляне хотели оказать услугу Иссе, чтобы показать свою дружбу (Dio Cass. fr. 49). Войны научили сенат ценить союзы, а лучшее средство сохранить союзников – это помогать тем из них, кто попал в беду (Liv. XXI.52). Возможно, до 230 г. до н. э. Исса действительно не была в союзе с Римом, но самим фактом обращения за помощью перешла под его покровительство.
Захват Сицилии стимулировал торговую деятельность и интерес к морским границам, Рим начал обращать внимание на обеспечение своего восточного побережья[195]. Серия акций Рима (захват Сардинии и Корсики, разгром галлов, Истрийская война 222–221 гг. до н. э.[196]) имела целью установить господство в италийских морях. Иллирия имела важное стратегическое значение[197], и после 229 г. до н. э. Рим стал хозяином Адриатики[198].
Осторожность и неспешность римлян вполне понятны, вторжение на территорию македонского союзника могло вызвать ненужную сейчас войну с Антигонидами. Вся сложность заключалась не в сопротивлении иллирийцев, а в возможных международных осложнениях[199]. Поэтому для удара выбрали единственно возможный момент – Деметрий II умер, его сын Филипп был ещё мал, и страна оказалась в сложном положении (Just. XXVIII.3.14)[200]. Рим не оккупировал Иллирию – это могло насторожить греков. Была установлена узкая полоса протектората, почти соприкоснувшегося с территорией Македонии[201]. Часть земель отдали Деметрию Фаросскому, ожидая найти в нём верного союзника. Римляне закрепились в городах на побережье, получив базу для дальнейших действий.
Эти города, формально dediticii[202], имели тот же статус, что и взятые штурмом[203], что обрекало их на полное бесправие. Фактически они остались автономными, «свободными» (App. Illyr. II.8) от Рима, но только во внутренних делах[204]. Полибий называет их подданными римлян (III.16.3), так же рассматривали их сами римляне (App. Illyr. II.7). Города поставляли вспомогательные войска (Polyb. II.12.2), их положение соответствовало римским союзникам, но правильнее определить его как протекторат. Греки не могли защититься от пиратов. Поэтому протекторат не ощущался болезненным ограничением независимости[205]. Римских «наместников»[206] в городах не было. Имелись лишь постоянные коменданты гарнизонов Иссы, Коркиры[207] и, возможно, Эпидамна[208]. Иллирийские племена были обложены данью (Liv. XXII.33). Рим стал патроном слабых, зависимых государств-клиентов, его обязанности могли трактоваться очень гибко[209]. Обычно римляне вели себя на завоеванных территориях куда жёстче, но сейчас неопределённость их положения на Балканах вынуждало быть дипломатичнее.
Римские посольства, прибыв в Этолию и Ахайю, объяснив причины появления римлян на полуострове, зачитали условия мира с Тевтой (Polyb. II.12.4), обезопасившего море, что вызвало искренний восторг греков. Это был тонкий дипломатический ход, Рим появился в Греции не агрессором, а освободителем. Уже после I Пунической войны часть греческого мира знала Рим как сильную державу, способную защитить друзей[210], а сейчас его авторитет резко возрос. Нельзя согласиться, что всё закончилось лишь «обменом любезностями»[211]. Были заложены основы дружеских, хотя и недолгих, греко-римских отношений, имеющих основанием «общую неприязнь к Македонии»[212]. Коринфяне даже допустили римлян к Истмийским играм (Polyb. II.12.7), тем самым признав их членами эллинского мира[213], правда, чисто формально. Исополития, дарованная римлянам Афинами, упоминается только Зонарой (VIII.19) и отрицается большинством учёных[214].
Сенат не случайно направил первые посольства именно в Этолию и Ахайю, самые сильные союзы, враждебные Македонии. Он рассчитывал найти в них опору против македонян. Союзы, в свою очередь, могли надеяться с помощью Рима вытеснить царя из Греции, что отвечало и римским интересам. Вопреки мнению Ф. Уолбэнка[215] посольства имели ярко выраженный антимакедонский характер[216]. Последующие посольства в Афины, только в 229 г. до н. э. освободившиеся от власти Антигонидов, и в Коринф – метрополию Аполлонии и Эпидамна имели ту же цель: заручиться возможной поддержкой греков, противостоящих Македонии.
Греция к III в. до н. э. ослабела, походы Александра, переселения на Восток, усобицы, нашествие галлов 280 г. до н. э. привели к убыли населения. Беды усугублялись вторжениями македонян, пиратством, неурожаями, снижением уровня жизни и политической нестабильностью. Наряду с кризисом полиса усилилась автаркия. Прежние центры пришли в упадок, поднялись бывшие окраины, за века накопившие сил. Федерализм не имел перспектив в Греции, поскольку носил узкорегиональный характер. Эллада оказалась в тупике, из которого сама не могла выбраться. Ни один союз не имел достаточно сил, чтобы объединить всю Грецию, да никогда и не ставил перед собой таких целей, учитывая традиционный эллинский автаркизм. Р. Фласерьер явно переоценивает мощь Этолии, полагая, что она не уступала Македонии[217], как показали последующие события, этолийцы не могли на равных тягаться с Антигонидами. Упорно борясь с Македонией, Этолия, однако, влияния в Греции не имела. Её войны разоряли страну, непрерывно грабившие Элладу этолийцы (Polyb. IV.16.4) только после одного похода в Лаконику увели в рабство 50 000 человек (Plut. Cleom. 18.7). Ахейский союз враждовал с Этолией, что мешало им успешно бороться с македонянами.
Завоевания Александра меньше всего дали самой Македонии. Часто подвергаясь набегам варваров, она теряла позиции на Балканах, когда появились римляне – опасные конкуренты. Слишком многие греки, враждебные царям, готовы были поддержать против них кого угодно. Так был завязан узел римско-македонской вражды[218]. Яблоком раздора стала не только Иллирия, но и влияние в Греции: римляне, быстро сориентировавшись, стремились установить дружбу с эллинами. Мнение ряда учёных, что появление римлян не угрожало Македонии[219] и не тревожило царей[220], никогда не владевших Иллирией[221] и не имеющих там интересов[222], глубоко ошибочны. По их мнению, Антигон Досон не был враждебен Риму[223]. Парадоксальны выводы Х. Делла: Рим не сделал Иллирию провинцией, значит, не имел экспансионистских намерений, а ослабевшую Македонию римляне не считали угрозой своему протекторату[224]. Римское вмешательство прекратило агрессию иллирийцев и установило порядок на Адриатике, что было полезно Антигонидам[225]. Римский протекторат обеспечил безопасность Македонии от иллирийцев[226], Антигониды не имели притязаний на Иллирию и были согласны с присутствием римлян, усмиряющих варваров[227]. Некритично усвоив его взгляды, А.С. Буров пишет: «Серия Римско-иллирийских войн нейтрализовала столь актуальную для Македонии иллирийскую опасность»[228].
Безусловно, правы те исследователи, кто отмечает враждебность Македонии к Риму[229], вторгшемуся в сферу её влияния[230]. Западные границы имели для Македонии огромное значение, Рим отрезал её от моря, без войны с ним дальнейшая экспансия Антигонидов в Иллирии была невозможна[231]. I Иллирийская война встревожила Македонию и создала антагонизм между нею и Римом[232]. Характерно, что в Македонию римские послы не прибыли[233], как и в полисы, наиболее страдавшие от пиратства. Римляне хотели добиться расположения только возможных союзников[234]. То, что Рим отправил послов не к ближайшим соседям – Эпиру и Македонии, а к их врагам – Этолии и Ахайе показывает, что он не был заинтересован в установлении мирных отношений[235].
Антигон Досон был враждебен Риму, но слишком занят другими делами[236] и, как отмечает пересмотревший свои взгляды Х. Делл, не имел сил выступить против римлян[237]. Филипп унаследовал «идею-фикс»: очистить Иллирию от римлян[238]. Неверно, однако, что обращение царя на Запад – резкий поворот политики, вызванный характером Филиппа, и в союз с Ганнибалом он вступил, чтобы дать выход «наследственной ненависти»[239]. Македония, кровно заинтересованная в хороших отношениях с Иллирией, проявляла здесь активность. Агрон стал союзником Деметрия II (Polyb. II.2.5), Деметрий Фаросский – Антигона Досона (Polyb. II.65), затем – Филиппа, Скердилаид был в союзе с Филиппом (Polyb. IV.2.9). М. Олло подчёркивает, что зимой 220 г. до н. э. Филипп лично прибыл в Иллирию встретиться со Скердилаидом[240]. Всё это показывает полную преемственность македонской политики в Иллирии.
После 228 г. до н. э. внимание римлян было отвлечено от Балкан. Антигон отбросил фракийцев и занялся греками, спеша укрепить свои позиции в Элладе. В этом ему помогла война ахейцев со Спартой, потерпев поражение, Арат обратился к Македонии за помощью (Polyb. II.50). Он подчинился Досону, чтобы не подчиняться Клеомену, никто другой не смог бы помочь союзу. Разбив Спарту, царь, опираясь на ставшую зависимой Ахайю, в значительной степени восстановил македонское господство в Греции[241]. Досон стал гегемоном нового Эллинского союза, однако туда не вошли многие полисы. Деметрий Фаросский, заключив союз с Досоном, участвовал в Клеоменовой войне (Polyb. III.16.3). Мнение, что иллирийцы в битве при Селассии были наёмниками[242], ошибочно[243], Полибий перечисляет их среди союзников, отдельно от наёмников (II.65.4). Деметрий действительно не входил в Панэллинский союз[244], но он был личным союзником царя. Рим, занятый галлами, не пресёк эти союзные отношения. Тогда римляне часто, обращая внимание на одно, совершенно упускали из виду другое – у них ещё не выработалось в полной мере умение мыслить универсально.
Став неподконтрольным Риму, Деметрий превратился в иллирийского династа и «больше не был римской куклой»[245]. Почувствовав себя самостоятельным, он отложился и вывел в море пиратов; Ганнибал уже занял Сагунт – война с ним становилась неизбежной (Polyb. III.20.2), следовало обеспечить себя со стороны Иллирии (III.16.1). II Иллирийская война произошла непосредственно перед II Пунической, поэтому их связь более заметна, чем менее очевидная, на первый взгляд, связь между I Иллирийской войной и римско-карфагенским соперничеством. Правда, Д. Свэйн причину II Иллирийской войны довольно поверхностно усматривает всего лишь в возобновлении пиратства[246], и вызывает удивление утверждение столь авторитетного учёного, как Р. Эррингтон: мы никогда не узнаем, почему сенат решил устранить Деметрия именно в этот момент[247]. Непонятно, на чём основывается утверждение, что война началась «по инициативе» Деметрия Фаросского[248]. Традиционно отмечается, что Рим хотел развязать руки для предстоящей войны и боялся потерять господство в Адриатике[249]. Филипп, правивший с 221 г. до н. э., воевал в Этолии и не мог помочь союзнику[250], да и не успел бы.
Когда в 219 г. до н. э. римляне взяли Дималу (Polyb. III.18.5), остальные города просили принять их под покровительство, причём консул принимал каждый город «на соответствующих условиях» (Polyb. III.18.7). Несомненно, на их выбор повлияло положение Аполлонии и других городов, мягкое отношение к которым давало и им надежду на подобное. Деметрию удалось бежать в Македонию (Polyb. III.19.8). Характерно, что сейчас Рим не стал рассылать послов по Греции – это было подавление восстания в собственно римских владениях, его не надо было никому объяснять[251].
Поражение Македонии во II Македонской войне почти окончательно отрезало её от Иллирии. Филипп старался закрепиться во Фракии, поскольку путь на Запад ему закрыли римляне. Но контакты с иллирийцами не прекращались В начале III Македонской войны Персей совершил поход в Иллирию, надеясь перетянуть местные племена на свою сторону. Ему удалось занять несколько городов и оставить в них свои гарнизоны. Вождь лабеатов Гентий обещал царю помощь, но просил денег. Скупой по натуре Персей (см.: Liv. XLII.67.5; XLIV.26.1; Polyb. XXVIII.9; Plut. Aem. Paul.12–13) не желал даже говорить о деньгах, «хотя только ими одними мог быть склонён к войне неимущий варвар» (Liv. XLIII.20.3). Очевидно, Гентий не был убеждённым врагом Рима, а просто решил использовать благоприятную ситуацию, чтобы вытянуть у царя крупную сумму денег. Помощь Гентия могла быть очень существенной, но Персей «не мог заставить себя потратиться даже ради этого дела величайшей важности» (Liv. XLIII.23.8). Только когда римляне уже стояли на подступах к Македонии, царь купил союз с Гентием за 300 талантов серебра (Liv. XLIV.23.2), но из них вождь получил на руки лишь 10 (Liv. XLIV. 27.8—12)!
Часть иллирийцев сражались на стороне Рима, как и ополчения из греческих полисов Иллирии (см.: Liv. XLIV.30.10). Римляне покорили владения Гентия за 30 дней, сам вождь попал в плен и вместе с Персеем был проведён по улицам Рима во время триумфа Эмилия Павла. Иллирию разделили на три самостоятельных области (см.: Liv. XLV.26.12–12).
Но покорение Иллирии на этом далеко не закончилось, её северо-запад фактически оставался независимым. Ещё накануне II Иллирийской войны римляне воевали с истрами (221–220 гг. до н. э.). По мнению Х. Делла, причины войны – пиратство истров и, возможно, их союзные отношения с Деметрием Фаросским[252]. С первым можно согласиться, но союз истров с Деметрием весьма гипотетичен, если даже он и существовал, то едва ли мог стать причиной похода. Да и пиратство – далеко не главное, скорее следует говорить о стремлении Рима поставить под свой контроль весь бассейн Адриатического моря, сделать его своим «внутренним морем». Стратегическое значение Адриатики как связующего звена между Италией и Балканами было огромным. Более мелкий и более частный фактор – истры, как и все иллирийцы, пиратствовали во многом «ради хлеба», дефицитного в их гористой стране со слаборазвитым земледелием, а римляне просто провоцировали их на разбой, вывозя морем из плодороднейшей Цизальпинской Галлии транспорты с зерном[253]. С начала 20 гг. III в. до н. э. возникает претензия Рима на контроль над бассейном Адриатики, поскольку началась экономическая эксплуатация Северной Италии, она требовала свободных морских путей со стороны восточного побережья[254]. Война с истрами началась из-за того, что они грабили римские корабли с хлебом (Eutrop. III.II), – правительство вынуждено было позаботиться об их безопасности. Конечно, и пиратство было бы намного легче искоренить, прочно контролируя всю акваторию Адриатики и хотя бы прибрежные части Иллирии. Однако достичь этого никак не удавалось: Риму пришлось ещё несколько раз воевать с истрами (181–176, 171, 129 гг. до н. э.) – похоже, что он полностью не контролировал даже Истрию[255]. Здесь римляне завязли на несколько десятилетий – как и в Испании. В 157 г. до н. э. сенат начал войну на крайнем севере-западе Балкан – в Далматии, к 155 г. до н. э. её покорили. Можно предположить желание установить сухопутный мост между Италией и Балканами вокруг Адриатики.
Если посмотреть на более отдалённую перспективу, то последние Иллирийские войны периода Римской республики – это походы Октавиана 35–33 гг. до н. э. Но они были вызваны не столько внешнеполитическими соображениями, сколько внутренними проблемами Римского государства. Опасность отпадения Иллирии и зависимость безопасности Италии от сопредельных иллирийских территорий, о чём пишет А.М. Малеванный[256], нам представляется объяснениями надуманными. Римскому господству в Иллирии реально ничто не угрожало, не говоря уже о том, что местные племена не собирались вторгаться в Италию или предоставлять свою территорию для прохождения туда потенциальным врагам Рима. Тем более что к северу и северо-востоку от Адриатики просто не было сил, которые на тот момент могли бы представлять собой угрозу Риму.
Несомненно, правы исследователи, которые главной целью походов Октавиана считают его желание укрепить свой личный авторитет[257], с чем в конечном счёте соглашается и А.М. Малеванный[258]. Парфянский поход Антония в 36 г. до н. э. был попыткой создать подавляющий перевес над Октавианом[259], предпринявшим в ответ пропагандистскую контракцию в Иллирии. На фоне неудачи Антония в Парфии чрезмерно раздутые самим Октавианом его довольно скромные достижения в Иллирии[260] должны были продемонстрировать сенату и народу римскому – кто из них достойнее власти. Необходимость чем-то занять армию и попутно добыть денег на её содержание (App. BC. V.127; 128; Dio Cass. 49.36.1), равно как и желание отомстить далматам за разгром римских легионов зимой 48/47 г. до н. э.[261] – это тоже факторы внутриполитические. По римским понятиям, кровь квиритов не должна оставаться неотомщённой. Прекрасно владеющий всеми методами политической пропаганды и искусством саморекламы, Октавиан демонстративно поместил в портик Октавии отбитые у далматов знамёна Габиния (App. Illyr. 28; Dio Cass. 49.43.8).
Важен конкретный итог войны 35–33 гг. до н. э. Настоящего завоевания иллирийских племён не произошло, поэтому походы Октавиана были скорее карательными экспедициями[262]. Значительная часть племён фактически не находились под римской властью[263].
Таким образом, длительные почти двухсотлетние контакты римлян с иллирийцами вплоть до конца Республики не привели к прочному овладению всем восточным побережьем Адриатического моря. Это оказалось задачей на будущую перспективу. Сам термин «Иллирия» – это понятие чисто географическое, единого государства здесь никогда не было, как не было и зрелой государственности. Союзы племён, максимум – рыхлые протогосударственные образования типа «царства» Тевты, лишённые внутренних цементирующих связей. Только интегрировавшись в Римскую державу, иллирийцы получили единую организацию, хотя это и была всего лишь римская провинция. Но самое примечательное при этом – достаточно быстрая романизация Иллирии, географически, экономически и даже культурно всегда более близкой к Греции, чем к Риму. Более тяготевшей к греко-македонскому, а не римскому влиянию. Это одна из немногих примыкавших непосредственно к Греции территорий, столь быстро ушедших из ареала эллинского воздействия, даже несмотря на большое количество греческих полисов в Иллирии. Ко времени издания эдикта Каракаллы о даровании гражданских прав всему свободному населению империи в 212 г. н. э. иллирийцы фактически уже стали римлянами. Это одна из наиболее привлекательных черт римской государственности – умение превращать вчерашних врагов в нынешних сограждан. Чужих – в своих. Цивилизаторская миссия Рима[264] в Иллирии несомненно присутствовала, даже на уровне смягчения нравов аборигенов, включённых в орбиту римской цивилизации. Правда, произойти это могло лишь в рамках единой Римской империи, отказавшейся от полисной замкнутости Республики. При аккультурации две различные культуры вступают в контакт и каждая заимствует культурные черты другой, но обычно это имеет асимметричный характер. Более слабая группа усваивает черты более многочисленной, богатой и мощной группы, что заканчивается ассимиляцией, и более слабая культура «адсорбируется» другой, утрачивая своё своеобразие, – таков общий смысл книги итальянского этнолога А. Миланаччо[265]. Разумеется, римская культура была выше, но в любом случае феномен столь быстрого «оримливания» варваров-иллирийцев ещё ждёт своего объяснения.
Важность II Иллирийской войны заключается и в её последствиях: отношения Рима с Македонией испортились окончательно[266], тем более что римляне потребовали выдачи Деметрия (Liv. XXII.33) – по эллинистическим понятиям, такое требование можно предъявить только зависимому или заведомо слабому государству! Филипп не мог простить Риму такого унижения. Царь энергично давил на Грецию, добиваясь подчинения, Рим мог стать существенной помехой. Теперь сама Македония не могла чувствовать себя в безопасности. Филипп понимал, что рано или поздно Рим начнёт с ним войну[267]. Царь был недоволен утверждением римлян в Иллирии и желал вытеснить их оттуда[268]. Нельзя согласиться, что «сохранить мир с Македонией не составило бы труда»[269]. Вторгшись в сферу её интересов, Рим стал врагом, и ничто не могло помешать царю начать войну в удобный момент. Сильного и опасного соседа надо было сбросить в море. Одному Филиппу это было непосильно, он ждал подходящего случая.
Разумеется, хорошие отношения с Македонией, которых в действительности Рим не имел, не были «принесены в жертву из-за ничтожной прибыли»[270]. Такая уничижительная оценка Иллирийских войн недопустима. Римляне закрепились на Балканах, завязали отношения с греками, укрепили, как казалось, восточный тыл перед решающей схваткой с Карфагеном[271]. «Желающие верно понять нашу задачу и выяснить себе постепенный рост римского могущества, должны со вниманием остановиться на этом событии» (Polyb. II.2.2). Именно Иллирийские войны следует признать началом восточной политики Рима.
Римляне имели целью ближайшие конкретные задачи. Быстро меняющаяся политическая ситуация позволяла планировать лишь на обозримое будущее (покорение галлов, запоздалая попытка остановить Баркидов в Испании, Иллирия). Сенат не всегда понимал, какие последствия могут вызвать его действия. Он, конечно, не мог предвидеть, что Филипп станет союзником Ганнибала, как и предположить, что пунийцу удастся ворваться в Италию.
Оба удара в Иллирии были нанесены в единственно возможный момент – когда Македония не могла помешать. Это не может быть случайным совпадением, очевидно, сенат был хорошо информирован о положении на Балканах. Полибий упоминает италийских «соглядатаев» в Греции (V.105.5). Позже в этолийском стане находился специальный римский уполномоченный проконсул Сульпиций (App. Mac. III.I), свежую информацию могли поставлять греческие купцы Юга Италии. Сам факт информированности подтверждает интерес к полуострову[272]. Трудно согласиться, что Рим «не имел заинтересованности»[273] в Балканах. Проявляя безразличие к Малой Азии или Селевкидам, сенат тогда и не стремился собирать о них сведения.
После покорения Италии возможность расширять свои территории была исчерпана, правительство могло поневоле заинтересоваться ближайшими заморскими землями (Сицилия, Балканы). В перспективе они могли стать объектом агрессии. Во время Иллирийских войн сенат проявлял интерес к Западным Балканам, стремился захватить здесь стратегические позиции[274]. Вслед за Ю.Е. Журавлёвым мы полагаем: Иллирийские и две Македонские войны – это последовательные этапы развития восточной политики, направленной на укрепление и расширение римских позиций на Балканах и установление союзных отношений с греческими государствами[275]. По внутренней логике развития событий это стало первым этапом всей восточной политики Республики.
В начале правления популярность Филиппа V в Греции была велика (Polyb. IV.77), его господство держалось не только силой оружия, но и личным обаянием царя (Polyb. VI.12). Хотя трудно согласиться, что у него были «серьёзные шансы объединить Грецию»[276], так как существовала коалиция врагов Македонии.
Уже во время Союзнической войны Филипп, возможно, имел план изгнания римлян из Иллирии[277]. Можно точно утверждать, что он внимательно наблюдал за римлянами и был хорошо осведомлён об их делах[278]. Известия о неудачах Рима должны были усилить его решимость. Начать войну убеждал его и Деметрий Фаросский (Polyb. V.101.7—10; Justin. XXIX.2.7). Однако сомнительно, что Деметрий «усилил его враждебность к Риму»[279], – у царя и без него были основания недолюбливать римлян. Неверно, что с началом II Пунической войны Филипп «колебался, кому желать победу» (Liv. XXIII.33), выбора не было, враг Рима мог стать другом. Царь уже готов был принять сторону Ганнибала[280]. Он закончил Союзническую войну именно с целью развязать себе руки. На переговорах этолиец Агелай, призывая к миру, указал на Запад, где сцепились два хищника, и предостерёг, что победитель не удовлетворится властью над Италией (Polyb. V.104.3; Justin. XXIX.2.8–9). Ещё тогда некоторые дальновидные греки понимали смысл борьбы сверхдержав и страшились её последствий. Если только Агелай не спекулировал «опасностью с Запада» для получения более мягких условий мира для Этолии.
Впрочем, в любом случае было ясно, победитель станет слишком силён и опасен. Филипп мог призвать греков к единству под эгидой Македонии и представить борьбу за Иллирию общеэллинским делом, но тогда он ещё не был опытным политиком. Мнение И.Г. Дройзена, что сознательной целью мира в Навпакте было желание соединиться на великую борьбу с Римом[281] глубоко ошибочно.
Многие вслед за Полибием (VI,14) преувеличивают влияние на царя Деметрия Фаросского[282], внушившего Филиппу мечты о мировом господстве (Polyb. V.102.1; V.108.5). Молодой монарх вёл себя подчёркнуто независимо и вообще был маловнушаем. Он никогда не был игрушкой в руках Деметрия или Арата, как уверяет Полибий[283]. Утверждения Полибия, что род Антигонидов всегда мечтал о мировом господстве (V.102.1), голословно. Во времена Филиппа мировое господство ещё мыслилось только в рамках державы Александра[284]. В своей произвольной конструкции Полибий игнорирует существование Селевкидов и Карфагена, с которыми Македония не могла соревноваться на равных, они не допустили бы её усиления, и, очевидно, царь это прекрасно понимал. Высказывания автора об амбициях Филиппа риторически приукрашены[285]. Интересы царя никогда не распространялись за пределы Балкан и Эгеиды. Воспитанный на политике баланса сил, он не знал войны на уничтожение, что так рано познал Рим, вообще не склонный к компромиссам и идущий на них только вынужденно.
Нет смысла преуменьшать агрессивность Филиппа. В его политике постоянным и наиболее важным элементом была война. 42 года его правления дали всего восемь лет мира: 221, 196, 194–192, 188, 185, 182 гг. до н. э.[286] Однако в предстоящем столкновении с римлянами цели царя были весьма скромными – отнять Иллирию, воспользовавшись их затруднениями, что было вполне в духе эллинистической политики. Вытеснить римлян из Иллирии стало для него буквально вопросом жизни[287]. К большему он не стремился, что и подтвердили дальнейшие события.
Мир, заключённый в Греции летом 217 г. до н. э. на условиях сохранения статус-кво (Polyb. V.103.7), позволил Филиппу начать войну со Скердилаидом, совершившим набег на Македонию (Polyb. V.108.2). К весне 216 г. до н. э. было построено 100 лемб, «чтобы переправить на них войска в Италию» (Justin. XXIX.4.1)[288], но Полибий пишет лишь, что Филиппу для его «замыслов» нужны были суда (V.109.1). Будь это десант в Италию, автор не преминул бы об этом сообщить. Даже Ливий нигде не говорит, что уже в это время царь хотел высадиться в Италии. Лембы – малые суда с одним рядом вёсел и без тарана[289] – вмещали 50 человек (см.: Polyb. II.3.1).
Типологически лембы близки камарам, на которых пиратствовали в Понте жители Западного Кавказа. Небольшая лёгкая камара несла 25–30 человек[290]. Если продолжить типологический ряд, то от лембы через камару мы придём к ладье князя Олега и казачьей чайке запорожцев. Все эти судёнышки были небольшими и беспалубными. Максимальное число воинов, которое могли принять 100 лемб, – 6000 человек[291].
С такими силами царь никогда бы не рискнул на вторжение в Италию: союз Ганнибалом ещё не был заключён, к тому же пуниец находился далеко от побережья, в любом случае до его подхода отряд был бы уничтожен. А если бы в открытом море эта лёгкая флотилия встретила несколько римских трирем – они без труда потопили бы всю сотню лемб. На пути к Аполлонии Филипп узнал, что римский флот стоит в Сицилии (Polyb. V. 109.5). Море было свободно, но царь двинулся не в Италию, где мог без помех высадиться, а к Иллирии. Ещё раньше Филипп захватил Закинф (Polyb. V.102.10) – прекрасную морскую базу южнее Акарнании, откуда без труда мог достичь Италии. Наконец, обогнув Пелопоннес с востока (этим путём он и шёл в 216 г. до н. э.), царь всегда мог беспрепятственно плыть к италийскому побережью.
Следовательно, в 216 г. до н. э. Филипп даже и не думал ударить по Италии – его спор с римлянами мог быть решён только в Иллирии и нигде больше. Лембы нужны были для переброски войск к Аполлонии и осады с моря. Римляне, извещённые Скердилаидом, послали 10 кораблей, царь, решив, что на него идёт весь флот, бежал. Полибию страх Филиппа кажется неоправданным (V.110.7), но это только доказывает, что его суда были слишком малы и не годились для морского сражения.
После катастрофического поражения римлян в битве при Каннах царь решил заключить союз с Ганнибалом и продолжить операции в Иллирии. Летом 215 г. до н. э. возвращающееся домой македонское посольство попало в руки римлян, успевших принять меры (Liv. XXIII.38). Первый раз послов задержали ещё по пути к Ганнибалу, но тогда им удалось уйти, заявив, что они плывут заключать союз с Римом (Liv. XXIII.33). Отсюда идут два недоразумения: Г. Бенгтсон, опираясь на Юстина (XXIX.4.3–4), полагает, что послов отпустили из великодушия, и неизвестно, узнали ли римляне о целях посольства[292]; а К. Нич считал: послы должны были заключить союз сначала с Римом, потом – с Карфагеном[293]. Источники однозначно гласят, что целью посольства был союз с Ганнибалом против Рима. Филипп потерял время, и ему пришлось отправить к пунийцу второе посольство (Liv. XXIII.39).
Царь торопился, ему казалось, что война в Италии близится к концу – любое эллинистическое государство после сокрушительного поражения в генеральном сражении просило мира. Он спешил быть включённым в мирный договор, что давало гарантии на будущее. Однако Филипп слишком плохо знал римлян. По римской ментальности – чем хуже обстояли дела, тем твёрже нужно держаться. Они и не думали капитулировать. Помог им и богатый опыт войн в Италии. Как справедливо отмечает Э. Брэдфорд, римляне глубоко усвоили, что отдельная битва ещё не обеспечивает завоевания страны[294]. Им случалось проигрывать сражения, но одно – завершающее – они всегда выигрывали.
Инициатором союза был царь, противоположные мнения[295] ошибочны. Утверждение Корнелия Непота «Филиппа он (Ганнибал. – Примеч. А.Б..) заочно втянул во вражду с Римом» (XXIII.2) неверно вдвойне: 1) враждебность к римлянам царь испытывал уже давно; 2) именно Филипп прислал послов к Ганнибалу, но не наоборот! Аппиан неубедительно объясняет союз жаждой Филиппа расширить свою власть, утверждая, что ранее царь не испытал от римлян никаких обид (Mac. IX.1). Старая историография полагала, что Антигонид вмешался в войну, верно оценив опасность Рима для восточных государств[296]. Здесь явно преувеличивается широта политического кругозора царя: он думал только о себе, судьбы Востока его ничуть не занимали. Справедливее мнение, что Филипп стал союзником Ганнибала, понимая опасность появления Рима на Балканах[297]. Он надеялся разделить с Баркидом плоды победы[298], видя благоприятные условия для изгнания римлян из Иллирии, царь и вступил в союз с ним[299]. Безусловно, главной его целью было вытеснение римлян из Иллирии[300]. Причина войны – утверждение римлян на Балканах[301], но отнюдь не «экспансия Филиппа к Адриатике и союз с Ганнибалом»[302], «амбиции царя»[303] или его желание «играть мировую роль»[304].
Поведение царя во II Пунической войне объясняется одинаковым страхом перед Римом и Карфагеном[305]. Канны могли стать началом карфагенского господства, чему Филипп не желал помогать, он имел целью сохранить свободу Греции от Карфагена[306]. Путём союза он добился невмешательства Ганнибала в Грецию, которая признавалась сферой интересов только Македонии[307]. Очевидно, это и было главной причиной союза. Воспользовавшись войной, царь мог вытеснить римлян с Балкан, опираясь на помощь Карфагена, но сам ему никакой помощи оказывать не собирался! После победы Ганнибала владения Филиппа были бы защищены званием карфагенского союзника, в договоре на этом сделан особый акцент – «мы не будем злоумышлять друг против друга…» (Polyb. VII.9.8). В целом это обычная формулирова для эллинской дипломатии, но для Филиппа V она была реально очень важна. После победы Карфагена царь, даже независимо от результатов своей войны с квиритами в Иллирии и даже своих собственных усилий в ней, добивался ухода римлян с Балкан, так как по договору это было условием мира союзников с Римом.
Нет оснований считать, что Италия «определялась сферой интересов Карфагена, куда царь вмешиваться не будет»[308], – в тексте договора ничего об этом нет. Филипп не имел интересов в Италии, ему хватало забот на Балканах. Он беспокоился только об удержании Греции[309].
Следующий сложный вопрос – определение агрессора в I Македонской войне[310]. Многие отводят эту роль Филиппу. Агрессивность проявила Македония, пытавшаяся отнять у Рима Иллирию, в которой он был заинтересован[311], политика Рима была оборонительной. Внешне всё так и выглядит: Филипп напал, римляне защищались, но такая оценка довольно поверхностна. С другой стороны, Дж. Файн полагает, что оборонительной была политика Македонии[312]. К.А. Ревяко называет агрессором только Рим и отрицает агрессивность царя[313].
В действительности агрессорами являются обе стороны. Македония была заинтересована в Иллирии не менее, чем Рим. Для Рима Иллирийские войны были превентивными, вызванными его агрессивной борьбой с Карфагеном. Для царя война за изгнание римлян была такой же, обусловленной агрессией в Греции и нежеланием иметь здесь конкурента. «Оборонительный империализм» продемонстрировали обе стороны, их столкнули агрессия Рима против Карфагена (в перспективе – и против Балкан), и Македонии – против Греции. Появление Рима на Балканах было опасно для македонской гегемонии, но эта опасность не имела ярко выраженного характера и не так бросалась в глаза. Вторжение Филиппа в римские владения представляло непосредственную угрозу римским интересам, поэтому из двух агрессоров таковым порой признаётся только Филипп.
Другой спорный вопрос – это готовность царя воевать в Италия. Господствует имение, что царь мечтал об этом[314], только немногие подвергают это сомнению[315]. Д. Мэй признаёт, что попытки Филиппа вытеснить римлян из Иллирии были объективно более полезны для него, чем поход через Адриатику[316]. Вообще уверенность, что Филипп желал воевать в Италии, основывается всего лишь только на трёх указаниях источников, другие свидетельства вторичны и опираются на них:
1. Амбиции Филиппа и его мечты о мировом господстве (Pol. V.108.5). Это утверждение Полибия бездоказательно и не заслуживает доверия. 2. Для переправы в Италию царь считал нужным покончить с делами в Иллирии (Pol. V.108.4). Ему не удалось захватить Иллирию, но не это было причиной того, что он так и не появился в Италии. После овладения Иллирией ему было просто незачем воевать в Италии. Оба предыдущих пассажа Полибия полностью опровергаются приведённым самим же автором текстом договора с Ганнибалом. 3. Царь обязался переправиться в Италию и участвовать в войне, после победы Италия и добыча остаются Ганнибалу. Затем обе армии отправляются на Восток и воюют, с кем укажет Филипп (Liv. XXIII.33). Причём Балканы остаются Филиппу (Liv. Ibid.). Почти теми же словами излагают договор Евтропий – «по искоренении римлян переправляются в Грецию» (III.VII), Аппиан (Маc. I) и Зонара (IX.3). Небывалые условия! «In has ferme leges…» – «на таких примерно условиях…» (Liv. XXIII. 34.1) был заключён договор царя с пунийцем. Отсюда следует, что самого документа Ливий не видел и излагает тенденциозных анналистов. Предполагалось, что царь сможет выставить 200 кораблей (Liv. XXIII.33), – это доказывает фальсификацию, так как у Филиппа практически не было флота (о чём могли не знать анналисты).
Вариант Ливия имеет сторонников в основном в старой литературе[317]. Положение царя в Греции было достаточно прочным[318], ему незачем было принимать на себя такие тяжёлые обязательства (анналисты плохо знали ситуацию в Греции!). Едва ли он желал вмешательства пунийцев в греческие дела[319]. Логичнее было самому вытеснить римлян из Иллирии. «Условия невероятны, даже нелепы, что доказывает и документ, приведённый Полибием»[320]. По мнению М. Олло, упоминаемый Ливием договор поддельный, сфабрикован анналистами и не заслуживает внимания[321]. Текст Ливия ошибочен[322].
Полибий, несомненно, приводит подлинный текст договора[323]. Римляне захватили македонских послов с текстом соглашения (Liv. XXIII. 34; App. Mac. I) – очевидно, автору позволили снять копию в архиве, он даёт буквальный перевод с финикийского. Если версия Полибия расходится с вариантом Ливия, то в данном случае доверять следует именно и только Полибию. По Полибию (VII. 9), союзники обязались воевать до победы, затем Рим очищал Балканы и не должен был туда вмешиваться. Это выражено предельно конкретно и чётко (см.: Polyb. VII.9.13–14), меж тем как обязательства союзников изложены очень неопределённо. Стороны согласились на взаимную помощь, но в тексте договора нет ни слова об обязанности царя высадиться в Италии.
Не предусматривалось и «уничтожение» (Liv. XXI.30) Рима – в текст договора введён пункт, что союзники помогут друг другу в случае будущих войн с Римом. Соглашение – скорее договор дружбы, чем военный наступательный союз. Стороны вели себя не очень честно: Филипп не собирался оказывать реальную помощь, а для Ганнибала союз имел форму берита[324], личного договора – что не налагало на карфагенское правительство абсолютно никаких обязательств.
Филиппа напрасно обвиняют в вялости и «нерешительности»[325] – Полибий отмечает присутствие духа, энергию царя, способность действовать и смелость на войне (IV.77). Скорее у него был даже избыток энергии[326]. Нельзя объяснить его бездействие «отсутствием флота»[327] или тем, что римские корабли «помешали»[328] ему высадиться в Италии. У Филиппа было некоторое количество ахейских, вифинских и карфагенских кораблей, позже он даже думал дать бой римскому флоту, господствовавшему в Ионическом море (Liv. XXVII.30.15–16), но для крупного десанта в Италию их было явно недостаточно. Только в 208 г. до н. э. царь начал строительство 100 военных кораблей (Liv. XXVIII.8.14), но в это время высадка в Италии была уже совершенно бесперспективна. Очевидно, уже тогда у Филиппа появились планы агрессии в Эгеиде, для чего и предназначался будущий флот. Уже в 201 г. до н. э. македонские суда на равных сражались с родосско-пергамским флотом: у Филиппа было 53 крупных корабля и 150 мелких (Polyb. XVI.29) – имея такие силы в 212 г. до н. э., царь легко смял бы римскую заградительную эскадру. Но он восемь лет после Канн не предпринимал ничего для создания флота, способного десантировать крупные силы через Адриатику. Страх, что царь появится в Италии, был абсолютно не обоснован[329].
Филипп планировал «обеспечить за собой часть Италии»[330]. Но из договора никак не следует, что замышлялся такой раздел. Т. Франк полагает, что Карфаген не хотел делиться, царь не вторгся в Италию лишь потому, что этого не желал сам Ганнибал, опасающийся конкурента. От Филиппа откупились, дав ему свободу действий в Иллирии, чем он был разочарован[331]. На самом же деле Иллирия была единственной его целью! Ганнибал, испытывая недостаток войск, умолял свое правительство о резервах. Вероятно, он побуждал царя к переправе, но тщетно. Д. Мэй уверен, что карфагенские эскадры, позже прорывавшиеся в Адриатику в 209 и 208 гг. до н. э., шли установить контакт с Филиппом[332]. Возможно, это была последняя попытка Ганнибала убедить царя высадиться в Италии, для пунийца это было крайне желательно, но для самого Филиппа V в такой авантюре не было ни малейшего смысла.
Летом 214 г. до н. э. Филипп осадил Аполлонию. Мнение Т. Моммзена, что царь плыл в Италию, но, нарушив обещание Ганнибалу, повернул к Аполлонии[333], ни на чём не основано и ошибочно. Разбитый римлянами на суше, он сжёг свои суда и бежал (Liv. XXIV.40). Римляне оставили в Орике флот и могли наблюдать за обеими сторонами пролива (Polyb. VIII.1; Liv. Ibid.). Безопасностью протектората они временно пожертвовали ради защиты Италии, вторжения царя на Апеннины они явно не боялись и не желали зря дробить силы[334]. Поэтому Филипп к 212 г. до н. э. легко захватил Парфинию и Атинтанию, и тогда сенат заключил союз с Этолией, чтобы не дать ему развить успех в Иллирии. Именно в Иллирии едва ли сенат верил в его «италийские планы», а к этому времени римляне имели подробную информацию о состоянии дел в Элладе и возможностях Македонии.
Почти общепринятое мнение, что высадиться в Италии царю помешала вовремя устроенная сенатом Этолийская война[335] (см. 2-ю главу), не имеет никаких оснований. Невозможно согласиться, что «римляне не допустили появления македонских войск в Италии»[336]: на самом деле Филипп никогда не планировал вторжения туда. Уже в 214 г. до н. э. Ганнибал контролировал Юго-Восток Италии, он очень хотел захватить Тарент (Liv. XXV.8) и ждал Филиппа. Осенью 213 г. до н. э. царь взял Лисс (Polyb. VIII.16), получив прямой и близкий выход к морю на Балканах, а зимой 213/212 г. до н. э. пуниец занял в Италии Тарент (Polyb. VIII.36), обеспечив тем самым вероятную возможность быстрой переправы туда македонских войск. Между захватом Лисса в 213 г. до н. э. и выступлением этолийцев в 211 г. до н. э.[337] (Liv. XXVI.24; Justin. XXIX.4) лежит слишком много времени. Нельзя объяснить, почему Филипп, якобы страстно мечтавший воевать в Италии, не воспользовался им. Почти вся Иллирия была захвачена царём без труда, а в Италии он мог получить только тяжёлые бои – и ничего взамен. Филипп ограничил свои действия Иллирией, даже не пытаясь помочь пунийцу[338].
Эфемерный союз[339] Филиппа с Ганнибалом был опасен только внешне[340] и ничего не дал ни одной стороне[341]. Царь рассчитывал использовать затруднения пунийцев, нуждающихся в союзниках, для достижения собственных целей[342]. Он лишь на время мог быть союзником Ганнибала, в перспективе же в случае победы над Римом Филипп мог стать врагом Карфагена. После того как Этолия в 206 г. до н. э. заключила сепаратный мир с Филиппом, I Македонская война далее шла очень вяло – поражение Карфагена стало очевидным, и для царя она утратила смысл. Он ещё мог заключить приемлемый мир и «очень желал его» (Liv. XXIX.12). Рим стремился освободиться для удара в Африке (ibid.) и был готов на уступки, царь хотел урвать хоть что-то. По миру 205 г. до н. э. Атинтания отошла Филиппу (ibid.). Уступки шли в основном от царя – он очистил большую часть завоёванных территорий. Рим уступил ему «свою» Атинтанию и «чужой» Лисс, принадлежащий Скердилаиду[343]. Утверждения, что Рим сохранил все свои владения[344] и получил контрибуцию[345], ошибочны. Стороны обязались не обижать союзников друг друга.
Компромиссный мир[346] не разрешил противоречий. Стороны не считали его ни надёжным, ни заключённым по доброй воле (App. Mac.III.2). Эта оценка Аппиана является ключевой для правильного понимания последующих событий. Он мог только прервать борьбу, искреннего примирения не было[347]. В сложившейся ситуации мир был выгоден обеим сторонам. Однако он не был «триумфом Филиппа»[348], другая крайность – «Рим был единственным, кто извлёк выгоду из мира»[349], не принёсшего никакой пользы Македонии[350]. Условия мира были благоприятны для Филиппа[351]. Утверждение Н.Ф. Мурыгиной, что война окончилась поражением царя[352], не имеет оснований, как и мнение Э. Фримана о том, что поражение потерпел Рим[353]. Главная задача – укрепиться на Балканах – была достигнута. Важен результат. Несмотря на уступки Филиппу, мирный договор усиливал позиции Рима в Греции[354].
Многие исследователи полагали, что появление Рима на Востоке было роковой необходимостью, вызванной заботой о собственной безопасности[355]. На самом деле Рим вёл защитные войны, только будучи ещё малым городом. Тогда он действительно сражался за существование. Затем, окрепнув, боролся за гегемонию в Италии, потом – уже за покорение Италии[356]. Теперь же Рим воевал не с теми, кто угрожал его существованию или хотел отнять у него свободу, – он враждовал с теми, кто хотел отнять у него власть над какой-то территорией. Или стоял у него поперёк дороги на его пути к такой власти. Разница с былыми войнами огромная!
Римско-пуническая борьба, агрессивная по сути, вела к так называемым превентивным войнам. Однако превентивная война – «любимое дитя любого империализма»[357]. Чтобы обеспечить успешную агрессию в одном месте, приходится вести «оборонительную» войну в другом. Логика развития любой агрессии требует «превентивных мер», растущая экспансия и превентивные войны тесно связаны друг с другом[358]. Эти войны часто ведут к завоеваниям[359].
Агрессивность Рима понимали и современники. Саллюстий приводит письмо Митридата[360]: «У римлян есть лишь одно основание для войн – желание владычества и богатства» (Hist. V.6). Юстин, явно отражая не дошедшую до нас антиримскую традицию, приводит слова Деметрия, характеризующие римлян: «которые, не довольствующиеся пределами Италии, а охваченные бесстыдной надеждой овладеть всем миром, ведут войны против всех царей» (XXIX.2). Полибий ставил своей целью показать, как все известные земли попали под власть Рима за 53 года (I.1.5), он рассматривал римскую историю как последовательное осуществление плана покорения мира. Разумеется, такого плана не было, да и сама идея мирового господства пришла в Рим намного позже[361], но были действия, подготовившие эту идею. Очевидно, до 201 г. до н. э. Рим не имел определённой восточной политики[362] и долгосрочной программы[363].
Есть мнение, что война была великой целью существования римлян[364]. На это прекрасно ответил Полибий: «Ни один здравомыслящий человек не ведёт войны только ради того, чтобы одолеть в борьбе… Всё делается ради выгод…» (III.4.9—11). В свете этих выгод и следует рассматривать генезис восточной политики римлян. Они скоро поняли, что их интересы не ограничиваются только Италией[365]. Сначала их политика была крайне гибкой и осторожной, приходилось учитывать существование сильных противников – Карфагена и Македонии.
Против последней Рим пытался создать общегреческую коалицию. Для этого нужно было привлечь к себе греков, используя противоречия эллинского мира, сенат натравливал их друг на друга. Его политика состояла в образовании возможно большего числа враждебных между собой государств[366]. Ганнибал, только однажды разбитый римлянами, отмечал, что могущество Рима состоит не в его военной мощи, а в способности разъединять противников[367]. Эллинистический же Восток был настолько разобщён, что неминуемо должен был стать легкой добычей Рима[368].
После II Пунической войны Рим активизировался на Востоке. Эта война, помимо всего прочего, имела для Рима ещё одно важное значение. Она заставила мыслить международными категориями[369]. Мышление Рима стало шире. В значительной степени – благодаря тем урокам, которые он получил на Балканах. Победа над Ганнибалом обеспечила Риму господство на Западе[370]. Политические задачи в этом регионе были выполнены, чтобы закрепить успех, оставалось покорить Испанию и покарать цизальпинских галлов. Для обеспечения гегемонии на Западе уже не приходилось затрачивать серьёзных политических усилий. На Испанию ушло много времени, но теперь всё сводилось именно к военным усилиям. Западная политика перестала быть глобальной после устранения Карфагена, дипломатическая активность переместилась на Восток. Сенат стал понимать, что события вне Италии влияют на её судьбу, таким образом, причина обращения на Восток кроется и в изменении политической установки.
Рим смог активнее заняться Востоком не только дипломатически, но и прямым военным вмешательством. Г. Скаллард считает, что сначала следовало покорить Запад[371], однако ситуация, сложившаяся на Востоке, требовала немедленного вмешательства[372]. Опоздав, Рим мог много потерять. Натиск на Восток был предпочтительнее и легче. Против иберов и галлов не на кого было опереться, а на Востоке можно было использовать противоречия многих существующих там государств. I Македонская война показала, что таким путём можно сберечь собственные ресурсы, и римляне предполагали следовать этому и впредь[373]. Если на Западе угрозы римскому владычеству не стало, то на Востоке сильная Македония беспокоила сенат. Помня о своей медлительности, позволившей Ганнибалу перенести войну в Италию, правительство было готово «действовать на опережение» и ударить первым. Теперь в поле зрения старались держать весь известный мир, иметь о нём полную информацию и не дать подняться возможному конкуренту. II Македонская война логично вытекала из II Пунической. И, став на путь агрессии, Рим уже не мог остановиться, пока существовали другие сильные державы.
Филипп V желал компенсировать неудачу в Иллирии захватом египетских владений в Эгеиде. Одновременно Антиох III пытался отнять у Египта Келесирию и малоазийские владения. Источники очень туманно говорят о союзе царей с целью раздела Египта (Poyb. XV.20.4; Liv. XXXI.14.5; App. Mac. IV), ссылаясь на сообщения родоссцев (App. Ibid.) и египтян (Just. XXX.2.8). Очень многие исследователи верят этим слухам[374] и даже приводят нелепые подробности: «Египет и Кипр – Антиоху, Киклады, Ионию и Кирену (??!! – А.Б.) – Филиппу»[375]. Другие, как Х. Браунерт, полагают, что цель договора царей заключалась не в отторжении территории самого Египта, а в разделе его заморских владений и уничтожении египетской гегемонии[376]. Заметим: для этого времени говорить о гегемонии Египта уже едва ли оправданно. Лишь немногие историки не верят таким слухам[377] – очевидно, они более правы.
Новейшие исследования опровергают устоявшиеся мнения о союзе Филиппа и Антиоха для совместных действий против Египта[378]. Однако нам это представляется несущественным, как и приведённые В.И. Кащеевым мнения о том, насколько факт наличия такого договора стал причиной II Македонской войны[379]. В любом случае, существовал договор или нет, агрессия царей, пусть несогласованная, выглядела так, словно они действуют заодно. Невозможно поверить, что Рим «вообще не знал ничего»[380] об этом гипотетическом договоре. Просившие помощи послы Родоса, Египта, Пергама, Этолии и Афин не только должны были информировать сенат о захватах, но и пугать римлян в своих целях союзом царей, явным или мнимым. Вероятно, слухи о договоре распустили родоссцы и пергамцы, они были в опасности и нуждались в помощи Рима[381]. М. Грант явно не прав, полагая, что римляне поддались влиянию своей «партии войны», считавшей, что коалиция царей может быть направлена и против Рима[382].
Ослабевший Египет пришёл в упадок и перестал пользоваться уважением[383]. Для его раздела не нужно было сотрудничать, да цари и не стремились к этому[384]. Можно согласиться с А.Б. Рановичем, что договор (если он был. – А.Б.) – лишь дипломатическая игра, за которой скрывались соперничество и взаимное недоверие[385]. Падение могущества Египта сопровождалось растущей политической изоляцией[386], в поисках опоры он сближается с Римом. В 204 г. до н. э. опека над малолетним Птолемеем V – следовательно, над страной, передана Риму. Опека, пусть формальная, показывает, насколько вырос авторитет Рима.
В 202 г. до н. э. Антиох вторгся в Келесирию, Филипп кроме египетских стал захватывать и вольные города Эгеиды и Босфора. Политика Антигонида отнюдь не была «самоубийственной»[387], и он не «делал всё, чтобы восстановить против себя всех греков»[388]. Ни один из атакованных им городов не был союзником Пергама или Родоса[389], но утверждение царя в проливах встревожило родоссцев, так как угрожало их торговле. Обеспокоились и Афины, зависимые от подвоза хлеба из Причерноморья. Захватив Лисимахию и Перинф, Филипп ухудшил отношения с Этолией и Византием[390]. Жестокость царя оттолкнула малые полисы, а его агрессия напугала Пергам.
Так сложился антимакедонский союз: Родос, Пергам, Византий, Хиос, в 202 г. до н. э. объявивший Филиппу войну. Ему было выгоднее иметь дело с беззащитными полисами. Видимо, он совсем не хотел этой войны. Но повёл её очень энергично. Коалиция, прекрасно понимая свою слабость, желала привлечь к союзу сильную державу. Зная вражду Рима к царю, союзники надеялись на помощь. Сенат успешно проводил политику разделения своих противников и всегда готов был «поддержать слабого против сильного»[391]. Мир 205 г. до н. э. для римлян был вынужденным, они и не трактовали его как мир – только перемирие. Неслучайно Ливий пишет, что они «excitaverunt ad renovandum» (XXXI.1.10) войну с Филиппом. Война, приостановленная в 205 г. до н. э., возобновилась в 200 г. до н. э.[392] По римским понятиям, окончательный мир может быть заключён только с побеждённым врагом, всё остальное – перерыв в военных действиях, не более. Это можно подтвердить терминологически: pax от pacare (покорять). Такая политика была традиционной для Рима в Италийских войнах. Только продиктовав свою волю побеждённым врагам, сенат заключал «настоящий» мир (см.: Liv. I.38; II.41; V.27; VII.12; VIII.15; VIII.19; VIII.25). Поэтому заключение мира предполагало поражение противника и его подчинённое положение.
Рим не мог простить Филиппу вмешательства во II Пуническую войну. Затем к этому добавились слухи, распространяемые греческими союзниками римлян, что царь якобы послал в Африку 4000 воинов на помощь Ганнибалу (Liv. XXX.26.3). Автор утверждает, что этот отряд сражался у Замы (XXX.33). Следует учитывать, что эта информация исходит от врагов Антигонида, а римляне охотно верили во всё, что могло доказать нарушение мира со стороны Македонии, и стремились использовать это в своих пропагандистских целях. Аппиан (Lib.VII.40) и Полибий, по словам самого Ливия, «автор, заслуживающий большого уважения» (Liv. XXX.45), македонян в битве при Заме не упоминают (см.: Polyb. XV.11). Следовательно, Ливий даёт неверную информацию. Ряд учёных верят Ливию[393], другие его опровергают[394]. Более верной представляется средняя позиция: у Замы могло быть некоторое количество македонских наёмников[395], но они не были отправлены туда Филиппом[396]. Мнение о том, что царь помог Ганнибалу, – плод антимакедонской пропаганды[397], возможно, эти наёмники даже не участвовали в битве[398]. В это время Филипп уже был слишком занят войной на Востоке, чтобы распылять свои силы.
В 202 г. до н. э. царь совершил тактическую ошибку, отправив в Рим посольство с просьбой вернуть пленённых при Заме македонских наёмников. Сенаторы упрекали послов в помощи врагу и «обидах римским союзникам» (Liv. XXX.42). Практически война была решена уже тогда[399]. Македонские послы были отпущены с суровым ответом: царь ищет войны и скоро найдёт её (ibid.). Утверждение Э. Бэдиана, что сенат хотел мира с Филиппом[400], опровергается свидетельствами источников.
При избрании консулов на 201 г. до н. э. «отцы» решили не делить между ними провинции, пока не будут выслушаны послы Филиппа и карфагенян, – «предвидели конец одной войны и начало другой» (Liv. XXX.40). По прибытии послов сначала слушали македонских (Liv. XXX.42), дело с Карфагеном уже решено, отношения с Македонией теперь важнее. Послы царя пытались оправдаться, очевидно, Филипп не хотел войны на два фронта, она мешала бы ему развить успех на Востоке. Можно согласиться, что он заключил мир с надеждой избегать вражды с Римом, римляне же не отказались от мысли «смирить опасного врага»[401]. Царь мог надеяться, что Рим, окончив одну войну, не рискнёт сразу же начать другую, нарушив мирный договор. Наконец, он мог полагать, что управится с захватами быстро, – едва ли он понимал, что вторгся в область римских интересов, охватывающих уже всё Средиземноморье. Сыграла роль и неуёмная энергия царя, его постоянное стремление выхватывать куски из владений соседей.
Осенью того же 202 г. до н. э. в Рим прибыли этолийцы, прося защиты от македонян. Этолия пыталась восстановить дружбу[402]. Сенат, заявив, что союза больше нет (Liv. XXXI.29), в помощи отказал. Об «измене» хорошо помнили и желали, чтоб Этолия сполна вкусила её плодов. Как любая агрессивная политика, римская была злопамятной и мстительной. Это отметил даже лояльный к Риму Полибий: «Римляне и вида не подали, что продолжают злобствовать за прошлое…» (Polyb., fr. 112). М. Олло считает, что мир, заключённый в Фенике, отметил конец римских интересов на Востоке, поэтому Рим и не помог этолийцам, но с этим не согласен и сам Э. Бэдиан, цитирующий М. Олло[403]. Кроме вражды к Этолии сказались занятость в Африке и Испании, почему Рим на время и отошёл от восточных дел.
В 201 г. до н. э. с просьбой о помощи обратились Родос и Пергам (Liv. XXX.2). Они встретили совсем другой приём. Рим искал повода к войне[404], и, хотя просьбы родоссцев и пергамцев не могли быть основанием, так как они первыми начали войну с царём[405], сенат обещал помочь им. Одновременно римляне отправили послов в Египет, «прося сохранить расположение, если обиды вынудят начать войну против Филиппа» (Liv. XXXI.2). Это доказывает, что война была уже окончательно решена. В преддверии неё прибегли к обычной практике – посещению союзников с целью заручиться их поддержкой. Это предшествовало любой войне.
В 200 г. до н. э. в Элладу отбыла особая миссия сената для ознакомления с ситуацией и привлечения новых союзников. В Италии уже были готовы войска и корабли для их переброски на Балканы[406]. Прибыв в Афины, хору которых разорял македонский стратег Никанор, римские послы заставили его уйти из Аттики (Polyb. XVI.27). Стратег разорял хору в ответ на объявление афинянами войны Македонии[407], т. е. с точки зрения эллинистической политики это были обоснованные и общепринятые действия. Афины не были союзником Рима – доказано, что они внесены в число подписавших мир в Фенике анналистами и Ливием задним числом[408], таким образом, римляне не имели формального права вмешиваться в этот инцидент. Утверждение, что вторжение Филиппа в «союзную» Аттику дало повод к войне[409], вообще не имеет никаких оснований.
Затем римские послы посетили Эпир, Этолию, Ахайю, ведя антимакедонскую пропаганду и рекламируя требование к Филиппу не воевать с греками. Одной из целей миссии было удержание Эпира и Ахайи от помощи царю. Одновременно Аттала известили, что Рим с готовностью пойдёт войной на Филиппа (Polyb. XVI.26.2). Вскоре царю предъявили ультиматум: не воевать с греками, не посягать на Египет, ответить перед третейским судом за обиды Родосу. Эти требования никак не могли опираться на условия мира в Фенике[410] и показывают новые цели Рима – сделать Македонию зависимым государством[411]. Показательно, что Филипп пытался оправдаться, объясняя, что родоссцы первыми напали на него, но был грубо и бесцеремонно прерван римским послом (Polyb. XVI.34.5). Возмущенный Антигонид с царственным достоинством заявил, что желает мира, но если римляне начнут войну, то получат отпор (Polyb. XVI.43.7; Liv. XXXI.18). По Аппиану, Филипп сказал, что римлянам стоит держаться тех условий, которые они с ним заключили (Mac. IX), т. е. не вмешиваться не в свои дела. «Так был нарушен заключённый договор…», – добавляет Аппиан, считая виновным царя (ibid).
Инициатором и виновником войны был Рим, но в то же время и Филипп отнюдь не безвинная жертва. Проявляя агрессивность, он планировал создать державу в Эгеиде, поскольку Рим положил конец его мечтам править всей Грецией[412]. На переговорах в Никее у Филиппа потребовали вернуть те земли в Иллирии, которые он «post pacem in Epiro factam ocupasset» (Liv. XXXII.33.3). Здесь Ливий даёт дословный перевод Полибия (см.: Polyb. XVIII.1.14). С. Оуст вслед за М. Олло и П. Бэлсдоном даёт перевод не «после мира в Эпире», а «в соответствии с миром»[413]. Однако, как отмечают Дж. Ларсен и Д. Брискоу, такой перевод невозможен[414]. Он противоречит грамматике и логике. Приведённое там же требование вернуть Египту земли, «quas post Philipatorem Ptolomaei mortem occupavisset» (Liv. XXXII.33.4), нельзя перевести – «которые в соответствии со смертью Птолемея Филопатора захватил». Наконец, Полибий в таком случае должен был употребить греческое слово «kata», но не «meta». Поэтому единственно возможный перевод: «после мира… после смерти…».
Отсюда следует, что Филипп после Феники действительно захватил какие-то земли в Иллирии. Можно, однако, определённо утверждать, что они не входили в римский протекторат, – Филипп был заинтересован в сохранении мира с Римом и не стал бы так рисковать. С другой стороны, и римляне восприняли бы его вторжение в протекторат как немедленное возобновление войны. Очевидно, царь напал на «ничейные» нейтральные иллирийские земли, надеясь, что Рим занят Карфагеном и не обратит на это внимания. Но даже эту ошибку Антигонида трудно считать «обидами римским союзникам» и тем более основанием для войны. Не желая войны, Филипп, очевидно, по требованию сената очистил бы эти территории, а требования «restituenda» (Liv. XXXII.33.3) их Риму выглядит излишне категоричным, поскольку они и не были частью римского протектората.
Даже непризнания прав сената вмешиваться в восточные дела было достаточно для войны, но причины её кроются глубже. Приведённое Ливием обоснование войны – за нарушение мира с этолийцами и другими союзниками, отправление войск Ганнибалу, просьба Афин, обиженных Филиппом (XXXI.1), – несостоятельно. Обращением Этолии сенат пренебрёг, обиды союзникам весьма проблематичны, войск в Африку царь не посылал, а Афины вообще не были союзником Рима.
В историографии указываются четыре частных момента, ставших причиной войны.
1. Наиболее распространенное мнение – месть Филиппу за союз с Ганнибалом[415]. Это, безусловно, верно, но это не главное.
2. Союз Филиппа с Антиохом, опасение чрезмерного усиления Македонии и совместного похода царей на Рим[416]. Нам такой страх представляется сильно преувеличенным. Филипп, несомненно, казался далеко не таким страшным, как Ганнибал[417]. Сильной Македонии сенат не хотел – но и это не главное. В возможность объединённого похода царей едва ли кто верил.
3. Одна из причин войны – возрождение морского могущества Македонии[418]. Полностью отбрасывать это мнение нельзя, но флот царя был не настолько силён, чтобы представлять угрозу Риму. Это могло быть лишь третьестепенной причиной.
4. Защита союзников и слабых государств Востока[419]. Рим начал войну по просьбе Родоса и Пергама и «под сильным их давлением»[420]. Такая позиция не соответствует действительности.
5. Причина войны – борьба нобильских родов за славу. Войны желала антисципионовская группа, завидуя его славе и желая уравняться с ним во влиянии[421]. Её спровоцировала группа Сульпиция Гальбы[422] или Клавдия[423]. По этой же причине Сципион был против войны[424], и отказ комиций утвердить её подстроен Сципионом[425]. С другой стороны, напротив, утверждается, что войну начал Сципион[426]. Сами исключающие одно другого определения «авторов» войны показывают несостоятельность такого подхода.
Мнение промарксистски настроенной[427] М. Уэйзон отличается от всех предыдущих. Она полагает, что империалистическая агрессия не была причиной вмешательства Рима, сенат боялся контакта революционной Греции с недовольным населением Италии, а поскольку Филипп не мог контролировать Грецию, то римлянам пришлось действовать самим, чтобы усмирить Балканы и не допустить революции на Апеннинах[428]. Именно слабость царя вынудила Рим к интервенции, контроль над Грецией был установлен в интересах правящего класса, римляне вошли в союз с греческими олигархами[429]. Эта установка перекликается с позицией ряда советских учёных[430], но является устаревшей и безусловно ошибочной.
В.И. Кащеев справедливо предостерегает: нельзя ограничиваться только причинами единичными, частными[431]. Все причины имеют основой одну – растущую агрессивность Рима. Именно отсюда желание не дать царю усилиться за счёт слабых соседей. Грецию, самую слабую часть эллинистического мира, Рим сам хотел прибрать к рукам. Македония могла помешать – её следовало разгромить[432]. Причины войны лежат не столько в Македонии, сколько в Греции и Иллирии. После 206 г. до н. э. вопрос остался нерешённым: Филипп не смог вытеснить римлян из Иллирии, но и им не удалось сохранить все свои иллирийские владения. Царь примирился с таким исходом, римляне – нет! Цели сената узкоагрессивны: вернуть Атинтанию и устранить влияние Македонии в Греции. Цель Рима – не «завоевать Грецию»[433], на тот момент никто не ставил перед сенатом таких задач, а ослабить Филиппа и ограничить его власть Македонией[434]. Главным здесь был не страх перед усилением вероятных противников, а соперничество Рима и Македонии на адриатическом побережье[435]. Г. Бенгтсон, не веря в страх сената, признаёт римскую политику агрессивной[436]. У Рима не было легальных оснований для войны[437]. Лозунг защиты греческой свободы давал формальные основания для нарушения мира[438].
В 200 г. до н. э. консул сделал в сенате доклад о войне с Македонией. Уже после обязательных перед войной жертвоприношений, «кстати для возбуждения умов к войне» (Liv. XXXI.5), пришли письма послов об угрозе, которую якобы представляет армия Филиппа для Италии, и прибыли афиняне просить помощи. Появился благовидный предлог – им ответили: после раздела провинций царь получит войну (ibid.).
Однако народ, уставший от войн, отказался её утвердить (Liv. XXXI.6). Это устоявшееся общее объяснение, но оно становится понятнее, если добавить к нему сухие цифры. Ценз 233 г. до н. э. показал 270 713 граждан (Liv. Ep. 20), 208 г. до н. э. – 137 108 человек (Liv. Ep. 27). Следовательно, только за 10 лет II Пунической войны Рим потерял более 133 000 квиритов, не считая союзников! Неудивительно, что народ хотел хотя бы мирной передышки. Лишь прибегнув к обману, что царь готов высадиться в Италии, консул убедил граждан. Эта ловкая политическая манипуляция показывает, насколько римские политики были правдивы даже с собственным народом! Дабы не раздражать квиритов, набрали только два легиона неслужилой молодёжи плюс добровольцев-ветеранов. Зато союзные контингенты были увеличены, после II Пунической войны их набирали почти вдвое больше[439]. Одной из мер наказания нелояльных италиков стал более тяжёлый «налог кровью».
Вдобавок сенат надеялся на помощь греков, чему способствовала официальная мотивировка войны: за обиды, причинённые союзникам Рима (ibid.). В Греции Рим желал появиться не агрессором, а мстителем за обиженных и освободителем от ига Македонии. Агрессивны были обе стороны, но римляне повели дело так, что виновником войны выглядел царь[440].
Крупные силы пришлось держать в Италии: на севере восстали галлы, много племён опорочили себя помощью пунийцам и были раздражены против Рима (Liv. XXXI.8). На Балканы послали армию всего в 30 000 человек, однако от помощи, предложенной Египтом, отказались. Сенату важно было показать, что, несмотря на тяжёлые потери, он может справиться с любым врагом, а помощь союзникам – это дело только самого Рима (Liv. XXXI.9).
Дипломатическое обеспечение войны продолжалось. У Масиниссы просят конницу, обещая взамен «поддержать и увеличить» его царство. (Liv. XXXI.11). Карфаген добровольно помог хлебом. Особо важная миссия была возложена на посольство к Антиоху – добиться его нейтралитета. Это легко удалось: цари относились друг к другу без доверия, а неудачи одного не трогали другого. Как отмечает Т. Моммзен, Антиох был не настолько дальновиден, чтобы помешать появлению Рима на Востоке, хотя трудно поверить, что он даже желал поражения Македонии, лишь бы «не делиться» египетскими владениями[441]. Скорее всего, царю не было дела ни до Рима, ни до Филиппа, ведь в данный момент он воевал с Египтом.
Ещё в 204 г. до н. э. египетские послы умоляли сенат защитить их страну от Селевкида (Just. XXX.2.8). Но вплоть до конца II Македонской войны Египет был предоставлен своей судьбе, и лишь потом, обострив отношения с Антиохом, Рим заявил о своей готовности защищать и египтян тоже. Г.В. Штолль утверждает, что Рим не мог равнодушно смотреть на обиды дружественному Египту[442], однако сенат несколько лет преспокойно взирал на эти обиды, пока ситуация не изменилась и не стало выгодно вмешаться. Необходимо анализировать римскую политику без малейшей идеализации, опираясь только на факты.
Осенью 200 г. до н. э. консул высадился на Балканах. Горячего приёма он не встретил, греки выжидали. Македонию не любили, но опасались и «варваров-римлян», их появления многие не одобряли. Сначала только Родос, Пергам и Афины сражались за римлян, а на стороне Филиппа – Эпир и Беотия. Рим сразу стал важнейшим фактором международных отношений Востока[443] и главной силой в войне. Он использовал противоречия эллинистических правителей, но Македонские войны отнюдь не были «внутренними для эллинистических держав»[444], и Рим не стал «только членом антимакедонской коалиции»[445]. Нельзя согласиться, что его роль в войне была «незначительной»[446], это противоречит фактам. Ахейцам, пытающимся помирить родоссцев с Филиппом, римляне жёстко и однозначно заявили, что Родос не может заключить мир без согласия Рима (Polyb. XV.35). Из этого отчётливо видно, кто был главной и решающей силой в коалиции врагов Македонии.
Военные действия шли вяло, предстояла главная борьба – за союзников. Филиппу, испортившему отношения с Ахайей, не удалось вовлечь её в войну. На собрании этолийцев послы Филиппа удерживали их от нарушения мира, римляне склоняли к войне (Liv. XXXI.29). В словесном состязании победа осталась за Римом, и не потому, что римский легат оказался красноречивее, скорее сыграла свою роль явная угроза, которой он закончил свою речь – вы или погибнете с Филиппом, или победите с Римом (Liv. XXXI.31). Иного выбора не оставалось.
Вскоре, узнав о мелких победах Рима и нападении на Македонию дарданов и иллирийцев (Liv. XXXI.40), Этолия вступила в войну. Римляне долго не могли добиться успеха – Сульпиций и сменивший его Виллий были слабыми полководцами. Италики не желали гибнуть за Рим, новобранцы не имели боевого опыта, а ветераны, наскуча войной, не дающей добычи, устроили бунт, утверждая, что их набрали насильно и требуя отставки. Учитывая, в каких условиях началась война, нельзя поверить, что ветераны шли на неё «большей частью поневоле»[447]. Ливий ясно пишет: брали добровольцев (XXXI.14.2).
В Риме росло недовольство, на 198 г. до н. э. консулом избрали энергичного Тита Квинция Фламинина, известного филэллина. Сенат надеялся, что он привлечёт к Риму симпатии греков. Положение оставалось сложным. Филипп отбил удары дарданов (Liv. XXXI.43) и этолийцев (Liv. XXXI.42). Антиох занял несколько пергамских городов, и Эвмен просил помощи Рима (Liv. XXXII.18). Сенат обещал помирить его с Селевкидом, добрые отношения с которым римляне в это время всячески подчёркивали. Само столкновение они представили конфликтом двух союзных Риму царей (ibid.). «Дружбу» с Антиохом надо было сохранить до победы, но Пергам был нужен, и римлянам удалось убедить Селевкида увести войска (Liv. XXXII.27). Дружба сената к Антиоху вызывалась соображениями дипломатическими (Liv. XXXII.20). Раньше «римляне и царь с большим подозрением относились друг к другу» (App. Syr. 2). Римляне считали, что он может нарушить нейтралитет, Антиох опасался, что они помешают ему переправиться в Европу. «Но вообще у них не было явных причин для враждебных отношений» (ibid.).
Чтобы выиграть время, Фламинин начал переговоры, Филипп охотно пошёл на них, он желал ухода римлян из Греции и даже готов был очистить занятые города. Консул потребовал освободить Фессалию, что или ослабляло Македонию, или, при отказе, прекращало переговоры. Царь, разумеется, отказался (Liv. XXXII.10). Тем временем Фламинин привлёк значительную часть эпиротов на свою сторону (Liv. XXXII.14) и оказал сильное давление на Ахайю, дав понять, что остаться в стороне ей не удастся. Опасаясь стать врагами Рима, ахейцы стали врагами Македонии. Большинство ахейцев были недружелюбны к римлянам (App. Mac. VII), но утверждение А.И. Павловской, что знать союза примкнула к Риму, надеясь, что он будет охранять её классовые интересы[448], является безусловным упрощением.
Лестью или силой консул получил помощь от греков[449], его дипломатическая победа изменила соотношение сил. Эти успехи побудили сенат продлить его полномочия ещё на год (Liv. XXXII.28). Встревоженный Филипп возобновил переговоры (XXXII.32). Очевидно, он уже не верил в победу и готов был купить мир крупными уступками[450]. Рим предъявил ещё более тяжёлые и «обидные»[451] условия, явно не желая ещё одного «незрелого» мира. Сенат хотел заставить царя признать римское политическое верховенство[452]. Растеряв союзников, Филипп обратился к спартиату Набису, тот, верно оценив ситуацию, перешёл на сторону Рима (Liv. XXXII.39). Продолжая политику изоляции Македонии, Фламинин заключил союз с Беотией (Liv. XXXIII.2). Только теперь, ослабив царя и обеспечив тыл, он дал генеральное сражение. В 197 г. до н. э. при Киноскефалах македонская армия была разгромлена, исход битвы во многом решила этолийская конница[453]. Царь запросил мира.
Война окончилась, и сразу изменилось отношение к союзникам, особенно этолийцам. Раньше Фламинин всё прощал им, теперь же начал всячески принижать (Liv. XXXIII.11). Сделав много для победы, Этолия претендовала на гегемонию в Греции, но Рим сам хотел править (App. Mac. IX). Римляне воевали не для того, чтобы место одного гегемона занял другой. Укрепляясь на Балканах и не прибегая к территориальным захватам, Рим поддерживал баланс сил, никому не давая усилиться. Только так можно было сохранить своё господство над всеми. Поэтому сенат отверг требование Этолии об уничтожении Македонии. Были и соображения частного порядка: разгром Македонии облегчал бы варварам, сдерживаемым ею, набеги на Грецию, которую уже считали своей подопечной. Довод о набегах был рассчитан на греков, не могли же объяснить им, что предпочитают сохранить ослабленную Македонию как пугало для Греции и обоснование своего вмешательства в греческие дела.
С заключением мира следовало поспешить: дошли слухи, что Антиох движется в Европу (Polyb. XVIII.39.3; Liv. XXXIII.13), по пути «перезахватывая» города, ранее взятые Филиппом. Мнение А.Л. Каца, что Антиох, в суматохе II Македонской войны захвативший некоторые территории, тем самым нарушил договор, заключённый с Римом[454], абсолютно беспочвенно. Продвижение селевкидских войск и было главной причиной быстрого заключения мягкого мира (ibid.). Следует учитывать, что Филипп был не настолько ослаблен, чтобы подчиниться любым условиям[455]. В известной мере и этот мир стал для Рима вынужденным, война не была доведена до логического конца – Македония не стала полностью зависимой.
Одна цель была достигнута – Греция оказалась во власти Рима. Этой властью надлежало распорядиться наилучшим образом (см. 3-ю главу).
После 197 г. до н. э. римляне «посоветовали» Филиппу заключить союз с Римом, чтобы не казалось, что он ждёт Антиоха, желая примкнуть к нему (Pol. XVIII.48.4). Царю пришлось подчиниться. В 195 г. до н. э. сенат велел Фламинину начать войну с Набисом, отказавшимся очистить Аргос (Liv.34.22). Главной причиной войны были опасения, что он примкнёт к Антиоху (Just. XXXIII.44), а не его «революционность». Римляне разбили Набиса, чтобы не воевать на два фронта (Liv. XXXI.1.6). Созвав общегреческое собрание, консуляр представил войну делом всех греков. Имея приказ о её начале, он лицемерно спрашивал, не угодно ли грекам освободить Аргос, поскольку это только их дело, а римляне не имеют к этому никакого отношения (Liv. XXXIV.22). Возникает резонный вопрос: почему тогда сенат решил войну без предварительных консультаций с греками? Это показывает, насколько всерьёз воспринимали «свободу» эллинов. Рим никогда не считался с мнением греков, даже в делах, касающихся Греции.
На Набиса двинули большие силы, даже Филипп прислал отряд (Liv.XXXIV.26), уклонились только этолийцы. Отнятый у разбитого Набиса Аргос объявили свободным – и отдали ахейцам! (Liv. XXXIV.41). Во внутренние дела Спарты сенат вмешиваться не стал, это опровергает тезис, что он искоренял в Греции демократию, опираясь на олигархов. Спарту не уничтожили, чтобы сохранить баланс сил.
В 194 г. до н. э. сенат увёл войска из Греции: оставить армию означало внушать грекам сомнения в подлинности их освобождения. Перед отъездом Фламинин отменил в городах все распоряжения сторонников Филиппа, которые могли бы усилить позиции промакедонских сил (Liv. XXXIX.48). В Греции положение оставалось сложным, ценой «свободы» была разруха и раздробленность страны[456]. В 193 г. до н. э. обиженные на римлян этолийцы пытались поднять против Рима Спарту и Македонию. Филипп отказался, но и не известил сенат об этих переговорах и планах Этолию. Одновременно Этолия агитировала Антиоха, обещая ему помощь Филиппа и от себя большое войско (App. Syr. 12). Селевкид не торопился. Возмутить удалось только Набиса, напавшего на Ахайю, но его разбили так быстро, что сенат не успел вмешаться, и Спарта была включена в Ахейский союз (Liv. XXXV.37).
Отсутствие единства эллинистических царей позволило столкнуть Антиоха с Филиппом. Антигониду ещё до войны вернули сына, находившегося в заложниках в Италии, обещали простить недоплаченную контрибуцию и оставить ему все владения, которые он сумеет отнять у Этолии и её союзников (Liv. XXXVI.10; App. Syr.16). И он, вынужденный союзник, помог Риму, не из любви к нему, а из ненависти к Антиоху[457]. Царь, конечно, ненавидел Рим намного больше, чем Антиоха, но у него уже не было другого выхода. Сыграли роль жажда мести этолийцам, стремление прибрать к рукам хоть что-нибудь, желание мелких сиюминутных выгод. Его возмутило, что Антиох имел своего претендента на македонский трон, – это была большая ошибка Селевкида[458].
Но не это было главным: теперь Филипп желал «мирного сосуществования» с могучим Римом. Он понимал, что война с ним закончится крахом Македонии, а оказав помощь, мог надеяться на благодарность. Притом, заключив foedus с Римом, Филипп не мог остаться даже нейтральным[459]. Не осмеливаясь думать о свержении ярма, он думал лишь о том, чтобы смягчить его тяжесть[460]. Союзный договор предусматривал общих врагов. Такие договоры заключались после войны и «регулировали отношения Рима с побеждённым, но ещё не покорённым врагом»[461].
Филипп стал фактически зависимым монархом[462]. Сохранился любопытный фрагмент Полибия: «Важнее всего было отвращать войну от Македонии…» (fr. 108). Кто, кроме царя, мог это делать? Эта фраза может быть подтверждением того, что Филипп не собирался затевать новую войну с Римом. Фрагмент мог находиться в книге о Сирийской или, что не менее вероятно, о III Македонской войне, обе эти книги дошли не полностью. Ещё до начала войны послы Антигонида в Риме обещают вспомогательные войска, хлеб и деньги (Liv. XXXVI.4). Невозможно, однако, поверить, что на это его толкнуло захоронение Антиохом непогребённых костей павших при Киноскефалах македонян, а раньше он хотел соотнести своё решение с военным счастьем (Liv. XXXVI.8; App. Syr.16).
В 192 г. до н. э. Антиох вторгся в Элладу с небольшим войском, но уже в следующем году был разбит римлянами в битве при Фермопилах и бежал в Азию. Греки его не поддержали, и не потому, что у власти стояли «знатные и благонамеренные»[463], – именно они позже втянули Грецию в войну против Рима на стороне Митридата! Просто неприязнь к Риму ещё не достигла того накала, к которому пришла веком позже. Греки прекрасно понимали, что Антиох пришёл освобождать их «для себя», и пока у них не возникла острая потребность в смене хозяина. Война римлян с отчаянно сопротивлявшимися этолийцами окончилась в 189 г. до н. э. – они сопротивлялись на год больше, чем огромное Селевкидское царство! Они вынуждены были признать верховенство и власть народа римского, обязались иметь общих с ним врагов и помогать Риму в войне (Polyb. ХХI.32.2–4). Территорию Этолии сильно сократили, взяли большую контрибуцию. Этолия получила foedus iniquum и стала полностью зависимым[464] государством-клиентом[465]. Такие договоры были традиционны для Рима в Италии, и он перенёс свой италийский опыт на греческую почву. Покончив с Антиохом, Рим ужесточил политику на Балканах. Теперь римляне считали, что их протекторат над греками сменился полной римской гегемонией. Нужда в помощи союзников исчезла. Особое внимание сенат уделял Македонии, пытаясь превратить её в полностью зависимое государство. Давление на страну нарастало, её всячески старались ослабить (App. Mac. IX.6).
Филиппу изменило чувство меры, и он занял не только этолийские города, но и несколько фессалийских. Не случись этого, сенат, возможно, дольше помнил бы о ценной помощи Филиппа в войне, к тому же, присоединившись к Антиоху, он мог очень навредить Риму (ibid.). Только благодаря Филиппу римская армия без потерь прошла через Фракию в Азию. На обратном пути, когда царь уже не обеспечивал безопасность дороги, фракийцы отбили часть трофеев, а консул с потрёпанным войском сумел спастись, лишь уйдя в Македонию (App. Syr. 43).
Тем не менее после войны сенат заявил Филиппу, что щедрые обещания, данные ему накануне войны, это всего лишь обещания посла, и Рим не может их выполнить! Правда, ему оставили земли, занятые в Сирийскую войну, но позже потребовали очистить города Перребии и Эн с Маронеей (Polyb. XXII.15.3–4). Разгневанный царь устроил резню в Маронее, просившей сенат о свободе от Македонии. Римские послы установили, что резня – дело рук Филиппа и он «враждебен к Риму» (Polyb. XXII.18.6). Царь, однако, не шёл дальше беспомощной ненависти и не совершал враждебных по отношению к Риму действий. Он понимал, что дело идёт к уничтожению страны[466], и готовился к защите: утвердился во Фракии, упрочил дружбу с иллирийцами и заключил союз с бастарнами. Полибий, однако, напрасно видит причину III Македонской войны в Филиппе (XXII.8.10), а В.С. Сергеев, слишком буквально понявший эту фразу автора, даже пишет, что войну начал «всё тот же неугомонный Филипп»[467]. Заметим, что царь умер за восемь лет до её начала! Это показывает, насколько глубоко укоренилась необоснованная вера в реваншизм Филиппа. Царь больше не помышлял о мести Риму[468] и готовился не к нападению, а к защите: имея намерение напасть первым, он мог осуществить его в Сирийскую войну, но при всей ненависти к Риму не рискнул это сделать даже в союзе в Антиохом и Этолией, когда шансы на успех были заметно весомей. Неправомерны утверждения, что царь хотел организовать вторжение северобалканских племён в Италию[469], отвлечь римлян нападением кельтов, чтобы вновь захватить гегемонию в Греции[470]. Р. Эррингтон совершенно справедливо считает их не только фальшивыми, но даже и фантастическими[471].
Разумеется, Филипп не стал пацифистом, но степень агрессивности прямо зависит от силы и политической ситуации, ни то ни другое не давало ему ни малейшего шанса на победу. Невероятно, чтобы царь, «с умением и величайший рассудительностью приспособившийся к своему новому положению» (Ро1. ХУШ.33.7), не понимал этого. Приписываемое ему желание начать войну[472] и даже высадиться в Италии должно остаться на совести анналистов.
Ливий пишет, что, если бы Персей, по примеру отца, ежедневно дважды перечитывал договор с римлянами, он не стал бы портить с ними отношений (XLIV,16). На эту фразу обычно не обращают внимания. Видимо, чтение договора, ущемившего Македонию, напоминало царю о мощи врага, что позволяло укрощать гнев и сохранять осторожность. Несмотря на то что римляне крайне раздражали его своей назойливой опекой[473], он не терял самообладания и не позволял спровоцировать конфликт.
Война с Римом не была целью Филиппа, он готовился к борьбе, если бы римляне пожелали лишить Македонию независимости[474]. Утверждение Полибия, что царь готовил войну мести, ошибочно: он хотел видеть свою страну снова сильной, и ему это удалось[475]. Филипп до самой смерти поддерживал хорошие (? – А.Б.) отношения с Римом[476]. В 179 г. до н. э. он умер, оставив Персею заметно окрепшее царство.
Проблема III Македонской войны тесно связана с оценкой личности и деятельности Персея. В источниках он получает очень негативную характеристику. Отмечаются его скупость (Plut. Aem. Paul. VIII.XII), малодушие (Polyb. XXIX.17.5; Арр. Мас. ХV; Plut. Aem. Paul. IX), непорядочность (Plut. Aem. Paul.VIII; Just., XXII.3.1), излишняя доверчивость и нерешительность и в то же время – дерзость и неумение владеть собой (Liv. XLII.43.25). Традиция утверждает, что Персей ненавидел римлян (Plut. Aem. Paul. VIII), желал войны с ними (Liv. XLII.15) и склонял все племена к военному союзу против Рима (Just. XXII. 4.1). Луций Ампелий пишет, что причина войны – нарушение царём условий мира, заключённых с его отцом, и приводит совершенно абсурдное утверждение, очевидно, исходящее от анналистов, что Персей с огромным войском «совершил нападение на Грецию, но был разбит» (Ampelius. 16.4). Однако общая установка авторов – царь хотел войны – опровергается фактами, которые они же сами и приводят. Версия Ливия, что Персей убеждал Антиоха, Египет (?) и даже Пергам (?!) восстать против Рима (XLII.26), не имеет никакой опоры в источниках и просто абсурдна. Информация о посольстве македонян в Карфаген исходит от Масиниссы (Liv. XIJI. 22) и выглядит сомнительной. Ливий обвиняет Антигонида в покушении на Эвмена и приводит совершенно фантастические слухи о желании царя отравить римских послов (XLII.17).
Аппиан, напротив, сообщает о трудолюбии и трезвом образе жизни молодого царя, снискавших ему всеобщую любовь, о его разумности и милосердии (Мас. XI.13), проницательности, смелости в бою (Мас. XVI). Все эти качества покинули его только после поражения, когда он был сломлен судьбой (ibid.). Этот образ столь же далёк от реального, как и созданный римской пропагандой. Любопытен вариант Мемнона Гераклейского: царь, «по молодости» нарушил договор с римлянами и вынужден был воевать с ними (XXV.4). Даже на нейтрального Мемнона ощутимо повлияла римская традиция! Но он, по крайней мере, не говорит о желании царя воевать. Хотя отметим, что к началу войны Персею было 40 лет… Не понимая, чем объяснить странное «нарушение мира» царём, автор вынужден был ссылаться на его «молодость»…
Отрицательное отношение к Персею господствует и в историографии, особенно старой[477]. Но и в новых работах он получает весьма нелестную характеристику – «ничтожный македонский царь Персей»[478]. Единственно верную оценку сторонам можно дать, лишь исходя из тех целей, которые они перед собой ставили, и из тех факторов, которые стали причиной войны. Некоторые учёные полагают, что царь желал войны, но и боялся её[479]. Другие верят, что он готовил наступательную войну с Римом[480] и, чтобы получить в ней поддержку греков, провёл ряд демагогических мер: обещал кассацию долгов, амнистию всем заключённым[481], но его безудержная демагогия многих оттолкнула[482].
На самом же деле царь никогда не был демагогом. Взойдя на трон, он издал указ о прощении должников и осуждённых за преступления против царской власти, одновременно он призвал изгнанников вернуться на родину (см.: Polyb. XXV.3.1.; Syll. 3 636). Как убедительно показал Д. Мендельс, такие действия диктовались старым македонским обычаем и были традиционны при восшествии на престол нового царя, а указ касался исключительно македонян[483]. Персей главное внимание уделял стабилизации внутреннего положения страны[484]. Д. Мендельс пишет, что социально-политические меры царя в Македонии сделали его популярным во всей Греции; Рим выглядел защитником существующего статус-кво, поэтому массы ждали изменений от Персея. Испытывая экономические трудности, они возлагали на Персея надежды, которые он не мог или не хотел осуществить. А обвинения в том, что царь разжигал революционность масс в Греции, безосновательны, они – плод римской пропаганды[485].
В Греции росла враждебность к Риму, даже Т. Моммзен признаёт, что «освободителям иногда случалось совершать несправедливость»[486]. В Персее греки видели единственную силу, способную сбросить с них цепи зависимости. Этим, а не личными качествами царя, объясняется его популярность. Персей отнюдь не был выдающимся полководцем, как утверждает С.Г. Лозинский, и не он создал антиримскую коалицию, в которую «был вовлечён даже далёкий Карфаген»[487]. Никакой коалиции не существовало. Карфаген вовсе не демонстрировал свою «антиримскую направленность»[488], а, напротив, был покорен Риму. Унаследовав ненависть отца к римлянам, Персей продолжал и его политику подготовки к оборонительной войне, но делал это без должной скрытности. Он старался приобрести как можно больше союзников, чтобы укрепить обороноспособность страны и ослабить её зависимость. В то же время, отойдя от разумной осторожности Филиппа, он пытался усилить своё влияние в Греции. Мирный поход в Дельфы, предпринятый «с пропагандистскими целями»[489], был ошибкой царя, но сама по себе она не может служить обоснованием войны против него[490]. Персей не предпринял ничего, что позволило бы считать его инициатором войны.
Мнения о причинах войны можно систематизировать по четырём группам. 1. Персей вынудил Рим принять ответные меры, т. к. действия царя могли быть угрозой римским интересам[491], для Рима война была превентивной[492]. «Опасные действия» царя дали Риму повод для решения македонской проблемы, война была «спровоцирована» Персеем именно тем, что он усилил своё царство, не желал терпеть римский диктат, требовал уважения к своей независимости[493], его амбициозная политика, усилившая Македонию, сыграла на руку Риму и привела к войне[494]. 2. Виновник войны – только Рим, а действия царя имели чисто оборонительный характер[495]. Персей не нарушил ни одного пункта мирного договора[496], он не хотел войны, её спровоцировал Рим[497]. 3. Причиной войны было обращение к сенату Эвмена[498] (это мнение совершенно неубедительно, так как Атталид никак не мог определять внешнюю политику Рима). 4. Ответственность за войну лежит на доминировавшей в Риме агрессивной партии Фульвиев: именно она развязала войну[499]. Заметим, что мнение о господстве Фульвиев выглядит явным преувеличением, к тому же Римская республика не вела войн в угоду отдельным нобильским родам. Соперничающие между собой группировки знати во внешней политике руководствовались пользой государства, как они её понимали, а не своими личными амбициями.
Ближе всего к истине вторая позиция. Отметим, однако, что «демонстрация силы» в Дельфах действительно превысила разумные пределы оборонительной политики, вызвав раздражение римлян. Мы считаем, что характеристика Персея в источниках явно тенденциозна, его внутренняя политика очень разумна, а главная цель – укрепить страну и избежать войны. Но при этом личные качества царя малосимпатичны, во внешней политике ему не хватало гибкости, а в критический момент – и решительности. Он не хотел столкновения и не был авантюристом, идущим на заведомо проигрышную войну; Македония мешала римлянам самим фактом своего существования, и, демонстрируя её силу, он ускорил события. Перед Персеем было только два варианта: подчиниться Риму или подняться на решительную войну – он не смог остановиться ни на одном из них, а ошибки и нерешительность в кризисной ситуации 172/1 г. до н. э. не позволяют считать его трезвым политиком, совершающим оптимальные действия.
Цели Рима оставались теми же, что и при Филиппе. Используя традиции италийской политики, заключающиеся в постепенности и поэтапности подчинения, сенат пытался добиться полной зависимости Македонии, но достичь этого не удавалось, равно как и ослабления царства. Утверждения А.С. Шофмана об экономическом упадке, мощной проримской партии, партийной борьбе и симпатиях македонской знати к Риму[500] противоречат данным источников. Подлинной причиной войны была попытка Македонии восстановить свою силу и самостоятельность, а также её хорошие отношения с греками[501]. Авторитет Рима на Балканах падал, а влияние царя росло, это и привело к войне[502]. Рим желал доминировать, но при наличии сильного македонского царства это было невозможно, и сенат начал войну с твёрдым решением устранить Македонию[503]. Посольство 172 г. до н. э. потребовало у Персея уступок, которые реально означали потерю свободы[504], а потому были неприемлемы. Очевидно, сенат решил, что над страной надо установить контроль, более прямой и эффективный, нежели клиентела[505].
Рим стал предъявлять Персею всякие обвинения и готовить общественное мнение Греции к войне с Македонией[506]. Римляне объявили, что царь пошёл с войском против храма Аполлона[507], что должно было настроить против него греков. Решив начать войну, Рим использовал всё, чтобы заранее оправдать себя, – этим и объясняется очернение Персея проримской пропагандой[508]. Инициатива войны исходила от римлян, но агрессорами можно признать обе стороны, поскольку речь шла не только о независимости Македонии, но и о влиянии в Греции. Для Македонии война стала последней[509], вынужденной попыткой освободиться и восстановить свои позиции на Балканах. Одновременно III Македонская война приобрела уже некоторый оттенок восстания[510], так как политическое положение и силы сторон были неравными.
Рим искал предлога к войне, в 172 г. до н. э. Эвмен, уловив момент, доставил в сенат длинный список «преступлений» царя. Обвинения эти были клеветническими, сенат же, не желая иметь сильного соседа, решил воевать с Персеем; послов Персея и родоссцев, желавших возразить Эвмену в лицо, приняли только после его отъезда (Арр. Мас. XI.1–3). Очевидно, сенат понимал, что они легко могли уличить его в клевете. Послы, негодуя на всё, говорили более резко, чем следовало (ibid.), но фразы, приписываемой им Ливием, «царь не хочет войны, но, если она начнётся, будет вынужден храбро защищаться» (XLII.14.3) нет ни у Полибия, ни у Аппиана, лучше информированных и более объективных. Вероятно, автор «красоты ради» вложил в уста послов слова, произнесённые Филиппом накануне II Македонской войны, но совершенно неуместные в данных условиях, так как главной целью посольства было отвести от Персея ложные обвинения и не допустить войны.
Оправдания и просьбы македонских послов были отвергнуты, поскольку сенат уже пришёл к определённому решению (Liv. XLII.15). Правильно оценив ситуацию, глава посольства Гарпал, вернувшись домой, сообщил царю, что война неизбежна (ibid.), но тот оставался пассивным. Вскоре Персея обвинили в покушении на Эвмена. Римляне выставляли и другие причины войны, как будто она ещё не была решена, но особенно их раздражала дружба царя с греками (Арр. Мас. IX.1.4). Решение о войне было окончательным, о нём только не объявляли (Liv. XLII.19). Римляне разослали послов к союзникам (Polyb. XXVII.3.1) – началась обычная дипломатическая подготовка войны – и заняли приморские города Иллирии, обезопасив переправку войск на Балканы. Macedonicum Bellum in annum dilatum est – «македонская война была отложена на год» (Liv. XLII.18.6). После этого довольно странно выглядит утверждение Т.А. Бобровниковой, что «для Рима III Македонская война началась неожиданно»[511].
По обычаю в том же 172 г. до н. э. римское посольство потребовало у царя удовлетворения, его обвинили в смутах в Фессалии и Этолии, потребовали восстановить власть изгнанного им фракийского вождя Абруполиса (Diod. XXIX.36), упрекали в нарушении мира (Liv. XLII.25). По Ливию (ibid.), царь пришёл в ярость, кричал о высокомерии римлян, заявил, что считает прежний договор недействительным и хочет заключить с Римом равный союз, а когда послы объявили ему о разрыве отношений, что было равносильно объявлению войны, велел им покинуть Македонию. Весь рассказ выглядит невероятным, явно исходит от анналистов и совсем не вписывается в дальнейшее изложение самого Ливия. Ни у Аппиана, ни у Полибия нет ничего, хотя бы отдалённо напоминающего этот эпизод.
Второе посольство царя, спешно отправленное им в Рим, передало его удивление появлением римских войск на Балканах[512] и обещало дать любое удовлетворение, если войска уведут (Liv. XLII.35). Персей напоминал сенату, что является «другом римского народа», и просил, если к нему есть упрёки, решить их во взаимной беседе (Арр. Мас. XI.4). Но послов с грубым ответом выслали из Италии (Liv. XLII.36). Все римские посольства, объезжающие Элладу и призывающие греков к войне с царём, получили от него письма с вопросом, зачем легионы появились в Греции (Liv. XLII.37.5–6), но ответа он не дождался. Ему следовало перехватить инициативу и повести наступательную войну, но он медлил, явно боясь её и «желая компромисса»[513], который был невозможен. Мнение о том, что Персей был готов на любые уступки, потому что оказался в изоляции[514], неубедительно: он шёл на них ещё до того, как стало известно, что его почти никто не поддержит.
Римский посол Марций подал царю «ложную надежду на мир» (Liv. XLII.47.1) и заключил перемирие. Антигонид до конца верил в возможность мирного исхода, но Рим лишь выигрывал время[515]. И хотя некоторые сенаторы, приверженные отмирающей римской честности, осуждали авторов обмана, это не мешало тем похваляться своей «находчивостью» (Liv. XLII.47). В нарушение перемирия римляне заняли часть Фессалии (ibid.) и Халкиду (Polyb. XXVII.2.11). Римский посол Лентул, используя беотийские отряды, осадил беотийский же город Галиарт, верный Персею. Царь же, «ослеплённый пустой надеждой на мир» (Liv. XLII.43.3), отказал в гарнизонах союзным городам Беотии (Polyb. XXVII.5), и им пришлось присоединиться к Риму. Жители трёх городов, оставшихся верными Персею, были проданы в рабство (Liv. XLIII.4).
Царь отправил послов на Родос, заранее прося посредничества, если римляне, вопреки договору, нападут на него (Polyb. XXVII.4.4–5). Это свидетельствует о том, что войны он явно не хотел и боялся её: ещё до начала военных действий Персей искал посредников, способных погасить конфликт и умиротворить римлян. Позже он искал посредничества Антиоха, Вифинии, Пергама, Египта (Polyb. XXIII.1).
Посольство в Рим, ради которого Персей пошёл на перемирие, легко отвело от него все обвинения. Царь изгнал Абруполиса за набеги на Македонию, он сам сообщил об этом сенату, и тогда сенаторы сочли его действия справедливыми, как не порицали они его и за союз с Этолией (Арр. Мас. XI.6–7). «Царь ни в чём не виноват и готов ответить на любое обвинение» (Арр. Мас. XI.8). Сенату нечего было возразить на эти справедливые слова, и он… велел послам немедленно покинуть город – «у римлян давно решено было воевать» (Polyb. XXVII.6,3; Liv. XLII.48; Арр. Mac. XI.9).
С началом боевых действий Персей решил затянуть войну. После первого же выигранного им сражения, отказавшись от возможности добить деморализованного врага, велел отступать (Liv. XLII.59). А.С. Шофман полагает, что царь не стал развивать наступление, поскольку не доверял своим наёмникам и «боялся их измены»[516]. Скорее пассивность Персея объясняется тем, что он до конца верил в возможность примирения и боялся собственных военных успехов, которые, как он полагал, могли вызвать большую жесткость римлян по отношению к нему.
Царь вновь и вновь просит мира, обещая дать ту же контрибуцию, что и отец, очистить те же территории. Римляне, твёрдо решив довести войну до логического конца, требовали только одного – капитуляции. Персей делал всё, чтобы получить мир, но жертвовать своей самостоятельностью не хотел[517]. От отчаяния он несколько раз даже пытался подкупить консула (Polyb. XXVII.8.13). Персею удалось затянуть войну, придать ей позиционный характер, он даже сумел вовлечь в неё Гентия, но римляне быстро разгромили иллирийцев.
Однако справиться с самим Персеем долго не могли. Как утверждает Веллей Патеркул, военные успехи царя даже повлияли на Родос и Пергама: родоссцы «заколебались в своей верности» Риму, а Эвмен занял в этой войне «промежуточную позицию» (I.IX.2). Автор явно преувеличивает влияние незначительных побед Персея, но, несомненно, они стали позором для Рима. В 168 г. до н. э. для окончания войны, подрывающей престиж державы, был послан один из лучших полководцев Республики – Эмилий Павел. Жёсткими мерами восстановив дисциплину в разложившейся армии, он двинулся на Персея. Перед решающим сражением царь отказался воспользоваться помощью 20 тысяч наёмных бастарнов, не сойдясь с ними в цене. Скупость Персея, проявленная в столь критический момент, имела роковые последствия для Македонии. В битве при Пидне македоняне потерпели сокрушительное поражение. Царь, упав духом и утратив самообладание, бежал с поля боя в самом начале сражения (Polyb. XXIX.17). Конец войны означал конец македонского государства.
Сенат добился поставленной цели. Была устранена последняя реальная сила, которая могла стать центром притяжения всех антиримских элементов на Востоке, более ничто не могло помешать установлению римской гегемонии в рамках всего Средиземноморья. Важность свершившегося прекрасно понимали и современники. Неслучайно Полибий считал падение Македонии тем рубежом, после которого мир попал под власть Рима (Polyb. I. 1.5, 10; III. 4. 2–3).
Вернёмся к проблеме вины сторон. Первая версия: вина за развязывание войны лежит на Персее. Версия совершенно необоснованная и опровергается данными источников. Запущенная анналистами, она должна была подкрепить главный тезис официальной римской пропаганды: Рим не ведёт иных войн, кроме справедливых. Версия вторая: в войне виноваты римляне, но Персей своими непродуманными действиями позволил им найти повод к ней. Отметим, что при желании, а у римлян оно присутствовало, найти повод к войне можно всегда. Ни один конкретный поступок царя не давал законных оснований к войне против него. Но его действия – в совокупности – делали Македонию сильнее. Если смотреть на события глазами римлян, то именно в этом и заключалась его главная вина перед ними. Македония в любом случае была обречена, единственное, в чём здесь можно упрекнуть царя, – он всего лишь несколько ускорил развязку, активно укрепляя своё царство. Но мы не должны судить с римских позиций, поэтому не можем поставить в вину царю то, что он был хорошим правителем. Версия третья: ответственность за войну лежит на римлянах. Думается, что она и является единственно возможной. Следует добавить, что при разумной внутренней политике Персей в решительный момент полностью провалился во внешней. Он не понял главного принципа: в критических ситуациях внешняя политика не терпит полумер и бездействия. Сама неспособность царя понять это, страх, парализовавший его, лучше всего доказывают: он никогда не предполагал вести наступательную войну против Рима, морально был не готов к ней.
После разгрома Македонии сенат произвёл на Балканах переустройство, отвечающее интересам Рима. Ахейская война поставила точку в покорении Греции. Вплоть до Митридатовых войн Балканы не играли никакой роли в римской политике.
Восточная политика Рима взяла паузу, т. к. поставленные задачи были решены. Селевкиды выпали из большой политики, зависимые Лагиды самостоятельной внешней политики не имели, в Малой Азии сенат осуществлял «вялый арбитраж». Главной причиной успехов Митридата стало именно недостаточное внимание сената к Малой Азии и вовлечённость римлян в свои внутренние проблемы, иначе он просто не смог бы подняться и его задавили бы сразу же. Митридатовы войны изучены достаточно хорошо, после работ Сапрыкина и Молева добавить что-то новое сложно, поэтому мы ограничимся лишь некоторыми наиболее спорными вопросами (см. 5-ю главу). Войны с Митридатом укрепили римское господство в Малой Азии, дали новые провинции на этом полуострове и позволили Риму серьёзно продвинуться на Восток и привели к контактам с Арменией и Парфией.
Дальнейшее развитие восточной политики Рима связано с тремя именами: Помпей, Цезарь, Антоний. Победа Октавиана в 30 г. до н. э. чрезвычайно важный рубеж: присоединение Египта завершило создание восточных границ римской державы, которые впредь почти не изменялись. Конец эллинизма совпал с концом республики и по сути – с концом восточной политики Рима. Мирное урегулирование отношений с Парфией стало одним из крупнейших достижений Августа. Впредь восточная граница – это просто войны, дипломатические усилия и политические успехи Рима здесь далее были малозаметны или кратковременны.
Подведём итоги. Агрессия Рима на Восток отнюдь не была вынужденной, однако она не была и планомерно продуманной. На каждом конкретном этапе сенат ставил перед собой конкретную задачу. Сам ход событий подсказывал последовательность действий. Сенат чутко улавливал требования политического момента. Только гибкая политика, какой Рим придерживался на первых порах, могла принести успех. На Востоке Рим появился как союзник многих государств. Это и определяло его политику: приходилось лавировать, рядиться в одежды защитника того или иного государства, эллинов в целом.
Ни о каком завоевании Балкан в период 200–168 гг. до н. э. не может быть речи, Рим стремился не к захватам, а к гегемонии. Посему нам кажется неоправданной теория В. Дюрюи, что римляне не знали, что делать с завоёванными странами[518]. Дело было в отсутствии установки на аннексию. Опасность Филиппа и Персея для Рима, безусловно, преувеличена. Объясняется это обаянием и даже невоспринимаемым влиянием римской историографии, которая может быть тенденциозной не только в освещении фактов, но ив самом построении и подборке их. На самом деле, Македония угрожала не самому Риму, а его господству на Балканах, а Филипп никогда не планировал вторжения в Италию.
После 146 г. до н. э. Греция фактически стала римской провинцией[519]. Эллада, однако, отнюдь не легко примирилась с римским владычеством, которое якобы «было благом»[520]. В.И. Перова утверждает, что объединительные тенденции во время римской экспансии продолжали существовать[521]. Под ними она понимает процессы консолидации Ахайи и других союзов, но это региональная консолидация, не более. Идея политического единства была чужда политическому партикуляризму греков[522]. Сама Греция не могла выйти из тупика. Разумеется, она пала не вследствие «истощения моральных и материальных сил»[523]. Без вмешательства Рима она могла бы существовать и далее, но её существование имело смутные перспективы.
Расширение ойкумены в эпоху эллинизма отодвинуло кризис греческого общества, но устранить его не могло. На обломках старых государств подымались новые. Можно согласиться с Ф. Энгельсом: происходило лишь перемещение центра, весь процесс повторялся на более высоком уровне[524]. Поэтому объединение всего Средиземноморья под властью Рима – это и есть самый высокий уровень…
Трудно поверить, что политическая жизнь Греции умерла «естественным образом», а завоевание «лишь сократило время политической агонии»[525]. Греки активно участвовали в восточной политике. С появлением римлян эта активность даже возросла, и не умерла сама – её убил Рим, его вмешательство лишило греков возможности самостоятельно определять свою судьбу. Само завоевание, кровавое и жестокое, не могло быть благом для греков, но в исторической перспективе оно явило свою положительную сторону. Эллинистическая культура, воспринятая и трансформированная Римом, стала основой грядущей европейской. В этом смысле поглощение эллинистического Востока Римом выглядит предпочтительнее, чем захват его Парфией. Последняя ориентировалась на возрождение паниранских традиций, между тем как Рим стал преемником традиций эллинизма[526].
С началом проникновения Рима на восток от Италии первой задачей было ослабить сильных противников, опираясь на союзников. Первый этап (229–200 гг. до н. э.) – проникновение с использованием протектората. Задача – не «сохранение статус-кво»[527], как полагал М.А. Машкин, а изменение его в свою пользу. Второй этап (200–171 гг. до н. э.) – борьба за гегемонию в Восточном Средиземноморье. Уже не столько ослабление, сколько политическое подчинение сильных, метод – война и арбитраж. III Македонская война стала коротким переходным периодом – гегемония сменилась абсолютным доминированием (168–146 гг. до н. э.). Гегемон (ведущий) стал доминантом (подавляющим), но ещё не господином в полном смысле слова – не владельцем. Затем, когда серьёзные противники были уничтожены или поставлены в совершенно ничтожное положение, сенат стал устранять союзников. После разгрома Ахейского союза и образования провинции Македония (146 г. до н. э.) наступил период полного господства. Римляне стали юридическими и фактическими владельцами, хозяевами Балкан. Не только грубая сила, но и неспешность, последовательность, гибкость, умение использовать обстоятельства в конечном счёте и сделали римлян господами Греции. А затем – и всего Средиземноморья.
Мы не случайно так подробно остановились на балканских событиях – именно они долго были определяющими в восточной политике Республики, влияя на все акции сената (как раньше – отношения с Карфагеном). Всё остальное следует рассматривать в увязке с Балканами. Поэтому по общей периодизации проникновения Рима в Восточное Средиземноморье мы выделяем три больших территориально-хронологических этапа:
1. Балканский период (229–146 гг. до н. э.). Только окончательно решив «балканский вопрос», Рим смог полностью развязать себе руки для последующих действий.
2. Главное направление – Малая Азия и территории к востоку от неё (146—27 гг. до н. э.): «укрощение малоазийских династов», в этом же русле – «усмирение» Митридата и вынужденный для Рима выход на контакты с Арменией и Парфией. А также традиционно продолжающаяся для сената политика по всемерному ослаблению ставшего уже не опасным селевкидского царства, вплоть до его исчезновения с политической карты. Тупиковые отношения с Парфией на время были разрешены Августом. В период империи последовало дальнейшее их развитие.
3. «Египетский период»: 273—30 гг. до н. э. Его специфика, заключающаяся в официально дружеских отношениях с Птолемеями, их длительной непрерывности и периодических «затуханиях», явного римского доминирования и временных ухудшениях отношений. Наконец, важны особый статус Египта как опекаемой страны и та особая роль, которую сыграли в римско-египетских отношениях Цезарь и Антоний. Всё это вынуждает ломать стройную схему хронологической последовательности периодизации и выделить отдельный «параллельный период».
В целом получается территориально-проблемная периодизация, хронологические рамки позволяют придать ей большую завершённость и логическую стройность.
Без успешного решения «балканского вопроса» было бы невозможно перейти к покорению Малой Азии и Сирии, а также к завершению очень протяжённого во времени «египетского вопроса».
Глава II
Методы римской дипломатии: сенат против Македонии, Пергама, Селевкидского царства
Впечатляющие успехи римской внешней политики во многом объясняются искусной дипломатией сената. Римляне умело моделировали то, что лучше всего определить как «двойная дипломатия», т. е. это такие действия, когда противника ставили в такую ситуацию, что любое его действие или даже бездействие шло на пользу Риму и только Риму. Кроме того, сенат был непревзойдён в умении использовать союзников и их силы в своих интересах. При этом часто использовались различные действия, которые с некоторой натяжкой можно назвать недипломатическим словом «махинации». Mahinatio в переводе означает не просто «обман», а явно направленный на получение каких-то односторонних выгод и преимуществ. Именно в этом плане мы и рассмотрим некоторые конкретные проявления римской дипломатии.
Посольства, разосланные сенатом по Греции после окончания I Иллирийской войны – это самый первый пример римских тщательно продуманных мер в новом для Рима политическом регионе к востоку от Италии: они должны были замаскировать истинные цели появления римлян на Балканах и завоевать симпатии греков. Нужно признать, что это удалось сделать. Следующая блестяще проведённая акция римского правительства – это римско-этолийский союз во время I Македонской войны. Совсем недавно закончилась война Этолии с Македонией, по сути выигранная Филиппом. Сенат хорошо изучил ситуацию на Балканах и очень грамотно сыграл на том, что этолийцы жаждали реванша. Прибыв на специально назначенное собрание Этолийского союза, консул Валерий Левин в речи, представляющей собой блестящий образец политического красноречия, склонял этолийцев к войне против Филиппа (см.: Liv. XXVI.24). Он обещал союзу всяческие блага, в частности – вернуть ему утраченную Акарнанию. Стратеги вслед за ним говорили о могуществе Рима и сумели убедить народ в необходимости новой войны. Обычно малоэмоциональный Ливий в данном случае не без язвительного ехидства заявляет: «Больше всего действовала надежда завладеть Акарнанией» (ibid.). В результате был заключён первый римский союзный договор на Балканах.
Дата его заключения спорна, но имеет большое значение ещё и потому, что сама по себе она опровергает устойчивое мнение, будто именно римско-этолийский союз предотвратил высадку Филиппа в Италии. Договор относят к осени 212 г. до н. э.[528] или к концу 211 г. до н. э.[529] Однако имеющейся в нашем распоряжении информации достаточно, чтобы максимально уточнить время его заключения. 1. Упоминаемые Ливием вожди этолийцев – Доримах и Скопас. Доримах был стратегом 211/210 г. до н. э.[530]. Скопаса избрали стратегом на cледующий 210 г. до н. э.[531] 2. Захват Капуи и Сиракуз, о чём говорил Левин, чтобы продемонстрировать силу Рима и вдохновить этолийцев на войну на его стороне, произошёл в 211 г. до н. э.[532]. Притом консул упоминает о захвате этих городов как о факте, хорошо известном и, очевидно, случившемся не только что.
Следовательно, договор никак не мог быть заключён в 212 г. до н. э. Наиболее вероятная дата – самый конец 211 г. до н. э., или даже, что менее вероятно, начало 210 г. до н. э. Сразу же после его заключения Этолия не могла немедленно начать войну – к ней следовало подготовиться и собрать силы. В любом случае этолийцы начали сражаться против Филиппа никак не раньше 210 г. до н. э.
Этолийцы начали войну, а Рим обещал помогать на море силами не менее 25 пентер (Liv. XXVI.24). Завоёванные земли отходили Этолии, добыча и рабы – Риму, союзники обязались не заключать сепаратного мира. Договор основан на хищнических стремлениях[533] союзников и позорен для обеих сторон[534] – с такой жёсткой оценкой трудно спорить. Римляне стремились сохранить позиции на Балканах, к территориальным захватам они пока не склонялись[535]. Сенат хотел ослабить Филиппа[536] или по крайней мере – отвлечь его от своих владений в Иллирии. Рим не отказывался от мысли о господстве на Востоке, но сейчас он был слишком занят Ганнибалом[537]. Договор с Этолией – крупная дмпломатическая победа Рима, позволившая ему почти устраниться из войны с Филиппом. Половину флота из Иллирии римляне вообще увели, вся тяжесть войны легла на Этолию. В умении использовать чужую кровь, даже не дорогих наёмников, а бесплатных союзников, Рим не знал равных. В этом одна из причин быстрого роста его могущества.
Подстрекаемые Римом и вдохновлённые примером Этолии, против Македонии выступили элейцы, мессенцы, спартиаты, дарданы. Вместо того чтобы закрепиться в Иллирии, Филиппу пришлось со всех сторон отражать врагов. За него сражались ахейцы, беотийцы, фессалийцы, эпироты, акарнийцы, эвбейцы и локры[538], но его положение оставалось сложным. Война приняла почти общегреческий характер. После вступления в войну Аттала римско-пергамский флот господствовал на море.
Однако Этолия с трудом несла бремя войны, римляне передали ей несколько городов, предварительно ограбленных дочиста, но не оказали никакой реальной помощи. Они поголовно продали в рабство жителей Акраганта (Liv. XXVI.40), Антикиры (Liv. XXVI.26; Polyb. IX.39.3), Дималы (Liv. XXVII.22), разграбили и поработили Эгину (Polyb. IX.42.5–8), опустошили всю местность между Сикионом и Коринфом (Liv. XXVII.31). Такая жестокость сделала войну непопулярной среди греков[539]. Этолийцы, несомненно, почувствовали, что их престиж борцов против македонского гнёта неуклонно падает, да и сражаться против Филиппа практически в одиночку было слишком трудно.
Уже в 209 г. до н. э. Этолия начала сепаратные переговоры с Филиппом. Римский представитель в этолийском правительстве проконсул Сульпиций пытался сорвать их, но потерпел неудачу. Тогда он спешно известил сенат о ходе переговоров, добавив: в интересах Рима, чтобы этолийцы продолжали воевать с Филиппом (App. Mac. III.1). Для сената это и так было очевидным, он прислал этолийцам военную помощь, но вскоре отозвал её. Этолийцы склонялись к миру. На очередном союзном собрании Филиппа и вождей упрекали в том, что они своими распрями толкают Элладу в рабство. Сульпиций пытался возражать, но его не стали даже слушать (ibid.), это весьма существенный факт: очевидно, общественное мнение этолийцев уже явно было направлено против римлян.
В 208 г. до н. э. Аттал вынужден был увести свои войска из Греции для защиты Пергама от вторгшихся вифинцев[540]. В 207 г. до н. э. римляне напрягли все силы, чтобы не дать Гасдрубалу соединиться с братом в Италии. Из Греции увели даже весь флот. Предоставленным самим себе этолийцам прошлось возобновить переговоры с царём. Посредники с Родоса убеждали стороны не ослаблять страну, готовя ей порабощение и гибель (Polyb. XI.5). Осенью 206 г. до н. э., вопреки условиям договора с Римом, Этолия заключила сепаратный мир с Филиппом, потеряв почти треть своей территории. Попытка римлян весной 205 г. до н. э. побудить этолийцев возобновить войну полностью провалилась.
Следующий коварный ход римской дипломатии – это введение в заблуждение этолийцев во время II Македонской войны: им просто не сообщили, что договор 211 г. до н. э., дающий им право на захваченные территории, больше не существует (см. 1-ю главу). Крайнее негодование обманутых позже привело их к войне против своих недавних союзников-римлян.
Само «освобождение» Греции, торжественно провозглашённое Римом в 196 г. до н. э., было проведено таким образом, что эллины далеко не сразу поняли, что они просто поменяли над собой одного гегемона на другого (см. 5-ю главу).
Затем отдельного разбора требует тонкая интрига, проведённая сенатом с Деметрием, сыном Филиппа V, которая показывает, что римляне ради достижения своих целей были готовы на всё, даже на поступки, совершенно несовместимые с традиционной квиритской честностью.
После Сирийской войны сенат взял курс на подавление Македонии. Используя как предлог резню, устроенную Филиппом в Маронее, ранее просившей сенат о свободе от власти Македонии, римские послы упрекали царя во враждебности к Риму (см.: Polyb. XXII.18.6). Угроза новой войны стала слишком очевидной, боясь её и не желая обострять отношения с сенатом, Филипп поставил во главе посольства в Рим своего младшего сына Деметрия. Царевич несколько лет провёл в Риме заложником, имел там знакомства и связи, Антигонид надеялся, что он сумеет смягчить гнев сената.
Деметрий зачитал в курии письмо отца, в котором по каждому пункту обвинений было чётко отмечено, что уже сделано и что будет сделано, хотя решение сената и несправедливо. Последнее замечание было добавлено ко многим пунктам (App. Mac. IX.6). Царь тщетно пытался апеллировать к совести сената, но заявлял о готовности подчиниться даже явно несправедливому решению. Сохраняя возможное достоинство, он старался не доводить до разрыва.
Сенат объявил, что прощает царя только ради сына (ibid.), уже одно это было сильнейшим унижением для гордого и самолюбивого Филиппа. Царевича окружили вниманием, намекая, что будущим царём Македонии хотят видеть именно его. Фламинин приглашал Деметрия на «тайные совещания», убеждая, что ему помогут стать царём (Polyb. XXXII.3.8). Антиримские настроения законного наследника престола Персея, старшего сына царя, сенату были хорошо известны, поэтому он не устраивал римское правительство в качестве будущего правителя Македонии[541]. Управлять Деметрием было бы намного легче. Роль Фламинина в этой интриге весьма неприглядна[542], но это была не его частная инициатива, а политика сената[543], действующего исключительно из соображений политической выгоды[544]. Посадив на трон слабого и тщеславного царевича, сенат получил бы покорную Македонию[545].
Поведение Деметрия было «очень близко к измене»[546]. Действительно, он ничего не сообщил отцу о предложении сената – и в этом действительно виноват, но нет никаких оснований утверждать, что царевич «возглавил проримскую группировку»[547] в Македонии. Само наличие подобной группировки в Македонии представляется совершенно невероятным, учитывая две предыдущие войны и тот факт, что Рим лишил македонян власти над Грецией. Разумеется, друзья Деметрия и его личная свита предпочли бы видеть царём его, а не Персея, но это не даёт ни малейших оснований считать их «проримской группировкой». Нет и никаких сведений в источниках, что они злоумышляли против самого Персея.
Тем более невозможно согласиться с мнением Д. Боудер, что Деметрий «проводил проримскую политику вопреки империалистическим тенденциям отца и брата»[548]. Нам вообще ничего не известно о каких бы то ни было политических действиях царевича в пользу Рима. Персей перед лицом отца лживо обвинял своего младшего брата в том, что он замыслил убить законного наследника и самому занять его место. Ливий утверждает, что Деметрий, встревоженный клеветой Персея и видя недоброжелательность отца, даже замышлял бегство в Рим (Liv. XL.23.2), хотя в это сложно поверить.
Закончилось всё трагически: Персей предъявил отцу фальшивые письма, якобы подтверждавшие измену Деметрия, и Филипп велел убить своего младшего сына (Liv. XL.24), ставшего жертвой римских интриг. Ливий пишет о раскаянии царя, слишком поздно понявшего, что его обманули. Трагедия царя и горе отца привели к тому, что вскоре Филипп умер «сломленным стариком»[549], в возрасте всего лишь 59 лет.
Следующий по хронологии дипломатический успех римлян – это переговоры Марция с Персеем накануне III Македонской войны (см. 1-ю главу), когда царю успешно внушили, что Рим не будет воевать против него.
И наконец, одна из самых блестяще проведённых дипломатических акций сената – присоединение Пергама. Пергамский царь Аттал Ш Филометор Эвергет, умерший весной 133 г. до н. э., завещал своё царство Риму. По проблеме этого завещания существует обширная историография. Подробное изложение фактической стороны дела и анализ проблемы (с которым мы далеко не всегда можем согласиться) дал Э. Грюен[550]. Главные и наиболее дискуссионные вопросы: почему и, собственно говоря, что именно завещал Аттал Риму? Плюс к этому: причины его столь ранней и довольно странной смерти – последний аспект проблемы в историографии практически не затронут. Сообщения источников очень скудны, поэтому в исследованиях и нет единого мнения по этим вопросам.
Страбон (XIII.4.2) передаёт содержание завещания самыми общими словами. Упоминает его Плиний Старший (NH. XXXIII.148). Тит Ливий (Per. 58) – царь, умирая, оставил своё наследство римскому народу. Плутарх (Tib. Gracch. 14.1) и Юстин (XXXVI. 4.5) говорят практически одинаковыми словами: «в завещании назначил своим наследником римский народ». Более конкретен Веллей Патеркул (II.IV.1): «Аттал умер, завещав царство Риму». Запутывает ситуацию сообщение Флора: римский народ – наследник всего царского имущества (XXXV. II.20.2), близка версия Сенеки (Controv. II). Ни один источник не раскрывает мотивов его завещания[551].
Предварительная проблема – а было ли само завещание, или его сфальсифицировали римляне? Саллюстий пишет: Митридат VI Евпатор обвинял римлян в том, что они подменили завещание, чтобы завладеть Пергамом (Hist. 4.69.9). Очевидно, в устах Митридата, если он и говорил так, эти слова были скорее средством ведения пропагандистской войны против Рима, нежели констатацией реального факта. Правда, А.И. Немировский пишет о неясности: сам Аттал завещал своё царство, или завещание было подделано[552]? Г.Е. Кавтария категорически говорит о «ложности завещания»[553]. Г. Штоль утверждал, что завещание было сфабриковано римлянами[554], однако у нас нет достаточных оснований согласиться с ними.
Эпиграфические источники дают чёткую конкретную информацию, которую нельзя толковать двояко. Декрет народного собрания из города Пергама, принятый в 133 г до н. э., однозначно подтверждает факт существования текста завещания: «утвердить завещание у римлян» (OGIS. 338 = IGRR. IV.289). Сам декрет был принят ещё до появления здесь римских войск, и его невозможно объяснить давлением Рима. О том же свидетельствует Senatus consultum июля 133 до н. э.[555] Римские авторы, при всей их тенденциозности, не стали бы выдумывать завещание, с фактической стороной они обращались достаточно корректно. Можно согласиться с П. Сэндсом, что подлинность завещания не вызывает сомнений[556], это бесспорный факт[557]. Таким образом, предварительно проблему можно считать решённой и закрытой.
Завещание действительно существовало, в чём не сомневался и сам Митридат, оспаривавший лишь его подлинность. Своим наследником Аттал назначил Римское государство – это всё бесспорно.
Более сложный вопрос: что именно завещал Аттал Риму: только царскую казну, вместе с царскими землями, или всё-таки – всё царство? В своей монографии О.Ю. Климов соглашается с К.М. Колобовой, Э. Хансеном и А.Н. Шервин-Уайт, что Риму были завещаны лишь царские владения, а города остались свободными[558]. Э. Грюен полагает, что завещание фактически настаивало на свободе города Пергама[559]. В доказательство обычно приводятся слова из пергамского декрета 133 г. до н. э.: царь «оставил отечество наше свободным» (OGIS. 338, с. 5). Однако далее О.Ю. Климов уточняет, что, возможно, эта свобода означала всего лишь освобождение от контроля центральной власти и налогов, а во время восстания Аристоника города не поддержали его, видимо, опасаясь лишиться предоставленных им по завещанию льгот[560].
Так о чём же шла речь в завещании: о свободе или всего лишь о льготах? На наш взгляд, чтобы найти ответ на вопрос, надо посмотреть на него с трёх разных сторон. Взгляд первый – терминологический. В декретах эллинистических правителей термин «элефтерия»/свобода, в общем, никогда не означал политической независимости, а всегда был конкретен – как освобождение от налогов, постоя или набора войск, как внутренняя автономия и т. п.
Взгляд второй – дипломатический: чем была свобода в дипломатической практике эллинистического мира? Термин этот использовался для успокоения и привлечения на свою сторону населения тех территорий, над которыми предполагалось установить свою власть[561]. Именно в этом смысле диадохи обещали «свободу» для земель, которые они оспаривали друг у друга. Они не заявляли, что завоюют эту землю у противника – говорили, что они освободят её от врага. Антиох III обещал освободить Грецию от римского владычества, для того чтобы установить в ней своё собственное господство. Такое эллинистическое понимание свободы использовали в своих целях и римляне. Объявив об освобождении Греции в 196 г. до н. э., они прекрасно понимали, что освобожденная Эллада не будет избавлена от своих освободителей.
Взгляд третий – юридический. Речь идёт о завещании не частного лица, а царя. Частное лицо завещает нажитое личное имущество. Завещание царя – это не только правовой, но и политический документ, решающий не судьбу имущества, а судьбы государства.
На пересечении этих трёх взглядов неизбежно напрашивается вывод: Аттал, несомненно, завещал Риму всё царство. Действительно, передал его римскому народу[562]. Так же должны были понимать это и римляне, исходя из их установки «провинции – это поместья римского народа». Как справедливо отмечено Д. Мэйджи, наследство включало не только личное богатство царя, но и его домен, а также города, которые были прямо подчинены монархии и сейчас стали подданными Рима[563]. Далее Д. Мэйджи пишет, что завещание не распространялось на храмовые земли и сам город Пергам[564]. Х. Ласт полагает: из текста завещания следует, что город Пергам должен был оставаться свободным[565]. Выше мы уже показали, что термин «свобода» в период эллинизма не имел реального наполнения. Воля царя должна была быть ратифицирована Римом[566] – выполнение завещания зависело лишь от воли сената, и он мог поступать так, как считал нужным. Как отметил Д. Браунд, менее эллинизированные и более удалённые окраины Пергама сенат отдал его соседям, оставив себе то, что было легче защищать и лучше эксплуатировать[567]. В 129 г. до н. э. прекратило своё существование царство Пергам и на его месте появилась римская провинция Азия.
А свобода, как внутренняя автономия, была объявлена (вернее – обещана) в завещании городам с конкретной целью. Именно – для того чтобы успокоить их жителей и предотвратить возмущение пергамцев против самого завещания. Это можно рассматривать как отступное городам. Города действительно не выступили против Рима. Обещание свободы было тонко продумано, но едва ли самим Атталом. Скорее здесь чувствуется рука римского сената, поднаторевшего в использовании лозунга свободы в своих политических целях.
И наконец, самая главная проблема: почему царь пошёл на такой неординарный поступок, как завещание своего царства Риму?
В историографии можно выделить несколько позиций по этому вопросу. 1. Отечественная историография 1930–1980 гг. сводит всё к внутриполитическому кризису. Рабовладельцы в условиях усиливающейся народной борьбы не могли сохранить своё классовое господство, и в лице Аттала пошли на предательство национальных интересов, отдав царство Риму, чтобы он задушил в нём надвигающуюся революцию[568].
Как это ни странно, в зарубежной историографии высказываются близкие мнения: мятежи эксплуатируемых масс и политический кризис[569]; возможно, цель завещания – предотвратить социальную революцию[570]. Сразу отметим, что источники не дают никаких оснований для таких выводов. Репрессии Аттала были направлены не против народа или рабов, а против представителей аристократии. В его действиях можно увидеть лишь попытки укрепить центральную власть или подавить придворную смуту, но никак не борьбу с революцией. Мнение о революционном кризисе в Пергаме представляется нам, мягко говоря, сильно преувеличенным. Предположение О.Н. Юлкиной, что народные выступления начались ещё в правлении Аттала[571], ничем не подкреплено, не подтверждается источниками и является абсолютно произвольным допущением. Текст декрета, на который она ссылается, «остаётся дискуссионным»[572], но при всех неясностях он не содержит никаких указаний на восстание. Все имеющиеся источники показывают, что восстание началось после смерти Аттала[573].
А.Б. Ранович, сделав совершенно произвольное допущение, что такое массовое движение просто не могло обойтись без программы общественного переустройства, «логично» делает вывод: Аристоник мечтал построить государство, основанное на свободе, равенстве и на сильном влиянии утопического романа Ямбула[574]. До сих пор никем не доказано, что Аристоник читал этот роман или хотя бы даже знал о нём! Как убедительно показал О.Ю. Климов, восстание Аристоника своим побудительным мотивом имело отнюдь не социальные мотивы, а желание претендента утвердиться на пергамском троне[575]. Участие в нём свободной бедноты и рабов невозможно объяснить их невыносимой жизнью в правление Аттала. Единственно возможное объяснение заключается в умелой демагогической политике Аристоника. Как справедливо отметил И. Хопп, только после тяжёлого поражения при Кимах претендент в качестве крайней меры обратился к рабам и малоимущим[576] – очевидно, именно и только для того, чтобы пополнить ими поредевшие ряды своего войска. Нельзя переносить острую ситуацию 133–130 гг. до н. э. на предыдущие годы, для этого у нас просто нет никаких оснований. Благодаря участию низов восстание, даже независимо от целей претендента, обрело социальную окраску. Устремления вождя и характер восстания не обязательно совпадают. Но это отнюдь не означает, что социальный вопрос остро стоял в Пергаме ещё до смерти Аттала. Считать выступление Аристоника «классовой войной»[577] просто невозможно, сложно поверить и в приписываемое ему желание построить настоящий утопический «Город Солнца» в Пергаме.
Таким образом, данную позицию в историографии (передача царства Риму, чтобы подавить в Пергаме революцию), порождённую сугубо классовым подходом, следует признать ошибочной и исключить из дальнейшего обсуждения.
2. Аттал был последним законным представителем царского рода, и у него просто не было наследников[578]. Поэтому он и завещал своё царство Риму. Однако все источники (Страбон, Ливий, Флор, Диодор, Юстин, Евтропий, Орозий), за исключением Плутарха (Flam. XXI) и Веллея Патеркула (II.IV.I)[579] признают царское происхождение Аристоника. Как подчёркивают У. Вилькен и И. Хопп[580], он действительно был единокровным братом Аттала, сыном царя Эвмена II, хотя и от наложницы.
В период эллинизма такое происхождение не являлось препятствием для восхождения на трон, чему можно привести множество примеров. Самый яркий – это царь Македонии Персей, рождённый наложницей Филиппа V. Аристократы и армия признали его законным наследником и никаких сомнений в легитимности его власти не высказали. Наконец, Аттал мог официально усыновить Аристоника, и сенат не стал бы возражать против этого, поскольку это соответствовало и римским обычаям[581].
Следовательно, эту версию как необоснованную также следует исключить из дальнейшего обсуждения проблемы.
3. Аттал не был расположен к своему наследнику, и из нелюбви к нему передал царство Риму[582]. Утверждение совершенно бездоказательное, т. к. источники не содержат вообще никакой информации о взаимоотношениях братьев. Да и выглядит это объяснение слишком уж прямолинейным и упрощённым: в мировой истории вообще нет примеров передачи государства соседу из-за неприязни к собственному наследнику. Только нелюбовь к брату, даже если допустить её существование, не может объяснить завещания Аттала. Несомненно, здесь были задействованы другие, более существенные факторы.
Получается, что и третью позицию не стоит рассматривать всерьёз.
4. Четвёртый блок мнений – понимая, что Рим доминирует, полагая, что прямое римское правление будет полезнее для Пергама, и не желая противиться неизбежному[583], Аттал хотел избавить свою страну от раздоров после своей смерти и от притязаний соседних царей[584]. Мотивы завещания объяснить сложно, но по характеру царь был психологически неустойчив, он видел происходящие в мире перемены и справедливо ожидал проблем и неприятностей для Пергама[585].
Такой подход представляется вполне обоснованным, но он нуждается в развитии, т. к. выглядит неполным и несколько односторонним. Пергам процветал, и у пергамцев не было оснований опасаться будущего. Как отметил А. Шервин-Уайт, эта версия была бы убедительнее, если бы Аттал жил двадцатью годами позже[586].
5. К предыдущей близка позиция Р. Макшейна. Вслед за Дж. Свэйном[587] он полагает: Аттал ожидал, что Рим будет покровительствовать грекам, защитит их от давления враждебного им Востока и на много веков установит верховенство эллинской культуры на Ближнем Востоке[588]. Не особо веря в римский альтруизм, царь внёс в завещание пункт об автономии города Пергама[589].
Объяснение довольно наивное: римлянам не было никакого дела до распространения греческой культуры на Восток, да и едва ли Аттал вообще думал об этом.
6. Завещание объясняется традиционной проримской политикой Пергама, а также тем, что пергамцы были обязаны Риму за его победу над галатами. Да и присоединение царства было неизбежно как центра для контроля над Малой Азией[590]. Версия неубедительна. Если бы Аттал завещал царство Аристонику, тот тоже вынужден был бы проводить такую же проримскую политику.
7. Особняком стоит версия Р. Виппера: возможно, царь задолжал римским «капиталистам» и вынужден был отдать им свой залог – всю свою страну[591]