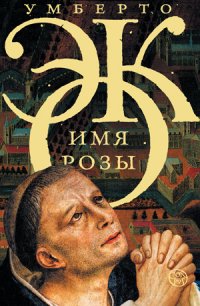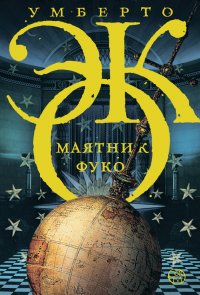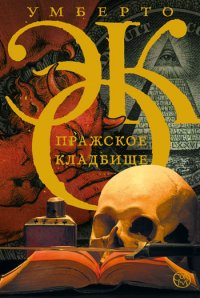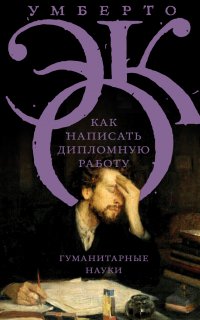Читать онлайн Сотвори себе врага. И другие тексты по случаю (сборник) бесплатно
- Все книги автора: Умберто Эко
Umberto Eco
Costruire il nemico
E altri scritti occasionali
© RCS Libri S.p.A. – Milano Bompiani 2011
© Я. Арькова, М. Визель, Е. Степанцова, перевод на русский язык, 2014
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2014
© ООО “Издательство АСТ”, 2014 Издательство CORPUS ®
Предисловие
Настоящим заголовком этой подборки должен был бы выступать подзаголовок, то есть «тексты по случаю». Только справедливое замечание редактора, что книга со столь нарочито скромным названием вряд ли вызовет у читателя интерес, а вот название открывающего сборник эссе куда завлекательнее, заставило меня склониться к предложенному варианту.
Что такое «текст по случаю» и в чем его достоинства? В том, что, как правило, автор и не собирался обращаться к тому или иному предмету, но был к этому понужден рядом дискуссий или статей на определенную тему. Тема вдохновила автора и позволила ему поразмышлять о чем-то, что иначе могло быть упущено, – и часто происходит так, что тема, полученная извне, оказывается более плодотворной, чем возникшая по авторской прихоти.
Другое достоинство «текста по случаю» – в том, что он не претендует на оригинальность любой ценой, а предназначен скорее для развлечения – как говорящего, так и слушающего. В общем, «текст по случаю» подобен барочному упражнению в риторике вроде того, которое Роксана предлагает Кристиану (а через него – Сирано): «Говорите мне о любви».
В примечании к каждому конкретному тексту (а все они – последнего десятилетия) указаны даты и случаи, по которым они были созданы, и, как раз для того, чтобы подчеркнуть их «случайность», я добавлю, что «Абсолют и Относительность» и «Пламя прекрасно» были прочитаны в рамках фестиваля «Миланезиана»[1], включавшего тематические вечера в прямом смысле слова, и мне выпала любопытная возможность говорить об абсолюте как раз тогда, когда развернулась полемика о релятивизме, то есть об относительности всего и вся; что же касается пламени – это был для меня прекрасный опыт, потому что я и представить не мог, что мне придется интересоваться (столь горячо) эдакими материями.
«Эмбрионы без царствия небесного» – переработка доклада, прочитанного в 2008 году в Болонье на конференции по исследовательской этике и потом включенного в книгу под редакцией Франческо Галофано «Этика в медицинских исследованиях и европейская культурная идентичность»[2]. Доклад «Группа-63, сорок лет спустя» открывал конференцию, тема которой отражена в названии моего выступления.
Размышления о поэтике избыточности у Гюго обобщают три текста, которые были подготовлены и прочитаны в качестве докладов, в то время как обзор воображаемых астрономий был самым бесстыдным образом представлен в двух разных вариантах на двух конференциях – по астрономии и по географии.
«Охота за сокровищами» суммирует несколько моих выступлений на эту тему, а «Скисшие лакомства» были прочитаны на конференции, посвященной Пьеро Кампорези.
Текст «Глянец и молчание» изначально был произнесен, почти экспромтом, в 2009 году на конгрессе Итальянской семиотической ассоциации.
Три следующие эссе – это самые настоящие дивертисменты, появившиеся в течение трех лет в «Альманахе библиофила», и в каждом случае они были вдохновлены «темой номера»: «Остров поговорок» – темой «В поисках новых островов утопии», «Я – Эдмон Дантес!» – темой «Сентиментальные грезы нежного возраста» и «Только Улисса нам не хватало…» – темой «Запоздалые рецензии». В 2011 году, также в «Альманахе библиофила», появилось эссе «Почему остров так и не был найден», оно повторяет сообщение, сделанное на конференции, посвященной островам, которая состоялась в 2010 году в Карло форте.
«Размышления о «Викиликсе» написаны на основе двух статей: одна из них появилась в «Либерасьон» (2 декабря 2010 года), другая – в «Эспрессо» (31 декабря 2010 года). И наконец, возвращаясь к первому эссе в подборке, «Сотвори себе врага», – оно было прочитано на одной из встреч, посвященных классикам, организованной в Болонском университете Ивано Диониджи. Нынче эти мои двадцать страниц представляются скуповатыми, после того как Джан Антонио Стелла блестяще развил тему более чем на триста страниц в своей книге «Негры, педики, жиды и К°. Вечная война против Другого»[3], но что же делать: мне не хотелось бы позабыть написанное, потому что врагов продолжают сотворять без счета.
Сотвори себе врага
Много лет назад в Нью-Йорке мне довелось столкнуться с одним таксистом. По его имени было трудно понять, откуда он родом, но он сказал, что пакистанец. Потом спросил, откуда я приехал, и я ответил, что из Италии. Он спросил, сколько нас, и был поражен, узнав, что нас так мало и что при этом наш язык – не английский.
Наконец он спросил, сколько у нас врагов. И на мое «простите?!» спокойно пояснил: его интересует, со сколькими народами мы столетиями находимся в состоянии войны из-за спорных территорий, межнациональной розни, бесконечных приграничных стычек и так далее. Я ответил, что мы ни с кем не воюем. Тогда он уточнил, что интересуется нашими историческими противниками, теми, кто убивают нас и кого убиваем мы. Я повторил: у нас нет таковых, последняя война закончилась полвека назад, и, кстати сказать, начинали мы ее с одним противником, а заканчивали с другим.
Но его все это не устраивало. Как это возможно, чтобы у какого-то народа не было врагов? Выходя из такси, я дал ему два доллара на чай в качестве компенсации за наш раздражающий пацифизм. Лишь потом я сообразил, что я должен был ему ответить. Это неправда, что у нас нет врагов. У итальянцев нет внешних врагов, и в любом случае они не в состоянии толком определить их, потому что беспрестанно воюют между собой: Пиза с Луккой, гвельфы с гибеллинами, северяне с южанами, фашисты с партизанами, мафия с государством, правительство с судебным ведомством – и остается пожалеть, что в описываемый момент еще не произошло падения двух кабинетов Проди, тогда мне проще было бы объяснить, что это такое – проиграть войну, попав под «дружеский огонь».
Позднее, поразмышляв как следует над этим эпизодом, я пришел к выводу, что одно из несчастий нашей страны – как раз в том, что последние шестьдесят лет у нас нет настоящих врагов. Объединение Италии произошло благодаря тому, что в этом участвовал австрияк, или, как выразился Берше[4], «тевтон щетинистый и грубый»; Муссолини пользовался всенародной поддержкой, призывая отомстить за отобранную победу, за унижения, перенесенные в Догали и при Адуа[5], и за тяжкие поборы, взимаемые «иудейскими демократо-плутократами», как он выражался. Мы все видели, что произошло с Соединенными Штатами, когда Империя зла исчезла и великий враг – Советы – развалился. США грозила полная потеря идентичности, но тут Бен Ладен, не забывший еще те милости, которыми его осыпали, пока он помогал бороться с Советским Союзом, простер к США свою благодетельную длань и дал Бушу возможность сотворить себе новых врагов, упрочив тем самым и национальное самосознане, и свою власть.
Иметь врага важно не только для определения собственной идентичности, но еще и для того, чтобы был повод испытать нашу систему ценностей и продемонстрировать их окружающим. Так что, когда врага нет, его следует сотворить. Все видели широту и гибкость, с которыми веронские нацисты-скинхеды принимали к себе во враги любого, кто не принадлежал к их группе, – именно для того, чтобы обозначить себя как группу. И самое интересное в этом случае – не то, с какой непринужденностью они обнаруживали врага, а сам процесс его сотворения и демонизации.
В «Речах против Катилины» (II, 1–10) Цицерону не было нужды рисовать образ врага, потому что у него были доказательства заговора Катилины. Но он сотворил его, когда во Второй речи обрисовывал перед сенаторами друзей Катилины, ведь на фоне их развращенности облик главного обвиняемого обретал зловещие черты:
Возлежа на пирушках, они, обняв бесстыдных женщин, упившись вином, объевшись, украсившись венками, умастившись благовониями, ослабев от разврата, грозят истребить честных людей и поджечь города. <…> Вы видите их, тщательно причесанных, вылощенных, либо безбородых, либо с холеными бородками, в туниках с рукавами и до пят, закутанных в целые паруса, вместо тог. <…> Эти изящные и изнеженные мальчики обучены не только любить и удовлетворять любовные страсти, плясать и петь, но и кинжалы в ход пускать и подсыпать яды[6].
Морализаторство Цицерона позднее найдет отклик у Блаженного Августина, который обрушится на язычников за то, что они, в отличие от христиан, посещают театральные представления, цирковые зрелища и справляют оргиастические праздники. Враги – другие, не такие, как мы, и их обычаи – не такие, как наши.
Наилучший другой – это чужеземец. Уже на римских барельефах варвары предстают бородачами с приплюснутыми носами, да и само это название – «варвар», очевидно, намекает на ущербность языка и, следовательно, – мышления.
И тем не менее с самых давних пор врагов творили не столько из тех чужаков, которые действительно несут нам непосредственную угрозу (как те же варвары), сколько из тех, кого выгодно кому-то представить таковыми, хотя впрямую они не угрожают, так что не столько исходящая от них угроза заставляет увидеть их отличие от нас, сколько само отличие делается угрожающим.
Вспомним, что говорил о евреях Тацит: «Иудеи считают богопротивным все, что мы признаем священным, и, наоборот, все, что у нас запрещено как преступное и безнравственное, у них разрешается»[7] (и тут сразу приходит в голову отторжение англосаксами лягушатников-французов и немцами – итальянцев, злоупотребляющих чесноком). Евреи – «странные», потому что брезгуют свининой, не кладут в хлеб дрожжи, бездельничают в седьмой день, женятся только на своих, делают обрезание (внимание!) не потому, что такова их гигиеническая или религиозная норма, а для того, чтобы «подчеркнуть свое отличие», закапывают своих покойников в землю и не чтут наших Цезарей. Продемонстрировав единожды, насколько отличны от наших некоторые из их действительно существующих обычаев (обрезание, соблюдение субботы), в дальнейшем можно сосредоточиться на обычаях мифических (поклоняются ослиной голове, не чтут родителей, детей, братьев, родину и богов).
Плиний не находит для христиан существенных пунктов обвинения и вынужден признать, что они не творят беззаконий, а скорее наоборот, совершают лишь добродетельные поступки. Но их все равно посылают на смерть, потому что они не приносят жертвы императору, и этот упорный отказ от вещи столь естественной и очевидной свидетельствует об их чуждости.
Новый враг возникает позднее, с развитием международных контактов. Это не только внешний враг, являющий свою странность издалека, но и тот, что внутри, между нами, тот, кого мы сейчас назвали бы «иммигрантом» или «внесоюзным лицом»[8], – тот, кто в том или ином ведет себя по-другому, чем мы, или плохо говорит на нашем языке, и кто в сатире Ювенала описывается как «гречонок» – хитрый и плутоватый, бесстыдный и похотливый, способный даже завалить в кровать бабушку друга[9].
Чужеземец из чужеземцев, по причине цвета кожи, – это негр. Словарная статья «негр» первого американского издания 1798 года «Британской энциклопедии» гласит:
Цвет кожи негров имеет различные оттенки, однако формой лица все они в равной степени отличаются от других людей. Для их наружности характерны округлость лица, высокие скулы, не особенно высокий лоб, нос короткий, широкий и приплюснутый, толстые губы, небольшие уши, безобразие и неправильность черт. Негритянские женщины широкобедры, с толстыми ягодицами, по форме напоминающими седло. Самые гнусные пороки – праздность, вероломство, мстительность, жестокость, бесстыдство, воровство, лживость, пустословие, распущенность, мелочность и неумеренность – являются уделом этой жалкой расы; справедливо полагают, что названные свойства подорвали в этих людях принципы естественного закона, заглушив в них голос совести. Чуждые всякого сострадания, они могут служить устрашающим примером деградации человека, предоставленного самому себе[10].
Негр отвратителен. Враг и должен быть отвратительным, потому что прекрасное идентифицируется с хорошим (принцип калокагатии), и одной из основополагающих характеристик красоты всегда является то, что в Средние века назовут integritas, «целостность» (то есть обладание всеми свойствами, необходимыми для того, чтобы являться средним представителем своего вида, вот почему людям кажутся отвратительными нехватка конечности, глаза, не достающий до среднего рост или «нечеловеческий» цвет кожи). И это дает нам самый простой способ идентификации любого врага – от одноглазого великана Полифема до карлика Миме. Приск Панийский в V веке описывал Аттилу как коротышку с широким торсом, большой головой, маленькими глазками, жидкой и клочковатой бородой, приплюснутым носом и (основополагающая черта) темной кожей. Но любопытно, насколько лицо Аттилы напоминает физиономию дьявола, каким его увидел пять веков спустя Радульф Глабер:
Насколько я мог рассмотреть, он был небольшого роста, с длинною и тощею шеей, испитым лицом, черными глазами; лоб морщинистый и узкий, плоский нос, огромный рот, толстые губы, подбородок короткий и заостренный, козлиная бородка, уши прямые и острые, волоса грязные и торчащие, собачьи зубы, затылок суживающийся, выдающаяся грудь, горб на спине, отвислый зад и грязная одежда (Хроники, V, 2)[11].
Лишенными integritas предстают византийцы в глазах Лиутпранда Кремонского, когда в 968 году император Отон I отправляет его в Византию и он столкнулся с еще неведомыми обычаями:
Привели меня в большой зал <…> к Никифору, человеку весьма отталкивающей наружности, какому-то пигмею с тяжелой головой и крошечными, как у крота, глазами; его уродовала короткая, широкая, с проседью борода, а также шея высотой в толщину пальца. <…> Его длинные и густые волосы придавали ему вид кабана, цветом кожи он был подобен эфиопу: «с ним бы ты не хотел повстречаться средь ночи». Живот одутловатый, зад тощий, бедра для его короткой фигуры непомерно длинны, голени маленькие, пятки и стопы соразмерны. Одет он был в роскошное шерстяное платье, но слишком старое и от долгого употребления зловонное и тусклое[12].
«Зловонное». Враг всегда воняет, и некий Берийон в начале Первой мировой войны (1915) написал книгу «La polychresie de la race allemande»[13], в которой доказывает, что средний немец производит больше фекальных масс, чем француз, и с более неприятным запахом. Воняет византиец – но воняет и сарацин, в «Evagatorium in Terrae sanctae, Arabiae et Egipti peregrinationem»[14] Феликса Фабри (XV век) сказано:
Сарацины испускают столь ужасную вонь, что постоянно вынуждены совершать различные омовения; а поскольку мы не воняем, для них не важно, если мы моемся вместе с ними. Но они не столь терпимы по отношению к евреям, которые воняют еще сильнее. <…> Та к что вонючие сарацины были рады оказаться в обществе, лишенном вони, подобном нашему.
Воняют австрияки у Джусти[15] (помните: «Я Вашу милость раздражаю явно, вам шуточками жалкими не мил…»?):
Итак, вхожу, а там одни солдаты,
Гляжу – не верю собственным глазам:
Шпалерами богемцы и кроаты,
Ну прямо виноградник, а не храм.
……………………………
Едва мне этот бравый сброд предстал,
Чуть было я не повернул обратно.
Я чувство отвращенья испытал,
Что вам, по долгу службы, непонятно.
Особый запах воздух пропитал:
Казалось, что, чадя невероятно,
Во храме свечи сальные горят,
Распространяющие жирный смрад[16].
Не может не вонять цыган, раз он питается отбросами, как уверяет Ломброзо («Преступный человек», 1876, 1, II), и воняет противница Джеймса Бонда в романе «Из России с любовью», Роза Клебб. Она не просто русская и советская, но еще до кучи и лесбиянка:
Встав перед светлой дверью без таблички, Татьяна почувствовала запахи, несшиеся изнутри комнаты, а когда грубый голос пригласил ее войти и она, открыв дверь, уставилась в глаза сидевшей за круглым столом женщины, именно эти запахи обрушились на нее: запахи метро в часы пик – смесь дешевой парикмахерской и зоопарка. Русские употребляют духи в независимости от того, мылись они или нет, а чаще всего – немытыми. <…>
Открылась дверь, и на пороге появилась Клебб. <…> На полковнике Клебб была надета полупрозрачная оранжевая ночная рубашка из крепдешина. <…> Одна обнаженная коленка, напоминавшая кокосовый орех, выпирала из-под полы рубашки, как к тому понуждала классическая поза манекенщицы. <…> Роза Клебб была без очков – на оголившемся лице толстым слоем лежали румяна, белила и губная помада. <…> Клебб похлопала по кушетке рядом с собою: «Выключи верхний свет, моя дорогая. Выключатель – у двери. И садись ко мне поближе. Мы должны получше узнать друг друга»[17].
Монструозен и смраден, по крайней мере со времен зарождения христианства, еврей, ведь его образчик – Антихрист, то есть архивраг, враг не только наш, но и Господа:
На вид же он вот каков: голова его раскалена докрасна, правый глаз налит кровью, левый глаз зеленый, как у кошки, с двумя зрачками и белыми веками, нижняя губа толстая, он хром на правую ногу, ступни имеет крупные, большой палец руки у него сплюснут и имеет удлиненную форму[18].
Антихрист народится среди иудейского народа <…> от союза отца и матери, подобно всем людям, а не от одной лишь девы. <…> В момент его зачатия дьявол войдет в материнское лоно, благодаря дьявольским чарам будет он питаем во чреве матери, и сила дьявола неизменно пребудет с ним[19].
У него будут два горящих глаза, уши, подобные ослиным, пасть и нос, как у льва; и начнет он подбивать людей на поступки самого дурного свойства, сопровождаемые огненными вспышками и жуткими завываниями как проявление духа противоречия, и примется подговаривать их к отпадению от Бога, наполнив их тела омерзительным смрадом, а церковные институты поразив духом ненасытной алчности; сам же будет ухмыляться во всю свою ужасную пасть, скаля отвратительные железные зубы[20].
Коли Антихрист является из еврейского народа, его личина не может не отражаться в образе еврея, идет ли речь о народном антисемитизме, теологическом или же о буржуазном антисемитизме XIX–XX веков. Сравним:
Обычно у них бледное лицо, крючковатый нос, глубоко посаженные глаза, выступающий подбородок и развитые мышцы рта <…> К этому следует прибавить, что евреи подвержены болезням, указывающим на порчу кровяной массы: в прежние времена это была проказа, а в наши дни родственны ей цинга, золотуха, кровотечения и т. п. <…> Считается, что от евреев постоянно исходит дурной запах <…> Другие полагают, что причина тому неумеренное употребление овощей, обладающих резким запахом, таких как лук и чеснок; некоторые связывают данный факт с поеданием баранины <…> по мнению иных же наблюдателей, любимая евреями гусятина, богатая грубыми, вязкими сахарами, придает им синюшность и рыхлость[21].
Позднее Вагнер дополняет портрет мимическими и фонетическими характеристиками:
Этот особенный вид – неотъемлемая принадлежность еврея, среди народа какой бы европейской национальности он ни вращался; для всех национальностей представляет черты неприятно-чуждые. Мы невольно не желаем иметь ничего общего с человеком, имеющим такой вид. <…> Мы не можем представить себе какую-нибудь драматическую сцену античного или современного характера, в которой роль играл бы еврей, чтобы до смешного не почувствовать несоответствия такого представления. <…> Насколько чужды нам евреи, можно судить из того, что сам язык евреев противен нам. <…> Само звуковыражение, чуждое нам, резко поражает наш слух; также неприятно действует на нас незнакомая конструкция оборотов, благодаря которым еврейская речь приобретает характер невыразимо перепутанной болтовни; это обстоятельство прежде всего следует принять во внимание, потому что оно, как ниже будет показано, разъясняет то впечатление, какое оказывают на нас новейшие музыкальные еврейские произведения. <…> Прислушайтесь к речи еврея, и вас неприятно удивит отсутствие в ней чего-то гуманного. <…> Поэтому естественно, что в пении, как в самом живом и самом правдивом выражении душевных настроений, природная неспособность евреев к переживанию вдохновений чувствуется сильнее всего[22].
Гитлер выражается куда тоньше, хотя и доходит едва ли не до зависти:
Платье должно служить делу воспитания молодежи. <…> Если бы вопрос о красивом теле не был сейчас благодаря дурацким модам отодвинут на самое последнее место, то кривоногие истасканные еврейчики не могли бы свести с правильного пути сотни тысяч наших немецких девушек[23].
От лица к обычаям – и вот вам враг-еврей, убивающий младенцев и пьющий их кровь. Возникает он очень рано, например, в «Кентерберийских рассказах» Чосера, где рассказывается о мальчонке, похожем на святого Симонино из Тренто, которого, пока он шел по еврейскому кварталу, распевая гимн Богородице, похитили, после чего перерезали ему горло и сбросили в колодец.
Еврей, убивающий детей и пьющий их кровь, имеет очень сложную генеалогию, потому что та же самая модель существовала еще раньше, при создании врага внутри христианства – еретика. Достаточно только одного текста:
Вечером, когда зажгут светильники и мы поминаем Страсти Христовы, они приводят в некий дом отроковиц, назначенных для их тайных обрядов, гасят светильники, потому что не желают, чтобы свет удостоверял мерзости, что собираются они творить, и тешат свое беспутство на ком случится, будь то сестра или дочь. Они убеждены, что, поступая так, тешат бесов, потому что нарушают законы божеские, запрещающие совокупляться с единокровниками. Свершив обряд, возвращаются домой и ждут, чтобы минуло девять месяцев. И когда настает время родиться нечестивым сынам нечестивого семени, собираются снова в том же месте. Через три дня после родов отрывают несчастных детей от их матерей, взрезают острыми ножами их нежные члены, собирают в чаши бьющую кровь, сжигают младенцев, еще дышащих, бросая в костер. Потом перемешивают в чашах кровь с пеплом, пока не получается мерзостная смесь, которой они марают кушанья и питье – но втихомолку, как те, кто подсыпает в мед отраву. Таково их причастие[24].
Таким образом, враг воспринимается как другой и дурной потому, что принадлежит к низшему классу. В «Илиаде» Терсит («Муж безобразнейший, он меж данаев пришел к Илиону; / был косоглаз, хромоног; совершенно горбатые сзади / плечи на персях сходились; глава у него подымалась / вверх острием, и была лишь редким усеяна пухом»[25]) стоит на социальной лестнице ниже Агамемнона и Ахилла и, следовательно, им завидует. Между Терситом и Франти из книги Де Амичиса – невелика разница, они оба безобразны: Одиссей в кровь лупит первого, а общество посылает Франти на каторгу.
Рядом с ним сидит худой и унылый мальчик, по имени Франти; его уже выгнали из одной школы. <…> Франти рассмеялся; только он один мог смеяться, когда Доросси рассказывал о похоронах короля. Я терпеть не могу Франти, потому что он злой. Когда в школу приходит чей-нибудь отец, чтобы задать головомойку своему сыну, Франти всегда радуется. Когда кто-нибудь плачет, Франти смеется. Он дрожит перед Гарроне, потому что тот сильнее, и бьет Кирпичонка, потому что тот маленький. Он мучает Кросси за то, что у того больная рука. Он смеется над Деросси, которого все уважают. Он дразнит Робетти, ученика второго класса, который спас мальчика и теперь ходит на костылях. Он вызывает на драку тех, кто слабее его, а когда дело доходит до кулаков, то звереет и дерется страшно больно. Его низкий лоб и мутные глаза, полускрытые козырьком клеенчатого берета, производят какое-то тяжелое впечатление. Он никого не боится, смеется в лицо учителю и при случае может украсть и солгать, не моргнув глазом. Он всегда в ссоре с кем-нибудь, приносит в школу булавки, чтобы колоть своих соседей, и обрывает для игры пуговицы со своей куртки и с курток своих товарищей. Его сумка, тетради, книги – все измято, разорвано, испачкано, линейка у него зазубрена, перо и ногти обкусаны, платье все в жирных пятнах и в дырах, потому что он постоянно дерется. <…> Учитель иногда делает вид, что не замечает проделок Франти, и тогда тот начинает вести себя еще хуже. Учитель пробовал подойти к нему по-хорошему, но Франти только смеялся в ответ. А когда учитель грозит ему, он закрывает лицо руками, делая вид, что плачет, а на самом деле смеется[26].
Среди носителей уродства, обусловленного социальным статусом, очевидно, находятся прирожденный преступник и проститутка. Но в случае с проституткой мы вступаем в другой мир – в мир сексуальной неприязни или сексуального расизма. Для мужчины, который пишет и властвует (или властвует благодаря тому, что пишет), женщина с самого начала представлялась врагом. Пусть не обманывает нас уподобление женщин ангелам; напротив – именно потому, что в «большой литературе» преобладали нежные и прекрасные создания, мир сатиры – а потом и мир народной фантазии – последовательно демонизирует женское начало – со времен античности через Средние века и вплоть до современности. Что касается античности, ограничусь Марциалом («Эпиграммы», 93):
- Хоть прожила ты, Ветустилла, лет триста,
- Зубов четыре у тебя, волос пара,
- Цикады грудь и как у муравья ноги
- И кожи цвет, а лоб морщинистей столы,
- И титьки дряблы, словно пауков сети…
- ……………………………………………..
- Хоть видишь столько, сколько видит сыч утром,
- И пахнешь точно так же, как самцы козьи,
- И как у тощей утки у тебя гузка…
- ………………………………………………
- Пускай могильщик пред тобой несет факел:
- Один лишь он подходит для твоей страсти[27].
А кому, по-вашему, принадлежит следующий фрагмент?
Женщина – существо несовершенное, одержимое тысячью отвратительных страстей, о которых и думать-то противно, не то что говорить. <…> Нет существа более неопрятного, чем женщина; уж на что свинья любит грязь, но и она с женщиной не сравнится. Пусть тот, кто со мной не согласен, посмотрит, как они рожают, заглянет в потаенные уголки, куда они прячут, застыдясь, мерзостные предметы, которыми орудуют, чтобы избавиться от ненужной телу жидкости.
Если так мог думать Боккаччо («Ворон»[28]), безнравственный мирянин, вообразите же себе, что мог думать и писать средневековый моралист, желая отстоять провозглашенный апостолом Павлом принцип, согласно которому «хорошо человеку не касаться женщины… Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться»[29].
Одон Клюнийский в Х веке напоминал:
Красота телесная вся в коже. В действительности, если бы мужи обладали, как рысь из Беотии, взглядом, проникающим сквозь, и увидели бы, что под кожей, единый взгляд на женщин вызвал бы у них тошноту: вся эта женская прельстительность – не более чем требуха, кровь, гуморы и желчь. Подумайте о том, что таится в ноздрях, в глотке, в чреве: повсюду нечистота! <…> И мы, кто брезгуем прикоснуться хоть кончиком пальца к рвоте иль навозу, как можем мы жаждать сжать в своих объятиях простой куль экскрементов![30]
От женоненавистничества, так сказать, «нормального», переходим к концепции ведьмы, шедевру современной цивилизации. Конечно, ведьма была известна и в античности, и я ограничусь здесь только упоминанием Горация («Видел Кандию сам я, одетую в черную паллу, / Как босиком, растрепав волоса, с Саганою старшей / Здесь завывали они; и от бледности та и другая / Были ужасны на вид»[31]) или ведьм в «Золотом осле» Апулея. Но в античности, как и в Средневековье, речь шла о ведьмах или ведьмаках – прежде всего в связи с народными верованиями – как о явлениях в конечном счете эпизодических. Рим во времена Горация не видел в ведьмах угрозы, и в Средние века по-прежнему считалось, что ведовство, в сущности, – это феномен самовнушения, то есть что ведьма – это та, кто сама верит в то, что она ведьма, как утверждается в Епископском каноне IX века:
Некоторые испорченные женщины, обратившиеся к Сатане и соблазненные его обольщениями и ложью, верят сами и утверждают, что ночной порой скачут верхом на каких-то зверях заодно с множеством других женщин в свите Дианы <…> Священникам следует неустанно проповедовать своей пастве, что все это пустые россказни и что в умы верующих подобные бредни влагаются не божественной силой, а нечистым духом. В самом деле, преобразившись в ангела света, Сатана морочит голову этим несчастным и подчиняет их своей воле вследствие их маловерия и отсутствия в них веры[32].
Но именно на заре современного мира ведьмы начинают собираться всемером, чтобы справлять свои шабаши, летать, превращаться в животных – и становиться врагами общества, что оправдывает инквизиторские процессы и костры. Сейчас не место рассматривать сложную проблему «ведовского синдрома», то есть поисков козла отпущения во время глубоких социальных кризисов, проблему влияния сибирского шаманизма или постоянства вечных архетипов. То, что интересует нас сейчас, – вновь и вновь повторяющаяся модель сотворения врага, аналогичная той, что применялась для еретика или еврея. И пускай люди науки, как Джироламо Кардано («De rerum varietate», XV), выдвигали свои возражения с точки зрения здравого смысла:
Это убогие женщины низкого звания, живущие в долинах и питающиеся каштанами и травами. Без небольшого количества молока, которое они выпивают, им бы вообще не прожить. По этой причине они кажутся изнуренными и невзрачными, цвет лица у них землистый, глаза навыкате, взгляд изобличает темперамент желчный и меланхоличный. Они молчаливы, рассеянны и мало чем отличаются от женщин, одержимых бесом. Они столь упорны в своих суждениях, что, наслушавшись их, можно увериться в истинности того, о чем они с таким жаром рассказывают, пусть даже речь идет о вещах, которых никогда не было и никогда не будет[33].
Новые волны преследований начинают накатывать на прокаженных. Карло Гинзбург указывает в своей книге «Ночная история. Истолкование шабаша»[34], что в 1321 году их сжигали по всей Франции на том основании, что они якобы пытались убить все население страны, отравляя воду, источники и колодцы:
Прокаженных женщин, признавшихся в преступлении добровольно или после пыток, следовало сжечь, только если они не были беременны; если же были – то должны были содержаться в тайном месте до родов и отнятия младенцев от груди, а потом – сожжены.
Нетрудно разглядеть здесь истоки всех процессов над разносчиками любой заразы. Но другой аспект преследований, упоминаемых Гинзбургом, – то, что разносчики проказы автоматически ассоциировались с евреями и сарацинами. Разные хронисты приводили суждения современников, согласно которым евреи были в заговоре с прокаженными и поэтому многие были сожжены вместе с последними:
Народец вершил правосудие сам, не зовя ни настоятеля, ни бальи: запирали людей в дома вместе со скотиной и со всем скарбом и подпускали огня.
Один из вожаков прокаженных признался, что был подкуплен деньгами некоего еврея, который вручил ему отраву (изготовленную из человеческой крови, мочи, трех видов трав и освященной облатки) в мешочках с грузом, чтобы те легче достигли дна источников, но обратился к евреям не кто иной, как король Гранады, а еще в этом заговоре, согласно другому свидетельству, участвовал султан вавилонский. Так, одним махом, были объединены три традиционных врага: прокаженный, еврей и сарацин. Необходимость в присоединении к ним еще и четвертого врага, еретика, обусловлена тем, что призванные для черного дела прокаженные должны были плевать на облатку и топтать распятие.
Позднее ритуалы подобного рода будут приписываться ведьмам. Еще в XIV веке появились первые пособия по проведению инквизиторских процессов против еретиков, такие как «Practica inquisitions hereticae pravitatis»[35] Бернардо Гуя или «Di rectorium Inquisitorum»[36] Николау Аймериха, а в XV веке (в то время как во Флоренции Марсилио Фичино переводил Платона по заказу Козимо Медичи и, согласно одной известной голиардической пародии, люди уже изготовились петь: «Ах, какое облегченье! Наступает Возрожденье!»), а именно между 1435 и 1437 годами, появился (и потом был напечатан в 1773-м) «Formicarius»[37] Нидера, где впервые говорилось о ведьминских ритуалах в современном смысле этого слова.
В булле «Summis desiderantes atfectibus»[38] (1484) Иннокентий VIII пишет:
С недавних пор до нас – к величайшему нашему прискорбию – стали доходить известия о том, что в некоторых областях Германии <…> особы обоего пола, позабывшие о собственном спасении и отпавшие от католической веры, безбоязненно вступают в плотский союз с инкубами и суккубами и губят или насылают порчу на потомство, рожденное от женщин, животных или плодов земли <…> прибегая к чарам, сглазу, заклинаниям и прочим гнусным приемам магии… Желая – как и подобает нашему сану – с помощью надлежащих мер предотвратить проникновение яда еретического заблуждения в простые души, постановляем, чтобы вышеименованные Шпренгер и Крамер приступили к обязанностям инквизиторов на упомянутых землях[39].
И действительно: вдохновленные в том числе «Муравейником», в 1486 году Шпренгер и Крамер опубликуют печально известный «Malleus Malle ficarum»[40].
Как сотворить ведьму, говорят нам (и это только один пример из тысяч) документы инквизиторского процесса против Антонии в приходе Сен-Жорьё, диоцеза Женевы, в 1477 году:
Обвиняемая, оставив мужа и семью, отправилась с Массе в место, именуемое Лаз Перрой у потока <…> где помещалась синагога еретиков, и нашла мужчин и женщин в большом количестве, которые веселились там, плясали и танцевали. Тогда ей показали одного демона, именем Робине, имевшего облик негра, приговаривая: «Вот наш хозяин, которому мы должны воздавать почести, если хочешь получить то, чего желаешь». Подсудимая спросила его, как ей надлежит себя вести <…> и указанный Массе ей отвечал: «Отринешь Господа, создателя твоего, и веру католическую, и эту подлизу Деву Марию, и примешь как своего господина и хозяина этого демона именем Робине, и будешь делать всё, чего он пожелает <…>». Выслушав эти слова, обвиняемая запечалилась и сперва отказалась выполнять это. Но наконец отринула Господа со словами: «Отрекаюсь от Господа, создателя моего, и от веры католической, и от святого креста, и предаюсь тебе, демон Робине, как моему господину и хозяину». И воздала ему почести, лобызая ему ступню <…> Потом, пренебрегая Богом, швырнула на землю, наступила левой ногой и сломала деревянное распятие <…> Взяла палку длиною в стопу с половиной; для того, чтобы сделать ее пригодной для синагоги, она должна была помазать ее помазанием, содержащимся в дароносице, что была полна, и поместить ее между ног со словами: «Прочь, прочь из дьявольских частей!», и незамедлительно перенести ее по воздуху быстрым движением до самого того места, где находилась синагога. Показала также, что в упомянутом месте ели хлеб и мясо; пили вино и снова плясали; затем, поелику сказанный демон, их господин и хозяин, превратился из человека в собаку черной масти, они воздавали ему почести и кланялись, целуя его назади; наконец демон, затушив светильник, который зелеными языками пламени освещал синагогу, воскликнул громким голосом: «Мекле! Мекле!» – и с этим криком возлегли по-скотски мужчины с женщинами и она с указанным Массе Гареном[41].
Эти показания с различными подробностями вроде плевка на распятие и поцелуя в зад почти буквально повторяют показания на процессе тамплиеров полутора веками ранее. Поражает, что не только инквизиторы на этом процессе XV века руководствовались в своих вопросах и замечаниях тем, что они читали в документах предыдущих отчетов, но и все жертвы на допросах, проходивших в достаточно суровых условиях, признавались в том, в чем их обвиняли. В ходе ведовских процессов не только создавался образ врага, и жертва не только в конце концов признавалась даже в том, чего она не совершала, но, признаваясь, она сама начинала верить, что действительно это делала. Вспомните аналогичный процесс, описанный в «Слепящей тьме» Кёстлера, а также то, что и на сталинских процессах сначала создавался образ врага, а потом жертву заставляли себя узнать в этом образе.
Сотворение врага приводит к тому, что им начинает чувствовать себя и тот, кто мог бы рассчитывать на более благосклонное отношение. Театр и литература демонстрируют нам примеры «гадкого утенка», отвергнутого себе подобными, который в конце концов начинает соответствовать тому, как его воспринимают. В качестве типичного примера процитирую шекспировского «Ричарда III»:
- Но я не создан для забав любовных,
- Для нежного гляденья в зеркала…
- Меня природа лживая согнула
- И обделила красотой и ростом.
- Уродлив, исковеркан и до срока
- Я послан в мир живой; я недоделан, —
- Такой убогий и хромой, что псы,
- Когда пред ними ковыляю, лают.
- Чем в этот мирный и тщедушный век
- Мне наслаждаться? Разве что глядеть
- На тень мою, что солнце удлиняет,
- Да толковать мне о своем уродстве?
- Раз не дано любовными речами
- Мне занимать болтливый пышный век,
- Решился стать я подлецом и проклял
- Ленивые забавы мирных дней[42].
Похоже, что обойтись без врагов невозможно. Фигура врага неизбежна в цивилизационном процессе. Враг нужен даже мягкому и миролюбивому человеку. Просто тот подставляет на место врага-человека природную стихию, или общественную силу, или явление, которые тем или иным образом ему угрожают и должны быть побеждены, будь то капиталистическая эксплуатация, загрязнение окружающей среды или голод в странах Третьего мира. Но сколь бы оправданными ни были поводы, даже гнев из-за несправедливости, как замечает Брехт, искажает лицо.
Значит, этика бессильна перед извечной потребностью иметь врагов? Я бы сказал, что суть этики торжествует не тогда, когда мы делаем вид, будто кто-то не является нашим врагом, а когда мы стараемся понять его, влезть в его шкуру. У Эсхила нет ненависти к персам – трагедия персов изложена с их точки зрения. Цезарь с немалым уважением относится к галлам, самое большее, что он себе позволяет, – заставляет их стенать всякий раз, как они сдаются; и Тацит восхищается германцами, даже находит прекрасно сложенными и ограничивается жалобами на их нечистоплотность и неспособность к тяжелым работам, потому что они не выносят холод и жажду.
Стараться понять другого – значит разрушать стереотипы, не отрицая и не уничтожая различий.
Но будем реалистами. Подобные формы понимания врага присущи поэтам, святым и предателям. Наши самые сокровенные позывы совсем другого порядка.
В 1968 году в США появился «Секретный доклад из «Железной горы» о возможности и желанности мира». Он был опубликован анонимно, хотя кое-кто приписывает его Гэлбрейту[43]. Речь, безусловно, идет об антивоенном памфлете или, во всяком случае, о вопле отчаяния в преддверии неизбежной войны. Но поскольку для того, чтобы вести войну, нужен враг, с которым можно воевать, неотвратимость войны подразумевает также неотвратимость выявления и сотворения врага. И в этом памфлете с предельной серьезностью замечалось, что воцарение прочного мира окажется губительным для американского общества, потому что одна лишь война служит основой для гармоничного развития человеческого общества. Заранее предусмотренные расходы и потери – это клапан, регулирующий правильное течение дел. Война решает проблему любых запасов, сметая их как маховое колесо. Она позволяет некоему сообществу осознать себя как «нацию». Война создает трудности, без которых правительство вообще не в состоянии было бы утвердить свой авторитет; только война закрепляет равновесие между классами и позволяет вовлекать и использовать даже антисоциальные элементы. Мир порождает нестабильность и подростковую преступность; война направляет в более приемлемое русло все непокорные силы, придавая им законный «статус». Армия – последняя надежда обездоленных и не нашедших своего места в жизни; только военная система, властная над жизнью и смертью, способна заставить граждан платить кровью даже за те программы, которые не имеют к ней прямого отношения, – такие как развитие сети автомобильных дорог. С экологической точки зрения, война представляет собой стравной клапан для избыточных жизней; и если вплоть до XIX века умирали лишь наиболее достойные члены общества (воины), а никчемные спасались, то современная военная машина позволяет справиться и с этой проблемой – путем бомбардировки гражданских объектов. Бомбардировка ограничивает прирост населения лучше ритуального детоубийства, целибата, насильственных увечий или широкого применения смертной казни… В конце концов, именно война дает толчок искусству по-настоящему «гуманистическому», основанному в первую очередь на конфликтных ситуациях.
Коли так, сотворять врага необходимо постоянно и интенсивно. Отличный образец тому дает Джордж Оруэлл в «1984»:
И вот из большого телекрана в стене вырвался отвратительный вой и скрежет – словно запустили какую-то чудовищную несмазанную машину. От этого звука вставали дыбом волосы и ломило зубы. Ненависть началась.
Как всегда, на экране появился враг народа Эммануэль Голдстейн. Зрители зашикали. Маленькая женщина с рыжеватыми волосами взвизгнула от страха и омерзения. Голдстейн, отступник и ренегат, когда-то, давным-давно <…> был одним из руководителей партии <…> а потом встал на путь контрреволюции, был приговорен к смертной казни и таинственным образом сбежал, исчез. <…> Первый изменник, главный осквернитель партийной чистоты. Из его теорий произрастали все дальнейшие преступления против партии, все вредительства, предательства, ереси, уклоны. Неведомо где он все еще жил и ковал крамолу <…>
Уинстону стало трудно дышать. Лицо Голдстейна всегда вызывало у него сложное и мучительное чувство. Сухое еврейское лицо в ореоле легких седых волос, козлиная бородка – умное лицо и вместе с тем необъяснимо отталкивающее; и было что-то сенильное в этом длинном хрящеватом носе с очками, съехавшими почти на самый кончик. Он напоминал овцу, и в голосе его слышалось блеяние. Как всегда, Голдстейн злобно обрушился на партийные доктрины <…> Требовал немедленного мира с Евразией, призывал к свободе слова, свободе печати, свободе собраний, свободе мысли; он истерически кричал, что революцию предали. <…>
Ненависть началась каких-нибудь тридцать секунд назад, а половина зрителей уже не могла сдержать яростных восклицаний. <…> Ко второй минуте ненависть перешла в исступление. Люди вскакивали с мест и кричали во все горло, чтобы заглушить непереносимый блеющий голос Голдстейна. Маленькая женщина с рыжеватыми волосами стала пунцовой и разевала рот, как рыба на суше. <…> Темноволосая девица позади Уинстона закричала: «Подлец! Подлец! Подлец!» – а потом схватила тяжелый словарь новояза и запустила им в телекран. Словарь угодил Голдстейну в нос и отлетел. Но голос был неистребим. В какой-то миг просветления Уинстон осознал, что сам кричит вместе с остальными и яростно лягает перекладину стула. Ужасным в двухминутке ненависти было не то, что ты должен разыгрывать роль, а то, что ты просто не мог остаться в стороне. <…> Словно от электрического разряда, нападали на все собрание гнусные корчи страха и мстительности, исступленное желание убивать, терзать, крушить лица молотом: люди гримасничали и вопили, превращались в сумасшедших[44].
Нет нужды достигать степени безумия, описанной в «1984», чтобы узнать в себе существо, которому необходимо сотворять врага. Мы видим, какой страх внушают новые миграционные потоки. Распространяя на целый этнос качества некоторых его маргинализированных представителей, в Италии сейчас творят образ врага-румына, идеального козла отпущения для общества, которое, находясь в процессе преобразования (этнического в том числе), не узнает больше самое себя.
Наиболее пессимистичный взгляд на эту тему демонстрирует Сартр в пьесе «За закрытыми дверями». С одной стороны, мы можем узнать самих себя только в присутствии Другого, и на этом базируются нормы человеческого общежития и терпимости. Но мы куда охотнее находим этого Другого невыносимым, потому что по какому-то параметру он – не мы. Так, превращая его во врага, мы творим себе ад на земле. Когда Сартр закрывает трех уже умерших людей, не знакомых между собой при жизни, в гостиничном номере, один из них понимает ужасающую истину:
Смотрите, как просто. Просто, как дважды два. Физической пытки нет, а все-таки мы в аду. И никто больше не придет. Никто. Мы навсегда останемся здесь, все вместе, одни. <…> Здесь не хватает только палача. <…> Они просто экономят на обслуживающем персонале. Вот и все. <…> Каждый из нас будет палачом для двоих других[45].
[Выступление в Болонском университете 15 мая 2008 года в рамках встреч, посвященных классикам, и ранее опубликованное в кн.: Elogio della politica / A cura di Ivano Dionigi. Milano: BUR, 2009.]
Абсолют и Относительность
Раз вы не испугались устрашающей темы моего выступления и собрались здесь сегодня вечером, значит, вы готовы ко всему, однако полноценная лекция о категориях Абсолюта и Относительности заняла бы две с половиной тысячи лет – ровно столько насчитывает история данного вопроса. В этом году тема «Миланезианы» – «Спор об Абсолюте», и, конечно, первым делом я задумался над значением этого понятия. Философ всегда должен начинать с самого простого.
Я пропустил остальные события «Миланезианы», поэтому для начала решил поискать в интернете, кто из художников обращался к Абсолюту: мне попались «Знание абсолюта» Магритта, еще несколько картин, чьи авторы не важны, среди них «Изображение абсолюта», «Поиск абсолюта», «В поисках Абсолюта», «Путник абсолюта», не обошлось и без рекламы – например, водки «Абсолют». Судя по всему, Абсолют – ходовой товар.
Понятие Абсолюта натолкнуло меня на мысль об одной из его противоположностей – понятии Относительности, которое вошло в обиход, когда высокопоставленные духовные лица, а с ними и светские мыслители ополчились на так называемый релятивизм – слово это впоследствии стало ругательным и применялось лишь в крайних случаях, что можно сравнить с «коммунизмом» в устах Берлускони. Сейчас я, наверно, должен был бы внести ясность, но вместо того запутаю вас еще больше и раскрою все многообразие значений этих двух категорий, которые в зависимости от обстоятельств и контекста воспринимаются совершенно по-разному, так что нельзя их использовать как бог на душу положит.
Согласно философским словарям, Абсолютом называется все, что ab solutus – ничем не связано и не ограничено, ни от чего не зависит, чьи смысл, первопричина и объяснение заключены в нем самом. То есть нечто сродни Богу, когда Он определяет себя: «Я есмь Сущий»[46] («Ego sum qui sum»), все остальное же второстепенно, в нем не заключена его собственная первопричина, и даже если оно и существует, то легко могло бы и не существовать или же прекратить свое существование завтра, что рано или поздно случится с Солнечной системой или с каждым из нас.
Будучи созданиями случайными и обреченными на смерть, мы отчаянно пытаемся уцепиться за что-то вечное – Абсолют. Этот Абсолют может быть трансцендентным, как библейское божество, или имманентным. Даже не затрагивая Спинозу или Бруно, мы вместе с философами-идеалистами становимся частью Абсолюта, поскольку Абсолют (например, по Шеллингу) – это нерасторжимое единство познающего субъекта и того, что раньше от субъекта отделялось, – природы или мира. В Абсолюте мы отождествляем себя с Богом, являемся частью чего-то еще не до конца оформившегося: процесса, развития, бесконечного роста и бесконечного самоопределения. Но если все устроено именно так, мы никогда не сможем ни охарактеризовать, ни познать Абсолют, ибо являемся его частью, и в попытке постичь его мы будем похожи на барона Мюнхгаузена, вытаскивавшего себя за волосы из болота.
Альтернативное решение – мыслить об Абсолюте как о чем-то, чем мы не являемся и что находится вне нас и независимо от нас, как Бог у Аристотеля, который мыслит самого себя и, как писал Джойс в романе «Портрет художника в юности», «остается внутри, или позади, или поверх, или вне своего создания, невидимый, утончившийся до небытия, равнодушно подпиливающий себе ногти»[47]. Еще в XV веке Николай Кузанский писал в трактате «De docta ignorantia»[48]: «Бог абсолютен».
Но для Кузанского Бог, как и Абсолют, никогда до конца не постижим. Связь между нашим сознанием и Богом та же, что и между вписанным многоугольником и кругом, в который он вписан: число сторон постепенно увеличивается, и многоугольник становится все ближе к кругу, но многоугольник и круг никогда не совпадут. Кузанский говорил, что Бог есть одновременно центр и окружность, он пребывает везде и нигде.
Можно ли представить себе круг, центр которого везде, а сам он нигде? Конечно, нельзя. Но можно сказать о нем, что я прямо сейчас и делаю, и каждый из вас понимает: я говорю о чем-то, связанном с геометрией, пускай непостижимом и недопустимом, с геометрической точки зрения. Получается, есть все же разница между способностью постичь что-то (или не постичь) и назвать, наделив неким смыслом.
Что значит использовать слово и наделять его смыслом? Вариантов несколько:
A. Владеть сводом правил, как распознать возможный объект, ситуацию, событие. К примеру, смысл слов «собака» или «споткнуться» включает в себя ряд пояснений, иногда замещенных визуальными образами, благодаря которым мы узнаем собаку и отличаем ее от кошки, отличаем понятие «споткнуться» от «подпрыгнуть».
Б. Располагать определением и / или классификацией. Существуют определения и классификации собак, также как и событий или ситуаций, например, «непреднамеренного убийства по неосторожности», отличного от «неумышленного убийства».
B. Знать по заданной величине другие свойства, так называемые «фактические» или «энциклопедические»