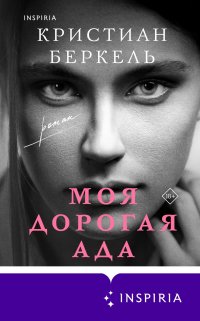Читать онлайн Яблоневое дерево бесплатно
- Все книги автора: Кристиан Беркель
Посвящается Андрее, Морицу и Бруно
Каждая судьба, как бы длинна и сложна она ни была, на самом деле заключается в одном-единственном мгновении; мгновении, когда человек раз и навсегда узнает, кто он.
Хорхе Луис Борхес
Christian Berkel
Der Apfelbaum
(The Appletree)
* * *
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
Copyright © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin.
Published in 2018 by Ullstein Verlag
© Сорокина Д., перевод на русский язык, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2021
* * *
Тишина.
Дерево с треском упало на землю. Мужчины снова запустили бензопилы. Вопль. Протяжный, пузырящийся визг, и пила вонзила зубы в следующую сосну. Я не осмелился повернуться. Сердце разрывалось на куски. Я слышал, как корни столетних гигантов медленно вырываются из земли, как они сдаются и падают.
Я сидел на столбе из красного кирпича у входа в наш новый дом. На противоположной стороне улицы утреннее солнце освещало ряды свежевыкрашенных заборных досок, за которыми тявкали собаки, – пригородная идиллия. За моей спиной, в высокой траве зачарованного сада, каким его представляет каждый ребенок, лежали восемь мертвых сосен. Восемь. Я считал. Осталось лишь маленькое, кривое деревце. Его они не тронут. Отец пообещал мне. Я осторожно повернулся в гнетущей тишине.
Потерял равновесие. Покачнулся от испуга. И резко дернулся в противоположную сторону. Еще падая, пролетая в воздухе, прежде чем моя шестилетняя голова ударилась о каменную плиту, я смотрел на ее скромную красоту. Солнце пробивалось сквозь листву, блестели плоды. Она стояла на месте. Одна. Совсем не растерянная. Упрямая. Моя яблоня.
1
– Что, снова к матери?
Какое до этого дело продавщице цветов? К тому же в ее голосе слышался неприкрытый упрек. Что ей известно? Здесь, в Шпандау, все друг друга знают. Невыносимо. Я быстро заплатил и вышел из магазина.
С букетом в руках я свернул в узкий проход между домами. Тогда эти обувные коробки ставили хотя бы возле газонов. Родители сняли здесь квартиру после того, как продали дом во Фронау, чтобы проводить большую часть года в Испании. Таким образом отец исполнил обещание, данное матери десятки лет назад, в пятидесятых, когда она вернулась из Аргентины в Германию и почувствовала себя не в своей тарелке. Германия перестала быть ее отечеством – и не могла им быть.
– Заходи скорее.
Моя мать стояла в дверях в халате. Она затащила меня в коридор, прежде чем я успел вручить цветы. С последнего посещения прошло несколько недель. Зарядили осенние дожди и снег. Похолодало.
– Я должна тебе кое-что рассказать.
Мы зашли в маленькую гостиную, и она повернулась, высоко подняв голову.
– Я вышла замуж.
Над домом прогудел самолет. Мой отец умер девять лет назад, 24 декабря 2001 года.
– Почему ты мне ничего не сказала? – спросил я.
Она пристально посмотрела на меня, немного подождала.
– Не беспокойся, он уже умер.
– Что… но…
– Проблемы с печенью.
– А.
– Да, как у твоего отца, тот тоже умер из-за печени, но на войне. Вдруг упал – и все. И Карл так же. Он знал твоего отца с войны. Они вместе были в русском лагере.
– Что… Кто умер в России?
– Ну, твой отец.
– Нет.
– Нет? – Она недоверчиво улыбнулась. – Уж мне-то виднее; в конце концов, он был моим мужем, хотя из-за Адольфа пожениться нам не удалось.
– Нет, он не мог умереть во время войны, иначе не родился бы я… Или он не был моим отцом.
– Конечно, он был твоим отцом. Еще не хватало! Как это понимать? Что за бредовые идеи?
– Ну, я родился в 1957-м, а значит, упасть и тем более умереть во время войны он никак не мог: он зачал меня через двенадцать лет после ее окончания…
Она сердито на меня посмотрела.
– У тебя котелок совсем не варит? Просто умора! Но послушай, Карл оставил мне очень много денег – понимаешь ли, он хотел убедиться, что я буду обеспечена, а поскольку он постоянно ругался из-за меня со своей родней…
– Почему?
– Ну, он же из Бенцев.
Она умолкла и многозначительно на меня посмотрела.
– Бенцев?
– Да. Даймлер Бенц.
В ее устах имя прозвучало, как восьмицилиндровый автомобиль.
– И почему он ругался из-за тебя с семьей?
– Иногда ты правда туго соображаешь. Почему-почему? Они боялись охотниц за наследством. К тому же Карл был гораздо моложе меня. Это тебе в голову не пришло?
– Сколько же ему было лет?
– Точно уже не скажу. Сорок семь? Ты ведь знаешь, меня иногда подводит память? А может, сорок шесть, в общем, около пятидесяти… Да.
– Но я думал, он вместе с папой отбывал заключение в России?
– Да, я же сказала. Ты меня опять не слушал?
– Нет, просто тогда ему не могло быть около пятидесяти… Если он был с папой в русском лагере.
Я надеялся, она одумается, хотя было заранее ясно: это невозможно. Противоречия не смущали ее и раньше. Но все же я попытался.
– Ведь тогда он должен был быть примерно твоего возраста.
– Но не был. Он был моложе меня на тридцать лет. Точка. Короче, слушай – он оставил на моем счете два миллиона евро. А поскольку мне деньги не нужны, я решила подарить их тебе и твоей сестре.
Она посмотрела на меня с довольным, сияющим видом.
– О, очень мило с твоей стороны, но почему ты не хочешь оставить их себе?
– Зачем? У меня достаточно денег, и жить слишком долго я не собираюсь. Я уже все видела и не хочу скучать. И прежде чем мы отправимся в банк за деньгами, я хочу заехать в «Интерконтиненталь».
Я вопросительно посмотрел на нее.
– Ну, там мы с Карлом праздновали свадьбу, и на следующее утро я забыла свадебное платье – пря-я-ямо там. Возможно, оно так и висит в шкафу. Хочу забрать его.
Я пришел с исписанным блокнотом, сел перед матерью и собирался расспросить ее об отце – а она рассказывала о своей свадьбе с Карлом Бенцем.
Я понимал: время, которое я ищу, еще не кануло в забытье. Оно растворялось у меня на глазах. Оставались лишь осколки ее жизни. Отдельные сюжеты повторялись в разных вариациях, соединяясь по-новому, словно картинку разрезали на части, несколько потеряли, а из остальных собрали новое целое. Будто создали в забытьи новую душу.
И мой отец, с которым она прожила всю жизнь – с тринадцати лет, – мой отец исчез, погиб на войне много лет назад, и его заменил Карл Бенц.
С марта 1945-го до конца 1950-го мой отец был в русском плену. Возможно, годы разлуки преобразились для нее в смерть? Потому что тогда она поверила, что потеряла его, начала принимать его гибель, как многие женщины того времени, и эта смерть долго оставалась частью ее реальности. Возможно, ее иссякающая память снова вернулась туда?
Мы дошли до филиала банка всего за несколько минут. Моя мать целеустремленно направилась к консультанту. Она опустила на стойку свою большую пустую сумку.
– Добрый день, не могли бы вы озвучить сумму на моем счете? Сала Ноль, – сказала она степенным, почти торжественным тоном. После смерти отца она вернула девичью фамилию.
– Конечно, госпожа.
Сотрудник банка вежливо кивнул. Она заговорщически мне улыбнулась. На короткое мгновение я засомневался. Это ведь невозможно. Или?
– 3766 евро и 88 центов, сударыня.
Она ненадолго подняла взгляд.
– Нет, я про другой счет.
Похоже, консультант ее не понял. Мама повернулась ко мне и со вздохом покачала головой, словно извинялась за непрофессионализм сотрудника: ему еще следует многому научиться, но она великодушно закрывает на его промах глаза.
– Простите, но в нашем банке у вас только один счет.
– Вот как?
Она неуверенно кивнула, и с ее лица схлынула краска.
– Хорошо, тогда я вернусь завтра, когда будет ваш начальник.
Бедный мужчина вопросительно на меня посмотрел.
– Будем рады, госпожа.
Я осторожно вывел ее прочь.
На улице она прошла несколько шагов и остановилась. Изумленно посмотрела на меня.
– Не могла же я все это придумать.
Я говорил с врачами, добросовестно и старательно описывал все симптомы, самые ранние признаки расстройства и выяснил то, что знал с самого начала. Мне оставалось лишь сопровождать маму на неизбежном пути к тоннелю, чтобы потом, шаг за шагом, отпустить ее во тьму забытья. Психиатр посоветовал посещать ее как можно чаще. Регулярные беседы и общение могли замедлить течение болезни. Визиты давались мне тяжело. Они продолжались, пока у меня получалось проникнуть в ее мир. Чаще всего мне удавалось выстроить четкую картину, когда я оставался наедине с собой и ее голосом.
Некоторые помнят вкус печенья, которое их мама ставила на стол по воскресеньям, особую еду, любимое блюдо, аромат которого неизменно открывает дверь в закрытую комнату детства. Другие вспоминают запах материнских духов, ее объятия, как она сидела возле их кровати во время болезни, ее походку, движения, силуэт ее спины, когда она выключала свет и выходила из комнаты, поцелуй, который помогал справляться со страхом засыпания, ее улыбку и слезы сочувствия или просто тихое, обнадеживающее присутствие. Я же вспоминаю ее слова. Слова, которые превращались в мои собственные образы. В пол, стены, окна и двери моего мира. В детстве для меня не было ничего страшнее ее молчания. А теперь? Она медленно погружается в мир, где нет общего языка?
Психиатр объяснил мне, что связь с реальностью сохраняется даже в бреду, но распознать ее непросто.
– Когда на утреннем обходе параноик рассказывает, что санитар всю ночь истязал его электромагнитным излучением, можно предположить, что накануне вечером санитар отнесся к пациенту не слишком дружелюбно.
Но, судя по описаниям, с мамой все было не настолько плохо. Я спросил о ее диагнозе. Он улыбнулся и пожал плечами.
– Вам поможет ярлык?
Настаивать я не стал. К чему мне слово, значения которого я не знаю? При прощании он положил руку мне на плечо. На мгновение мне показалось, что мы знакомы уже целую вечность.
– Не теряйте мужества.
Дома я принялся искать в фотоальбомах следы ее старой жизни. Начал записывать наши разговоры. Я слушал и слушал ее рассказы, и первоначальный ужас сменился более спокойным любопытством. При этом я чувствовал себя скрытым наблюдателем, незваным гостем. В этих рассказах содержалась эссенция ее жизни, монета, летящая в бездонный темный колодец. Мог ли я отыскать в ее забвении частицы воспоминаний? В какой сумрачный подвал она меня привела? И что скрывалось на обратной стороне медали? Возможно, отпечатки прошлых переживаний наложились на еще более глубинные слои воспоминаний и создали новую реальность? Некоторые пробелы в истории моей семьи навсегда канут в лету? Может, официальная версия нашей истории – лишь прирученные воспоминания, интерпретация с вычеркиваниями и дополнениями, и мы пытаемся сформировать из фрагментов цельную идентичность? Посещая мать, я задавался все новыми вопросами, погружался все глубже. Чем в более далеком прошлом разворачивались события, тем лучше, казалось, она их помнила. Передо мной возникла призрачная история родителей, магическим образом проявившись в утраченном времени.
Я стоял перед ее дверью в Шпандау. Позвонил в звонок и беспокойно ждал. Давящая тишина. Здесь все казалось серым и грязным, хотя везде тщательно убирались. Воздух был влажным, на горизонте собрались грозовые тучи. А если никто не откроет? Вдруг она умерла? Может, лежит мертвая в коридоре или растянулась на ламинате в гостиной. Я позвонил еще раз. Иногда она просто громко слушала музыку или отключала звонок, если хотела покоя. Я уже собрался доставать мобильный, когда услышал ее шаги. Она никогда не была спортивной. В летние каникулы в моем детстве она целыми днями сидела на берегу под зонтиком и смотрела на море. Тогда ее тело было тяжелым и тучным. Я не знал почему. Я стыдился, когда смотрел на нее, мне хотелось красивую, привлекательную маму, чтобы мне все завидовали, элегантно одетую, с длинными темными волосами, как на фотографиях ее молодости. Но она много лет подряд ела уйму сладостей, готова была умереть за масляные соусы и, как я потом узнал, поплатилась за свою несдержанность повышенным сахаром крови. Диагноз звучал как «диабет 2-го типа», и уже несколько лет ей приходилось трижды в день вкалывать себе инсулин. Одна из ее худших привычек, причуда, которая раздражала и преследовала меня все детство, – постоянная смена париков, обязательного атрибута самоуверенной женщины шестидесятых, как говорилось тогда в рекламе. Однажды я раньше времени вернулся из детского сада, и мне открыла чужая женщина с ярко-красными волосами цвета входной двери. Я изумленно уставился на нее. Кто это? Неужели моя мать? Может, я ошибся дверью или родители больше здесь не живут? И что мне тогда делать? И лишь услышав ее голос, я смог вернуться в реальность.
За дверью прозвучало мое имя. Ее голос был все таким же пронзительным. Боязливым и резким, если она спешила или не знала, кто стоит за дверью, мрачным и тихим, когда она злилась, звонким и мелодичным, когда рассказывала одну из своих многочисленных историй. Дверь распахнулась. В старости мать снова обрела свою красоту. Она стояла передо мной в темных брюках и бледно-фиолетовом комплекте из джемпера и жакета, хрупкая и ранимая. Она снова начала следить за своим гардеробом. Я поздоровался, поцеловал ее в правую и левую щеки. И внезапно почувствовал потребность ее обнять. Неуверенно положил руку ей на плечо. Она вздрогнула от моего прикосновения или просто застыла? Отшатнулась? Мое прикосновение ей неприятно?
Уже в гостиной она склонилась над журнальным столиком. Расправила маленькую прямоугольную скатерть. За столиком, у стены, стоял широкий, обитый золотым бархатом диван. Его изогнутые ножки из красного дерева сужались книзу, к чуть мелковатым позолоченным лапам. «Ампир из имущества дворца», – доверительным тоном сообщала она каждому гостю. И не вдавалась в подробности. Мама путала правду и вымысел. Иногда она ограничивалась намеком, иногда давала волю необузданной фантазии. Она упоминала, что черный столик – новодел, но лишь для того, чтобы подчеркнуть свою осведомленность в подобных вопросах. «Но он вполне неплох», – уверенно добавляла она. И спорить с ней решался только глупец. Ее двухкомнатная квартира была тесно заставлена. Здесь было ее pied-à-terre[1] с тех пор, как они с отцом покинули Берлин, чтобы провести последние двадцать лет совместной жизни в белом доме на фоне чужеземного лунного пейзажа. Они попытались сбежать от воспоминаний в национальный парк Кабо-де-Гата, к мысу Кошки. Справа от террасы простирался широкий пустынный ландшафт, снизу сверкало или буйствовало море. Пустыня у моря.
Она села на кресло рядом с диваном. Я снова принес диктофон. За последние годы у меня постепенно созрел план – написать книгу про нее, про нашу семью, про ее отношения с моим отцом. Сперва он приблизился ко мне, подобно бродячему псу, потом тщательно обнюхал, оставил свою метку и вскоре отвернулся. Да, сначала я чувствовал себя так, словно кто-то помочился мне на ногу. Друзья и знакомые подбивали меня написать эту историю. И каждый находил свои аргументы. Они основывались на определенных фрагментах, эпизодах, рассказанных всем по-разному.
Для меня эти истории оставались чужими, но все-таки не вполне чужими. Многочисленные пробелы вызывали вопросы, которые я задавать не решался. У любого семейного романа вырабатывается своя грамматика, развивается своя система знаков, свой синтаксис, и для причастных людей он нередко становится непонятнее, чем для посторонних. Вблизи многого не разглядеть. Корневая система дерева столь же обширна и велика, как и крона. Мы пускаем корни в сокровенные тайны, растем и распространяемся под землей. Плоды – спелые или гнилые, живые или мертвые – следствие того, что нам не дано увидеть в природе и не позволено видеть в семье. Табу. Каждый ребенок узнает его с уверенностью лунатика.
Я вгляделся в ее лицо. Она собрала тонкие седые волосы в маленький тугой пучок на затылке. Двадцать лет в Испании пошли ей на пользу. Ее депрессия выцвела на солнце, она похудела и выбросила парики в море. Освобождение, вернувшее мне мать, которую я почти никогда не видел. Она напоминала далекую и нежную девочку с фотографии 1932 года. В тринадцать лет у нее были темно-каштановые волосы и печальный серьезный взгляд. А теперь она сидела передо мной в девяносто один – изогнутый нос на сморщенном лице и большие руки, которые продолжают с любопытством за все хвататься. Вновь постройневшее с возрастом тело по-прежнему напряжено.
Сладковатый запах старости проник мне в ноздри. В прихожей висел на крючке желтый берет отца. Он носил его перед смертью. С тех пор прошло четыре года. Когда я увидел его головной убор, в воздухе снова возник его запах, словно отец не окончательно покинул комнату, словно может в любой момент снять берет с крючка и молча отправиться в очередную долгую прогулку. Мать проследила за моим взглядом.
– Твой отец мне совершенно не подходил.
Я ненадолго потерял дар речи. Поразительное заявление: ведь эти люди, с несколькими перерывами, провели друг с другом почти всю жизнь.
– Значит, был кто-то еще?
– Вообще-то нет.
– Никогда?
– Сказала же, нет.
Я знал другие истории из других времен, но сейчас открылся иной пласт. Она не сводила взгляда с желтого берета.
– Мой отец подцепил его в зоопарке. А потом, в прекрасный и солнечный воскресный день, он появился у нашей двери. В сапогах со шпорами. Я сразу поняла – ему не по себе. Этот костюм. Нет. Ну просто умо-о-ора.
Она умолкла.
– Ты сразу в него влюбилась?
– Я?
– Да.
Она осторожно покачала головой.
– Знаешь, я уже точно не помню, но вполне возможно.
– И тебе тогда было…
– Тринадцать.
– А ему?
– Семнадцать.
Ее голова наклонилась чуть вперед, словно она задремала. Но вскоре мама заговорила вновь, прикрыв глаза:
– Посмотрим, во сколько он сегодня вернется. Такая наглость – он просто исчезает и даже не думает предупредить, куда идет и когда собирается вернуться. И так всю жизнь. Немы-ы-ыслимо.
2
В мае 1915-го, в сражении при Горлице-Тарнов[2], цирюльник Отто Джоос погиб от выстрела в грудь, пытаясь прорваться со штыком сквозь линию обороны врага.
В одном из дворов Кройцберга, в квартире на первом этаже, его жена Анна родила с помощью подоспевшей соседки мальчика на глазах у маленькой дочки Эрны. Ребенок был маленьким и весил ровно три килограмма, но при этом произвел на всех невероятно сильное впечатление. Роды длились двадцать минут.
– Бедолажка, сиротинушка! – покачала головой соседка.
– Следи за языком. Пусть ребенок слышит правильную речь.
Анна дала младенцу грудь. Она старалась говорить как можно четче и правильнее, но потом изумленно скривила лицо.
– Ого. Сильная хватка.
– Господи, Анна, что ты будешь делать? Еще один рот.
Анна не слушала. Она смотрела на новорожденного сына.
– Как жаль бедного Отто. Как же так, они умирают у тебя один за другим. Такое горе.
– Госпожа Кацуппке, вы можете идти, дальше Эрна справится.
Дверь захлопнулась. Госпожа Кацуппке еще несколько раз покачала круглой головой и вытерла окровавленные руки о замызганный передник. Она помогла родиться уже нескольким соседским детишкам, а некоторых отправила к ангелам. Она знала жизнь и знала, что с этим мальчиком появилась на свет еще одна проблема.
Эрна подкралась на тоненьких ножках к матери. И осторожно приподняла острое личико, заглядывая через плечо.
– Милый, – сухо сказала она. – Как мы его назовем?
– Отто. Как его папу.
Эрна кивнула.
Несколько недель спустя в церкви Анна познакомилась с безработным каменщиком Карлом. Она знакомилась на церковной скамье и с предыдущими мужчинами. Не самое худшее место. Тот, кто приходил сюда, искал размышлений, переосмысления или утешения для измученной души. После службы было легко завести разговор. Непринужденную беседу. Или нечто большее. Тот, кто приходил в церковь, чтобы услышать голос Бога, был готов открыться. И, скорее всего, был неплохим человеком, раз верил в нечто высшее – а высшее значило для Анны очень много.
Карл был статным мужчиной. Но жизнь сыграла с ним злую шутку, это Анна поняла сразу. Широкие плечи и обиженное сердце в гордой груди – подобные контрасты ее притягивали. Она видела в нем вполне многообещающую обитель, несмотря на необходимость капитального ремонта. У таких мужчин было преимущество: конкурентки редко замечали их потенциал – во всяком случае, не так быстро, как Анна. Из ее первого мужа Вильгельма, Вилли, точно что-нибудь да получилось бы. Он не слишком любил работать, но подобные вещи Анну не смущали. «Враг нас не напугает», – говорила она на своем прекрасном немецком. Сама она не боялась никакой работы и не отступала ни перед чем, если дело касалось семьи, уютного дома для мужа и детей. Раз в день она кормила всех горячей едой, хотя в гороховом супе нередко недоставало жира, потому что в нем плавало совсем мало колбасы, и всегда выдавала всем бутерброды на работу или в школу. Анна была бедна и изобретательна. Она никого и ничего не боялась, даже авторитетов. Пуская в ход остроумие, она очаровательно и коварно обводила богатеев вокруг пальца. У нее была репутация отличной уборщицы – быстрой, аккуратной, надежной. Ей часто давали больше оговоренной суммы: какое-нибудь украшение, поношенное платье, ненужную кухонную утварь или старую мебель. Хозяевам нравилась любознательная молодая женщина, которая восхищалась красотой обстановки и не задавалась вопросом, почему она не может жить так же. Анна редко оставляла подарки себе. Чаще всего она быстро находила покупателя и откладывала вырученные деньги на черный день. Она была дальновидна.
К Вилли предъявлялись завышенные требования. Он отдалялся все сильнее, начал пить, не приходил ночами домой и в итоге повесился звездной ночью на суке гнилого дерева в лесу Тегелер Форст. Ветка сломалась под тяжестью его тела, проломив череп. Он был отцом старшей дочери Анны, семилетней Эрны. Анна любила Эрну, но ей хватало ума видеть в девочке маленькую пройдоху и держать ухо востро. К сожалению, на верхних этажах их дома – их квартира была на первом – жили девицы легкого поведения. Когда усталая Анна возвращалась с работы домой, мимо ее окон шли вереницы распаленных похотью вечерних посетителей. Толстые, худые, старые, молодые, красивые, уродливые – из хороших, лучших, плохих кругов. Некоторые стучали в ее окно, звонили в дверь – хоть Анна и не была молодой и красивой, многие мужчины считали ее «привлекательной». Но Анна не продавалась. Она не осуждала других девушек, но имела гордость и скорее умерла бы с голоду, чем отдалась за несколько марок одному из этих парней. «Гордость – единственное достояние бедной женщины, если продашься, у тебя не останется ничего». Но отец Эрны, Вилли, был слаб. И тут не мог помочь сам Господь.
Похоронив его, Анна познакомилась в церкви с Отто. Внешне он был полной противоположностью Вилли. Маленький, даже хрупкий, с узкими плечами, пухлыми губами и лихими усами, за которыми он тщательно ухаживал. Отто был парикмахером. Он не пил, не распутничал, имел неплохие накопления, был сообразителен и прилежен, хоть и не особо тщеславен. С этим можно было работать. Вскоре Анна внушила ему идею стать цирюльником. Цирюльники лучше зарабатывают и могут проводить операции, как настоящие врачи, – вырывать гнилые зубы, вскрывать абсцессы. Тогда, объединив усилия, они точно скоро смогут уехать из квартиры на первом этаже, подальше от влияния дурного общества – имелись в виду скорее кавалеры, нежели проститутки. Они тревожили Анну. Не из-за себя – она умела добиваться уважения, – а из-за маленькой Эрны. Анна знала: среди мужчин, собиравшихся у нее во дворе незадолго до темноты, были извращенцы, которые уже через два-три года с огромным удовольствием протянут грязные лапы к маленькой Эрне.
Отто быстро овладел новой профессией. Он был одаренным и при лучших условиях мог бы стать настоящим врачом-хирургом. Возможно, с помощью Анны он со временем достиг бы и этих высот, но потом наступила война, четыре года жестокости, и Отто, как и многие ровесники, погиб за Родину – за три месяца до того, как стал отцом. Он был большой любовью Анны, и поэтому она назвала сына его именем.
Отчиму Отто, Карлу, не слишком нравился мальчик. Он ревниво замечал каждый жест, малейшее внимание Анны к сыну. После рождения общей дочери, Ингеборги, все стало только хуже. Теперь у Карла наконец появился родной ребенок. Озорники, как он называл Эрну и Отто, стали обузой. Он не понимал, почему должен гнуть спину ради чужого отродья. Карл никак не проявил себя на войне, это время наградило его лишь тяжелыми травмами: внезапными паническими атаками, которые он заливал алкоголем. Шаг за шагом война переместилась внутрь него. То, что Карл не пропивал, он спускал на игры, надеясь вернуть потерянные деньги. Со стройки он вылетел, распрощавшись с мечтой стать бригадиром. Стал браться за разные подработки, в основном на фабрике. Но без обучения оставался лишь подсобным рабочим, никем. И, возможно, искал на дне бутылки водки потерянную гордость. По субботам он получал конверт с зарплатой и пропивал большую часть в тот же вечер. Потом, шатаясь, брел домой и избивал всех до полусмерти. Кроме своей маленькой Инге.
Анна не могла с ним справиться. Она знала, что должна обезопасить Отто и Эрну. Работодательница рассказала ей о пригородных детских лагерях. Поскольку Отто и Эрна производили неблагополучное впечатление голодных детей, ей быстро удалось найти места для обоих. Отто поехал к своей семье в Верхнюю Силезию, а Эрну отправили в Рурскую область.
Анна тяжело расставалась с детьми, но не знала, как поступить иначе. Эрна начала сбегать из дома, а маленький Отто трясся от страха, едва завидев своего отчима Карла. Казалось, переселение выгодно обеим сторонам. Дети окажутся в безопасности, а временные родители получат от государства дополнительные средства. Расставание продлилось меньше года. Оно стало передышкой для Эрны и адом для Отто, который угодил из огня да в полымя.
В пять часов утра его поднимала толстыми руками еще полупьяная Ирмгард, вытаскивала за дверь на пронизывающий холод, опускала в чан с ледяной водой и закрывала крышку, пока мальчик не начинал задыхаться. Каждый раз она снисходительно смеялась над его барахтаньем. Отто быстро понял, что крышку не поднимут, пока он не перестанет дергаться. Кроме того, он заметил – между крышкой и поверхностью воды есть маленькая щель. Он осторожно поднимал губы над водой и вдыхал воздух, пока Ирмгард не поднимала крышку обратно, чтобы вытащить мальчика из воды – как она думала, в последнюю секунду.
Отто начал писать и какать в кровать. Тогда приемный отец хватал его за шиворот и, бранясь, заставлял есть «грязь». Если Отто отказывался, мужчина бил его обкаканными штанами по лицу. И бормотал, что отучит мальчишку от пустых отговорок. Отто больше не заикался, он вообще перестал говорить. Потом мальчик начал отказываться от еды. «Раз не хочешь, значит, не голодный», – невозмутимо комментировала Ирмгард его поведение.
Одиннадцать месяцев спустя Анна едва спасла сына от голодной смерти. Она забрала обоих детей обратно в Берлин. Там она ввела железные правила. Если Карл поднимал руку на кого-то из детей, она била мужа метлой или отказывала ему в близости несколько ночей кряду.
В школе Отто был самым маленьким и слабым. Одноклассники заняли место отца, избивая его до полусмерти. Однажды, в очередной раз подняв перепачканное кровью и слезами лицо над провонявшей мочой раковиной школьного туалета, Отто посмотрелся в зеркало и понял: что-то должно измениться. Он стащил ночью со стройки несколько тяжелых кирпичей и железную жердь. Проделал в кирпичах дыры, подпилил железку и сделал штангу. Во дворе стояли небольшие железные стропила. Женщины вешали на перекладину дешевые ковры и выбивали их камышовыми палками. Анна поручала эту работу Карлу: «Тебе все равно делать нечего». О любви речи больше не шло. Когда он ложился на нее, она раздвигала ноги и быстро громко стонала, чтобы ему угодить. Вскоре Карл понял, что палкой для ковра можно обрабатывать и задницы членов его неудачной семьи.
Теперь Отто каждое утро вставал на два часа раньше, крался мимо храпящего отчима, который чаще всего ночевал на диване в гостиной, обливался ледяной водой, со злостью вспоминая мучительницу Ирмгард, надевал трусы и майку, доставал из погреба штангу и выходил во двор тренироваться. Поначалу ему едва удавалось поднимать собственный вес, подтягиваясь на перекладине, или отжиматься больше трех раз. Но Отто знал: если сдаться сейчас, он пропадет на всю жизнь. Урок был ясен и прост: ты получаешь побои или раздаешь их сам. Отто еще сомневался, хочет ли он их раздавать, но твердо знал, что бить себя больше не позволит. Через несколько недель кирпичи стали слишком легкими. Он стащил из-под кровати у спящего отчима два полных ящика пива, прикрепил их к штанге канатом и постепенно повысил вес до четырех ящиков по тридцать бутылок. Анна видела из окна, как сын поднимает тяжести. Она все поняла. Если оставалась лишняя картофелина или даже бутерброд с маслом, она откладывала их для Отто. Полгода спустя Отто был все таким же маленьким, но вырос из всех своих вещей. Благодаря мускулам он спокойно преодолевал дорогу до школы, которая так долго была для него путем на Голгофу.
Пауль Мейстер, заклятый враг Отто, которого все благоговейно называли Пауле, не блистал особым умом, но кулаками размахивал быстрее, чем зубрилы рассказывали таблицу умножения. Он валил на землю любого, кто противился его воле. А поскольку разговаривать ему было непросто, своей шайкой он командовал с помощью взглядов.
Был декабрь, утро понедельника. На гравии школьного двора лежал холодный иней. На первой большой перемене Пауле царственными жестами делил мальчиков на две команды для игры в футбол. Отто спокойно стоял в углу. Он аккуратно развернул бутерброд, который дала ему мать. Перепачканный грязью мяч прилетел прямо в лицо. Пауле бил метко. Его свита завыла от восторга.
– Дурачок Отто наделал в штанишки, – закричал худой прыщавый парень.
– Тряпка Отто набивает брюхо бутербродами, – вторил ему рыжий мальчик, стоящий за спиной у Пауле. Толстый, с растопыренными руками, словно кто-то забрал у него костыли.
Пауле уверенно и гордо зашагал в сторону Отто. Остановился. И коротким взглядом приказал тому занять место в команде. Потом все произошло очень быстро. Отто ударил его правой рукой в бок, в печень. Пока Пауле задыхался, левая рука Отто угодила ему в лицо – сначала кулаком, потом локтем и разбила ему нос и скулу. Когда Отто лежал на нем сверху и возил лицом по гравию, как старую тряпку, Пауле уже точно не помнил, успел ли он что-то сказать, прежде чем выбить у Отто из руки бутерброд.
Свита, онемев, отступила назад. Надеясь на помощь, Пауле повернул к ним окровавленное лицо. Никто ничего не сделал. Все с благоговением смотрели на Отто. Он стал новым королем. И равнодушно покинул поле боя.
Когда все разошлись, с другой стороны школьного двора к нему подошел мальчик постарше. Он протянул Отто руку.
– Роланд.
Отто молча на него посмотрел. Он знал об учениках предпоследнего класса лишь понаслышке. Таких людей он всегда старался обходить стороной. Они все равно не обращали на него никакого внимания. И теперь он впервые посмотрел старшекласснику в глаза. Молочно-бледные, отметил он. Роланд был ненамного выше его. Его узловатые пальцы висели свободно, но тело было слегка напряжено, особым образом повернуто, ноги стояли расслабленно, но в позиции. Борец. Отто понял сразу. И пожал руку.
3
– Это Отто.
Они стояли посреди старого спортивного зала. Пахло потом. На матах занимались юноши, в большинстве своем старше и сильнее Отто. На них были черные, обтягивающие костюмы с короткими штанинами. Их тела беззвучно сталкивались. Периодически кто-то резко выдыхал воздух из легких, чтобы, пыхтя, высвободиться из хватки или обхватить соперника руками и ногами.
Мужчине, которого все называли шефом, было на вид около двадцати. Он твердо и холодно посмотрел на Отто из-под низкого лба, словно хотел добиться какого-то признания. Отто не отвел взгляда.
– Новичок?
Отто кивнул. Шеф жестом указал на дверь с противоположной стороны.
– Иди в раздевалку и выбери трико.
После этого он снова повернулся к борцам, больше не удостоив мальчика ни единым взглядом. Уходя, Отто наблюдал, как он мягко, но твердо раздает указания, периодически корректируя захваты и демонстрируя позиции.
Следующие недели Отто регулярно тренировался с Роландом в бойцовской секции «Спортклуб Лурих 02». Шеф смотрел лишь издалека, новички его не интересовали. Периодически Отто слышал его тихий жесткий голос, подходящий скорее человеку лет пятидесяти. Для молодежи он был старшим братом, умелым старым воякой, который, как и многие из его поколения, имел пристрастие к выпивке. Его прищуренные глаза напоминали бойницы, и он весь походил на покинутую крепость. Настоящим учителем для Отто стал Роланд. Он показал мальчику все приемы и хитрости. Отто становился все сильнее. После тренировки он проваливался дома в глубокий счастливый сон. И познавал все новые возможности собственного тела. Его сила росла день ото дня, и он знал, как ее правильно использовать. Он научился побеждать, быстро опрокидывать соперника и прижимать его обоими плечами к мату на протяжении трех секунд. Правила были простыми – бросать, швырять, укладывать. Нужно уронить противника, чтобы как можно скорее положить его на лопатки. Коронным приемом Отто стал бросок обратным захватом бедра. Он хватал противника за ноги и моментально поднимал его в воздух. Вскоре он хорошо освоил обманные приемы и проявлял удивительную фантазию, когда нужно было выяснить сильные и слабые стороны противника и воспользоваться ими. Он все больше наслаждался своим новым телом.
Дома отчим наблюдал за переменами в мальчике, словно уставший вожак. Однажды он поднял на Отто руку. И замер в этой позе, словно почувствовав приступ внезапной боли. Потом, тяжело дыша, отвернулся. Это случилось вскоре после ужина. Жуткую сцену видели все. Карл ушел или ускользнула лишь его тень? Только Отто видел, как слегка задрожали его ресницы.
Мир – а скорее, лишь перемирие – продлился недолго. Однажды вечером, когда изнуренный, но счастливый Отто вернулся домой и закрыл за собой дверь, его встретил тяжелый удар – из-за темноты отчим лишь слегка промахнулся мимо затылка мальчика. Резко дернув головой, Отто беззвучно опустился на пол. Карл замахнулся кухонным стулом, чтобы завершить начатое, когда его тело пронзила жгучая боль. Скуля, словно побитый зверь, он в ужасе выполз из коридора. Анна с поразительным спокойствием положила в печь раскаленную кочергу и осмотрела сына. Обработала ушибы и уложила его в постель. Остудила ледяной водой горячий лоб. Напоив его по глоточкам теплым молоком с медом, она посмотрела на него долгим взглядом. Он взял ее за руку.
– Не бойся, мама. Я могу трудиться до упаду. Всегда найду, где заработать. И смогу нас всех прокормить. Я разношу в четыре утра брикеты, но теперь у меня новая задумка. И тогда ты сможешь перевести дух. Ты не должна вечно на всех батрачить.
Анна с гордостью смотрела на своего единственного сына. Ему уже исполнилось тринадцать, и теперь он брился каждое утро. Она видела глаза и подбородок его отца, она видела своего погибшего мужа.
Странные времена. Они голодали в войну. Некоторые сыновья умерли прежде родителей, а другие родились уже после гибели своих отцов.
– Отто, – она взяла его за руку, – избавляйся от берлинского диалекта. Твой отец никогда на нем не говорил. Он был хорошим человеком. Он был цирюльником, брил и оперировал состоятельных людей. Когда за окном темно, мальчики должны спать. Если хочешь многого добиться, нужно сидеть и прилежно учиться, а не тягать брикеты.
Он любил руки матери. Зря она вышла замуж на этого типа. Отчиму Отто не доверял.
– Я слажу.
– Справлюсь, – улыбнулась она.
– Справлюсь.
– И мой голову, а то облысеешь, как отец.
– Не, мама, об мои волосы расчески сламываются, такие они густые.
– Ломаются, – поправила она.
– Ломаются.
4
– Чего надо?
Грубый мужчина осмотрел Отто с головы до ног.
– Уголь, – ответил Отто. Он спокойно выдержал испытующий взгляд.
– Носить или паковать? – мужчине было максимум лет двадцать пять, но выглядел он на пятьдесят. Черные лицо и ладони, широкие плечи, сильные руки. Его кожа была неровной и рябой, словно старый кожаный фартук. Отто пригляделся. Он откуда-то знал этого человека.
– И то и другое, – ответил Отто, широко расставив ноги.
Мужчина посмотрел на него. Потом коротко присвистнул.
– Пошли, пацан, посмотрим, работаешь ли ты так же хорошо, как болтаешь. Большинство из приходящих сюда молодцы на словах, а на деле никуда не годятся.
– Я не боюсь работы.
Откуда он знает этот голос? Отто слишком нервничал, чтобы задавать вопросы.
Они молча спустились по лестнице в черный как смоль подвал. Мужчина закашлялся от сажи. Отто все глаза сломал, пытаясь хоть что-то увидеть. Комната была заставлена стопками брикетов. Должно быть, хозяин безмерно богат.
– Когда ты начал работать с углем?
– Если верить моим костям, сотню лет назад.
– А как давно ты работаешь здесь?
Мужчина дал ему подзатыльник.
– Кто задает вопросы, я или ты?
Отто умолк.
– Перетащи тонну, лежащую сзади слева, сюда, к правой стене.
– Зачем?
– Ты пришел учиться или работать?
Отто посмотрел на огромную черную стену, и учеба впервые показалась ему заманчивой, он заскучал по уютной школьной скамье, на которой через несколько часов заснет от усталости.
– У тебя полчаса. Если закончишь, получишь тридцать пфеннигов, если нет, можешь проваливать. И закрой рот, а то муха залетит.
Больше не удостоив Отто ни единым взглядом, он молча, как и при спуске, начал подниматься вверх по ступеням. Дверь с грохотом захлопнулась. Отто принялся искать выключатель. Услышал шорох. И напряженно вслушался в темноту. Ему хотелось громко поговорить с самим собой, но, возможно, мужчина все еще стоял за дверью. Шорох раздался снова. Что-то двигалось. Возможно, крысы. Однажды его отчим убил одну в подвале у них на Херманнштрассе. Тварь тридцати сантиметров в длину, с огромными, острыми зубами. Постепенно глаза привыкли к мраку. Отто тщетно шарил в поисках выключателя, когда сверху раздался знакомый, хрипловатый от пыли голос:
– Сломанные брикеты вычитаются из жалованья.
Кто это? Черт подери, ведь он его знает?.. Неважно, сейчас нет времени. Должно же здесь быть что-то, облегчающее работу. Иначе как передвинуть эти огромные поддоны? И что шеф имел в виду под левой тонной сзади? Любая тонна, лежащая сзади слева или самая последняя с левой стороны? В этом случае он должен сначала убрать два ряда перед ней. Невозможно. За полчаса он не сможет перетащить все брикеты по одному. Отто нерешительно огляделся. Ничего. Может, лучше удрать? Мать была права, он слишком мал для такой работы, а грубый тон уже знаком ему по отчиму, для этого необязательно запираться в подвале. Он снова услышал шорох. Ряды брикетов были плотно уложены вдоль стен. Но если где-то скреблись крысы или другие животные, значит, там должно было быть полое пространство, а если было полое пространство, то, возможно, туда что-то складывали – то, что пригождалось здесь, внизу. Как уголь вообще поднимали наружу? Лестница явно слишком узка. К тому же, наверху было не особо грязно, без следов сажи. Отто осторожно двинулся вперед.
– Ой.
Он наткнулся на стальную балку. Осторожно опустился на колени и принялся дальше прощупывать пространство, двигаясь на звук. Там могла быть шахта, через которую уголь доставляют наверх. Оттуда же в комнату должен попадать свет. Там же мог лежать инструмент. Постепенно задание начинало ему нравиться. Он подумал о тридцати пфеннигах, сколько будет получаться в неделю, в месяц, и сколько раз надо заработать тридцать пфеннигов, чтобы купить матери что-нибудь особенное. Новое радио. Было бы здорово. Свадебный подарок отчима издавал металлическое дребезжание, и прием был ужасный. У торговца электроникой стояла в витрине одна модель. Отто часто прижимался носом к стеклу и любовался им, такое оно было красивое и необыкновенное. Мальчик представлял этот приемник, продолжая трудиться. Элегантные круглые кнопки спереди, бежевая обивка из тонкой ткани. Должно быть, звучит радио божественно. То, что надо для концертных трансляций, которые так любит слушать мать. Корпус явно из красного дерева. И стоит целое состояние. Его отчим никогда не сможет себе такое позволить. Но мать бы о таком мечтала, Отто знал точно. Он опустился на колени перед большой черной стеной. Крошечный луч света пробивался сквозь щель в брикетах. Должно быть, оно. Поднявшись на цыпочки и вытянув руку, он снял верхний ряд. Стало светлее. Шуршание стало громче. Отто посмотрел наверх, в спускную трубу. Он слышал, как по ней взбирается крыса. Метрах в четырех виднелась большая решетка. Шахта, через которую поднимали и спускали уголь. Он забрался на наполовину разобранную стену брикетов. Какой идиот заставил этот вход? И зачем? Там стояли две тележки и передвижная подъемная платформа. Готово. Остальное – детская игра. Отпущенное время еще не истекло, а он уже стоял наверху перед шефом. Тот посмотрел на часы.
– Двадцать три минуты и двенадцать секунд.
– Все готово.
– Завтра утром в пять. Ты еще ходишь в школу? – Отто кивнул. – Чем занимается твой отец?
– Он погиб на войне.
– Где?
– Горлице – Тарнов.
– Где это?
– Галиция.
– Чертова война. Я потерял там обоих братьев.
– Где?
– В газовой атаке при Ипре. Это в Бельгии. Они так гордились. «Все уже почти позади, – писали они, – мы пустим газ – и им конец». Но получилось иначе. Оба задохнулись. Чертово отечество. Гадит прямо нам на головы. И кто за это ответит? Уж точно не те, кто облажался. И мы еще долго будем приходить в себя после договора, который преподнесли нам в Версале[3].
Он положил в руку Отто деньги. Отто смотрел и не верил собственным глазам. Не тридцать пфеннигов, а целая марка. Он стал обеспеченным человеком.
– Не трать все сразу. Кто знает, когда удастся заработать в следующий раз. И не забрасывай школу. У тебя светлая голова. Не дай ей пропасть зазря.
Он протянул Отто мозолистую руку.
– Завтра в пять. Я – Эгон.
Отто стоял, расправив плечи, словно его только что посвятили в рыцари. Он взял тяжелую руку и с удивлением услышал собственный твердый голос:
– Отто.
– Я знаю.
«Я тоже», – вдруг подумал Отто. Эгон крепко пожал его руку. Отто показалось, что маленькие холодные глаза на черном лице согрели вдруг все вокруг.
– Ты маленький, но хорошо тренируешься. Из тебя может выйти неплохой боец. Многие думают, что для борьбы нужна сила, но побеждают лишь те, кто сражается головой. Только не связывайся с неправильными людьми. У нас и такие есть. Сожрут тебя и не подавятся. Используй борьбу правильно. Искусству борьбы учатся, чтобы защищать слабых и угнетенных, а не наоборот.
Последнее предложение он произнес без берлинского говора, на чистом немецком.
– Не забывай, – быстро добавил он уже обычным дерзким тоном.
И впервые улыбнулся. На закопченном лице засияла широкая ухмылка. Отто пожал его руку. Он догадался. Эгон – шеф из бойцовской секции «Спортклуб Лурих 02».
Когда Отто вышел на улицу, солнечные лучи поразили его, как молния. Он подпрыгнул.
5
Отчим зевнул, прикрыв рот рукой. Айнтопф[4] был доеден.
– Как на фронте, только лучше.
Карл продержался на фронте недолго. Однажды утром он прострелил себе винтовкой левую ногу, и его отправили обратно на родину из-за непригодности. Товарищи прикрыли его, они понимали, что Карл слишком слаб для войны, слишком слаб для жизни. Никто ни слова не сказал о членовредительстве, чтобы спасти его от военного трибунала. И теперь он был подсобным рабочим, сломленным, хотя и статным человеком.
– Мы дорого заплатили за это в Версале, – сухо заметил Отто.
– О чем это ты? Заканчивай с пустой болтовней, кем ты себя вообразил, безобразник. Смотри, мать, какой тут умник объявился.
Зачем его мать вышла за этого идиота? Отто чувствовал, как в нем закипает ледяная ярость.
– Уж точно поумнее тебя.
Он глянул на мать. Прикусил язык и быстро увернулся от тарелки, которая прилетела в его сторону.
– Ну замечательно, – пробормотала Анна, собирая осколки.
Карл угрожающе посмотрел на нее водянистыми глазами, а потом сорвал скатерть вместе со всем, что стояло на столе. И, задыхаясь, указал на пол:
– Приберись.
Когда мать пришла поцеловать его перед сном, Отто серьезно посмотрел на нее. Он говорил медленно и обдуманно:
– Мама, я хочу в старшую школу.
Анна положила руку ему на лоб. Кивнула и выключила свет. Он не спал. Комнату освещала луна. На стене лежала тень оконной рамы. Сестра Эрна прошмыгнула к нему под одеяло.
– Ты уже занимался этим?
Она была на три года старше него. Отто покачал головой.
– Хочешь попробовать?
Она взяла его руку и провела по своим тощим бедрам.
– Прекрати, не то я тебя выпорю.
– Ну давай, – хихикая, она повернулась к стене и крепко прижалась к нему маленьким задом. – Уверена, ты делаешь это лучше, чем взрослые.
Отто боролся с растущим отвращением. Он знал, как Эрна добывает карманные деньги. Она ходила в бордель на верхних этажах не только убираться. Он посчитал, сколько может заработать на следующей неделе. Он должен отсюда выбраться. Со сверкающими цифрами в голове Отто заснул под ритмичные стоны спящей беспокойным сном сестры.
В следующие месяцы он каждое утро доставлял соседям брикеты. А по вечерам помогал в магазине деликатесов, таскал ящики, разбирал товары. Так он получал залежавшийся хлеб, овощи, салат – все, что стало недостаточно свежим для состоятельных клиентов. Отто нес все домой. Его семья больше не должна голодать.
Он попал на первенство округа по борьбе. Помимо физической закалки учеников, «Спортклуб Лурих 02» занимался их духовным развитием. За отдыхом от тяжелых, монотонных упражнений им прививались коммунистические идеалы и классовое самосознание. Отто впервые услышал слово «образование».
И во второй раз услышал о старшей школе.
– Зачем тебе это? – спросил его отчим.
– Ты не поймешь.
Карл нерешительно на него посмотрел. Попытался придать взгляду авторитетность и уверенность. Но пауза продлилась слишком долго, и хорохориться было поздно. Он задрожал. Ему стало жарко и холодно одновременно. По левой руке поползли мурашки. Он несколько раз открыл и закрыл рот, хватая воздух, словно полумертвая рыба, и без сознания повалился на стол. Отто вскочил, стащил его на пол, быстро перевернул на спину и принялся ритмично сдавливать обеими руками грудную клетку отчима, делая искусственное дыхание. Карл снова пришел в себя. Вместе с матерью Отто отнес его в постель. Он не раздумывал ни секунды, не злился, не испытывал отвращения – как и близости. Мать не сводила с него взгляда. «Лучше любого врача», – подумала она. Отто проверил пульс Карла.
– Я звоню в «скорую».
6
Шеф собрал всех членов клуба. Их лощеные тела образовали круг, а Эгон зашел внутрь и уселся посередине. Уже несколько недель встречи стали регулярными и обязательными, и Отто никогда их не пропускал. В отличие от большинства, он сидел на них прямой, как палка, и жадно ловил каждое слово шефа. Эгон огляделся, и вялая болтовня смолкла.
– Сегодня я хочу рассказать вам о Карле Марксе. Знаете такого?
Борцы смотрели на него пустыми глазами.
– Ну ничего, все впереди. Рим не сразу строился. Паульхен, что вылупился, как головастик, речь о вашем будущем, – он сделал многозначительную паузу. – И остальные, тоже напрягите уши. Если до вас дойдет хоть малая часть, вы уже будете в выигрыше. Итак, Карл Маркс очень много думал, здорово накачал мозг и перевернул с ног на голову все, что люди думали и говорили до него. Поэтому он вам так полезен, сечете?
Все молча закивали.
– Так что же? – квакнул какой-то потный грязнуля.
– Спокойно, Браунер.
За спиной у Эгона послышался радостный гогот.
– Я смотрю, тут вокруг сплошные гении.
Хохот смолк.
– Но…
Отто будто дышал вместе с Эгоном. Он видел, как этот молниеносно быстрый, сильный боец, способный уложить на лопатки любого, пытается подобрать слова. Как старается передать понятными формулировками все, что узнал в марксистской рабочей школе – и как ему почти ничего не удается.
Эгон снова сделал паузу. Огляделся вокруг.
– А если предприятия не смогут инвестировать, потому что банки перестанут одалживать им деньги, тогда у них – банков – тоже в определенный момент закончатся финансы, потому что предприятия больше ничего не будут им приносить, и тогда… Все полетит в тартарары. Конец.
Борцы захлопали. Никто, кроме Отто, не понял ни слова.
По дороге домой Отто остановился возле витрины магазина электроники. Там по-прежнему стояло радио. Он нежно погладил взглядом красное дерево. В нижнем левом углу темнела на светлой ткани гордая надпись. «Энигма». Он представлял, как мать будет слушать трансляции, сидя на кухне. Звук будет парить по комнате, словно орел. Ей бы и в голову не пришло пожелать себе нечто столь необычное. Она экономила каждый грош для семьи. И на черный день. «Но черный день никогда не кончится», – думал Отто. Других и не бывало. Чего же ждать? Еще худшего? Зачем работать, если не улучшать себе жизнь? И что важнее – лучшая жизнь или жизнь высокая? В чем отличие? Можно ли достичь лучшего через высокое? Выступления Эгона не шли у Отто из головы. Шеф говорил очень убедительно. А потом увидел наивные лица товарищей по клубу. Эгону не удалось до них достучаться. «Пока им нечего есть, любые разговоры бессмысленны. А значит, сначала лучшее, а потом уже высокое», – подумал Отто.
Когда он зашел в магазин, звонко зазвенел колокольчик. В нос ударил спертый запах. Из-за кассы угрюмо глянул старик. Не обращая на него внимания, Отто направился к радиоприемнику. Что скрывается внутри? Как передаются далекие звуки? Где-то в концертном зале играет оркестр, и в это время их музыку можно услышать совершенно в другом месте. Люди, которым не хватает денег, чтобы ходить на концерты, наряжаться или есть в ресторанах, с помощью приемника могут сразу перенестись в то место. Продавец незаметно включил радио. Отто закачался в ритме плавной танцевальной музыки. Он почувствовал вонь порошка от моли. И вопросительно посмотрел на продавца. Радиоустройство для обучения и развлечения. «Энигма». Лучшее на рынке.
Старик повернул ручку дальше. Искаженные голоса и обрывки музыки. Потом раздался звучный голос: «Пионерское достижение Амелии Эрхарт, первой женщины, совершившей перелет через Атлантический океан, через год после легендарного одиночного безостановочного перелета Чарльза Линдберга на его одномоторном моноплане „Дух Сент-Луиса“…»
– 33 часа 32 минуты из Нью-Йорка в Париж, – шепотом повторил Отто.
«В прошлом году миллионы людей по всему миру следили за сообщениями в газетах или по радио. Все это время Линдберг был вынужден провести без сна, – настойчиво подчеркнул голос, – он летел без сопровождения и преодолел весь путь без навигационного устройства, что до сих пор считалось невозможным. И теперь Амелия Эрхарт доказала, что женщины в летном таланте ничуть не уступают мужчинам. Всего за 20 часов и 40 минут ей удалось пересечь Атлантику на трехмоторном фоккере „Френдшип“, совершив перелет между Уэльсом и Ньюфаундлендом».
Ньюфаундленд. Слово гулко отозвалось в голове у Отто.
– Сколько стоит этот приемник? – спросил он без малейшего берлинского диалекта.
Продавец назвал сумму, и у Отто закружилась голова. Придется отдать все свои накопления. Ну и пусть. Оно того стоит. Его мать сможет слушать концерты, а он больше узнает о мире. Он представил ее лицо, зная, что она упрекнет его за расточительность, но все равно улыбнется – как девчонка, которая качает головой, сияя от радости, когда ее приглашают на танец, и вскоре после этого взмывает над паркетом.
– Можете его для меня забронировать? Я вернусь сегодня же вечером и заплачу.
Продавец недоверчиво моргнул.
– Три часа. Не больше.
– Договорились.
Отто пожал пожилому мужчине руку.
Семья собралась за кухонным столом. Карл неуклюже покрутил кнопки нового радиоприемника.
– Убери руки, еще сломаешь. Он мне дорого обошелся.
По лицу Карла пробежала дрожь. Из уставших глаз хлынули слезы. Отто с растерянным видом стоял рядом. «Чтобы сделать громче, нужно повернуть сюда», – подумал он, не в силах выговорить ни слова из-за комка в горле.
Директор школы разглядывал непохожую пару, сидящую перед его письменным столом. Видимо, мать и сын, но парень, судя по всему, тот еще фрукт. Его возраст определить непросто. И кто кого привел, тоже неясно. Директор с любопытством откинулся на спинку стула. Парочка будто сошла со страниц карикатурной газеты. Он взял круглые очки, выжидательно вытер заляпанные стекла и решил для начала ободрительно кивнуть парню.
– Зачем ты пришел к нам?
– Хочу учиться.
– Чему же?
– Если б я знал, меня б тут не сидело.
Отто почувствовал взгляд матери и постарался говорить правильно.
– Чем занимается твой отец? Не хочешь пойти по его стопам, учиться ремеслу?
– Он работает на фабрике.
– А, ясно.
– Отец Отто погиб незадолго до его рождения. Он был цирюльником, – поспешила Анна на помощь сыну.
– Война. Да. Война… Мне очень жаль. А на какой фабрике работает твой отчим?
– То тут, то там – смотря где он нужен. А нужен он всегда.
Отто и сам поразился, что представил Карла в столь хорошем свете.
– Дай посмотреть на твои оценки.
Отто протянул ему папку. Директор задумчиво пролистал бумаги за первый год учебы Отто.
– Теперь все будет иначе, сначала я не знал, как нужно, а теперь понял.
– И?
– Это как качать мышцы: неважно, насколько больно, нужно просто продолжать.
– Ты занимаешься спортом?
– В секции «Спортклуб Лурих 02». Я борец, уже участвовал в окружном чемпионате. А еще мы читаем Карла Маркса.
Директор изумленно поднял взгляд.
Перемена оказалась сложнее, чем ожидалось. Новый учебный материал давался Отто без особого труда, но он чувствовал себя чужим среди одноклассников из зажиточных семей. Их движения, язык, манеры – все было другое. Вскоре начались первые желудочные колики. Он поспешно выбегал в туалет. Иногда его рвало, в другие дни – мучил непрекращающийся понос, лишавший его сил. Отто устало плелся в школу и спал во время занятий. Его крепкая фигура вызывала у одноклассников уважение, и потому открыто его не трогали. Отто столкнулся с немым противостоянием обывателей, с силой скрытого отторжения. Никто не нападал в открытую – и как ему было защищаться? Вскоре от него остались одни страдания. Докучливый второстепенный персонаж, который рано или поздно растворится в воздухе. Он все чаще пропускал занятия, бродил по улицам и по зоопарку, беспокойно, словно что-то искал.
В «Спортклубе Лурих 02» дела шли не лучше. Здесь он вдруг тоже почувствовал себя чужим. Простота бывших друзей начала раздражать его. Занятия Эгона казались однообразными. Дома он смеялся над примитивными манерами членов своей семьи. Анна наблюдала за этими переменами с беспокойством, остальные старались не попадаться ему на глаза.
Отто находил общий язык только с Роландом. Уже несколько недель они регулярно ходили после тренировок пить пиво, а иногда заказывали водку, рюмку яичного ликера или дешевый самогон.
– Отто? – искоса посмотрел на него Роланд. Их лица раскраснелись от алкоголя, кожа блестела от пота. – «Спортклуб Лурих 02», Эгон, Карл Маркс – это все ерунда. Профессионалами нам не стать никогда. Но…
Последнее слово осторожно повисло в воздухе. Его отзвук заполнил пространство между ними. Отто не выдержал первым.
– Выкладывай!
– «Иммертрой». Слыхал о таком?
– Нет.
– Тоже клуб.
– Бойцовский?
Роланд кивнул.
– И?
– Но он немного отличается.
– Темные делишки?
– Я знал, что тебе понравится!
– Разве я сказал?
– Заметно без слов.
7
Бойцовский клуб «Иммертрой» оказался большим объединением организованной преступности. Они контролировали ночную жизнь, отчаянно защищали свой район от посягательств враждующих группировок, крышевали проституток и торговали кокаином в задней комнате сомнительной закусочной, где с помощью крапленых карт выуживали у наивных поздних гуляк толстые пачки купюр. Если человек чувствовал подвох или протестовал, его били и кидали головой вперед в мусорный контейнер на заднем дворе. Того, кто не понимал подобного языка, избивали до беспамятства и выбрасывали прочь либо закатывали в цемент.
– Это Отто, о котором я тебе рассказывал.
Они стояли перед коренастым коротышкой, который оценивающе разглядывал их крохотными глазками. После бесконечного молчания он протянул Отто руку. Его пальцы обхватили ладонь Отто и сжали ее со всей силы. Ему нравилось давить пальцы новичков при первом знакомстве. «Чтобы с первого раза знали, с кем имеют дело, – пояснял он. – Быстро становится ясно, кто чего стоит».
Отто выдержал хватку, не скривившись от боли. Роланд предупредил его, и он специально просунул руку поглубже, чтобы сберечь пальцы. На мгновение показалось, что здоровяк сбит с толку. Его голова дернулась назад. Потом он дал Отто подзатыльник и крепко обхватил его за плечи.
– А ты ловкий парень. Быстро ориентируешься. Для начала можешь поработать на двери у Марио.
– А тебя как зовут?
Отто не хотел уходить, ничего не сказав. Здоровяк неприязненно улыбнулся.
– Уши.
Чутье не обмануло Уши. Отто хорошо справлялся с работой привратника. Инстинкт не подводил его, как и глаза. Он знал, кого можно впустить, а кого нет, когда деньги предлагали как взятку, а когда ради широкого жеста и их можно было хладнокровно принять, вежливо, но твердо обнадежив разгулявшегося зазнайку. Он распознавал слабости, гнавшие по ночам людей на улицы, быстро научился отличать хороший кокаин от разбавленного и знал, кому можно что-то предложить, а кому не стоит. Сам же он держался от этого всего на расстоянии. Его выручка приумножалась.
Но потом что-то на него нашло. Преследуя за картами удачу, он проиграл все до последнего гроша. Плевать. Главное, он что-то почувствовал. Восторг от улыбнувшейся удачи порадовал его не меньше, чем последовавший за ним гнев от поражения. После таких падений ему приходилось мобилизовываться, чтобы двигаться дальше. Сверху и снизу кипела жизнь, посередине зияла пропасть.
Вскоре Отто понадобились еще деньги, чтобы финансировать свою страсть к игре. Радость от выигрыша проходила все быстрее. Если сначала он садился за игровой стол только по выходным, то теперь проводил там каждый вечер. Он отдалился от семьи, ушел после девятого класса из школы и сопровождал Роланда на кражи. Жертв им подсказывал Уши, у которого был контакт с укрывателями. Свою долю Отто проигрывал еще до восхода.
Потом произошло нечто примечательное. Отто наблюдал, как люди вокруг него постепенно впадают в панику. Одни пускали себе пулю в голову по темным углам, другие выпрыгивали по утрам из окон своих квартир, выходящих на задний двор. Падали даже состоятельные. Один раз он видел хорошо одетого мужчину, который стоял рядом со своей большой машиной на тротуаре: «Сто марок. Нужны наличные. Потерял все на бирже». Другой, явно голодный, носил на шее табличку: «Голодаю. Ищу работу. Берусь за все». Отто с изумлением понял, что вокруг него борется за выживание еще больше людей, чем он привык видеть с раннего детства. Хотя он не знал, что именно привело к таким изменениям, но страх, сомнения и унижения, охватившие все вокруг, поразили его. В его семье никто так себя не вел, даже отчим. Возможно, дело в том, что они никогда и не ведали иной жизни? Ему было давно известно то, с чем пришлось столкнуться этим людям? Он наблюдал за ними с любопытством исследователя насекомых. Очевидно, пробиваться вверх приходилось дольше, чем падать. Что-то у него внутри пошатнулось. Во время каждой кражи он чувствовал, что деньги – лишь макулатура, жалкая требуха, которая уже гниет изнутри.
Шайка Роланда пользовалась нарастающим хаосом: их налеты становились все смелее. Чаще всего они забирались в пустые дома и квартиры днем. Ночью люди были дома. У большинства пропала охота танцевать на вулкане.
8
Он стоял на стреме, пока его подельники вскрывали тяжелую деревянную дверь квартиры-бельэтажа во Фриденау. С угла Отто открывался обзор на обе улицы. Секунда – и они зашли внутрь. Отто невозмутимо проскользнул за ними и остановился, изумленный. Похоже, на этот раз их ждал большой улов. Ковры на стене и полу, старые картины, серебряные подсвечники, просторные комнаты. Повеяло гниловатым запахом империи в упадке. Все замерли. Роланд опомнился первым. Подозвал всех к себе и приказал разделиться. Быстрыми жестами показал каждому его помещение. Отто остался один. Нерешительно прошел по просторным комнатам. Величественная двустворчатая дверь из светлого дуба вела в комнату, полную книг. Высокие стены со сверкающими золотыми буквами на сияющих переплетах. Он осторожно прикоснулся к холмикам на полках, залез на одну из передвижных лестниц и оттолкнулся от оконного карниза, чтобы легко осмотреть незнакомый ландшафт. Потом бесшумно остановился. Его взгляд упал на одно из названий. Книга слегка выступала, словно кто-то неаккуратно поставил ее на место. Отто взял ее в руки и осторожно открыл. «Теодор Моммзен, – прочитал он, – „Римская история“». Он хотел начать чтение, когда услышал какой-то звук. В дверях стояла юная девушка. На ней было черное платье до колен, на шее светился белый воротник. Они молча посмотрели друг на друга.
Вдалеке завыла сирена. Из комнат послышался топот ног. Со звоном разбилось окно. Раздались громкие крики. «Полиция, стоять на месте!» Прогремел выстрел. Рычание. Отто не сводил взгляда с узкого лица девушки. В ее темных глазах мелькнула тонкая улыбка. Он очнулся, словно от ливня в знойный летний день. Опомнившись, он спустился с лестницы и последовал за ее рукой, которая указывала на приоткрытую дверцу под левой книжной стеной. Отто спокойно протиснулся внутрь, где как раз хватило места, если сложиться пополам, и сказочное существо захлопнуло за ним дверцу. В комнате раздались тяжелые шаги. Он услышал тяжелое дыхание.
– Все в порядке, девочка?
– Да.
Приглушенный звук ее голоса заставил Отто удивленно поднять голову. Он ударился о деревянную крышу своего тесного убежища.
– Что это? – раздался в тишине хриплый мужской голос.
– Что? – Отто услышал четкий вопрос девушки.
– Ты видела кого-нибудь из преступников?
– Нет.
Отто бросило в жар. Ему вспомнились мучительные ледяные ванны из детства. Легкие горели, словно он проглотил раскаленную руду. Он испугался, что задохнется, когда снова услышал спокойный голос.
– Я устала от работы и задремала там, на кресле, когда меня вдруг разбудил шум. А потом появились вы.
– Повезло тебе, малышка. Если еще что-нибудь вспомнишь, сообщи нам.
Шаги начали отдаляться, потом остановились.
– Ты не работница.
Это прозвучало как вопрос и как утверждение.
– Я здесь живу.
– Как вас зовут? – тон стал удивительно формальным.
– Сала.
– А фамилия?
– Ноль.
– Где же ваши родители, дитя?
– Отец должен скоро вернуться.
– А ваша мать?
– Больше не живет…
– Мне очень жаль, госпожа Ноль.
– Не живет с нами, – быстро прибавила она.
Жандарм удивленно на нее посмотрел.
– А… Если у нас появятся дополнительные вопросы, мы с вами свяжемся. Здесь что-нибудь пропало?
– Не думаю.
– И сюда никто не заходил?
Сердце у Отто снова ушло в пятки. Она могла бы выдать его, если бы хотела. Простое «заходил» или «может быть», или даже слишком долгое замешательство, предательское дрожание губ могло решить его судьбу.
– Нет.
Ответ прозвучал не слишком торопливо и не слишком медленно.
– Тогда приходите в себя, дитя мое.
– Спасибо, господин полицейский. Спасибо, что спасли меня.
– Для этого мы здесь.
Отто услышал стук каблуков. Потом шаги с громким топотом удалились. Открылась и захлопнулась входная дверь. Замок был больше не нужен.
Если бы в шкафу было достаточно места, Отто бы обессиленно повалился на пол. Он прерывисто выдохнул. Дверца открылась, будто призрачной рукой. Обливаясь потом, он поднял взгляд на девушку. Ему было дурно, внутри все сжалось. Она смотрела на него доверчиво и серьезно.
Словно сам не свой, Отто бродил по зоосаду. В левой руке он по-прежнему крепко сжимал украденную книгу, словно она вросла в него. Роланда настигли. Боль из-за потери друга оказалась острой и пронзительной. Его застрелили в спину. Отто должен измениться. Но как? Впервые в жизни он оказался в замешательстве. Вернуться в школу? Да. А потом?
Могучие деревья отбрасывали тени на аллею. Отто вдыхал воздух приближающегося лета. Он сошел с тропинки, принялся бродить, наткнулся на маленький мостик, залез на склон под ним, стянул ботинки и опустил ноги в прохладную воду. Журчал ручей. Отто опустился на траву. Пыльца щекотала ноздри. Он впал в глубокий сон без сновидений.
Проснувшись, он увидел над собой ярко-синее небо. Природа выдохнула. Отто почувствовал книгу у себя в руке, поднял ее, протянул руки к небу и сел. Пролистал страницы. В нос ударил незнакомый запах букв и бумаги. Он снова захлопнул книгу и отправился домой.
Приблизившись к квартире на первом этаже, Отто остановился. После бурного отрыва он на цыпочках возвращался в старую жизнь – с одной лишь книгой в руке. На кухне еще горел свет. Его отчим спал, упав головой в тарелку. Мать осторожно протирала вокруг него тряпкой стол. Отто сжал зубы. Он почувствовал горячий, неумолимый стыд.
9
На следующее утро он вернулся в зоосад. И открыл в тени дубов новую книгу. У него за спиной бурлил ручей. Похоже, произведение состояло из нескольких томов. У него в руках был пятый. Повсюду возникало имя Цезарь. Описывались битвы, наступление легионов на чужие земли, названия которых были ему столь же малознакомы, как и имена полководцев и политиков, оживавших у него перед глазами лишь благодаря словам Моммзена.
Кожа горела. Над головой жужжал шмель. Он что, заснул? У него на животе лежала книга. Пот заливал глаза, на губах чувствовалась соль. Как долго он пролежал здесь? Отто медленно повернулся, подставив обгоревшее лицо солнцу. Проклятая жара. Нужно освежиться. Он осмотрелся. Никого. Быстро скинул одежду и побежал по склону. Прыжок, и его поглотила прохладная вода. Задержав дыхание, он оставался на дне, прижимаясь телом к илу, пока жажда жизни не утянула его наверх. Он стремительно выплыл на поверхность и выбрался на берег. И остался лежать, нюхая влажную траву. Потом, собравшись с силами, начал подниматься. И вдруг резко замер. На том самом месте, где он заснул за книгой, расслабленно лежал мужчина лет пятидесяти, возможно, моложе. Прежде чем рассмотреть незнакомца, Отто заметил у него в руках книгу. Что он там с таким любопытством искал? Мужчина поднял голову. Отто замер от ужаса. Он понял, что совершенно голый. Мужчина с ухмылкой рассмотрел его.
– Вы понимаете, что читаете?
Это прозвучало безо всякой насмешки.
– Думаю, да, – пробормотал Отто.
– Сколько вам лет?
– Семнадцать.
– Вы изучали Теодора Моммзена на уроках истории?
Незнакомец бросил ему брюки.
– Нет.
Отто оделся, поспешно накинул рубашку.
– Вы еще учитесь в школе?
Вопрос разозлил его. Что этот аристократ в дурацком светло-голубом костюме себе возомнил?
– Почему бы и нет?
– Еще даже не полдень…
– И что? Я прогуливаю. Могли бы написать мне оправдательную записку вместо того, чтобы забрасывать вопросами.
– На чье же имя?
«А его просто так с толку не сбить», – подумал Отто.
– Отто.
– Отто Великий? Из рода Людольфингов, герцог Саксонии, король Восточно-Франкского королевства, римско-германский кайзер?
– У меня в классе всего один Отто.
Отто присмотрелся внимательнее. На тонком лице незнакомца выделялся крупный нос. Несмотря на жару, на нем был костюм, белая рубашка и бабочка. Теперь Отто заметил, что костюм не светло-голубой, а скорее серый и из слишком плотной материи для этого времени года. «Точно, дорогой», – подумал Отто.
– Ну что, я получу записку для школы?
– Чтобы ответить на этот вопрос, я должен познакомиться с вами поближе.
Отто изумленно посмотрел на него.
– Как насчет ближайшего воскресенья, после полудня? Дикхардштрассе, 17, район Фриденау.
– Договорились.
– Наслаждайтесь последними солнечными лучами, – посоветовал незнакомец, вставая.
– А как вас звать?
Отто больше не пытался говорить литературным языком. В обществе этого человека он почему-то чувствовал себя уверенно. Уже уходя, тот обронил через плечо:
– Иоганн Ноль, но друзья зовут меня просто Жан.
Отто смотрел ему вслед. Откуда он знал эту фамилию?
10
В дверь позвонили. Сала побежала к двери. За звонком последовал энергичный стук. Почему посетитель не может подождать, ведь она бежит? Задыхаясь, она открыла дверь. И испугалась. Перед ней стоял молодой человек, которому она помогла. На нем был костюм. Их взгляды встретились. Руки Салы попытались ухватиться за пустоту. Он стоял перед ней, как в тот раз на лестнице в библиотеке.
В спину Отто светило полуденное солнце. Его силуэт резко выделялся на фоне улицы. Сала напряглась. Его взгляд пробежал по ее лицу, потом опустился на шею, грудь, живот, бедра, она почувствовала его до самых пальцев ног, но не испытала стыда. Этот взгляд не был оценивающим или исследующим, он просто стоял перед ней и на нее смотрел. Она еще никогда не задумывалась, достаточно ли красива, чтобы привлечь внимание мужчины. Ее тело раскрылось, она качнула бедрами. Закружилась голова. Вдруг, словно из ниоткуда, появился Жан. Он повел молодого человека, чье имя было ей до сих пор неизвестно, в библиотеку. Прежде чем Отто закрыл за собой дверь, их взгляды встретились в третий раз.
С удивлением заметив, что дверь уже починили, Отто остался стоять на месте. Почему он не убежал прочь, узнав место своего взлома? Жан тоже стоял и размышлял, стоит ли немедленно притянуть Отто к себе, как он поступал со многими юношами до этого. Его взгляд впился в губы Отто. По телу пронеслось возбуждение. Застигнутый врасплох непривычным смущением, Жан задержал дыхание. Они молча стояли друг перед другом. Отто смотрел ему прямо в глаза.
– Я женюсь на вашей дочери.
Сала нажала локтем на ручку двери, ведущей в библиотеку отца. Старательно балансируя чашками, она зашла в самую сокровенную часть дома.
Ее отец расслабленно сидел в темно-зеленом английском кожаном кресле, справа от него – молодой человек, который встал, как только она вошла. Между ними стоял круглый столик на трех ножках, на нем лежали книги. Думал ли он сейчас про взлом? А тогда, у двери? Показалась ли она ему чужой или близкой?
– Отто, – представился он.
Она убрала книги в сторону и поставила чашки на стол, не поднимая на него глаз. Сала чувствовала, как ее ощупывают взглядом, но кто – он или отец? Она выпрямилась.
– Сала.
Не поворачиваясь, она молча покинула комнату. Закрыла за собой дверь и, дрожа, опустилась на стул в прихожей. Сала решила ждать. Даже если ждать придется вечность. Она прислушалась к голосам. При первой встрече они не обменялись ни словом. Она слегка наклонилась вперед, опустила голову, прикрыв глаза под звук его голоса. Сердце вело сюда, именно сюда – с самого детства и до этой секунды.
Она вздрогнула. Отто вышел из библиотеки в сопровождении ее отца. Никто не заметил, что она сидит на стуле в углу. Ее отец хохотал, как мальчишка. Нет, ничего не случится, входную дверь уже починили, а благодаря разбитым стеклам по квартире гуляет свежий ветерок. В холле Отто повернулся к Жану.
– Пожалуйста, передавайте привет дочери.
Жан смущенно засмеялся.
Уже стемнело. Отто шел быстрым шагом, а в голове у него звучало ее имя. Сала… Сала… Сала… Он сразу узнал ее, как только из-за двери показалось ее тонкое лицо. Внезапный испуг. И она не выдала его уже во второй раз. Возможно, она делает это сейчас? Он отмахнулся от этой мысли, словно лошадь от надоедливой мухи. И перед ним снова возникло ее лицо. Любовь не интересовала Отто. Конечно, у него уже бывали девушки, но любовь, сильные чувства он считал глупостью. Ему нравились девушки с большой грудью и красивой задницей и не такие тощие, как его сестра Эрна. Но теперь? Он мог вспомнить только глаза Салы. Глаза и темные волосы. Густые волосы, заплетенные в толстую косу. Пульс ускорился, хотя теперь он шел медленнее. Она так по-особенному смотрела на него этими глазами. Синими или карими? Синими. Лицо у нее миндалевидной формы. Кожа сияет белизной. Массивный нос с чуть опущенным кончиком. Когда она слегка улыбнулась ему на прощание, он заметил выемку между передними зубами. Люди с большими щербинами между зубами много путешествуют, так говорила его мать. Посреди ночи он лежал в постели с широко открытыми глазами. Он видел длинную белую шею Салы. Вскоре после этого он заснул.
Сала не сказала об Отто ни слова. Она не стала расспрашивать отца о посетителе и молчала об их первой встрече. После школы она вернулась в свою комнату и сидела там до шести, а потом, как всегда, отправилась готовить ужин. Жан заметил, что она почти ничего не ела. На попытки отца растормошить ее девочка реагировала с элегантной сдержанностью, словно он был навязчивым незнакомцем. Потом она заболела и слегла с температурой в кровать. Еще никогда болезнь не была столь желанной. Одна в комнате, она чувствовала себя вольготно и свободно и могла снова вспоминать каждую секунду их встреч.
Почти каждое воскресенье Отто наслаждался открытым обществом в доме Ноль. Пока исчезали последние гости, он продолжал сидеть с Жаном, углубившись в беседу. Салу он, казалось, избегал. Отто чувствовал, как в нем растет перемена, от которой ему было не по себе. В часы посещений он думал только о ней, но, когда она наконец оказывалась перед ним, он стеснялся. Теперь он часто проходил мимо турника во дворе, не чувствуя потребности установить очередной рекорд по подтягиваниям. Он думал о книгах, впервые увиденных вместе с Салой, и о ее отце. Видел его руки с тонкими длинными пальцами, которыми он постукивал при беседе, задавая ритм своим мыслям. «Как дирижер», – подумал Отто, хотя еще ни разу не был на концерте. У него перед глазами возникали ряды драгоценных кожаных томов на полках. Они таили потоки мыслей, историй, проектов. На письменном столе стоял портрет женщины. Она казалась прекрасной и преступной. Это мать Салы?
Когда Сала впервые пригласила его к себе в комнату, он благоговейно замер на пороге. Все в комнате дышало простотой беззаботной жизни, но чувствовалось и что-то темное, чему он не мог подобрать названия. Сала с улыбкой взяла его за руку. Они впервые прикоснулись друг к другу. Оба испугались. На подоконнике таял снег. Вечернее солнце пока не грело. Была еще не весна, но уже конец долгой зимы.
На выходных они вместе отправились в городские бани на Гартенштрассе.
– Мы часто ходим сюда мыться, – сказал Отто. – Хотя, некоторые не особо часто.
Они рассмеялись. Сала еще ни разу не бывала в городских банях. Они с отцом плавали летом в озерах Шлахтен или Крумме Ланке. Жан всегда запрыгивал в воду без одежды, поэтому последние два года Сала не сопровождала его на эти прогулки. Не из-за чопорности, а потому, что осознавала – излишняя откровенность отца в половых вопросах может навредить их отношениям. «Свобода человека никогда не должна ограничивать свободу других людей» – так он ее учил. Сала восхищенно остановилась перед клинкерным фасадом большого здания.
– Здесь?
Отто гордо кивнул, словно он собственными руками построил эту роскошь. Уверенными шагами он повел ее внутрь, мимо облицованных плиткой стен, и поднялся по ступенькам к кассе. Там он заплатил за обоих и оставил неуверенно улыбающуюся Салу на произвол судьбы.
– До скорого.
Ее немного рассердила его ухмылка, но, возможно, она ошибалась, и он тоже был очень взволнован. Ведь вообще-то она утаила от него, что впервые оказалась в подобном месте. Не хотела показаться избалованной бюргерской дочкой. «Просто смешно, – подумала Сала, натягивая в кабинке купальный костюм, – какие же они неудобные». Купаться голышом значительно удобнее, надо отдать должное отцу. И как рассматривали друг друга женщины. Ужас. Упорно уставившись на конкуренток, они искали изъяны, словно в зеркале, беспощадно разглядывали их и с улыбкой отворачивались, обернув полотенцем располневшие бедра и расправив мягкие плечи. «Только бы не поскользнуться», – думала Сала. В целом она уже достаточно насмотрелась. И предпочла бы немедленно отправиться домой. Но там, внутри, ждал Отто.
Когда она вышла в главный зал, то оказалась возле пятидесятиметрового бассейна, немного оторопев от льющегося из многочисленных окон света и пропитанного хлоркой воздуха. Сала остановилась возле двери. На противоположной стороне она увидела Отто. Он направился к ней. Он был в плавках. Уверенная походка, крепкое тело. Краем глаза она заметила, как какой-то тип грубо швырнул девушку в воду под громкое улюлюканье приятелей. «Только не это», – подумала она, представив, что в следующую секунду Отто схватит ее за запястье. Он остановился перед ней с мячом в руках.
– Поиграем?
Он с вопросительным взглядом перекатывал круглый предмет из одной руки в другую. Описав широкую дугу, мяч упал в центр бассейна. Выпрямив руки, она последовала за ним, запыхавшись, всплыла возле Отто, потянулась за мячом, рассмеялась, ухватила его, чувствуя себя дельфином или – как подумал Отто – сияющим существом, получеловеком-полуживотным, морской девой. Сильными толчками она последовала за ним на дно, откуда они вместе взмыли вверх, жадно хватая воздух, чтобы снова нырнуть. Не прекращая игры, они перемещались от одной стороны бассейна к другой. Их ладони встречались, чтобы оттолкнуться, и они уже не знали, следуют ли они друг за другом или охотятся.
В школе или в разговорах с подругами Сала ничего не рассказывала об Отто.
Ее чувство накатывало волнами. Треск соснового леса, солнце, посылающее лучи сквозь густые ветви, болтовня зябликов и синиц. Отто был повсюду. Он был тишиной и шумом. Она чувствовала себя одиноко в обществе, и жадно наслаждалась болью ожидания, когда Отто не было рядом. Подле него она страшилась разлуки, обретение сулило утрату. Иногда она гневно распахивала дверь и тихо ругалась, его не обнаружив, или просила его уйти, хотя он только пришел.
Однажды в воскресенье Отто смотрел в кабинете Жана пьесу странствующего театра теней. В осеннем свете комната с зелеными книжными полками напоминала угрожающий лес. Сквозь открытое окно дул ветер, гоняя по полу разбросанные страницы. Голоса темных силуэтов звучали, словно во сне. Они бродили по комнате, рассказывая об эльзасском почтовом гонце Андреасе Эгглиспергере, который проскакал по замерзшему озеру до Юберлингена. Всадник спешно искал лодку, которая должна была перевезти его на другой берег, но не заметил в глубоком снегу берегов и безбоязненно пересек замерзшее озеро, приняв его за равнину. На другом берегу к нему бросились люди, дивясь его удаче, и пригласили его отпраздновать столь отважное путешествие по тонкому льду, но бездыханный всадник упал на землю.
Зайдя в кабинет, Сала увидела, как взгляд ее отца скользит по телу Отто. Ей было знакомо восхищение в глазах юноши – самоотверженность, с которой ее отцу отдавались все, когда тот, с книгой в руках, зачаровывал их своим голосом, словно сирена. Он стоял, как рыбак, спокойными движениями расправляющий сеть. Она подошла к Отто и взяла его за руку ровно за миг до падения. А потом молча вывела его из комнаты, не оборачиваясь на отца.
Уже когда она легла спать, в дверь постучали. Вошел Жан.
– Ты его так сильно любишь?
Странный вопрос. Она любит Отто, и отцу это известно. Что значит «так сильно»? Разве можно любить сильно или слабо?
– Да.
Она пристально посмотрела на отца. Что он хочет узнать?
– Я тоже.
У Салы в голове раздался пронзительный звон. Гомосексуальность отца ей никогда не мешала. Возможно, благодаря его самозабвенной любви. «Некоторые люди рождаются блондинами, другие брюнетами», – сказал он, когда она впервые столкнулась с его особенностью. Тогда он отправил ее за талонами на еду со своим удостоверением. Она терпеливо стояла в очереди к окошку, где сидел маленький толстый человек, у которого текло из носа. Он периодически отхаркивал слизь, задумчиво гонял ее во рту и с довольным видом проглатывал. Оказавшись перед ним, она положила на стол удостоверение отца. Чиновник открыл его и ухмыльнулся.
– У твоего отца параграф 175. Ничего тебе не дам! Гомики и прочие трусы пусть приходят за талонами сами.
В очереди у нее за спиной пронесся шепот. Все повторяли это слово. Гомик. Тогда она услышала его впервые. Теперь оно пронзает ее слух во всевозможных вариациях. Гомик, гомосек, педрила, пидорас, педик, извращенец, хуесос, глиномес, петух. Но Сала протянула руку и ждала так долго, что смех чиновника превратился в приглушенный кашель, и он наконец нехотя выдал ей талоны на глазах у шепчущихся людей. Потом она гордо пошла домой и спросила у отца, что такое параграф 175. «По этому параграфу преследуются и караются законом мужчины, которые любят других мужчин», – прозвучал ответ.
Больше они об этом не говорили. Больше она не хотела ничего знать. К ним часто приходили мужчины, с которыми ее отец, улыбаясь, исчезал в библиотеке. Она никогда не сталкивалась с чем-то безнравственным, никогда не чувствовала себя брошенной, не испытывала недостатка во внимании отца. Просто некоторые рождаются блондинами, а другие брюнетами.
Сала заметила на ковре у себя под ногами пятно. Она показала на маленький изъян.
– Ошибка в полотне, из уважения к Великому Аллаху. Если бы ковер был безупречным, ткачиха бы согрешила.
Голос отца звучал словно издалека. Она слышала его, но не могла повернуться.
– Он тебя тоже любит? – спросила она.
– Нет. Он любит тебя, – ответил он. – Прости.
Она изумленно подняла взгляд. Прежде отец никогда не просил у нее прощения.
– Я больше никогда так не поступлю.
Это случилось на маленьком мостике в задней части дворцового парка Шарлоттенбурга. Отто впервые неуклюже схватил ее. Она отвернулась, почувствовала, как скользит по спине его рука. Полуиспуганно их губы встретились. Они молча убежали в самый дальний уголок парка, мимо загородного дворца, словно могли вместе спрятаться от этой любви. «На край света», – думала Сала, когда Отто притягивал ее к себе, упав в траву.
Перед зимой пролетела осень, и не успели Сала и Отто обернуться, как сквозь лед показались первые предвестники весны. Они провели лето с Жаном в Бранденбурге, а осенью и зимой ходили по музеям и выставкам. Они обошли каждый уголок своего города, камень за камнем изучили миры друг друга, при первой возможности бежали в театр и не замечали перемен, все плотнее сжимавших вокруг них кольцо.
– Кем ты хочешь стать?
Они брели по Фридрихштрассе под Вайдендаммским мостом, мимо прусского икара, начинавшего свой полет над Шпрее[5]. Слева от них возвышался театр Шифбауердамм, который теперь заняли примитивные противники постановок Макса Рейнхардта.
– Врачом, – ответил Отто так, словно это очевидно и он уже пошел учиться профессии.
– Почему?
– Ради людей.
Он положил руку ей на талию. Сначала он пытался обнимать ее за плечи. Но она была выше него примерно на полголовы, и вскоре он начинал чувствовать себя глупо, к тому же им быстро становилось неудобно. Он предпочитал держать Салу за бедра. Так он лучше ее чувствовал.
– А ты? Актрисой?
– Ты уже знаешь?
– Знал с самого начала.
Отто сдал экзамены на аттестат зрелости, и оценки портила только тройка по математике. В 1934-м, примерно через год после того, как еврейских врачей отстранили от работы, он начал изучать медицину. Чтобы снимать себе комнату, в свободное время он подрабатывал в университетской клинике Шарите: доставлял отправления, таскал ящики, помогал на кухне – делал все, что попросят.
Заразившись его усердием, Сала тоже сосредоточилась на работе – учила наизусть самые знаменитые монологи из драматических произведений, мечтала о главных женских ролях, была леди Мильфорд и Луизой Миллер, Пентесилеей, Гретхен и Мартой Швердтлейн, наблюдала за богинями немого кино и бегала на их первые звуковые фильмы. Она восхищалась Марлен Дитрих и Хенни Портен, Сарой Леандер и Лидой Бааровой.
По выходным они с Отто ходили на непопулярные и дешевые дневные представления, жадно поглощали все от любовных фильмов до ревю и оперетт; они мечтали об огромных белых экранах, на которых волшебные машины создавали с помощью света и тени незнакомые миры, куда они возвращались во сне – ночь за ночью.
Сала не замечала изменений в обществе. Она была молодой немецкой девушкой, воспитанной католическими монахинями в вере в Иисуса Христа. Она хотела выйти замуж за будущего немецкого врача, когда станет достаточно взрослой, и хотела стать актрисой. Ее мать была еврейкой. И что? Ее родители развелись в 1927-м.
Теперь Отто почти каждые выходные приходил по утрам в квартиру Нолей, тонул в объятиях Салы, вдыхал аромат ее кожи, еще мягкой и теплой после сна. Их ноги и руки переплетались, и они срастались телами, а потом изумленно разделялись вновь. Один короткий взгляд, потерянный и уставший, и возвращение ко все более тягостному одиночеству.
Позднее, когда в окна светили согревающие лучи полуденного солнца, они уютно устраивались в уголке и мечтали – иногда с книгой в руках или на коленях, иногда бездумно направив друг на друга взгляды.
Они видели темноту, но не узнавали ее.
Было уже поздно. Выключая в коридоре свет, Жан услышал в комнате Салы какие-то звуки. Он на цыпочках подкрался к двери. В тишине дочь что-то взволнованно шептала. Он задержал дыхание. Она одна? Казалось, она тихо декламирует какой-то диалог. Жан прижал ухо к двери. Текста он не узнал. Возможно, какая-то салонная пьеса, они сейчас популярны. Можно было бы просто постучаться и попросить разрешения посмотреть, но тогда он не только помешает этим первым, еще робким попыткам дочери, но и лишит себя очарования тайны. «Но почему я не могла поехать с тобой?» – спрашивал голос Салы. «Смесь разочарования и упрека, очень неплохо, – подумал он. – Прямые, откровенные интонации». Что молодой человек – по его предположению, беседа велась с возлюбленным – мог сказать, как ответить на этот вопрос? «У меня возникли срочные, неотложные дела…» – мог ответить спесивец, как обычно бывает в подобных пьесках. «Просто смешно», – прошипела Сала. Возможно, предыдущие реплики были еще резче. «Точно XIX век», – подумал Жан. Юная девушка или, скорее, молодая женщина, возможно, кокотка, хотела куда-то последовать за возлюбленным – возможно, в путешествие или на званый обед? «Я не заслужил твоих сомнений», – вероятно, отпирается молодой человек или уклоняется от дальнейших расспросов. «Ты моя мать», – услышал Жан, и кровь застыла у него в жилах. Она не играет. «Почему этот мужчина для тебя важнее моего отца?» Последовала долгая пауза, словно ожидание ответа собеседника. «Так было бы и на самом деле», – подумал Жан. Иза никогда не объясняла своих поступков. Она просто делала, что хотела, не нуждаясь в причинах и оправданиях, отвечая на все претензии холодным молчанием. «Почему он для тебя важнее, чем я? Какое у тебя было право так уходить? На этот вопрос ты мне не ответишь, как и на все остальные, потому что избегаешь споров, потому что считаешь, что предназначена для более высоких задач, чем заботиться о счастье мужа и дочери. Ты – самовлюбленная лгунья. И мне ничего не остается, кроме как дальше писать письма, которые останутся без ответа. А раз так, отправлять я их не стану. К счастью для тебя». Жан услышал, как Сала встала и принялась рассерженно шагать по комнате. Он осторожно выпрямился. Ему следует немедленно уйти. Он не должен шпионить за собственной дочерью, словно третьесортный детектив. «Ты хочешь быть метеором? Это даже не смешно». Жан замер. «Да, глыбой, которая падает со своей орбиты на этот мир и уничтожает все вокруг, но не дарит никому ни капельки света. Просто огненный шар, который оставляет за собой лишь выжженную землю, – голос Салы зазвучал громче. – Что ты мне дала, кроме своего еврейства? Думаешь, я не чувствую, как все втайне тычут в меня пальцами? Немцам я больше не нужна, а к евреям отношения не имею. Ты никогда меня этому не учила». Жан, как околдованный, пялился на дверь. Он должен зайти, должен обнять свою дочь. Но он не смог: ему было стыдно.
11
На следующий день, когда Сала и Отто шли по улицам, теплый ветер поднимал в воздух цветочную пыльцу. Сала прижималась к Отто, представляя первую встречу с его семьей. Опьянев от красок, Кройцберг преждевременно встречал лето. Возле пивных берлинцы подставляли солнцу побледневшие за зиму лица. Оживленное движение, совсем иное, чем в ее квартале. И люди – грубее, но лучше знают жизнь. В радостном возбуждении Сала пыталась впитать все, что видит. Отто гордо игнорировал восхищенный свист, когда они проходили мимо столиков на узких боковых улицах. На Сале было светлое платье до колен с зеленым поясом на тонкой талии. На каблуках она была на голову выше Отто, но его это, казалось, не беспокоило. Он долго не решался познакомить Салу с семьей. Из-за сестры он не волновался, хотя его будущий зять – возлюбленный Инге, Гюнтер – был активным членом партии, и поэтому Отто старался его избегать. Ингеборга уже не подросток, ей исполнилось восемнадцать. «Она заслуживает большего и могла бы найти кого-то получше», – считал он. Какого черта ей попался именно этот крикливый нацист, который угрожающе раздался в ширину уже к двадцати трем годам? По булыжной улице с визгом пробежали дети.
– Ты еще ни разу не показывал мне своих детских фотографий, – вызывающе посмотрела на него Сала.
– Есть всего одна. Я в младенчестве лежу на шкуре белого медведя. Каждый раз, когда мама мне ее с гордостью демонстрирует, она часами рассказывает, как тяжело пришлось фотографу, потому что я постоянно дрыгал ногами, и как дорого ей это обошлось. Мошенник запросил дополнительную плату.
Они со смехом пересекли улицу. Отто показал на вход во двор.
– Здесь.
Первые два двора выглядели вполне прилично. Третий оказался запущенным. Штукатурка облетела, снизу карабкалась сырость. Тяжелая, сладковатая вонь вынудила Салу задержать дыхание. Из нескольких окон слышалось рычание, сверху – стоны и крики. Отто крепко сжал руку Салы.
Узкая дверь вела в пахнущий сыростью боковой вход. Отто ненадолго остановился. Внутри резкие мужские голоса фальшиво и похабно распевали уличную песенку. Он достал ключ и, немного помедлив, позвонил. На мгновение крики за дверью смолкли, потом послышались быстрые шаги и сдавленные приказы. Дверь распахнулась. Им открыла Эрна. Хоть Отто и надеялся увидеть мать, это показалось бы ему странным. Наверное, она, как королева, восседает в единственном кресле в гостиной. Шикарно, с довольным видом усмехнулся Отто, оценивающе осмотрев старшую сестру – похоже, они последовали его указанию и подготовились к важному визиту. Остается надеяться, манеры окажутся под стать нарядной одежде. Эрна взволнованно сделала книксен.
– Я Эрна, очень рада, что ты решила к нам зайти, Сала. Отто уже несколько месяцев обещал привести тебя в гости.
Сияя от гордости за свои изысканные манеры, она протянула Сале руку и рассмеялась.
– Все там, в комнате. Надеюсь, вы принесли веселящий газ, а то Гюнтер там напукал, ой, простите, испортил воздух.
Улыбаясь, Эрна сделала шаг назад, освобождая место. Отто повел Салу по узкому коридору.
– Заходи, старина, – послышалось из глубины.
Однажды за дерзость придется ответить, но не сейчас. Отто твердо решил, что сегодня он великодушно закроет глаза на слабости своей семьи.
– Девчонка с тобой?
Отто появился в дверях первым и украдкой показал угрожающий жест. Гюнтер извинительно прикрыл рот рукой, когда Отто сделал шаг в сторону, чтобы пропустить Салу.
– Ну что ты встал, будто оловянный солдатик, приятель. Мой будущий шурин – тот еще пройдоха, но это ты и сама знаешь. Я Гюнтер.
Не вставая, он протянул ей мясистую ладонь.
– Левая рука идет от сердца, и прошу прощения, что сижу, – вывихнул средний палец, и защемило позвоночник. Видно, какая-то ведьма порчу наслала.
Он бросил на Инге укоризненный взгляд:
– Гюнтер, веди себя прилично.
Анна по-девичьи бодро поднялась с кресла, стоящего в полутьме, и подошла к Сале. Она со строгой улыбкой протянула девушке руку.
– Мама, это Сала, – отстраненно поклонился Отто.
– Добро пожаловать.
Потом Анна искоса глянула на Гюнтера и добавила:
– Не принимайте его всерьез, он по-другому не умеет. Они в партии все так общаются.
Ее появление впечатлило Салу. Гордая красота, непреклонность в каждом взгляде, в каждом движении. Она представила, как теперь может выглядеть ее мать.
– Спасибо за приглашение.
Отто жестом подозвал к себе сестру. Сала никак не могла понять, как эта красивая молодая женщина, старше нее максимум года на два, могла выбрать такого грубого мужчину, как Гюнтер. В отличие от худой Эрны, ее фигура благоухала женственностью.
– А это Инге.
Хлопнула дверь. Отто узнал по приглушенным ругательствам отчима, который, покачиваясь, вошел в гостиную.
Несмотря на рассеянные движения, выглядел он импозантно. Сала увидела, как Инге сияющим взглядом посмотрела на отца, а Эрна нервно переступила с ноги на ногу. Анна сразу поникла – или в уголках ее рта проступили горечь и разочарование? Сала заметила, что при появлении одного человека в комнате совершенно изменилось общее настроение. Несмотря на то что его сила и стать померкли, как выцветший рисунок углем, он оставался центром этой семьи. Отто казался в этом мире чужаком, точно таким же, как и – в ином смысле – в ее мире. «Словно он потерял свою родину», – подумала Сала, прижимаясь к нему.
– Гунни! – Карл поднял руку. Гюнтер удивительно проворно поднял грузное тело с кресла – хотя секунду назад казалось, что он в него врос. Тоже слегка покачиваясь, он подошел к Карлу и повел его к дивану. Мужчины обнялись, и Сала уже не могла разобрать, кто кого поддерживает. Они напоминали отца с сыном или боевых товарищей, и шептались как закадычные друзья. Товарищи по несчастью, объединенные глубоким взаимопониманием, но без истинного интереса друг к другу. На нее пахнуло пивом, водкой и потом. Сала попыталась нащупать Отто и вдруг почувствовала его руку у себя на спине. Она закрыла глаза.
Карл снова встал. Все напряженно смотрели на него.
– Отто. Что за прекрасный цветок ты привел в мою хижину?
Все просияли, и даже Отто оценил поразительно галантное приветствие.
– Простите, фрейлейн, я только вернулся с работы и так упахался сегодня, что туго соображаю и не сразу вас заметил. Родня, оказывается, я всех вас толком не рассмотрел. А благодаря этой юной даме в доме так светло, что сегодня мы можем сэкономить на электричестве. Мое почтение.
Сала улыбнулась. Она увидела, что мать Отто смеется, качая головой. Это семья Отто. Бывает и хуже. Эти люди не пытаются казаться лучше, чем они есть. Наверное, у них просто не остается на это сил. Возможно, у них слишком тяжелые будни, чтобы изображать что-то по вечерам.
– Мать, дай что-нибудь поесть. Я умираю с голоду.
Он качнулся в сторону Анны и так сильно ущипнул проходящую мимо Эрну за бедро, что та вскрикнула. Он замер и вопросительно на нее посмотрел. Она улыбнулась.
– Иди сюда, моя жердочка. Поцелуй папу.
Он показал на щеку. Когда она послушно потянулась, мужчина быстро повернул голову, и ей пришлось целовать его губы. Он грубо рассмеялся.
– Ха-ха. Всегда попадается на этот трюк, дуреха.
После этого он принялся обнимать всех подряд, пока наконец не оказался перед Салой.
– Такая красотка. Настоящая красавица. Теперь понимаю, почему он тебя прятал. Таких надо беречь.
Потом он повернулся к Анне.
– Пива и водки. И поскорее, пожалуйста.
Вежливое слово он поспешно добавил в последний момент, встретив твердый взгляд Анны. И только сейчас Сала заметила: его изуродованное алкоголем лицо напоминает карикатуру. Такие лица она встретила по дороге сюда. Теперь ей снова вспомнились картины. Она столкнулась в реальной жизни с тем, что раньше видела лишь в музеях, на полотнах Цилле, Гросса или Дикса. Они изображали подобные типажи, похожих персонажей. Как и жирные богачи, такие лица были преувеличением. Рай или ад. Тем не менее, в маленькой темной квартирке было меньше лжи, чем во всей ее жизни. Возможно, семья своеобразная, но все-таки семья. Здесь есть отец и мать.
– Сегодня у нас айнтопф, любимое блюдо Отто. Надеюсь, тебе тоже понравится. Пойдем, покажу тебе, как его готовить. Ты должна научиться, если хочешь стать его женой, а если я правильно поняла – ты хочешь.
Прежде чем Отто успел что-то сказать, она взяла Салу за руку и увела на кухню. Уходя, девушка услышала щебетание Инге.
– Будем есть айнтопф, чтобы сэкономить для фюрера[6].
– Иди сюда, малышка, у тебя золотое сердце.
Гюнтер громко рыгнул.
Анна выставила на стол суповые тарелки и дала Сале большой половник.
– Разливай аккуратно и положи Отто двойную порцию мяса. Ему сейчас нужно, он ведь учится в университете. И когда готовишь такой айнтопф, в супе всегда должно плавать достаточно жира, а то будет невкусно. Что тебе нужно от моего сына?
Сала посмотрела на нее с недоумением. Она не поняла вопроса.
– Почему ты его любишь?
Сале в нос ударил запах старого жира. Она заметила, что от стены отклеиваются обои, рассматривала убогую обстановку, слышала, как в соседней комнате снова шумит пьяный отец.
– Я не знаю, – сказала она чуть тверже, чем собиралась.
– Ну, хотя бы честно, – заметила Анна и молча посмотрела на девушку. – Подумай хорошенько. Брак – дело непростое. Чтобы его выдержать, нужно иметь много общего, а вы… Вы из очень разных миров. Не пойми меня неправильно. Я против тебя ничего не имею. Но у меня всего один сын. Другого не будет. Он – единственное, что я сделала хорошего в жизни. Чем я горжусь. Чего я не отпущу.
Сала не привыкла к такой прямоте. Это объявление войны или Анна просто обозначала границы?
– Мне подавать на стол? – спросила она и ужаснулась неуверенности и упрямству в собственном голосе.
– В тебе нет ничего плохого, Сала. Но, как я сказала, он мой единственный сын.
– Да.
Взгляд Анны смягчился.
– И не рассказывай о своем происхождении в присутствии Гюнтера. Он состоит в партии и хочет сделать там карьеру. Поняла меня?
– Да. Спасибо, но я немка, как и вы.
– Конечно, я на всякий случай. И при Инге, она под его влиянием. Она подала заявление на место секретарши в гестапо и ждет ответа.
– Почему вы мне все это говорите?
Анна протянула ей тарелку с нарезанным хлебом.
– Отто сказал, твоя мать – еврейка.
Сала кивнула.
– А отец?
– Протестант.
– Ну, как и большинство из нас. Тогда получается, ты еврейка только наполовину.
Сала снова молча кивнула.
– И что об этом сказали твои дедушка с бабушкой?
– О чем?
– Ну, о женитьбе твоих родителей.
Сала прекрасно знала, о чем спрашивает Анна, но предпочла сделать вид, будто не поняла вопроса.
– Не знаю, – уклончиво ответила она.
– Ну, такой союз не совсем нормален.
Анна улыбнулась. «Совершенно дружелюбной улыбкой», – подумала Сала.
12
Мать Салы, Иза Пруссак, была родом из Лодзи, из старой еврейской семьи. Ее отец, Лейб Пруссак, владелец суконной фабрики, отправил трех своих дочерей учиться за границу. Лола стала успешным модельером в Париже, Цеся уехала в Буэнос-Айрес, а Иза, самая старшая, изучала медицину в Берне, где позднее выбрала специализацию – дерматология и психиатрия. Она была сторонницей неомальтузианства, поддерживала реформы, предлагавшие бороться с бедностью посредством ограничения рождаемости с помощью предохранения. Иза считала, что контроль рождаемости возвращает женщинам свободу над собственным телом. Свободное время она проводила у подруги, Маргареты Хардеггер, которая вела дискуссионный клуб, своеобразный литературно-поэтический салон. Помимо литературы обсуждалось образование, свободная любовь, роль женщины, упразднение брака, внутренние конфликты рабочих организаций, вопросы теософии и социальной этики. Она постоянно слышала рассказы про гору в Асконе, на Лаго-Маджоре, которую выкупил молодой сын голландского магната, чтобы жить там с единомышленниками. Они питались исключительно вегетарианской пищей. В теплую погоду ходили голыми, если становилось прохладно – надевали собственноручно сшитые белые хлопковые одежды. Летом 1907 года Иза поехала в Аскону. Поднялась по многочисленным ступеням на гору. Обитатели нарекли ее Монте Верита – Гора Истины. Прогуливаясь на закате между маленькими деревянными хижинами, Иза увидела в траве двух голых молодых людей, ведущих оживленную беседу. Она хотела отвернуться, когда один из них вскочил и поспешил к ней. Он вежливо поклонился.
– Иоганн Ноль, а там, сзади – мой приятель, Эрих Мюзам[7]. Хотите с нами поужинать?
– Голыми?
Они рассмеялись.
– Здесь все называют меня Жан.
– Я Иза, – она протянула ему руку.
– Сегодня вечером мы хотим спуститься в деревню. Эрих не переносит вегетарианской жратвы. Как насчет пасты болоньезе и бутылочки красного вина?
– Я бы предпочла кусок мяса с кровью и ведро красного вина.
– Сию минуту, только приоденемся.
– Буду ждать вас в главном доме, у господина Оденковена.
– Осторожнее, не попадайтесь на глаза его подружке.
Улыбнувшись ей светлой, мальчишеской улыбкой, он повернулся о пошел обратно к другу, который недоверчиво наблюдал за беседой издалека. Иза без стеснения смотрела ему вслед. Казалось, его красивое, рослое тело слегка парит в воздухе. Пахло травой.
Я пытался побольше разузнать об этой Горе Истины. Нашел в интернете цветущие пейзажи, записал названия разных книг и вспомнил, как в детстве ездил вдвоем с мамой на каникулы куда-то во Французскую Швейцарию. Кажется, местечко называлось Л’Оберсон. Больше нигде мама не бывала такой расслабленной. И там она не носила парики.
Я нашел в книжном маленькую книжечку про Аскону под авторством Эриха Мюзама. Многое из написанного я уже знал по рассказам матери. Я подумал, возможно, она захочет посетить со мной место своего рождения. Надеялся, пейзаж пробудит эмоциональные воспоминания, детали или истории, угасшие в ее сознании. Я приманил ее старыми фотографиями ее отца, Эриха Мюзама и других обитателей Монте Верита возле водопада.
– Да они же все голые! Заба-а-авно.
Она долго смотрела на фотографию отца.
– Ты узнаешь кого-нибудь?
– Конечно.
– Кого?
– Всех.
– А имена помнишь?
Она провела рукой по лицу.
– Ну, это же Мюзам. А там, сзади, кажется Фанни цу Ревентлов[8]. Господи, какой же она была красоткой. Красивая женщина.
Мне казалось, в то время Франциска цу Ревентлов еще не бывала на Монте Верита, но я не хотел сбивать маму с толку. В любом случае, своего отца и Эриха Мюзама она узнала. Возможно, надежда еще есть.
– Как думаешь, может, съездим туда?
– А это для меня не слишком утомительно? Целое путешествие.
– А оно тебя порадует?
– Думаю-ю-ю, да.
Я пообещал как можно скорее отправиться в путь.
Мы долетели из Берлина в Лугано, над Цюрихом. Полчаса спустя наш таксист уже петлял по серпантину, ведущему к главному зданию Фонда Монте Верита. Посреди природы стоял прекрасный ансамбль.
Аахенский архитектор Эмиль Фаренкампф, творивший в стиле баухаус, расширил оба шестигранника главных зданий, стоящих вокруг швейцарского грота. Над ним расположился ресторан с панорамными окнами, соединенный с четырьмя этажами нового отеля. Комплекс был перестроен в 1927 году по заказу нового владельца – банкира, коллекционера и мецената Эдуарда фон дер Хейдта.
Мои бабушка и дедушка вернулись в Берлин в 1921-м или 1922 году, когда моей матери было два или три года. Дедушка очень беспокоился, потому что она не говорила ни слова. Сейчас она молча, как и тогда, поднималась по лестнице. И пыталась скрывать, как тяжело ей это дается.
Закончив с формальностями и загрузив в комнату вещи, мы отправились на небольшую прогулку. Узкая ухоженная тропинка вела нас мимо чайного павильона к последним сохранившимся хижинам из ее детства. Осталось три или четыре, и каждая вмещала двоих, максимум четырех человек. Они были построены из темного дерева, с маленькими верандами.
Я помог маме подняться на две ступеньки. Дверь была открыта. «Как тогда», казалось, говорил ее взгляд. Мы остановились посреди комнаты. «Какая маленькая», – подумал я. В углу стоял простой деревянный стул. Она села. В окно светило полуденное солнце, деревянные стены вздыхали – звук из утраченного времени. Здесь познакомились ее родители, здесь она родилась, здесь начала свой бег ее судьба.
Рожденные при исчезающей романтике, в стремительно растущем индустриальном мире, которому они не могли и не хотели покориться, они приезжали со всех концов света – со своей тоской, своей надеждой, своим желанием создать нечто новое. Новый порядок. Рай. Иной мир для тех, кто не мог вытерпеть происходящего и грядущего. Утопию для творцов и изгоев, новую культуру, которая тычет голым задом в лицо патриархату, презирая все авторитеты, все государственные институты и быстро растущий капитализм.
Я искал на лице матери отпечатки того времени.
– Кроватей здесь не было.
Ее голос звучал словно издалека. Могла ли она помнить детали раннего детства? Вряд ли, но, возможно, она узнала об этом от отца.
– Здесь мы спали на полу. Все было по-спартански. Обуви не носили. Когда мы собирали в лесу грибы или ходили с отцом за ботаническими образцами, то всегда возвращались с израненными в кровь ногами.
Каково было ребенку жить среди этих людей, увлеченных исключительно собой, своей индивидуацией, без которой для них не существовало жизни? Немного Гете, немного Руссо, природа, культура, наука, щедрая щепотка Фрейда – и все перемешать? И плюс ко всему – «Материнское право» Бахофена, который меняет местами матриархат и патриархат на основе древнегреческих и римских мифов. Не самый легкий коктейль.
– Хочу к водопаду, – раздался в тишине ее голос.
В 1900 году вышло в свет «Толкование сновидений» Фрейда.
По дороге к водопаду она рассказала, что мой дед с жадностью читал его труды.
– Здесь, на Монте Верита, он выучился на аналитика-любителя, – сообщила она, когда мы ненадолго остановились перевести дух.
Из дневников Эриха Мюзама я знал, что мой дед и молодой австрийский психиатр и психоаналитик Отто Гросс собрали настоящую динамическую группу. Гросс приехал с женой, чтобы вылечиться от кокаиновой зависимости. Каждое утро все заинтересованные собирались на большой поляне. Абсолютно голые, они садились в круг и анализировали сны друг друга.
– Для отца это были первые подопытные кролики. Они все его боготворили. Особенно женщины, хотя они интересовали его лишь платонически. Он любил общаться, и неважно – с женщинами или с мужчинами:
– Но ведь тогда он жил с Изой. И уже родилась ты. Он не мог быть исключительно гомосексуалом…
– Да, но предпочитал мужчин.
– Он был бисексуалом?
– Ну, как скажешь.
– В смысле?
– Он просто не вписывался в рамки, понимаешь? Потом у нас дома был непрерывный поток мальчиков по вызову. Они просто шли один за другим, понимаешь? – Она уставилась в одну точку. – За-ба-а-авно.
– Тебе, как его дочери, наверное, приходилось нелегко?
– А бывает легко? В юности моего отца вышвырнул из дома его отец. Возможно, он так и не смог от этого оправиться, во всяком случае, он не терпел вмешательств – понимаешь, он предоставлял каждому человеку полную свободу и требовал ее для себя. Я так и не решилась с ним об этом поговорить.
Она глубоко вздохнула.
– Когда мой дедушка вернулся со своей второй, молодой, женой в Берлин из образовательной поездки по Италии, кое-что произошло.
– Что именно?
– Ну, с особым нетерпением их ждали незваные гости, – она улыбнулась. – А потом, на следующее утро, их тела покрылись темно-красными волдырями. Клопы! – воскликнула она и радостно продолжила: – Длинные ряды клоповых укусов – так сказать, зудящий контраст флорентийскому ренессансу. Это не пошло его сыну на пользу.
Она сделала паузу, а потом продолжила уже серьезным тоном.
– Смерть матери наложила на моего отца неизгладимый отпечаток, и дед это знал. Он стал мечтателем, меланхоличным фантастом, и дед часто не мог понять его поведения. Ему оставалось лишь терпеть, что в школе, которой он руководил, его сын оставался на второй год в первом и третьем классах, он даже смирился с тягой сына к собственному полу как с заблуждением молодости, – она возвысила голос, полностью войдя в роль собственного деда, – но не с мужчинами из нижних сословий и не в его собственной постели. Он увидел в этом угрозу для своей молодой супруги и оскорбление своего мужского достоинства.
Я молча смотрел на нее. За последние годы она рассказывала мне все новые варианты этой истории. Но конец всегда был один и тот же.
– Он написал ему короткое письмо с приказанием покинуть дом и добавил постскриптум: «Когда ты путался с молодыми людьми равного положения, это было еще простительно, но теперь ты связался с отбросами общества».
Вскоре после этого ее отец бросил изучение истории искусств. Он отправился с другом Эрихом Мюзамом в Мюнхен. Оттуда они без гроша добрались через Италию в Швейцарию. Они примкнули к небольшой группе творческих людей и эскапистов. Ида Хофман и Генри Оденковен, молодая пара, состоящая в неформальном браке, основали вместе с друзьями-художниками Карлом и Густавом Грезерами вегетарианское поселение на горе возле Асконы.
Они зашли в маленькую тратторию в переулке около променада вдоль гавани Асконы, и им в лицо ударил дым трубок, сигар и сигарет.
Послышались громкие приветствия. По игривым, оценивающим взглядам Иза почувствовала, что Жан и Эрих редко появляются здесь с девушками или не появляются вовсе. Хозяин обнял их и протянул Изе пухлую ладонь.
– Лука. Честь для меня. Заходите, у меня есть для вас лучшие места, заходите скорее.
Он подал знак молодому темноволосому официанту, и тот принялся готовить столик возле окна. При этом Жан с невозмутимым видом нежно погладил его по заду и прошептал что-то на ухо. Официант залился краской и захихикал, Жан игриво ущипнул его между ног. Эрих сердито опустил взгляд. Иза молчала. Похоже, этот Жан – тот еще пройдоха. Но выглядит он потрясающе: высокий, овальное лицо с тонкими чертами, длинные темно-русые волосы, чувственный рот, мечтательные глаза – то синие, то зеленые, в зависимости от освещения. Но сильнее всего Изу впечатлили его руки, она еще не видела у мужчины таких любопытных, знающих рук. Он носил брюки и рубашку из белой ткани. Из-за широкой шляпы и накидки он напоминал Гете в годы, когда тот жил в Риме под именем художника Мёллера. Иза заметила, как на нее смотрит Эрих. Прежде она ни разу не сталкивалась с гомосексуальными мужчинами. Она не видела в этом ничего предосудительного, они казались свободными – особенно Жан, излучавший изысканную и уверенную элегантность, эротическую ауру, мужскую и женскую одновременно. Внезапно он посадил молодого официанта себе на колени, достал из нагрудного кармана маленькую книжечку, пролистал ее одной рукой – другой он продолжал гладить парня – и принялся читать, слегка нараспев. В середине стихотворения он прижался губами к уху юноши и перешел на шепот, но достаточно громкий, что Эрих и Иза могли услышать:
- – Явись, о отрок! Мир убереги от тщетной
- Гибели! Единственный спаситель!
- С твоей защитой век наш расцветет,
- Очистится от прежних преступлений…
- Вернется столь давно желанный мир,
- И узы братские соединит любовь!
- О том поет поэт, пророк гласит:
- Излечит только новая любовь.
На последних строчках он повернулся к Изе и положил голову ей на грудь.
– Стефан Георге, – с сияющим взглядом прошептал он. Потом неожиданно подпрыгнул, продекламировал последние строфы, сделал пируэт и комично поклонился окружающим. Несколько гостей с соседних столиков захлопали в ладоши. Он не обращал внимания на оживление окружающих, на шепот, на любопытные взгляды – ну, или делал вид, что не обращает, подумала Иза и улыбнулась.
Наконец принесли еду. Жан заказал второй графин вина. Лука лично принес им мясо. Симпатичного официанта он оставил за прилавком, заметив ревнивые взгляды Эриха – это могло плохо сказаться на торговле.
Таких мужчин Иза не встречала ни в Лодзе, ни в Берне. Всезнайки из медицинского университета оказались скучными и безжизненными обывателями. Коммунисты у ее подруги Маргарет были ненамного лучше, а порой и вовсе невыносимо авторитарны. Эти же двое – совсем из другого теста. Что бы подумал отец, если бы увидел ее сейчас? Ее, дочь ортодоксального еврея, с двумя гомосексуалистами? У иудеев гомосексуальность строго запрещена.
– Я спросил его, – рассерженно рассказывал Эрих, – а если я подохну от всей это вегетарианской дребедени? И знаете, что ответил этот самонадеянный глупец? Он смерил меня взглядом с головы до ног и прогнусавил своим всепонимающим, всепрощающим фальцетом: «Это стало бы для нас неизбежной утратой». А теперь скажите мне, господа, это вегетарианство вызывает импотенцию или нужно быть импотентом, чтобы стать вегетарианцем?
К кофе с водкой все трое уже сжимали друг друга в объятиях. Через несколько дней Иза переехала в хижину на горе.
День начинался с толкования сновидений. Жан, Иза, Отто Гросс, Эрих Мюзам и еще несколько молодых девушек и парней молча уселись в круг. Все были без одежды. Дул легкий ветерок. Над поляной гудели пчелы.
– Кто хочет начать?
Мужчины опустили взгляд, женщины испуганно посмотрели на Жана. Отто Гросс с наслаждением почесал мошонку. Его член немного набух. Йоханна, высокая и очень худая девушка с белоснежной кожей, усыпанной веснушками, это заметила и тактично отвела взгляд.
– Тебя раздражает вид моего члена, Йоханна?
Йоханна посмотрела Отто Гроссу в глаза.
– Нет.
– Тебя возбуждает мое возбуждение?
– Возможно…
Хихикая, она обхватила руками свои бесконечно длинные ноги.
– Я вижу, ты намокла, пока мы говорили. Тебя возбуждают слова?
– Иногда…
Гросс обратился к остальным.
– Как считаете? Женщины сильнее реагируют на слова, а мужчины – на первичные сексуальные стимулы?
– Мы сейчас будем говорить о притеснении? – сказала Иза. Она холодно посмотрела на Гросса.
– Между мужчинами и женщинами всегда будет притеснение, Иза.
– Мы начинаем сопротивляться.
– Да? И как же? Как ты собираешься сопротивляться двухтысячелетней христианско-иудейской истории? Даже если вы захотите, мужчины все равно сильнее. Ваше предназначение – давать и доставлять удовольствие. Возможно, вы можете думать иначе, но не чувствовать.
– Вы забрали у нас право голоса, но мы отвоюем его.
– У патриархата? Я бы на это посмотрел. Эмансипация бесполезна и изначально обречена на провал, пока мужчины остаются теми, кто они есть.
– Но они изменятся. Или исчезнут, если не поймут – их поработила та же система, что и нас.
Жан напряженно ждал, какое направление примет беседа. Его рука блуждала по колену Изы. Та решительно отодвинулась. Другие девушки нервно теребили волосы или потягивались на солнце.
– Я думала, мы будем толковать сновидения, – разочарованно пробормотала одна из них.
– Йоханна, ты тоже считаешь, что при сопротивлении женщины теряют эротическую привлекательность?
– Иногда…
– Ты хочешь переспать со мной? – он вызывающе посмотрел на нее.
– А твоя жена?
– У нас свободные отношения.
– Нет, – стройная девушка с широкими плечами откровенно расхохоталась.
– Но отношения? – уточнила Иза, не удостоив ее взглядом.
– Ты ведь тоже делишь своего Жана с Эрихом, – сказал Гросс.
– Он был до меня, и я ни у кого ничего не отнимаю.
– Это действительно другое, – рассмеялся Гросс.
– К тому же, Жан и Эрих – лучший пример мужской эмансипации.
– Иза, глубоко внутри у нас бушует конфликт, угрожающий нашей духовной цельности, – тихо и вкрадчиво начал Отто. – Это внутреннее противоречие грозит всем, каждому человеку на планете. И потому, – его глаза нервно заблестели, конечности задергались, он говорил все быстрее и громче, – потому каждый из нас верит, будто его личная трагедия неминуема и так жить нормально. Все начинается в материнской утробе. Еще не рожденный ребенок приспосабливается к семье, в которой появится на свет, и узнаёт – его способ любить должен соответствовать кодексу той самой семьи. Как только он учится осознавать, он чувствует, что его воля сталкивается с волей других, как и любовные желания: он учится их переиначивать и, в случае девочек, подчинять ожиданиям отца. На мечты об освобождении, на мольбы о позволении следовать своим чувствам существует лишь один ответ: осознание собственной беззащитности и одиночества. Следствие безграничного детского страха перед этим всеобъемлющим одиночеством – классическая семья, знакомая каждому из нас, с простым и ясным требованием: будь одинок или стань таким, как мы.
Все смущенно опустили взгляд. Ладонь Жана искала Эриха, другой рукой он обнимал Изу. Гросс часто спорил с ее критическими высказываниями. Невысокая полная девушка рядом с Эрихом засмеялась. Остальные вторили ее пронзительному хохоту, принялись хихикать, ползая по земле, когда бледная Йоханна вдруг безудержно зарыдала. Ее тело свело судорогой. Она в панике хватала ртом воздух. Жан и Иза попытались осторожно ее обнять, но она неожиданно оттолкнула их с дикими криками.
– Свиньи, угнетатели и свиньи. Вы свиньи. Жалкие свиньи.
Гросс вскочил и встал перед лежащей на земле, трясущейся Йоханной. Постепенно дрожь прекратилась, ее дыхание выровнялось. Пока Жан ласково поглаживал девушку, Гросс достал из аптечки, которую всегда носил с собой, белый порошок. Он насыпал немного в широко раскрытый рот Йоханны. Она скривилась от горького вкуса.
– Да, Йоханна, горько осознавать, что мы состоим из чужой воли, мы пленники чужого «я».
Морфий поступил в кровь. Лицо девушки смягчилось, руки принялись блуждать по собственной коже и по другим телам, она пыталась притянуть их к себе, положить на себя, втолкнуть внутрь себя. Ее тело изогнулось, из груди раздался глухой стон, звук ликования, который восторженно поддержали остальные.
– Настоящая истеричка, – прошептал Жану Гросс, – в будущем нам не следует отвлекаться от толкования сновидений, она та еще штучка… Как по учебнику, – хихикнув, добавил он. Иза рассерженно вскочила. Она побежала вниз, к водопаду. Жан и Эрих последовали за ней.
Они молча ступали друг рядом с другом. Под кронами деревьев было относительно прохладно, одинокие солнечные лучи проникали сквозь листву. Вдалеке слышался рев водопада. Жан бросился вперед. Быстрее. Еще быстрее. Иза с Эрихом попытались его догнать. Он мчался сквозь подлесок, перепрыгивая через стволы деревьев, спотыкался, снова вставал и бежал вдоль ручья, пока, тяжело дыша, не остановился перед водопадом. Там они опустились на покрытую мхом землю, наклонились к потоку и принялись жадно пить. В воде были видны их отражения. Жан повалился на спину. Он закричал, протестуя против воды, против леса, против Отто Гросса, против своего безжалостного отца, против смерти матери, против разрушения и насилия. Его крик перерос в долгий, напевный звук.
Далеко-далеко от Горы Истины, в растущем ткацком городе Лодзи, мать Изы Алта нерешительно приблизилась к кабинету мужа. Первую свечу Хануки пока не зажгли, и ему еще можно было работать. Дела шли хорошо. Когда Лейб поднял взгляд, в дверях стояла Алта.
– Представляешь, дочь Зелика вышла замуж за гоя.
– И что?
– Ну, все в отчаянии.
– Но он же любит Эстер.
– Очень.
– Ну тогда пусть.
– Ты считаешь?
– Это его дочь, – ответил Лейб.
– Значит, я могу тебе сказать.
– Что? – Лейб снова вернулся к работе.
– Наша Иза сделала то же самое.
– Что именно?
– Вышла замуж за гоя, – сказала Алта.
– Когда?
– Две недели назад.
– Где?
– В Швейцарии, в Асконе.
– На этой Горе Истины?
– Да.
Лейб уставился в пустоту. Резко дунул. Алта вздрогнула. Свеча погасла. Тяжелый силуэт Лейба исчез в соседней комнате. Жалобные ноты превратились в поминальную песню. Алта осталась стоять в дверях. Она наблюдала, как Лейб опустился на колени перед маленьким алтарем. Он зажег две поминальные свечи.
– Зачем ты поешь поминальную песню? Иза не умерла. Она носит в себе новую жизнь. Она твоя дочь.
Лейб закрыл глаза и опустил на лицо белое покрывало, которым по иудейской традиции накрывают умерших.
– У меня больше нет дочери.
13
Перед нами показался водопад.
– Как ты можешь так подробно помнить свою жизнь здесь? Ты же была совсем маленькая.
– Да, заба-а-авно, правда?
Мы сели на круглый камень. Вода падала в ручей с высоты четырех или пяти метров. Я удивился, какой у нее все еще хороший слух. Казалось, шум ей почти не мешает.
– Тебе нравилось здесь жить?
– Да.
Моя мать молча дернула губами. Или она что-то прошептала? Я наклонился. Она молчала. Уставилась на воду, слегка покачивая головой. Потом соскользнула на землю. Провела руками по траве.
– Раньше я знала здесь каждое растение.
Казалось, даже вода начала падать осторожнее.
На ужин мы пришли в просторный ресторан отеля. После краха первых реформаторов жизни Эдуард фон дер Хейдт создал свою архитектурную фантазию с нисходящими окнами и длинными коридорами – экстравагантную самоинсценировку для более поздних посетителей Лаго-Маджоре и инвесторов, получивших свою выгоду.
Наблюдая через стекло за заходящим солнцем, я почувствовал силу притяжения, десятилетиями собиравшую в Монте Верита искателей истины. Итальянский климат, озеро на фоне швейцарских гор. Слишком прекрасно, чтобы погружаться в себя? Не пустыня – скорее, хорошо продуманный Эдемский сад. Здесь, в маленьких хижинах, наполненных воздухом и светом, скрывались мои бабушка и дедушка, пока самая жестокая на тот момент война четыре долгих года создавала новый мировой порядок. Как растения, что роняют перед гибелью последние семена, люди в последний раз противились своими идеями окружившему их разрушению.
– Твой отец рассказывал, почему они вернулись отсюда в Берлин?
– В этом меню ничего путного не найдешь.
Она либо не услышала моего вопроса, либо не пожелала на него отвечать.
– Он купил здесь виноградник, – она громко втянула сквозь зубы воздух. – Целое состояние, скажу тебе, целое сос-то-я-ние.
– И?
– Ну, потом ему пришлось продать его. Он снова оказался на мели. Как обычно. Сегодня богат, как Людовик XIV, а завтра все проиграл.
– Он тоже любил играть?
Я предположил, что она перепутала деда с моим отцом – после войны тот на несколько лет пристрастился к азартным играм.
– Да. А потом моя мать приставила к его груди пистолет. Либо ты берешь себя в руки и обеспечиваешь семью, либо я ухожу.
Она сама поставила моего отца перед таким выбором в конце пятидесятых, когда он рисковал проиграть все, до последней нитки.
– Легко пришло, легко ушло, – сказала она. – Я никогда не придавала деньгам большого значения. Пустяки. Потерянного не вернешь. Как и фабрику твоего деда, он был крупным суконщиком в Лодзи – все кануло в Лету.
Проводив ее в номер, я решил еще немного прогуляться по территории. И снова вернулся к хижине, наполненной воздухом и светом. «Хорошо бы сейчас здесь поспать», – подумал я. Огляделся вокруг. Никого. Замка́ нет, как и в прошлый раз. Я зашел внутрь. Из-за влажности мне в нос ударил аромат древесины. Иначе, чем днем. Я лег на пол и вдохнул прошлое. Я чувствовал себя будто в поисках утраченного времени. Не хватало только чашки чая с липовым цветом и печенья «Мадлен»[9]. Но я искал не свои воспоминания. Или свои? Ведь я выслеживал чувства родных дедушки и бабушки, которых помнил. В маленьком окошке показался месяц. Под его светом на полу крохотной комнатки легла крестом черная тень оконной рамы. Далекий шум ручья смешался со стуком ярко раскрашенных деревянных башмаков на променаде Асконы. Передо мной появился маленький белый парусник с двумя синими полосками. Или полоска была одна? Он стоял на подставке из светлого дерева в витрине магазина игрушек в Веймаре. А мальчиком, который прижался носом к стеклу, был я.
– Он?
В моих воспоминаниях голос дедушки звучал спокойно и терпеливо.
Перед уходом мама отвела меня в сторонку. Дедушка очень устал, я должен помнить про его болезнь. Сейчас это важнее поиска подарка для меня, от которого она, к сожалению, его отговорить не смогла. Он все равно никого не слушает, если вбил что-нибудь себе в голову. Мне все понятно? Я должен выбрать первую же лодку в первом же магазине и сказать, что она мне нравится. Дома, в Берлине, она купит мне другую, игрушки в ГДР все равно делать толком не умеют. Я еще очень маленький и не слишком понимаю, о чем она говорит, но дедушка очень болен и изнурен. Смертельно болен. Она повторила это несколько раз и с особым акцентом и внушительно на меня посмотрела. Я кивнул. Мама погладила меня по голове. Но мне было не по себе. Если она сказала правду, а причин сомневаться не было – в конце концов, она моя мать, – тогда прогулка может оказаться крайне опасной. Ведь он в любой момент может упасть замертво. И как я тогда найду дорогу домой? Я здесь ничего не знаю. Мы вышли на улицу, держась за руки. И молча пошли по улицам Веймара. Там было гораздо меньше машин, чем в Берлине, и совсем другие. В машинах я разбирался. У меня была большая коллекция моделей фирмы «Матчбокс». Те, что ездили по здешним улицам, напоминали наши большие лимузины, но казались какими-то сплющенными. Это были большие маленькие машины, а дома маленькие машины были маленькими и другой формы. Теперь я чувствовал себя совсем неплохо. С моим дедушкой оказалось здорово молчать. Он не задавал глупых вопросов, ответ на которые неизвестен. У него были теплые руки. Я был твердо уверен – мы оба чувствуем себя хорошо. Очень хорошо.