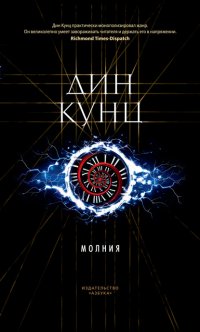Читать онлайн Краем глаза бесплатно
- Все книги автора: Дин Кунц
Даже малейшее доброе деяние отзывается через дальние расстояния и любые промежутки времени, сказываясь на жизни тех, кто слыхом не слыхивал о щедрой душе, источнике этого доброго эха, потому что доброта передается от человека к человеку и с каждым переходом растет и крепнет, пока простое доброе слово годы спустя и совсем в других краях не оборачивается самоотверженным поступком. Точно так же и всякая маленькая подлость, всякое сгоряча высказанное оскорбление ведет к большему злу.
Г. Р. Уайт. Этот знаменательный день
Никто не понимает квантовую теорию.
Ричард Фейнман
Dean Koontz
FROM THE CORNER OF HIS EYE
Copyright © 2000 by Dean Koontz
© В. Вебер, перевод, 2018
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018
Издательство АЗБУКА®
* * *
В восемь лет Дин Кунц писал свои сочинения от руки, делал к ним цветные обложки и продавал соседям. Первый его роман «Star Quest» (в русском переводе «Мутанты») был издан в 1968 году. Начав с традиционной фантастики с вкраплением элементов хоррора, после 1975 года Кунц пишет исключительно хоррор. На сегодняшний день у писателя выпущено более 90 произведений, переведенных на 38 языков мира и изданных тиражом 450 миллионов экземпляров. По его романам сняты кино- и телефильмы. Критики нередко ставят писателя на равный уровень со Стивеном Кингом и Питером Страубом.
Восхитительно… Замечательный роман, доставляющий наслаждение. «Краем глаза» – подлинное волшебство.
The Times-Picayune
Первоклассный триллер!.. Возможно, это венец творчества Дина Кунца… Драйв в ритме нон-стоп заставляет судорожно листать страницы.
Minneapolis Star Tribune
Взрыв эмоций… Захватывает воображение и заставляет думать – другой такой роман нужно еще поискать.
Baton Rouge Advocate
Глава 1
Бартоломью Лампион ослеп в три года, когда хирурги скрепя сердце удалили ему глаза, чтобы спасти от быстро прогрессировавшего рака, но и без глаз в тринадцать лет к Барти вернулось зрение.
Руки святого целителя не имели никакого отношения к этому внезапному переходу от десятилетия тьмы к великолепию света. Божественные трубы не возвестили о возвращении ему зрения, как промолчали и в момент его появления на свет.
«Русские горки» сыграли в этом событии определенную роль, а еще – морская чайка. И нельзя сбрасывать со счетов истовое желание Барти стать гордостью матери до ее второй встречи со смертью.
Первый раз она умерла в день, когда Барти родился.
6 января 1965 года.
В Брайт-Бич, штат Калифорния, большинство жителей с любовью отзывались о матери Барти, Агнес Лампион, за которой закрепилось прозвище Леди-Пирожница. Она жила для других, сердце Агнес само настраивалось на волну душевной боли и нужд ее ближних. В этом сугубо прагматичном мире ее бескорыстность зачастую с подозрением воспринималась теми, у кого в крови хватало не только железа, но и цинизма. Но даже эти закаменевшие души признавали, что у Леди-Пирожницы масса доброжелателей и нет врагов.
Мужчина, который взорвал семейный мир Лампионов в день рождения Барти, не был ей врагом. Лампионов он не знал, но их линии жизни пересеклись.
Глава 2
6 января 1965 года, утром, в начале девятого, когда Агнес выпекала шесть пирогов с черникой, у нее начались схватки. На этот раз не ложные, потому что боль опоясывала всю спину и живот, а не локализировалась только в нижней части живота. Если в момент схватки она стояла или сидела, боль едва чувствовалась, если шла – значительно усиливалась: еще одно свидетельство приближения родов.
Впрочем, особых неудобств она не испытывала. Схватки повторялись регулярно, но с большими промежутками. И она не пожелала отправиться в больницу, не завершив намеченных на день дел.
Для впервые рожающей женщины этот этап схваток в среднем длится двенадцать часов. Агнес полагала себя самой что ни на есть обычной женщиной в сером костюме для бега трусцой с веревкой-поясом, которую она распустила, чтобы хватило места большущему животу, а потому пребывала в полной уверенности, что второй этап схваток начнется никак не раньше десяти вечера.
Джо, ее муж, хотел отвезти Агнес в больницу еще до полудня. Он положил необходимые вещи в чемодан, отнес его в машину, отменил все свои встречи и теперь держался неподалеку, следя за тем, чтобы его и Агнес разделяла как минимум одна стена: боялся, что она рассердится и выгонит его из дома, если он будет мешаться под ногами.
Всякий раз, когда он слышал, как Агнес тихонько стонала или со свистом втягивала воздух, чтобы снять боль, он пытался определить промежуток между схватками. И столь пристально вглядывался в циферблат наручных часов, что уже боялся поднять глаза на зеркало: думал, что увидит впечатавшееся в них отражение бегущей секундной стрелки.
Мнительный по натуре, хотя внешне и не производил такого впечатления, высокий, сильный, Джо мог бы сойти за Самсона, выворачивающего колонны и обрушивающего крыши на головы филистимлян. Его отличали доброта и полное отсутствие наглости и самоуверенности, зачастую свойственных мужчинам его габаритов. Всегда счастливый, всегда радостный, он считал, что его с лихвой одарили деньгами, друзьями, семьей. Вот и опасался, что однажды судьба решит, что пора свести все к общему знаменателю.
Особых богатств у него не водилось, но на жизнь вполне хватало, и Джо не боялся потерять деньги, зная, что всегда сможет снова их заработать благодаря врожденным трудолюбию и старательности. И если что мучило его по ночам и мешало спать, так это тревога за своих близких. Жизнь Джо воспринимал как первый зимний ледок на пруду: более хрупкий, чем казалось на первый взгляд, пронизанный скрытыми трещинами, с холодной темнотой под ним.
Кроме того, Джо Лампион не считал Агнес обыкновенной женщиной, что бы она сама ни думала по этому поводу. Для него она была великолепной, уникальной. Он не ставил жену на пьедестал лишь потому, что ни один пьедестал не мог поднять ее так высоко, как того заслуживала Агнес.
Потеряв ее, он бы потерял все.
Все утро Джо Лампион размышлял о всяческих медицинских осложнениях, связанных с родами. Об этом он уже знал много больше, чем следовало, несколько месяцев тому назад проштудировав толстый медицинский справочник. И от сведений, содержащихся на страницах справочника, волосы на затылке Джо вставали дыбом куда как чаще, чем от отменного триллера.
Без десяти час, не находя себе места от вертящихся в голове описаний предродовых кровотечений, послеродовых кровотечений и эклампсических судорог, распахнув дверь, он ворвался на кухню и заявил:
– Хватит, Агги, мы ждали достаточно долго.
Она сидела за столом и писала подарочные открытки к шести выпеченным утром пирогам с черникой.
– Я прекрасно себя чувствую, Джой.
Кроме Агги, никто не решался называть его Джоем. Шесть футов три дюйма роста, вес двести тридцать фунтов, суровое, словно вырубленное из камня, лицо, он внушал страх, пока не начинал говорить своим низким мелодичным голосом или пока человек не замечал доброты, светящейся в его глазах.
– Мы сейчас же едем в больницу. – Он навис над столом.
– Нет, милый, не сейчас.
И хотя Агги ростом не доставала Джо до плеча, а весила, за вычетом тех фунтов, которые прибавила во время беременности, в два раза меньше, он бы не смог поднять жену со стула, не будь на то ее воли, даже если бы решил воспользоваться домкратом. В любом противостоянии с Агги Джой всегда играл роль остриженного Самсона.
С глухим горловым ревом, которым мог бы убедить гремучую змею вновь свернуться клубочком, превратившись в смирного дождевого червя, Джой добавил:
– Пожалуйста.
– Мне надо написать открытки, чтобы Эдом утром разнес их вместе с пирогами.
– Меня заботит только один пирожок.
– А меня – семь. Шесть с черникой и один в животе.
– Вечно ты со своими пирогами, – раздраженно бросил Джо.
– Вечно ты со своими тревогами, – парировала Агнес, одарив мужа улыбкой, которая растопила его сердце, как горячее солнце растапливает сливочное масло.
Он вздохнул:
– Допиши открытки, и поедем.
– Допишу открытки. Потом позанимаюсь с Марией английским, – уточнила Агнес. – А потом поедем.
– Ты не в том состоянии, чтобы учить английскому.
– Когда учишь английскому, нет нужды поднимать тяжести, дорогой.
Все это время она не оставляла своего занятия, и он наблюдал, как аккуратные буквочки слетают с конца ее шариковой ручки.
И лишь когда Джой наклонился над столом, Агги подняла голову и ее зеленые глаза блеснули в отброшенной им тени. Гранитное лицо Джоя приблизилось к ее фарфоровому личику, и, словно боясь разбить его, Агги чуть привстала, чтобы встретить поцелуй мужа.
– Я люблю тебя, вот и все. – Звучащая в ее голосе беспомощность только разозлила его.
– И все? – Она вновь поцеловала мужа. – Мне этого достаточно.
– Что же мне сделать, чтобы не сойти с ума?
Звякнул звонок.
– Открой дверь, – предложила Агнес.
Глава 3
Девственные леса побережья Орегона огромным зеленым куполом накрывали холмы, и на земле, как и в любом святилище, царила тишина. В вышине, над изумрудными шпилями, выписывая широкую дугу, парил орел. Темнокрылый ангел, познавший вкус крови.
Под сенью деревьев не шелестели травой мелкие зверьки, не чувствовалось даже легкого ветерка. В глубоких лощинах недвижно лежали подушки тумана, оставшиеся там после ухода ночи. Тишину нарушало лишь поскрипывание опавших иголок под ботинками и ритмичное дыхание опытных туристов.
В девять утра Каин Младший и его молодая жена Наоми припарковали «шеви субарбан» на лесной противопожарной просеке и направились на север, по лосиным тропам, уходящим в глубины леса. Даже в полдень солнечным лучам лишь в редких местах удавалось пробить зеленый покров и подсветить могучие стволы.
Когда Младший шел первым, он иной раз удалялся достаточно далеко, чтобы остановиться, повернуться и полюбоваться приближающейся к нему Наоми. Ее золотые волосы сверкали всегда, что в тени, что на солнце, а лицо являло собой тот идеал, о котором грезят юноши, ради которого взрослые мужчины жертвуют честью и проматывают состояния. Иногда их маленькую колонну возглавляла Наоми. Следуя за ней, Младший видел только ее стройную фигурку, не замечая ни зеленого шатра над их головами, ни подпирающих этот шатер стволов, ни роскошных папоротников, ни цветущих рододендронов.
И хотя для покорения его сердца хватило бы одной красоты Наоми, Младшего зачаровывали и ее грация, энергичность, сила, решительность, с которыми девушка одолевала самые крутые склоны и заваленные валунами прогалины. Собственно, все жизненные вершины, не только в турпоходе, она штурмовала с энтузиазмом и умом, страстно и смело.
Они поженились четырнадцать месяцев тому назад, но с каждым днем его любовь только крепла. Ему едва исполнилось двадцать три, и иногда у Младшего возникало ощущение, что его сердце слишком мало, чтобы вместись в себя все чувства, которые он питал к жене.
Другие мужчины ухлестывали за Наоми, некоторые красивее Младшего, многие – умнее, все – богаче, однако Наоми хотела только его, не за богатство или грядущее наследство, а потому, что, по ее словам, видела в нем «сверкающую душу».
Младший работал инструктором по лечебной физкультуре, дело свое знал, занимаясь в основном теми, кто попал в автоаварию или перенес инсульт, но не смирился с несчастьем и хотел в максимальной степени восстановить физическую форму. Он не сомневался, что без работы не останется, но прекрасно понимал, что в особняке на холме ему не жить.
К счастью, Наоми отличала простота вкусов. Пиво она предпочитала шампанскому, бриллианты не жаловала и не грустила из-за того, что не повидала Париж. Любила она природу, прогулки под дождем, пляж, хорошие книги.
В турпоходе, если выдавался легкий участок, она часто пела. Обычно одну из двух песен, ее любимых, «Где-то над радугой» и «Какой прекрасный мир». Голоском, звенящим, как весенний ручеек, и теплым, как солнечный свет. Младший и сам просил ее спеть, ибо в песнях Наоми ему слышались любовь к жизни и заразительная радость, которые окрыляли его.
Тот январский день выдался не по сезону жарким, далеко за шестьдесят градусов.[1] На столь близком расстоянии от океана снега не было и в помине, так что их наряд составляли лишь шорты и футболки. Младший разогрелся от быстрой ходьбы, мышцы приятно ныли, воздух пропитался смолистым ароматом, стройные обнаженные ноги Наоми, ее аккуратная попка радовали взор, песня ублажала слух: рай, если и существовал, по разумению Младшего, мог быть только таким.
Оставаться в лесу на ночь они не собирались, шли налегке, содержимое рюкзаков ограничивалось аптечкой первой помощи, питьевой водой, ланчем, поэтому выдерживали достаточно высокую скорость. Вскоре после полудня тропа привела их к узкой прогалине в лесу, с которой они и попали на последний виток петляющей по лесу противопожарной просеки, которая вышла к этой точке своим маршрутом. Просека вывела их на вершину холма, где стояла наблюдательная пожарная вышка, отмеченная на их карте красным треугольником.
Вышка находилась на широком гребне – впечатляющее сооружение из пропитанных креозотом бревен, усеченная пирамида со стороной основания в сорок футов. Грани пирамиды сходились к наблюдательной площадке на ее вершине. В центре наблюдательной площадки поблескивала стеклами комнатка для дозорных.
Каменистая, солончаковая почва не отличалась особым плодородием, поэтому у гребня самые большие деревья едва достигали сотни футов, более чем в два раза уступая в высоте великанам, растущим внизу. Так что вышка со своими ста пятьюдесятью футами парила над ними.
Винтовая лестница в центре сооружения вела к смотровой площадке. Если не считать нескольких прогнувшихся ступеней и чуть расшатанных перил, прочность лестницы не вызывала сомнений, но Младшему уже после двух пролетов стало как-то не по себе. Он не понимал причины тревоги, но интуиция подсказывала: будь настороже.
Поскольку осень и зима выдались дождливыми, опасность пожара расценивалась как низкая и пост с вышки сняли. Помимо своего главного предназначения, она служила и смотровой площадкой для всех, кому доставало упорства подняться наверх.
Ступени поскрипывали, скрип эхом отдавался от стен вышки, как и их тяжелое дыхание. Эти звуки не могли быть причиной для тревоги, но все же…
По мере того как Младший и Наоми поднимались все выше, «окна» между скрещенными балками стен сужались, пропуская меньше света. Под самой площадкой сгустился сумрак, но они обошлись без ручного фонарика.
К запаху креозота теперь добавился затхлый запах грибка или плесени, хотя ни то ни другое вроде бы не могло выжить на пропитанных креозотом бревнах.
Младший остановился, всмотрелся вниз, словно опасаясь, что кто-то поднимается следом. Да нет, попутчиков вроде не было.
Компанию им составляли только пауки. Несколько недель, а то и месяцев никто не поднимался на пожарную вышку, чем пауки и не преминули воспользоваться. Вытканные ими тончайшие кружева липли к лицу и волосам, цеплялись за руки, ноги, одежду, и вскоре путники уже напоминали мертвецов в истлевших саванах.
Пролеты становились все короче и круче. Последний оборвался в восьми или девяти футах от смотровой площадки. К открытому люку вела приставная лестница.
Когда Младший следом за своей проворной женой выбрался на смотровую площадку, у него захватило бы дух от открывшегося перед ними великолепного вида, если бы быстрый подъем и так не сбил дыхания. Отсюда, с высоты пятнадцати этажей от гребня холма, и пяти – от вершин самых высоких деревьев, они увидели зеленое море игольчатых волн, поднимающихся к туманному востоку и сбегающих на запад, к настоящему океану.
– О, Ини, – прошептала Наоми. – Это прекрасно!
Это имя придумала ему она. Не хотела называть Младший, как остальные, а он терпеть не мог, чтобы кто-нибудь называл его настоящим именем, Енох. Енох Каин Младший.
Что ж, каждому приходилось нести свой крест. Слава богу, что он не родился с горбом или третьим глазом.
Сняв друг с друга паутину и обмыв руки водой из бутылки, они принялись за еду. Сэндвичи с сыром и сухофрукты.
С сэндвичами в руках не раз и не два обошли смотровую площадку, наслаждаясь видом зеленых просторов. На втором круге Наоми коснулась рукой перил ограждения и обнаружила, что некоторые стойки прогнили.
Она не облокачивалась на перила, так что опасности свалиться с вышки не было. Но стойки чуть подались наружу, одна треснула, и Наоми сразу отступила от ограждения.
Тем не менее Младший так занервничал, что предложил Наоми немедленно покинуть смотровую площадку и доесть ланч уже на твердой земле. По его телу пробегала дрожь, а сухость во рту вызвал отнюдь не сыр. Голос так вибрировал, что Младший едва его узнавал.
– Я чуть не потерял тебя.
– О, Ини, мне ничего не угрожало.
– Не знаю, не знаю.
Поднимаясь на вышку, он не вспотел, но теперь почувствовал, что лоб покрылся испариной.
Наоми улыбнулась. Бумажной салфеткой промокнула ему лоб.
– Ты такой милый. Я тоже люблю тебя.
Он крепко ее обнял. Она словно стала частью его тела.
– Давай спустимся, – настаивал он.
Выскользнув из его объятий, она откусила сэндвич. Ей удавалось оставаться прекрасной даже с набитым ртом.
– Мы же не можем спуститься, не выяснив серьезности проблемы.
– Проблемы?
– Ограждение. Может, прогнила только одна секция, а может – все ограждение. Мы должны досконально во всем разобраться и, вернувшись к цивилизации, поставить в известность Службу охраны лесов.
– А почему бы просто не позвонить им, чтобы они сами проверили ограждение?
Улыбнувшись, она ухватила его за левую мочку, подергала:
– Динь-дон, есть кто-нибудь дома? Звоню, чтобы выяснить, знает ли здесь кто-нибудь значение слов «гражданская ответственность»?
Младший нахмурился:
– Разве звонок в Службу охраны лесов – безответственный поступок?
– Чем больше мы будем знать, тем более достоверно прозвучит наша информация, тем меньше вероятность того, что они примут нас за шутников, которые хотят заставить их впустую прогуляться по лесу.
– Глупость какая-то.
– Отнюдь. – Наоми доела сэндвич. – Хорошенько подумай, Ини. Представь себе, что какая-нибудь семейная пара поднимется сюда с детьми.
Он ни в чем не мог ей отказать. Тем более что она очень редко обращалась к нему с какой-нибудь просьбой.
Ширина смотровой площадки между краем и центральным постом составляла порядка десяти футов. Прочность досок сомнений не вызывала. Опасность могла исходить только от ограждения.
– Ладно, – с неохотой согласился он. – Но проверять прочность ограждения буду я, а ты останешься у стены, в безопасном месте.
– Мужчины сражаются с яростным тигром. – Наоми понизила голос, подбавила в него неандертальской хрипотцы: – Женщины наблюдают.
– Так уж повелось в жизни.
– Мужчины находят сие естественным порядком. – Хрипотца не исчезла. – Женщины видят в этом всего лишь развлечение.
– Всегда счастлив поразвлечь вас, мэм.
И когда Младший шагнул к ограждению, чтобы проверить его прочность, Наоми осталась у остекленной стены.
– Будь осторожен, Ини.
Его рука легла на шероховатые перила. Он понял, что бояться надо скорее заноз, чем падения, но держался на расстоянии вытянутой руки от края площадки. Шел медленно, то и дело покачивая ограждение, выискивая расшатавшиеся или прогнившие стойки.
За пару минут замкнул круг, вернувшись к тому месту, где Наоми обнаружила слабину. Оказалось, что это единственный опасный участок.
– Ты довольна? – спросил он. – Теперь спускаемся.
– Обязательно спустимся, но сначала доедим. – Она достала из рюкзака пакетик с курагой.
– Доедим внизу, – гнул свое Младший.
Она вытряхнула два сушеных абрикоса ему на ладонь:
– Я еще не налюбовалась этим великолепием. Не дави, Ини. Мы знаем, что бояться нечего.
– Хорошо. – Он сдался. – Только не облокачивайся на перила даже там, где ограждение крепкое.
– Из тебя получилась бы прекрасная мамаша.
– Да, но у меня возникли бы определенные трудности с кормлением грудью.
Они вновь обогнули смотровую площадку, останавливаясь через каждые несколько шагов, чтобы лучше запечатлеть в памяти здешние красоты, и напряжение, словно тисками сжимавшее тело Младшего, ослабло. Как всегда, присутствие Наоми действовало на него успокаивающе.
Она положила ему в рот сушеный абрикос. Он сразу вспомнил свадьбу, когда они кормили друг друга кусочками торта. Жизнь с Наоми превратилась для него в бесконечный медовый месяц.
Наконец они вернулись к тому месту, где ограждение едва не развалилось от ее прикосновения.
И тут Младший так сильно толкнул Наоми, что ее ноги едва не оторвались от пола. Глаза молодой женщины широко раскрылись, изо рта выскочил недожеванный кусок сушеного абрикоса. Спиной она врезалась в дышащий на ладан участок ограждения.
На мгновение Младший подумал, что стойки выдержат удар, но раздался треск, несколько стоек, часть перил и Наоми исчезли из виду. Случившееся так удивило ее, что кричать она начала лишь на второй трети своего долгого падения.
Удара о землю Младший не слышал, но крик резко оборвался, свидетельствуя о том, что полет закончен.
Ему оставалось только дивиться самому себе. Он и понятия не имел, что способен на хладнокровное убийство, тем более спонтанное, без анализа риска и потенциальных выгод от столь решительного поступка.
Собравшись с духом, Младший двинулся вдоль края площадки, шагнул к ограждению там, где его прочность не вызывала сомнений, посмотрел вниз.
Наоми лежала на спине, крохотная светлая точка среди камней и травы. Одна нога согнута под невероятным углом. Правая рука вытянута вдоль тела, левая отброшена в сторону. Вокруг головы – нимб золотых волос.
Он так сильно любил жену, что просто не мог на нее смотреть. Отпрянул от ограждения, пересек площадку, сел. Привалился спиной к стене центрального наблюдательного пункта.
Какое-то время безутешно рыдал. Потеряв Наоми, он потерял не просто жену, не просто друга и любовницу, не просто родственную душу. Он лишился части самого себя, в его теле появилась дыра, словно кто-то вынул мышцы и кости и заменил их пустотой, холодной и черной. Ужас и отчаяние навалились на него, он даже подумал о том, чтобы тут же покончить с собой.
Но потом ему стало лучше.
Не так, чтобы совсем хорошо, но определенно лучше.
Пакетик с курагой выпал из руки Наоми перед тем, как девушка исчезла за краем площадки. Младший подполз к пакетику, достал из него сушеный абрикос, положил в рот, пожевал. Вкусно. Сладко.
Так же ползком добрался до самого края, посмотрел на лежащую внизу свою потерянную любовь. Она лежала в той же позе.
Разумеется, он и не ожидал, что она встанет и начнет танцевать. Падение с высоты пятнадцатиэтажного дома наверняка отбило бы такое желание.
С площадки он не видел крови. Но сомнений в том, что вылилось ее много, у него не было.
В застывшем воздухе по-прежнему не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка. Ели и сосны застыли, словно каменные изваяния на острове Пасхи.
Наоми мертва. Только что была такая живая – и вот ушла. Невероятно.
Небо цветом напоминало делфтский фаянс чайного сервиза его матери, облака на востоке – взбитые сливки. Солнце – масло.
Проголодавшись, он съел еще один сушеный абрикос.
Ястреб более не кружил в небе. Над лесом не летали птицы.
Внизу лежала мертвая Наоми.
Как странно устроена жизнь. Какая она хрупкая. Никогда не знаешь, что ждет тебя за углом.
Шок, в котором пребывал Младший, уступил место глубокому изумлению. Всю свою не такую уж длинную жизнь он исходил из того, что мир – место очень таинственное и правит в нем судьба. А теперь, благодаря этой трагедии, вдруг осознал, что человеческие разум и сердце не менее загадочны, чем все остальные творения Создателя.
Кто бы мог подумать, что Каин Младший способен на столь внезапный, немотивированный акт насилия?
Только не Наоми.
Только не сам Младший. Как страстно он любил эту женщину. Как дорожил он ею. Думал, что не сможет без нее жить.
Видимо, ошибался. Наоми внизу, очень даже мертвая, он – наверху, живой. Короткий суицидальный приступ прошел, он знал, что как-нибудь переживет эту трагедию, что боль так или иначе утихнет, что время приглушит острое чувство потери, что он снова кого-нибудь полюбит.
Так что, несмотря на горе и душевную боль, в будущее он смотрел с оптимизмом и интересом, каких давно уже не испытывал. Ему просто не терпелось узнать, что ждет его впереди. Если он способен на такое, значит он совсем не тот человек, каким всегда казался себе. Более сложный, более динамичный. Bay!
Младший вздохнул. Хотелось, конечно, и дальше лежать здесь, глядя на мертвую Наоми, грезя наяву о своей будущей жизни, интересной и яркой, но сейчас предстояло заняться совсем другим.
Глава 4
Второй раз звякнул звонок. Через цветной рисунок на стеклянной панели входной двери Джо увидел Марию Гонсалес: окрашенное кое-где красным, а кое-где зеленым, ее лицо напоминало мозаику из лепестков и листьев.
Когда Джо открыл дверь, Мария склонила голову, не решаясь поднять на него глаза.
– Я должна быть Мария Гонсалес.
– Да, Мария, я знаю, кто ты. – Как всегда, его очаровывала ее застенчивость и стремление овладеть английским.
И хотя Джо отступил в сторону, широко распахнув дверь, Мария осталась на крыльце.
– Я хочу увидеть миссис Агнес.
– Да, конечно. Пожалуйста, заходи.
Она все еще колебалась.
– Насчет английского.
– У нее этого добра предостаточно. Так много, что я и не знаю, что мне с этим делать.
Мария нахмурилась, она еще недостаточно овладела новым для себя языком, чтобы понять шутку Джо.
А Джо тут же добавил, чтобы она, не дай бог, не подумала, что он смеется над ней:
– Мария, пожалуйста, заходи. Mi casa es su casa.[2]
Она бросила на него короткий взгляд и тут же отвела глаза.
Ее скромность лишь частично объяснялась застенчивостью. За другую часть отвечали традиции. В Мексике она принадлежала к социальному слою, представители которого не смели встретиться взглядом с теми, кто мог считаться padrone.[3]
Ему хотелось сказать, что теперь она в Америке, где никому не надо кланяться перед кем-то еще, где социальный статус родителей – не тюрьма, а открытая дверь, исходная точка, стартовав из которой можно взойти на любую вершину.
Если бы он сказал Марии, что та слишком уж недооценивает себя, его слова, учитывая габариты Джо, грубое лицо, привычку вспыхивать, сталкиваясь с несправедливостью и ее последствиями, могли быть восприняты двусмысленно. А ему не хотелось возвращаться на кухню и признаваться в том, что он испугал ученицу Агги.
На какое-то мгновение он подумал, что они так и будут стоять, Мария – уставившись на свои туфли, он сам – глядя на ее макушку, пока трубный глас архангела не объявит о начале Судного дня и мертвые не восстанут из могил.
А потом словно невидимая собачка, обернувшись резким порывом ветра, пробежала по крыльцу, замерла на пороге, принюхалась и юркнула в дом, потянув Марию за поводок.
Джо закрыл дверь.
– Агги на кухне.
Мария разглядывала ковер в прихожей с тем же интересом, что и пол на крыльце.
– Вы можете сказать ей, что я – Мария?
– Проходи на кухню. Она тебя ждет.
– Кухня? На себе?
– Не понял?
– На кухню на себе?
– Сама, – с улыбкой поправил Джо. – Да, конечно. Дорогу ты знаешь.
Мария кивнула, пересекла прихожую, у двери в гостиную обернулась, решилась на долю секунды встретиться с ним взглядом:
– Спасибо.
Наблюдая, как женщина идет через гостиную и исчезает в столовой, Джо не сразу понял, за что она поблагодарила его. Потом до него дошло: за то, что он доверял ей, не боялся, что она их обворует.
Вероятно, она привыкла к тому, что на нее смотрят с подозрением. И не из-за дурной репутации. Просто она была Марией Еленой Гонсалес, приехавшей из Мексики, из Эрмосильо, в поисках лучшей жизни.
Несмотря на очередное напоминание о глупости и злобе окружающего мира, Джо отказался думать о грустном. До появления их первенца оставалось совсем ничего, и он хотел, чтобы с этим днем у него были связаны только светлые и радостные воспоминания, нетерпение и волнения, связанные с рождением младенца.
В гостиной он уселся в любимое кресло и попытался почитать «Живешь только дважды», последний роман о Джеймсе Бонде. Но не мог сосредоточиться на сюжете. Бонд выскальзывал живым и невредимым из-под десяти тысяч ударов, уничтожал злодеев сотнями, но он ничего не знал о тех сложностях, которые могли превратить обычные роды в отчаянную борьбу за жизнь матери и ребенка.
Глава 5
Вниз, вниз, через тени и паутину, через вонючий запах креозота. Младший спускался с предельной осторожностью: если под ним треснет ступенька, если он упадет и сломает ногу, лежать ему тут долгие дни, умирая от жажды, инфекции или холода, на дворе все-таки зима, или его просто раздерут на куски лесные хищники, для которых он станет легкой добычей в своей беспомощности.
В туристические походы ходить в одиночку глупо. Он всегда считал, что идти нужно как минимум вдвоем, чтобы делить риск пополам, но его парой была Наоми, а теперь ее нет с ним.
Спустившись с вышки, Младший поспешил к противопожарной просеке. Возвращение прежним маршрутом заняло бы несколько часов, по просеке он мог добраться до оставленного автомобиля за тридцать, максимум сорок пять минут.
Но остановился, не сделав и нескольких шагов. Он не мог привести полицию на гребень холма, чтобы обнаружить, что Наоми, пусть и в критическом состоянии, еще цепляется за жизнь.
Падение с высоты полутора сотен футов, то есть пятнадцати этажей, обычно заканчивается смертельным исходом. С другой стороны, иной раз случаются чудеса.
Не в том смысле, что боги или ангелы вмешиваются в человеческие дела. В подобную чушь Младший не верил.
– Но бывают единичные исключения из правил, – пробормотал он, потому что с большим уважением относился к теории вероятностей, которая допускала удивительные аномалии, причем безо всякого участия сверхъестественных сил.
Не без внутреннего трепета он двинулся вокруг вышки. Высокая трава и сорняки щекотали голые ноги. Не жужжали насекомые, мошкара не пыталась напиться его крови. Все-таки зима. Медленно, осторожно он приближался к напоминающему тряпичную куклу телу жены.
За четырнадцать месяцев семейной жизни Наоми ни разу не повысила на него голос, ни разу не поссорилась с ним. Она не искала недостатков в человеке, если могла найти достоинства, и относилась к тем людям, которые могли найти достоинства в любом, за исключением растлителей детей и…
Да, пожалуй, и убийц.
Он боялся увидеть ее живой, потому что, впервые за время их знакомства, она посмотрела бы на него с упреком. У нее, несомненно, нашлись бы для него жесткие, возможно, даже грубые слова, и слова эти замарали бы сладостные воспоминания о днях, неделях, месяцах, проведенных вместе, пусть ему бы и удалось заставить ее замолчать. Так что потом, вспоминая о своей златокудрой Наоми, он слышал бы ее визгливый голос, выкрикивающий обвинения, видел бы лицо, искаженное гримасой гнева, лицо, в котором не осталось ничего прекрасного.
А ведь он мог бы вспоминать только хорошее.
Младший обогнул северо-западный угол вышки и увидел Наоми, лежащую на прежнем месте. Она не сидела, не вытаскивала сосновые иголки из золотых волос – лежала не шевелясь.
И тем не менее он остановился, не решаясь подойти ближе. Оглядел ее с безопасного расстояния, щурясь от яркого солнечного света, ловя взглядом малейшее движение. В абсолютной тишине, не нарушаемой ни шелестом листвы, ни жужжанием насекомых, прислушался, словно ожидал, что она вдруг запоет одну из своих любимых песен, «Где-то над радугой» или «Какой прекрасный мир», но не мелодичным, а хриплым, задыхающимся голосом, выплевывая кровь, перекрывая хруст переломанных ребер.
Но похоже, заводил он себя напрасно. Она, конечно же, умерла, но, чтобы окончательно в этом убедиться, следовало подойти поближе. Ничего другого не оставалось. Подойти, поглядеть и быстро, быстро бежать, к богатому событиями будущему, где его ждало много разного и всякого, но обязательно интересного.
Уже на первом шаге он понял, почему ему не хочется подходить к Наоми. Он боялся, что ее прекрасное лицо превратилось в отвратительное кровавое месиво.
Младший отличался брезгливостью.
Он не любил фильмы о войне и детективы, в которых людей пристреливали, или убивали ударом ножа, или даже просто отравляли, а потом обязательно показывали тело, словно создатели фильма сомневались в том, что зритель поверит им на слово и можно спокойно раскручивать сюжет дальше. Он предпочитал романтические истории и комедии.
Однажды он взял триллер Микки Спиллейна, и ему стало дурно от безжалостного насилия, выплеснувшегося на него со страниц книги. И он бы не стал дочитывать ее, если бы не считал, что любое начатое дело надо доводить до конца, даже если речь шла о прочтении отвратительного кровавого романа.
Что ему нравилось в фильмах о войне и триллерах, так это динамичность. Динамичность не вызывала у него отрицательных эмоций. Их вызывали последствия.
Слишком многие режиссеры и писатели старались показать именно последствия, словно значимостью они не уступали предшествующему процессу. А ведь самое интересное заключалось именно в процессе, его динамичном развитии, а не в последствиях. Если преступник убегал на поезде и поезд на нерегулируемом переезде сталкивался с автобусом, полным монахинь, хотелось следовать за поездом, а не возвращаться к автобусу и смотреть, что случилось с бедными монахинями: мертвые или живые, они никоим образом не могли повлиять на сюжет с того самого момента, как покореженный автобус смело с переезда. Сюжет определял поезд, не последствия, а динамика.
И вот теперь, на широком гребне орегонского холма, в милях от любого поезда и еще дальше от каких-либо монахинь, Младший примерял киношные изыски к собственной ситуации, преодолевал брезгливость, пытался добавить динамики. Он приблизился к разбившейся жене, встал над ней, заглянул в недвижные глаза, разомкнул губы: «Наоми?»
Он не знал, почему произнес ее имя, возможно, потому, что с первого взгляда на ее лицо понял: она мертва. Уловил меланхолическую нотку в своем голосе. Должно быть, ему уже недоставало ее компании.
Если б ее глаза чуть повернулись, реагируя на голос, если б она моргнула, показывая, что узнала его, Младший, возможно, не особо огорчился, учитывая ее состояние. Парализованная от шеи до пяток, не представляющая физической угрозы, лишенная возможности говорить или писать, не имеющая никакой иной возможности сообщить полиции о случившемся, однако, сохранив красоту, она могла бы разнообразить его жизнь. Если правильно все обставить, сладенькая Наоми превратится в живую, очень привлекательную куклу, и Младший, пожалуй, не возражал бы против того, чтобы предоставить ей дом и окружить заботой.
Но речь шла о действии без последствий.
Потому что жизни в Наоми было не больше, чем в лягушке, попавшей под колесо тяжелого грузовика, и для него она ничем не отличалась от монахинь в раздавленном поездом автобусе.
Каким-то чудом лицо у нее осталось таким же прекрасным, как при жизни. Приземлилась она на спину, так что удар пришелся на позвоночник и затылок. Младшему не хотелось даже думать о том, во что превратилась часть черепа, соприкоснувшаяся с землей. К счастью, каскад золотых волос скрыл правду. Конечно, лицо – удар-то был сильным – чуть перекосило, но в нем нельзя было прочесть ни грусти, ни страха. Губы даже разошлись в легкой усмешке, словно она только что отпустила удачную шутку.
Поначалу его удивило практически полное отсутствие крови на каменистой земле, но потом он понял, что умерла Наоми мгновенно. Резко остановившись, сердце не успело выплеснуть кровь из ее ран.
Младший присел, коснулся рукой ее лица. Кожа еще не успела остыть.
Будучи человеком сентиментальным, Младший поцеловал ее на прощание. Только раз. Чуть затянул этот единственный поцелуй, но не пытался вставить язык между ее раздвинутыми губами.
Встал и быстро зашагал на юг по противопожарной просеке. У первого поворота обернулся, посмотрел на гребень холма.
Силуэт вышки резко выделялся на фоне синего неба. Окружающий лес отступил, словно природа больше не хотела иметь с вышкой ничего общего.
В небе появились три вороны. Они кружили над той точкой, где, словно Спящая красавица, лежала Наоми. Ее поцеловали, но она не проснулась.
«Вороны питаются падалью».
Напоминая себе, что динамика – всё, последствия – ничто, Каин Младший двинулся по противопожарной просеке. Быстрый шаг сменился легким бегом. Он даже пел, как поют морские пехотинцы, совершая марш-бросок, но песен морских пехотинцев он не знал, поэтому ограничился словами из песни «Где-то над радугой», держа путь не к дворцам Монтесумы, не к берегам Триполи, но к будущему, где его ждали незабываемые впечатления и бесконечные сюрпризы.
Глава 6
Если не считать живота, Агнес была женщиной миниатюрной, но даже в сравнении с ней Мария Елена Гонсалес казалась крошкой. Однако, усевшись за стол, молодые женщины из столь различных миров, но со столь схожими характерами стали отстаивать свой собственный взгляд на оплату урока с тем же упорством, с каким пытаются сдвинуть друг друга тектонические плиты под Калифорнией. Агнес настаивала, что дает уроки по дружбе, не требуя никакой компенсации.
– Я не желаю красть дружеские чувства, – заявила Мария.
– Дорогая, ты не эксплуатируешь мои дружеские чувства. Мне так приятно учить тебя, видеть, какие ты делаешь успехи, что я сама должна платить тебе.
Мария закрыла огромные черные глаза, глубоко вдохнула, беззвучно зашевелила губами, словно повторяя про себя какую-то важную фразу, которую хотела произнести правильно. Наконец глаза открылись.
– Я каждый вечер благодарю Деву Марию и Иисуса за то, что ты появилась в моей жизни.
– Мария, мне так приятно слышать эти слова.
– Но английский я покупаю, – твердо добавила мексиканка и положила на стол три долларовые бумажки.
Три доллара означали шесть десятков яиц или двенадцать батонов хлеба, а Агнес не собиралась оставлять без еды бедную женщину и ее детей. Она пододвинула деньги к Марии.
Сжав челюсти, с закаменевшими губами, прищурившись, Мария вновь положила деньги перед Агнес.
Не обращая на них ни малейшего внимания, Агнес открыла учебник.
Мария развернулась на стуле, спиной к трем баксам и учебнику.
– Ты невозможная. – Агнес смотрела в затылок подруге.
– Неправильно. Мария Елена Гонсалес – реальная.
– Я о другом, и ты это знаешь.
– Ничего не знаю. Я – глупая мексиканская женщина.
– Вот глупой тебя не назовешь.
– Всегда теперь буду глупой, всегда с моим злобным английским.
– Плохим. Твой английский не злобный, а плохой.
– Тогда учи меня.
– Не за деньги.
– Не бесплатно.
Так они и просидели несколько минут, Мария – спиной к столу, Агнес – раздраженно глядя в затылок Марии, пытаясь усилием воли заставить ее повернуться к ней лицом, услышать голос разума.
Наконец Агнес поднялась. Судорога опоясала болью спину и живот, она оперлась о стол, дожидаясь, пока полегчает.
Молча налила чашку кофе, поставила перед Марией. Положила на тарелку выпеченную утром булочку с изюмом, поставила рядом с кофе.
Мария маленькими глотками пила кофе, сидя на стуле боком, спиной к трем долларовым бумажкам.
Агнес вышла из кухни в прихожую, и, когда проходила мимо двери в гостиную, Джо вскочил с кресла, уронив книгу, которую читал.
– Еще не время. – Агнес направилась к лестнице на второй этаж.
– А если тебе станет нехорошо?
– Поверь мне, Джой, ты узнаешь об этом первым.
Агнес начала подниматься по ступеням, и Джо поспешил в прихожую.
– Ты куда?
– Наверх, глупый.
– И что ты собираешься там делать?
– Порву кое-какую одежду.
– Понятно.
В спальне Агнес взяла с туалетного столика маникюрные ножницы, достала из своего стенного шкафа красную блузу, изнутри чуть распорола шов под мышкой, дернула, чуть не оторвав рукав.
Из стенного шкафа Джо достала старый синий блейзер, который он теперь практически не надевал. Оторвала подкладку, ножницами изнутри распорола боковой шов.
К куче рванья добавила вязаный кардиган Джо, предварительно отпоров один карман. За кардиганом последовали брюки из грубой материи. Тут она расправилась со швом на заду и практически отпорола один манжет.
Вещам Джо досталось гораздо больше по одной простой причине: легко верилось, что такой здоровяк если и рвал вещи, то по-настоящему.
Спустившись вниз, Агнес вдруг забеспокоилась, что брюки могут вызвать подозрения. Увидев ее, Джо вновь вскочил с кресла. Правда, на этот раз не уронил книгу, но зато споткнулся о скамеечку для ног и чуть не упал.
– Когда ты сцепился с собакой? – спросила Агнес.
– С какой собакой? – в недоумении переспросил Джо.
– Вчера или позавчера?
– С собакой? Не было никакой собаки.
Она показала ему растерзанные брюки:
– Тогда кто их так изуродовал?
Он мрачно уставился на брюки. Старые, конечно, но он любил работать в них по дому.
– А-а, та собака.
– Просто чудо, что она тебя не покусала.
– Слава богу, у меня была лопата.
– Ты же не ударил собаку лопатой? – усмехнулась Агнес.
– Разве она не нападала на меня?
– Это же был карликовый колли.
Джо нахмурился:
– Я думал, собака была большая.
– Да нет же, дорогой. Маленький Мафин, из соседнего дома. Большая собака разорвала бы и брюки, и тебя. Нам нужна правдоподобная история.
– Мафин – очень милая собачонка.
– Но порода нервная, дорогой. А от нервной породы можно ожидать чего угодно.
– Пожалуй, что да.
– Но, вообще-то, Мафин, хоть он и набросился на тебя, собачка хорошая. И что бы подумала о тебе Мария, если бы ты сказал ей, что ударил Мафина лопатой?
– Я же боролся за свою жизнь.
– Она подумала бы, что ты очень жесток.
– Я бы не сказал, что стукнул собаку.
Улыбаясь и чуть склонив голову, Агнес ожидала продолжения. Джо, уставившись в пол, переминался с ноги на ногу, потом перевел взгляд на потолок, очень напоминая при этом дрессированного медведя, забывшего следующий номер.
– Я схватил лопату, быстренько вырыл яму, – наконец нашелся Джо, – посадил туда Мафина и забросал по шею землей, чтобы он немного успокоился.
– Так, значит, все было?
– Я буду придерживаться этой версии.
– Ладно, на твое счастье, у Марии очень злобный английский.
– Ты не можешь просто взять у нее деньги?
– Конечно могу. А потом превращусь в Румпельштильцхена[4] и потребую в уплату одну из ее дочек.
– Мне нравились эти штаны.
– Когда она их зашьет, они будут как новенькие, – ответила Агнес, направившись на кухню.
– А мой серый кардиган? – осведомился Джо. – Что ты сделала с моим кардиганом?
– Если не замолчишь, я брошу его в камин.
На кухне Мария ела булочку.
Агнес свалила груду одежды на стул.
Аккуратно вытерев руки бумажной салфеткой, Мария с интересом оглядела одежду. Работала она портнихой в химчистке Брайт-Бич. Поцокала языком, видя оторванные пуговицы и распоротые швы.
– Одежда на Джое так и горит.
– Мужчины, – посочувствовала Мария.
Рико, ее муж, пьяница и картежник, сбежал с другой женщиной, бросив Марию и двоих малолетних дочерей. Без сомнения, отбыл он чистенький и наглаженный.
Мария взяла брюки, брови ее взлетели вверх.
– На него напала собака, – усаживаясь, пояснила Агнес.
У Марии округлились глаза.
– Питбуль? Немецкая овчарка?
– Карликовый колли.
– Что это за собака?
– Мафин. Ты знаешь, из соседнего дома.
– Это сделал маленький Мафин?
– Порода очень нервная.
– Que?[5]
– Мафин был не в настроении.
– Que?
Агнес поморщилась. Опять схватка. Не такая и сильная, но промежутки заметно сократились. Она обхватила руками огромный живот и задышала медленно и глубоко, пока боль не ушла.
– Значит, так, – по тону Агнес чувствовалось, что с объяснениями нехарактерной для Мафина агрессивности покончено, – починка этой одежды покроет оплату десяти уроков.
Брови Марии сошлись у переносицы.
– Шести уроков.
– Десяти.
– Шести.
– Девяти.
– Семи.
– Девяти.
– Восьми.
– Договорились, – согласилась Агнес. – А теперь убери деньги, чтобы мы могли начать урок до того, как у меня отойдут воды.
– Вода может отойти? – Мария посмотрела на кран над раковиной. Вздохнула. – Как много я еще должна обучиться.
Глава 7
Облака затягивали послеполуденное солнце, но в просветах небо над Орегоном оставалось сапфировым. Копы, словно вороны, толпились под удлинившейся тенью вышки.
Поскольку стояла она на гребне, по которому проходила граница между территориями штата и округа, большинство слуг закона являлись помощниками шерифа округа, но были и двое полицейских из центрального управления.
Компанию копам составлял приземистый, коротко стриженный мужчина сорока с небольшим лет, в черных брюках и сером, в «селедочную косточку», пиджаке спортивного покроя. Его отличали плоское, как сковорода, лицо и двойной подбородок, первый – слабый, второй – покрупнее, и Младший никак не мог понять, чем вызвано его присутствие. Если бы не родимое пятно цвета портвейна, окружавшее левый глаз, выплескивающееся на переносицу и занимающее половину лба, этот мужчина был бы самым незаметным среди десяти тысяч ничем не выделяющихся людей.
Копы разговаривали друг с другом исключительно шепотом. А может, мысли Младшего не позволяли ему расслышать их разговоры.
Он никак не мог сосредоточиться. Несвязные мысли медленными, ленивыми волнами прокатывались в его мозгу.
В это странное состояние он впал вскоре после того, как, тяжело дыша, добежал до «шеви» и погнал автомобиль в Спрюс-Хиллз, ближайший город. Наверное, его состояние сказывалось на траектории движения автомобиля, потому что черно-белая патрульная машина попыталась прижать его к тротуару и остановить. Но до больницы оставался один квартал, так что он вдавил в пол педаль газа и в визге шин свернул в служебные ворота. Остановился под знаком «Стоянка запрещена», вывалился из «шеви», крича: «Нужна „скорая помощь“! Пошлите „скорую помощь“!»
Весь обратный путь к вышке Младшего, примостившегося на переднем сиденье патрульной машины рядом с помощником шерифа, била дрожь. За ними ехала «скорая помощь» и другие патрульные машины. Когда он пытался отвечать на вопросы копа, его и без того тонкий голос срывался, и ему удавалось лишь вымолвить: «Иисусе, Господи Иисусе».
Шоссе нырнуло в уже лежащую в глубокой тени низину, и Младшего пробил холодный пот при виде кровавых отсветов маячков. А от рева сирены (водитель патрульной машины освобождал дорогу кортежу) ему самому хотелось орать, чтобы стравить переполнявшие его ужас, душевную боль, чувство потери.
Крик этот он, однако, подавил, отдавая себе отчет в том, что, начав кричать, еще долго, очень долго не сможет остановиться.
Когда он вылез из душного салона патрульной машины, на гребне холма, по сравнению с полуднем, заметно похолодало. Его покачивало, когда он повел копов и фельдшеров к тому месту, где среди травы и сорняков лежала Наоми. Он спотыкался на камушках, через которые остальные переступали безо всякого труда.
Младший прекрасно понимал: если кто-то и выглядел виноватым после съеденного в раю яблока, так это он. Обильный пот, пробегающая по телу неконтролируемая дрожь, оборонительные нотки в голосе, неспособность выдерживать чужой взгляд в течение даже нескольких секунд… все эти характерные признаки профессионалы не оставляли без внимания. Ему требовалось взять себя в руки, но он никак не мог найти точку опоры.
А теперь вновь шел к телу своей молодой жены.
Уже наступило трупное окоченение, откинутая рука и лицо стали мертвенно-бледными.
Но безжизненный взгляд оставался на удивление чистым. Так уж вышло, что удар не вызвал кровоизлияния ни в одном из ее удивительных лавандово-синих глаз. Никакой крови, только изумление.
Младший понимал, что все копы наблюдают за ним, когда он смотрел на тело, лихорадочно пытался сообразить, а что должен сделать или сказать в такой ситуации невинный муж, но ничего путного в голову не приходило. Вообще ничего, кроме наталкивающихся друг на друга бессвязных мыслей.
Внутренний сумбур все усиливался, наружные проявления сумбура становились все очевиднее. В холодном воздухе тающего дня он обильно потел, словно преступник, уже усаженный на электрический стул. Щеки у него пылали, отрывистое дыхание вырывалось изо рта. Его трясло, трясло, так трясло, что ему уже казалось, будто он слышит, как гремят, натыкаясь друг на друга, кости, точь-в-точь как сваренные вкрутую яйца в дуршлаге повара.
Как мог он подумать, что выйдет сухим из воды? Должно быть, в тот момент у него помутился рассудок.
Один из фельдшеров опустился на колени рядом с телом, проверил пульс Наоми, хотя в сложившихся обстоятельствах его действия являлись пустой формальностью.
Кто-то надвинулся на Младшего сзади и спросил:
– Так как это случилось?
Он повернул голову и уперся взглядом в глаза мужчины с родимым пятном. Серые глаза, твердые, как шляпки гвоздей, ясные и на удивление прекрасные на этом, отмеченном печатью уродства лице.
Голос мужчины эхом долетал до ушей Младшего, словно доносился из дальнего конца тоннеля. Или с конечной станции, замыкающей дорогу смерти, тот путь, который лежал между последней трапезой и камерой казни.
Младший вскинул голову, посмотрел на участок сломанного ограждения обзорной площадки.
Заметил, что и остальные смотрят туда же.
Все молчали. Тишиной лес больше напоминал морг. Вороны улетели, но в небе, высоко над вышкой, кружил орел, символ справедливости, в ожидании торжества последней.
– Она. Ела. Сушеные абрикосы, – Младший говорил шепотом, в абсолютной тишине слова его ясно слышали все одетые в форму, но не утвержденные судом присяжные. – Ходила. По площадке. Остановилась. Залюбовалась. Видом. Она. Она. Она наклонилась. Исчезла.
Резким движением Каин Младший отвернулся от вышки, от тела своей потерянной возлюбленной, упал на колени, его начало рвать. С такой силой его не рвало даже во время тяжелой болезни. Горькая, густая, чрезмерно обильная, учитывая более чем легкий ланч, рвота толчками вырывалась наружу. Сама тошнота его не беспокоила, но вот мышцы нижней части живота болезненно сокращались, сгибая его пополам, а спазмы все продолжались, пока не пошла зеленая желчь, такая едкая, что от контакта с ней ожгло десны. Тело сотрясалось, он задыхался, словно рвота перекрыла дыхательные пути. Закрыл глаза, чтобы не видеть эту отвратительную лужу блевотины, но никуда не мог деться от запаха.
Фельдшер наклонился над ним, положил на шею холодную руку. Воскликнул: «Кенни! У нас гематемезис!»
Удаляющиеся шаги: кто-то побежал к машине «скорой помощи». Вероятно, Кенни. Второй фельдшер.
Инструктор по лечебной физкультуре, Младший посещал не только массажные классы. И знал, что означает гематемезис. Hematemesis: кровавая рвота.
Открыв глаза, смахнув слезы, не в силах разогнуться от судорог, терроризирующих низ живота, он увидел красные полосы на растекшейся перед ним водянистой зеленой массе. Ярко-красные. Кровь из желудочного тракта была бы темной. Значит, это горловая кровь. Если только в желудке, под действием сильнейших спазмов, не лопнула какая-то артерия. В этом случае он выблевывал свою жизнь.
Он задался вопросом: а не спускается ли орел, дабы убедиться, что справедливость восторжествовала? – но не мог поднять голову.
И тут же Младший почувствовал, что его заваливают с колен на правый бок. Один из фельдшеров поддерживал его голову, чтобы желчь и кровь, которые продолжали исторгаться из горла, не закупорили дыхательные пути.
Боль железными щипцами рвала внутренности. Ее спазматические волны перекатывались по двенадцатиперстной кишке, желудку, пищеводу. Между спазмами он жадно хватал ртом воздух, но без особого результата.
Левой руки, чуть повыше локтевого сгиба, коснулось что-то влажное и холодное. Укол. Руку перетянули резиновым жгутом, чтобы набухла вена. Уколола его игла шприца.
Наверное, ему вводили противорвотное средство. И скорее всего, оно не могло подействовать достаточно быстро, чтобы спасти его.
Ему показалось, что он слышит, как крылья орла мягко рассекают воздух. Он не решался поднять голову.
В горле появилась очередная порция блевотины.
«Агония».
Перед глазами потемнело, словно мозг затопила кровь, поднимающаяся из желудка и пищевода.
Глава 8
После окончания урока Мария Елена Гонсалес отправилась домой с пластиковым пакетом, в котором лежала безжалостно вспоротая ножницами одежда, и маленьким бумажным пакетиком с булочками с вишневой начинкой для ее двоих дочурок.
Закрыв за ней дверь и повернувшись, Агнес наткнулась животом на Джо. Его брови взлетели, он обхватил ее руками, словно хрупкостью она превосходила яйцо малиновки, а ценностью – яйцо Фаберже.
– Пора?
– Сначала я хотела бы прибраться на кухне.
– Агги, нет, – его голос переполняла мольба.
Он напомнил ей книжку о Тревожащемся Медвежонке, которую Агнес уже купила для библиотеки их ребенка.
«Тревожащийся Медвежонок носит тревоги в своих карманах. Под своей панамой и в двух золотых медальонах. Носит их на спине и под мышками. Тем не менее у милого, доброго Тревожащегося Медвежонка есть масса достоинств».
Схватки Агнес учащались и усиливались, поэтому она согласилась:
– Хорошо, только позволь мне сказать Эдому и Джейкобу, что мы уезжаем.
Эдом и Джейкоб Исааксоны, ее старшие братья, жили в двух маленьких квартирках над гаражом на четыре машины, который находился за домом, в глубине участка.
– Я им уже сказал. – Джо отступил от жены на шаг, повернулся и с такой силой распахнул дверцу стенного шкафа в прихожей, что едва не сорвал ее с петель.
Как заправский гардеробщик, достал пальто. В мгновение ока руки Агнес оказались в рукавах, а шеей она почувствовала воротник, хотя в последнее время, из-за резко увеличившихся габаритов, ей требовалось прилагать немало усилий и смекалки, чтобы надеть что-либо, кроме шляпки.
Когда Агнес повернулась к мужу, он уже облачился в пиджак и схватил со столика ключи от машины. Взял ее под правую руку, словно она не могла идти сама и нуждалась в поддержке, и осторожно вывел на парадное крыльцо.
Дверь запирать не стал. В 1965 году в Брайт-Бич было проще встретить бронтозавра, чем преступника.
Вторая половина дня выдалась ветреной, облака, прижимаясь к земле, неслись на запад. В воздухе пахло дождем.
На подъездной дорожке их дожидался зеленый «понтиак», отполированный до зеркального блеска, так и искушающий небо прохудиться, чтобы колеса встречных машин окатили его грязной водой. Джо всегда держал свой автомобиль в безупречной чистоте, и, наверное, у него не оставалось бы времени на работу, если бы они жили не в Южной Калифорнии, где каждый дождь становился событием.
– Ты в порядке? – спросил он, открывая дверцу со стороны пассажирского сиденья и помогая ей сесть.
– Как огурчик.
– Ты уверена?
– Абсолютно.
В «понтиаке» приятно пахло лимонами, хотя на зеркале заднего обзора не висел дезодоратор. Кожаные сиденья, которые Джо регулярно обрабатывал специальным составом, стали куда как мягче, чем в день поставки из Детройта, приборный щиток сверкал.
Джо обошел «понтиак», открыл водительскую дверцу, сел за руль и снова спросил:
– Ты в порядке?
– Будь уверен.
– По-моему, ты побледнела.
– Я в отличной форме.
– Ты смеешься надо мной?
– Ты просто просишь, чтобы я посмеялась над тобой, разве я могу отказать тебе в такой малости?
Когда Джо закрывал дверцу, Агнес скрутила очередная схватка. Она скорчила гримасу, медленно засосала воздух сквозь сжатые зубы.
– О нет, – вырвалось у Тревожного Медвежонка. – О нет.
– Святой боже, милый, расслабься. Это же не обычная боль. Это счастливая боль. Наша маленькая девочка будет с нами еще до того, как закончится этот день.
– Маленький мальчик.
– Доверься материнской интуиции.
– Она есть и у отца. – Он так нервничал, что попал ключом в замок зажигания то ли с третьего, то ли с четвертого раза. – Должен быть мальчик, потому что тогда в доме всегда будет мужчина.
– Ты собираешься сбежать с какой-нибудь блондинкой?
Он не мог завести мотор, потому что попытался повернуть ключ в противоположную сторону.
– Ты знаешь, о чем я. Я еще долго буду рядом, но женщины живут на несколько лет дольше мужчин. Статистика не лжет.
– Страховой агент всегда страховой агент.
– Да нет, это правда. – Он наконец повернул ключ в нужную сторону, и мотор тут же заурчал.
– Хочешь продать мне страховой полис?
– Сегодня, кроме тебя, мне продать его некому. Должен зарабатывать на жизнь. Ты в порядке?
– Боюсь, – ответила она.
Вместо того чтобы тронуть «понтиак» с места, он взял ее руки в свою лапищу:
– С тобой что-то не так?
– Я боюсь, что ты привезешь нас не в больницу, а в дерево.
На его лице отразилась обида.
– Я – самый безаварийный водитель в Брайт-Бич. Доказательство – моя водительская карточка в полицейском участке.
– Только не сегодня. Если на включение первой передачи у тебя уйдет столько же времени, сколько ты заводил мотор, наша девочка будет сидеть и говорить «папа» еще до того, как мы доберемся до больницы.
– Маленький мальчик.
– Просто успокойся.
– Я спокоен, – заверил ее Джо.
Он опустил ручник, включил заднюю передачу вместо первой, и «понтиак» покатился вдоль дома, прочь от улицы. Джо в изумлении нажал на тормоз.
Агнес молчала, пока Джо три или четыре раза медленно набирал полную грудь воздуха, потом указала на ветровое стекло.
– Больница там.
Он покивал.
– Ты в порядке?
– Наша маленькая девочка всю жизнь будет ходить спиной вперед, если мы будем добираться до больницы на задней передаче.
– Если у нас родится маленькая девочка, она будет такая же, как ты. Не думаю, что я сумею справиться с двумя.
– В нашем присутствии ты всегда будешь чувствовать себя молодым.
Осторожными, выверенными движениями Джо переключил передачу, при выезде на улицу посмотрел сначала налево, потом направо, подозрительно прищурившись, словно морской пехотинец, оглядывающий вражескую территорию. Повернул направо.
– Скажи Эдому, что пироги нужно развезти завтра утром, – напомнила Агнес.
– Джейкоб сказал, что он готов сам развезти пироги.
– Джейкоб пугает людей, – покачала головой Агнес. – Никто не прикоснется к пирогу, привезенному Джейкобом, предварительно не проверив его съедобность в лаборатории.
Капли дождя прошили воздух и начали рисовать серебристые узоры на черном асфальте.
Джо включил дворники.
– Впервые слышу, что ты признаешь за своими братьями некоторые странности.
– Они у меня не странные, дорогой. Всего лишь эксцентричные.
– Точно так же о воде можно сказать, что она немножко мокрая.
Агнес хмуро глянула на него:
– Они ведь не мешают тебе жить, не так ли, Джой? Они эксцентричные, но я их очень люблю.
– Я тоже, – признал он. Улыбнулся и покачал головой. – Благодаря им озабоченный страховой агент вроде меня становится беззаботным, как школьница.
– Благодаря им ты, в конце концов, становишься первоклассным водителем. – Она подмигнула мужу.
Он и на самом деле был первоклассным водителем. Дожив до тридцати лет, ни разу не нарушал правила дорожного движения, не попадал в аварии.
Но ни мастерское вождение, ни врожденная осторожность не смогли помочь Джо, когда красный «форд»-пикап проскочил на красный свет, поздно затормозил и на достаточно большой скорости врезался в водительскую дверцу «понтиака».
Глава 9
Его раскачивало, словно в сильный шторм, в уши врывался ужасный рев. Каину Младшему казалось, что он находится в гондоле, которую несет по бурной реке. Нос гондолы украшала вырезанная из дерева фигура дракона, вроде той, какую он видел на обложке фантастического романа про викингов. Но в его конкретном случае гондольер не был викингом. Младший видел высокую фигуру в черном плаще, черный же капюшон полностью скрывал лицо. И весло, которым человек в черном рулил, сработали не из традиционного дерева, а из человеческих костей. Река находилась под землей, небо заменял каменный свод, на далеком берегу горели огни, оттуда же доносился этот жуткий, рвущий барабанные перепонки вой, крик, наполненный яростью, душевной болью и неистовым желанием вырваться из этого кошмара.
Правда, как всегда, оказалась намного прозаичнее и не имела никакого отношения к сверхъестественному. Он открыл глаза и понял, что лежит в заднем салоне «скорой помощи». Вероятно, той самой, которую прислали за Наоми. Но ей теперь требовалась исключительно труповозка.
Над ним склонился не лодочник и не демон, а фельдшер. А ревела сирена.
Живот Каина превратился в обнаженный нерв, словно пара профессиональных мордоворотов отвели на нем душу кулаками и свинцовыми трубами. Каждый удар сердца отдавался болезненным уколом, горло саднило.
Трубка подачи кислорода, раздваивающаяся на конце, крепилась к носу. Холодный, освежающий поток пришелся очень кстати. Младший еще чувствовал вкус блевотины, которая исторглась из него, язык и зубы словно покрылись плесенью.
Но его больше не рвало.
При мысли о случившемся у вышки мышцы живота вдруг сократились, отреагировав, словно лабораторная лягушка – на электрический разряд. Младшего захлестнула волна ужаса.
«Что со мной происходит?»
Фельдшер отбросил в сторону трубку подачи кислорода, быстро приподнял голову пациента и поднес к его подбородку полотенце, чтобы собрать тонкий ручеек рвоты.
Тело Младшего подвело его, как случалось и прежде, но подвело по-новому, ужаснув и унизив его фонтанами всех жидкостей, какие только были в организме, за исключением спинномозговой. Он даже пожалел, что находится в «скорой помощи». Уж лучше лежать в гондоле, несущейся по черным водам Стикса, чем заново переживать все эти мучения.
Когда спазмы прекратились, он откинулся на подушку. Тело била дрожь, от загаженной одежды шел отвратительный запах, и тут Младшего словно громом поразило. В голове сверкнула то ли безумная, то ли открывающая истину мысль: «Наоми, эта злобная сука, она отравила меня!»
Фельдшер, прижимающий пальцы к радиальной артерии на правом запястье Младшего, должно быть, почувствовал убыстрение пульса.
Младший и Наоми ели курагу из одного пакетика. Забирались в него пальцами, не глядя. Вытряхивали на ладонь и брали первый попавшийся сушеный абрикос. Она не могла контролировать, какие абрикосы брал он, а какие ела она сама.
Может, она и сама решила отравиться? Может, собиралась убить его и покончить с собой?
Нет, у любящей жизнь, веселой, богобоязненной Наоми таких намерений быть не могло. Каждый день представал перед ней в золотом сиянии, которое шло от солнца в ее сердце.
Однажды он так и сказал ей. Золотое сияние, солнце в сердце. Она растаяла от его слов, слезы брызнули из ее глаз, и отдалась ему Наоми с бо́льшим жаром, чем обычно.
Нет, скорее, яд был в его сэндвиче с сыром или бутылке с питьевой водой.
Он пришел в ужас: очаровательная Наоми, замыслившая столь гнусное преступление. Покладистая, щедрая, честная, добрая, Наоми просто не могла убить человека, уж тем более мужчину, которого любила.
Но вдруг она разлюбила его?
Фельдшер накачал воздух в манжету сфигмоманометра и, скорее всего, увидел, что кровяное давление Младшего взлетело до небес, когда тот подумал, что любовь Наоми была фикцией.
Может, она вышла за него замуж ради… Нет, это тупик. Денег как раз у него не было.
Она его любила, это точно. Обожала. Боготворила, и это не просто слова.
Как только Младший подумал о возможном предательстве, никакие аргументы уже не могли убедить его, что эти подозрения ни на чем не основаны. Отныне на доброе имя Наоми, которая всегда давала людям больше, чем брала от них, пала тень, и доля сомнений относительно ее намерений навсегда осталась в его памяти.
В конце концов, невозможно узнать, что творится во всех закоулках сердца и души даже самого близкого тебе человека. А идеальных людей нет. Даже тот, кто ведет себя как святой и абсолютно бескорыстен в своих поступках, в душе может оказаться монстром, и свою истинную сущность он может продемонстрировать только однажды, а то и вовсе никогда.
Вот и о себе он мог сказать со всей определенностью: вторую жену он не убьет. Прежде всего потому, что теперь, когда воспоминания о совместной жизни с Наоми замараны столь чудовищным сомнением, он уже не мог заставить себя настолько довериться другой женщине, чтобы связаться с ней узами брака.
Младший закрыл усталые глаза и с благодарностью почувствовал, как фельдшер вытирает его лицо и запекшиеся губы прохладной, влажной салфеткой.
Прекрасный образ Наоми возник перед его мысленным взором, но прекрасной она оставалась лишь мгновение, а потом он, как ему показалось, подметил некое коварство в ее ангельской улыбке, холодный расчетливый блеск в когда-то любимых глазах.
Потерять обожаемую жену – это ужасно, такие раны не заживают, но на его долю выпало еще горшее испытание: на сверкающий образ любимой пала тень подозрения. Наоми более не могла ни успокоить, ни утешить его, и вот теперь Младший лишился и чистых, непорочных воспоминаний о ней, которые могли бы его поддержать. Как всегда, его достало не действие, а последствия.
Изгаженные воспоминания о Наоми вызвали у Младшего такую глубокую, такую беспросветную тоску, что он и не знал, сможет ли выдержать этот удар. Он почувствовал, как задрожали губы, уже не от рвотного рефлекса, а от обиды, безумной обиды. Его глаза наполнились слезами.
Должно быть, фельдшер сделал ему успокаивающий укол. Потому что, хотя «скорая» в вое сирены продолжала мчать сквозь этот знаменательный день, Каин Младший уснул глубоко и покойно… достигнув временного перемирия с самим собой в этом не потревоженном сновидениями сне.
* * *
Проснулся он на больничной кровати, с чуть приподнятой верхней половиной тела. Свет попадал в палату только через единственное окно, пепельно-серый свет, скорее слабый отсвет, да еще разделенный на полосы венецианскими жалюзи. Так что бо́льшая часть палаты пряталась в тени.
Во рту все еще стоял горький привкус, но уже не столь отвратительный, как раньше. Зато все запахи были на удивление чистыми и бодрящими: антисептические препараты, воск для натирки пола, свежевыстиранные и отглаженные простыни. Ни тебе блевотины, ни крови, ни мочи.
Он безмерно ослаб, не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. На него навалилась огромная тяжесть. Глаза и те не желали оставаться открытыми.
Прозрачная трубка соединяла бутылку, закрепленную на стойке у кровати, с иглой, воткнутой в вену правой руки. По трубке поступала жидкость, возмещая потери, понесенные организмом. Конечно, подавались в кровь и противорвотные препараты. Правая рука крепилась на поддерживающей шине, чтобы он не мог согнуть локоть и случайно выдернуть иглу.
В палате стояла вторая кровать. Пустая.
Младший думал, что он один, но, когда ему удалось набраться сил, чтобы устроиться поудобнее, он услышал, как кто-то откашлялся. Источник звука находился за изножием кровати, в правом углу комнаты.
Инстинктивно Младший понял, что человек, наблюдающий за ним из темноты, пришел в палату не с благими намерениями. Врачи и медицинские сестры не приглядывают за пациентом, погасив свет.
Он похвалил себя за то, что не шевельнулся, не издал ни звука. Он хотел, чтобы посторонние как можно позже узнали о том, что он очнулся.
Поскольку верхняя часть его тела была чуть приподнята, ему не пришлось отрывать голову от подушки, чтобы наблюдать за углом, в котором расположился незнакомец. И Младший всматривался в темноту, лежащую за стойкой, за изножием второй кровати.
Он лежал в самой темной части палаты, вдали от окна, но и в интересующем его углу царил не менее плотный мрак. Он изо всех сил напрягал зрение, даже заболела голова, но в конце концов смог разглядеть очертания кресла. В кресле сидел человек, без лица и фигуры, прямо-таки одетый в черное, укрывший голову капюшоном гондольер со Стикса.
У Каина чесалось все тело, ему хотелось пить, но он не выдавал себя ни малейшим движением. Наблюдал.
Какое-то время спустя Младший понял, что ощущение придавленности, с которым он проснулся, не чисто психологического свойства: что-то тяжелое лежало у него поперек живота. Не только тяжелое, но и холодное… настолько холодное, что средняя часть тела совершенно онемела. Так онемела, что поначалу он даже не чувствовал холода.
По телу волнами побежала дрожь. Он с силой сжал челюсти, чтобы застучавшие зубы не привлекли внимание человека в кресле.
Не отрывая взгляда от угла, Младший думал о том, что же все-таки лежит поперек его живота. Таинственный наблюдатель так нервировал его, что он никак не мог собраться с мыслями. Стремление хоть как-то остановить дрожь, вытряхивавшую из него душу, мешало сосредоточиться и всесторонне оценить ситуацию. Чем дольше он не мог установить природу этого неподвижного объекта, тем больше Каин тревожился.
И едва не вскрикнул, когда перед его мысленным взором вдруг возник труп Наоми, местами белее белого, местами – серый, а где-то уже и зеленеющий, абсолютно холодный, с ушедшим из плоти теплом жизни и еще не начавший согреваться теплом разложения.
Нет. Нелепо. Не может лежать на нем Наоми. Не может он делить одну кровать с трупом. Это какой-то черный юмор, сказочка из пожелтевшего от времени издания «Баек из склепа».
И в кресле сидела не Наоми, не могла она прийти сюда из морга, чтобы потребовать отмщения. Мертвые не оживают, ни в этом мире, ни в каком-либо другом. Все это ерунда.
Даже если эти невежественные суеверия и могли оказаться правдой, гость ведет себя слишком уж тихо и терпеливо, чтобы быть мертво-живой инкарнацией его убитой жены. Это затаенность хищника, это звериная хитрость, а не молчание сверхъестественного существа. Нет, это пантера, изготовившаяся к прыжку, змея, слишком злобная, чтобы предупредить о своей близости треском погремушек.
И внезапно Младший догадался, кто сидит в кресле. Конечно же, одетый в штатское полицейский, с родимым пятном на лице.
Тронутые сединой, коротко стриженные волосы. Плоское лицо. Мощная шея.
Из памяти Младшего выплыл глаз, плавающий в родимом пятне цвета портвейна, твердая серая радужка – головка гвоздя на окровавленной ладони распятого человека.
Тяжелый предмет, мертвым весом лежавший на нем, холодил плоть, но теперь, при мысли о том, что из темноты за ним наблюдает детектив с родимым пятном на лице, холод проник и в кости.
Младший предпочел бы иметь дело с Наоми, умершей, воскресшей из мертвых и страшно рассерженной, чем с этим человеком, обладающим чудовищной выдержкой.
Глава 10
С грохотом, подобным тому, с каким разверзнутся небеса в Судный день, «форд» врезался в «понтиак». Агнес не могла услышать начальной фазы своего крика, наибольшую его часть заглушил скрежет металла. «Понтиак» потянуло вбок, он наклонился, начал переворачиваться.
Вымытая дождем мостовая жирно поблескивала под колесами, перекресток находился на середине длинного склона, так что гравитация объединилась с судьбой в заговоре против них. Водительская сторона «понтиака» поднималась все выше. Панорама Брайт-Бич встала на попа. Пассажирская сторона хряпнулась о мостовую.
Стекло в дверце у правой руки Агнес треснуло и разлетелось фонтаном осколков. Черный асфальт с множеством вкрапленных в него камушков вдруг оказался в каких-то дюймах от ее лица.
Прежде чем вставить ключ в замок зажигания, Джо пристегнулся ремнем безопасности, но Агнес, учитывая размеры ее живота, при всем желании не могла этого сделать. Она ударилась о дверцу, боль прострелила правое плечо, мелькнула мысль: «О боже, ребенок!»
Упираясь ногами в пол под приборным щитком, цепляясь за сиденье левой рукой, яростно ухватившись за ручку дверцы пальцами правой, она молилась, просила Господа, чтобы с ребенком ничего не случилось, чтобы она прожила достаточно долго и успела открыть своему первенцу путь в этот прекрасный мир, бескрайний, удивительный, ни с чем не сравнимый. Удастся ли ей самой пережить аварию или нет, Агнес не волновало. Ее заботил только младенец.
Перевернувшись на крышу, «понтиак» с громким скрежетом заскользил по асфальту, и как ни пыталась Агнес удержаться в кресле, ее вытряхнуло из сиденья, бросило к потолку и назад. Лбом она крепко ударилась о крышу, тонкая обивка не смогла смягчить удар, в спину впечатался подголовник.
Она услышала, что кричит, но лишь на короткое время, потому что «понтиаку» снова досталось. То ли в него второй раз врезался «форд», то ли какая-то другая машина, на траекторию движения которой после первого удара вынесло «понтиак», то ли он столкнулся с припаркованным автомобилем. В любом случае от этого удара у Агнес перехватило дыхание, и крики сменились отрывистыми хрипами.
Второй удар позволил «понтиаку» завершить переворот на триста шестьдесят градусов. Перекатившись через водительскую сторону, он наконец вновь встал на все четыре колеса, запрыгнул на тротуар и уткнулся передним бампером в ярко окрашенную стену магазина, торгующего досками для серфинга, вдребезги разбив витринное стекло.
Тревожащегося Медвежонка (даже когда он сидел за рулем, чувствовалось, какой он огромный) развернуло на сиденье, головой к ней. Взгляд Джо не отрывался от нее, из носа лилась кровь.
– Ребенок? – прохрипел он.
– Все нормально, я думаю, все нормально, – выдохнула Агнес, но ее терзала мысль, что она ошибается, что ребенок родится мертвым или войдет в этот мир с серьезными увечьями.
Он не шевельнулся, Тревожащийся Медвежонок, остался сидеть в этом крайне неудобном положении, руки висели плетьми, голова свесилась набок, словно у него не хватало сил держать ее прямо.
– Дай мне… увидеть тебя.
Ее трясло, страх туманом застилал голову, мысли путались, поначалу она не поняла, о чем он, чего хочет, а потом увидела, что окно на его стороне разбито, что дверца искорежена, чуть ли не сорвана с петель. Хуже того, весь бок «понтиака» после чудовищного удара вдавлен в кабину. И куски металла, словно стальные зубы механической акулы, вгрызлись в плоть Джо, круша ребра, подбираясь к теплому сердцу.
«Дай мне… увидеть тебя».
Джо не мог поднять голову, не мог повернуться к ней… потому что его позвоночник поврежден, возможно, сломан, и он парализован.
– О, святой боже, – прошептала Агнес. Она всегда считала себя сильной женщиной, сила ее покоилась на прочном фундаменте веры, с каждым глотком воздуха она всегда вдыхала и надежду, но сейчас вдруг стала слабой, как неродившийся ребенок в ее чреве, страх вытеснил все остальные чувства.
Она наклонилась вперед, к нему, чтобы ему не приходилось очень уж скашивать глаза. А когда трясущейся рукой коснулась щеки Джоя, его голова упала вперед, шейные мышцы превратились в веревки, подбородок уперся в грудь.
В разбитые окна ветер бросал холодные капли дождя. Слышались голоса людей, сбегающихся к «понтиаку», издалека доносились раскаты грома, в воздухе стоял озоновый запах грозы и, более слабый, но куда более ужасный, – крови, но эти подробности не могли заставить Агнес поверить, что происходит все это наяву, поскольку даже самые страшные кошмары казались ей более реальными, чем случившееся.
Она обхватила лицо Джоя обеими руками, но едва смогла поднять его голову, страшась того, что может увидеть.
Глаза его как-то странно сверкали, такого она никогда за ним не замечала, словно сияющий ангел, собравшийся вести мужа в иной мир, уже вселился в его тело и готовился сделать первый шаг.
– Я… ты любила меня, – в голосе не слышалось ни боли, ни отчаяния.
Не понимая, о чем он, думая, что он непонятно зачем спрашивает, любила ли она его, Агнес ответила:
– Да, конечно, мой глупый медвежонок, мой глупый человечек, конечно, я любила тебя.
– Это… единственное, что имело значение… – шептал Джой. – Ты… любишь меня. Благодаря тебе у меня была хорошая жизнь.
Она попыталась сказать, что он выкарабкается, что они еще долго будут жить вместе, что вселенная не столь жестока, чтобы забрать его в тридцать лет, когда впереди у них еще целая жизнь, но правда била в глаза, а лгать ему она не могла.
По-прежнему веря во всемогущество Создателя, по-прежнему вдыхая надежду с каждым глотком воздуха, она не могла помочь ему, как бы ей этого ни хотелось. Агнес почувствовала, как перекашивается у нее лицо, как дрожат губы, попыталась подавить рыдание, но оно вырвалось наружу.
Сжимая руками дорогое ей лицо мужа, она поцеловала его. Встретилась с ним взглядом, яростно моргнула, смахивая слезы, потому что хотела заглянуть ему в глаза, видеть его, видеть его душу, видеть до того самого момента, когда она покинет бренное тело.
Люди уже собрались у автомобиля, пытались открыть искореженные дверцы, но Агнес отказывалась замечать их присутствие.
И Джой, вложив последние резервы сил в пристальный взгляд, выдохнул: «Бартоломью».
У них не было знакомых с таким именем, она ни разу не слышала, чтобы Джой произнес его, но она поняла, чего он хотел. Он говорил о сыне, которого так и не увидел.
– Если будет мальчик… Бартоломью, – пообещала она.
– Будет мальчик, – заверил ее Джой, словно ему открылось будущее.
Кровь заструилась по нижней губе, по подбородку, алая артериальная кровь.
– Милый, нет, – взмолилась она.
Душа исчезла из его глаз. Она хотела пройти сквозь глаза, как проходила Алиса сквозь зеркало, последовать за прекрасным сиянием, которое таяло с каждым мигом, войти в дверь, которая открылась для него, сопроводить из этого залитого дождем дня в вечность.
Но дверь эта предназначалась только для него – не для нее. Не было у нее билета на поезд, который прибыл за ним. Он вошел в вагон, поезд отбыл вместе со светом в глазах Джо.
Агнес наклонилась к нему, последний раз поцеловала в губы, и кровь его на вкус была не горькой, но священной.
Глава 11
Пепельно-серый цвет растворялся в густеющем сумраке, тени становились все более темными, и ни единый звук не нарушал тишины, в которой пребывали Каин Младший и мужчина с родимым пятном на лице.
Чем бы закончилось это затянувшееся ожидание, так и осталось невыясненным, потому что дверь открылась, и в палату, в полосе света, упавшей из коридора, вошел врач в белоснежном халате. Лицо его осталось в тени, как и у лодочника из кошмара Младшего.
– Боюсь, вам не положено здесь находиться, – проговорил врач очень тихо.
– Я его не тревожил, – ответил посетитель тоже чуть ли не шепотом.
– Я в этом не сомневаюсь. Но моему пациенту требуется абсолютный покой и отдых.
– Как и мне, – последовал ответ, очень удививший Младшего. Но ему оставалось только гадать, какой подтекст вкладывал в эти слова человек с родимым пятном на лице.
Мужчины тем временем познакомились. Врача звали Джим Паркхерст. Его отличали мягкие, дружелюбные манеры, успокаивающий голос, которые, похоже, способствовали выздоровлению пациентов ничуть не меньше назначенных лекарств.
Человек с родимым пятном на лице представился как детектив Томас Ванадий. В отличие от врача, он не воспользовался привычным, устоявшимся уменьшительным именем, а голос звучал сухо и бесстрастно, не выражая никаких эмоций.
У Младшего возникло ощущение, что если кто и звал этого человека именем Том, так это его мать. Малая часть его знакомых обращалась к нему: «Детектив», большинство: «Ванадий».
– Что случилось с мистером Каином? – спросил Ванадий.
– Необычайно сильный случай гематемезиса.
– Кровавой рвоты. Один из фельдшеров употребил этот термин. Но в чем причина?
– Видите ли, кровь не была темной и кислотной, то есть не выплеснулась из желудка. Она была алой и щелочной. Ее источник мог находиться в пищеводе, но, скорее всего, это фарингеальная кровь.
– Из его горла.
Горло у Младшего болело, его то ли драли когтями, то ли насадили на кактус.
– Совершенно верно. Вероятно, один или несколько маленьких сосудиков лопнули под напором эмезиса.
– Эмезиса?
– Рвоты. Мне сказали, что рвота была невероятно сильной.
– Блевотина перла из него, как вода – из пожарного гидранта, – подтвердил Ванадий.
– Какое образное сравнение.
– Наверное, я – единственный, которому не придется оплачивать счет химчистки, – добавил детектив.
Они по-прежнему говорили тихо, ни один не приближался к кровати.
Младшего радовала представившаяся возможность подслушать разговор. И не только потому, что он надеялся узнать, каковы и на чем основываются подозрения Ванадия. Его также разбирало любопытство… и тревога: что все-таки стало причиной происшествия, приведшего его на больничную койку?
– Кровотечение серьезное? – осведомился Ванадий.
– Нет. Оно прекратилось. Главное для нас – предотвратить новые приступы эмезиса, которые могут спровоцировать новое кровотечение. Он получает противорвотные препараты и физиологический раствор, компенсирующий обезвоживание организма, они вводятся внутривенно, и мы положили мешки со льдом ему на живот, чтобы исключить судороги мышц нижней части живота и уменьшить воспаление.
«Мешки со льдом. Не труп Наоми. Всего лишь лед».
Младший чуть не рассмеялся. Ох уж эта его страсть все усложнять и драматизировать. Оживший мертвяк не пришел, чтобы разобраться с ним: на его животе лежали всего лишь резиновые мешки со льдом.
– Итак, рвота вызвала кровотечение, – кивнул Ванадий. – Но что вызвало рвоту?
– Мы, разумеется, проведем необходимые исследования, но лишь после того, как его состояние будет оставаться стабильным в течение хотя бы двенадцати часов. Лично я не думаю, что мы найдем физическую причину. Скорее всего, ответ надо искать в области психологии: острый нервный эмезис, вызванный сильной тревогой, потрясением от потери жены, видом ее тела.
Абсолютно верно. Шок. Ужасная, ничем не восполнимая потеря. Младший вновь почувствовал боль утраты и даже испугался, что выдаст себя покатившимися из глаз слезами, хотя позывов на рвоту больше не было.
Он многое узнал о себе в этот знаменательный день… и то, что он невероятно импульсивен, о чем он раньше не подозревал, и то, что готов пойти на болезненные краткосрочные жертвы, чтобы получить значительный выигрыш в долгосрочной перспективе, и то, что он смелый и решительный… но главный урок заключался в другом: он куда более восприимчивый к чужим страданиям, чем казалось ему самому, и вот эта восприимчивость, сама по себе замечательная черта характера, в определенных ситуациях могла доставить ему немало неприятных минут.
– По долгу службы мне приходилось видеть многих людей, которые только что потеряли своих близких, – заметил Ванадий. – Никто из них не блевал, как Везувий.
– Не могу сказать, что это обычная реакция, – признал врач. – Но и к разряду редких отнести ее нельзя.
– Мог он что-нибудь принять, чтобы вызвать рвоту?
– Зачем ему это понадобилось? – В голосе доктора Паркхерста слышалось искреннее недоумение.
– Чтобы имитировать острый нервный эмезис.
По-прежнему притворяясь спящим, Младший порадовался, осознав, что детектив сам помахал перед собой красной морковкой и сам же радостно бросился за ней.
Ванадий продолжил характерным для него бесстрастным тоном:
– Человек бросает один взгляд на тело жены, начинает потеть сильнее, чем пес при случке, потом блюет, словно сошедший с дистанции участник пивного чемпионата, и, наконец, у него начинает идти кровь горлом… Такая реакция не характерна для обычного убийцы.
– Убийцы? Вроде бы мне сказали, что ограждение прогнило.
– Прогнило. Но возможно, это не единственная причина. Однако мы знаем, к каким уловкам прибегают эти парни, как пытаются провести нас. Большинство из этих уловок очевидны, на них не поймается и стажер, так что женоубийцы чистосердечным признанием могли бы сэкономить нам массу времени. Но здесь мы столкнулись с новым подходом. Так и хочется пожалеть бедняжку.
– Разве управление шерифа уже не пришло к выводу, что смерть наступила в результате несчастного случая? – спросил Паркхерст.
– Они хорошие люди, хорошие копы, все до единого, – ответил Ванадий. – И если жалости у них поболе, чем у меня, то это скорее достоинство, чем недостаток. Что мог принять мистер Каин, чтобы вызвать рвоту?
«Для этого достаточно подольше послушать тебя», – подумал Младший.
– Но если управление шерифа думает, что это несчастный случай… – запротестовал Паркхерст.
– Вы знаете, как мы работаем в этом штате, доктор. Не тратим время и силы на то, чтобы определить юрисдикцию. Мы сотрудничаем. Шериф может принять решение не тратить свои более чем ограниченные ресурсы на это расследование, и никто не будет его винить. Он может назвать происшедшее несчастным случаем и закрыть дело. Но он не станет возражать, если мы, на уровне штата, захотим немножко покопаться в этом дерьме.
Вот тут Младшего начало разбирать зло. Как любой добропорядочный гражданин, он не имел ничего против, наоборот, с радостью согласился бы сотрудничать со здравомыслящим полицейским, который проводил бы расследование в полном соответствии с имеющимися у него инструкциями. Но этот Томас Ванадий, несмотря на монотонный голос и невыразительную внешность, производил впечатление фанатика. Любой здравомыслящий человек согласился бы, что линия между законным полицейским расследованием и вторжением в личную жизнь человека без всякого на то права – не толще волоса.
– Вроде бы есть некое снадобье, именуемое ипекак? – спросил Ванадий у Джима Паркхерста.
– Да. Высушенный корень растения, произрастающего в Бразилии. Называется оно ипекакуана. Очень эффективно вызывает рвоту. Активным ингредиентом является сильнодействующий белый алкалоид эметин.
– И продается это средство без рецепта?
– Да. В виде сиропа. Его необходимо иметь в домашней аптечке. На случай, если ребенок проглотит какой-нибудь яд и возникнет необходимость срочно очистить ему желудок.
– В прошлом ноябре я бы с удовольствием воспользовался этим средством.
– Вас отравили?
– Нас всех отравили, доктор. – Неторопливый, размеренный голос детектива Ванадия вызывал у Младшего злость. – Мы же выбирали президента, помните? И во время предвыборной кампании ипекак не раз и не два пришелся бы очень кстати. А что еще может помочь как следует блевануть?
– Ну… апоморфин гидрохлорид.
– Добыть сложнее, чем ипекак.
– Да. Хлорид натрия тоже сработает. Обыкновенная поваренная соль. Если сделать концентрированный раствор, вывернет наизнанку.
– Ее труднее определить, чем ипекак или апоморфин гидрохлорид.
– Определить? – переспросил Паркхерст.
– В блевотине.
– Вы хотите сказать, в рвотных продуктах?
– Извините, я забыл, что нахожусь в приличном месте. Да, я хотел сказать, в рвотных продуктах.
– Ну, лаборатория сумеет определить ненормально высокое содержание соли, однако в суде эти результаты ничего не дадут. Он может сказать, что наелся соленой рыбы.
– Едва ли он воспользовался соленой водой. Ее надо выпить много, и аккурат перед тем, как его вывернуло, но вокруг находились копы, которые по понятной причине не спускали с него глаз. Ипекак выпускается в капсулах?
– Полагаю, что любой может наполнить пустую желатиновую капсулу сиропом, – ответил Паркхерст. – Но…
– Почему нет, есть же у нас любители самокруток. Значит, он мог держать несколько капсул в ладони, незаметно проглотить их без воды и дожидаться, пока желатин растворится в желудке и подействует ипекак.
Вот тут по тону дружелюбного врача почувствовалось, что маловероятная гипотеза детектива и его вопросы начинают ему надоедать.
– Я очень сомневаюсь, что доза ипекака может вызвать столь интенсивную реакцию, как в нашем случае… и уж конечно, упаси бог, не фарингеальное кровотечение. Ипекак – безопасное лекарственное средство, иначе оно не отпускалось бы без рецепта.
– Если он принял тройную или четверную дозу…
– Не имеет никакого значения, – возразил Паркхерст. – Много ипекака или мало – реакция будет одинаковой. О передозировке речи быть не может, потому что ипекак вызывает рвоту, и при этом избыток ипекака исторгается из желудка вместе со всем остальным.
– Тогда, сколько бы ни было ипекака, мало или много, он обнаружится в его блевотине. Извините меня… в рвотных продуктах.
– Если вы рассчитываете, что больница предоставит вам образец его выделений…
– Выделений?
– Рвотных продуктов.
– Меня очень легко запутать, доктор. От обилия терминов голова у меня идет кругом. Нельзя ли нам ограничиться блевотиной?
– Фельдшеры сразу моют тазик для рвотных продуктов, если приходится его использовать. Грязные полотенца и простыни уже наверняка выстираны.
– Ничего страшного. Образцы я собрал.
– Собрали?
– Как вещественное доказательство.
Младший обиделся. Более того, ужасно разозлился. Это же безобразие. Содержимое его желудка, до которого никому не должно быть дела, собирают в пластиковый пакетик без его разрешения, более того, без его ведома. Что за этим последует? Его накачают морфином и во сне возьмут на анализ кал? Сбор блевотины, безусловно, является нарушением конституции Соединенных Штатов, вступает в прямое противоречие с правом любого гражданина не давать показания против себя. Это же пощечина правосудию, попрание высшего закона страны.
Он, разумеется, не принимал ни ипекака, ни другого рвотного, так что никаких улик против него им не найти. Но он все равно злился, из принципа.
Возможно, доктора Паркхерста тоже возмутило это самоуправство детектива, от которого на милю несло фашизмом и фанатизмом, потому что голос его резко изменился.
– Мне нужно осмотреть нескольких больных. Надеюсь, что к вечернему обходу мистер Каин придет в себя, но я хочу, чтобы до завтра вы его не беспокоили.
Ванадий никак не отреагировал на просьбу врача.
– Еще один вопрос, доктор. Если это острый нервный эмезис, как вы предполагаете, не может ли быть для него другой причины, помимо душевной боли, вызванной скоропостижной смертью жены?
– Не могу представить себе более очевидной причины.
– Вина, – ответил детектив. – Если он ее убил, не может ли всесокрушающее чувство вины, точно так же, как душевная боль, вызвать острый нервный эмезис?
– Не могу этого утверждать. Я не психиатр и не психолог.
– Мне достаточно вашей догадки, доктор.
– Я – врач, а не прокурор. И не привык кого-либо обвинять, особенно моих пациентов.
– Очень прошу, удовлетворите мое любопытство. Первый и последний раз. Если причиной может быть душевная боль, то почему не вина?
Доктор Паркхерст долго обдумывал вопрос, хотя ему сразу следовало послать детектива ко всем чертям.
– Ну… да, полагаю, такое возможно.
«Слабохарактерный, забывший про этику, говняный костоправ», – с горечью подумал Младший.
– Пожалуй, я подожду, пока мистер Каин придет в себя, – сказал Ванадий. – Делать мне все равно больше нечего.
В голосе Паркхерста вдруг появились властные нотки, заговорил он тоном властителя вселенной, которому его, должно быть, научили на специальном курсе медицинского института. Да только вспомнил он об этих навыках слишком поздно.
– Мой пациент очень слаб. Его нельзя волновать, детектив. Я действительно не хочу, чтобы ваши допросы начались раньше завтрашнего дня.
– Конечно, конечно. Я не собираюсь его допрашивать. Я просто… понаблюдаю.
Исходя из звуков, Младший понял, что детектив вновь устроился в кресле.
Младшему оставалось только надеяться, что Паркхерст грудью встанет на защиту прав своего пациента. Но его надежды не оправдались.
После долгой паузы он услышал голос врача:
– Вы можете зажечь настольную лампу.
– Мне и так хорошо.
– Ее свет не потревожит пациента.
– Мне нравится темнота.
– Это очень необычно.
– Пожалуй, – согласился Ванадий.
Окончательно признав свое поражение, Паркхерст покинул палату. Тяжелая дверь вздохнула, мягко закрывшись, отрезав скрип каучуковых подошв, шуршание накрахмаленных халатов и прочие шумы, создаваемые медицинскими сестрами, торопливо пробегающими по коридору.
Сын миссис Каин почувствовал себя совсем маленьким, слабым, всеми забытым, чудовищно одиноким. Детектив находился в палате, но его присутствие только усиливало ощущение изоляции.
Ему недоставало Наоми. Она всегда знала, что нужно сказать или сделать, несколькими словами или прикосновением улучшала его настроение, когда он вдруг впадал в минор.
Глава 12
Гром рассыпался цокотом копыт, темно-серые облака несло на восток медленным галопом лошадей из сна. Дождь туманил и искажал силуэты Брайт-Бич, превращая их в зеркальные отражения в комнате смеха. Скользя к сумеркам, этот январский день, похоже, покидал знакомый мир, найдя дорогу в новое измерение.
С мертвым Джоем под боком, возможно, с умирающим в чреве ребенком, запертая в кабине «понтиака», поскольку дверцы от ударов «форда» и о землю намертво заклинило, превозмогая боль, все-таки ей крепко досталось, Агнес отказывалась дать волю страху или слезам. Вместо этого она начала молиться, выспрашивая мудрость, дабы понять, почему такое произошло с ней, и силу, чтобы преодолеть боль и утрату.
Свидетели, первыми прибывшие на место аварии, убедившись, что дверцы открыть невозможно, подбадривали ее словами, наклоняясь к разбитым окнам. Некоторых она знала, других нет. Все желали ей только добра, всех тревожило ее самочувствие, некоторые стойко мокли под дождем без зонтов и плащей, но у всех глаза поблескивали любопытством, отчего Агнес казалось, что она – подопытный кролик или экспонат на выставке, а ее глубоко личная агония служит развлечением для посторонних.
Первой прибыла полиция, потом «скорая помощь». Предложение вытащить Агнес через разбитое ветровое стекло не прошло: крышу прогнуло вниз, уменьшив и без того небольшую высоту стекла, а у Агнес схватки все усиливались. Так что такая попытка могла закончиться самым прискорбным образом.
Появились спасатели с гидравлическими ножницами и пилами для резки металла. Зевак оттеснили от «понтиака».
Раскаты грома приближались. Вокруг нее трещали полицейские рации, звякали подготавливаемые к работе инструменты, ревел ветер. От этой какофонии голова шла кругом. Она не могла отсечь эти звуки, а закрывая глаза, словно попадала в водоворот.
Бензином в воздухе не пахло: бак не разгерметизировался, не взорвался. Так что сгореть заживо она не могла… но час тому назад безвременная смерть Джоя тоже казалась событием невероятным.
Спасатели попросили ее отодвинуться как можно дальше от дверцы, чтобы избежать случайной травмы при резке металла. Двигаться ей было некуда, кроме как к мертвому мужу.
Прижавшись к его телу, чувствуя на плече его голову, Агнес думала об их свиданиях, первых годах совместной жизни. Они иногда ездили в автокинотеатр, сидели, прижавшись друг к другу, держась за руки, смотрели на Джона Уэйна в «Разведчиках», Дэвида Найвена в «Вокруг света за 80 дней». Они были такими молодыми, такими уверенными в том, что им уготована вечная жизнь. Молодыми они оставались и сейчас, да только один из них уже шагнул в вечность.
Спасатель велел ей закрыть глаза и отвернуться от пассажирской дверцы. Через окно сунул в кабину плотное солдатское одеяло и укрыл им правый бок Агнес.
Вцепившись в одеяло, она думала о материи, которой иногда прикрывают в гробу ноги покойника, и чувствовала себя наполовину мертвой. Вроде бы обе ноги в этом мире… и при этом она шагала рядом с Джоем по странной дороге, проложенной в Небытии.
С визгом, воем, шипением зубья пилы вгрызались в листовой металл, в более толстые стойки.
За ее спиной дверь со стороны пассажирского сиденья тявкала и взвизгивала, словно живое существо, которое подвергали немыслимым мучениям, и эти звуки криками боли отдавались в потаенных глубинах сердца Агнес.
Автомобиль качало, железо скрипело, и наконец раздались победные крики спасателей.
Мужчина с прекрасными серовато-зелеными глазами, с каплями дождя на лице, сунулся в кабину, убрал с Агнес одеяло.
– Все в порядке, теперь мы можем вас вытащить. – Его мягкий, но громкий голос словно принадлежал не человеку – богу, ибо вселял удивительную уверенность в том, что уж теперь-то все будет, насколько это возможно, хорошо.
Спасатель исчез, уступив место молодому фельдшеру в черно-желтом блестящем дождевике, надетом поверх белого халата.
– Прежде чем вытаскивать вас из машины, хочу убедиться, что ваш позвоночник не поврежден. Сможете пожать мои руки?
Она пожала.
– Мой ребенок, возможно… травмирован.
Наверное, она пожалела, что озвучила свои самые худшие страхи, от звуков голоса они начали оправдываться. Агнес скрутила схватка, столь болезненная, что она вскрикнула и так сжала руки фельдшера, что тот поморщился. Она почувствовала, как внутри что-то раздувается, а потом давление спало, как при открытии клапана.
Серые штаны костюма для бега, поблескивающие каплями дождя, залетающими сквозь выбитое ветровое стекло, внезапно промокли: отошли воды.
Но еще одно пятно, более темное, чем от воды, появилось в промежности и на штанинах. Цвета портвейна, оно все расширялось и расширялось по серой ткани, но, даже находясь в полубессознательном состоянии, Агнес знала, что никакого чуда нет, из ее чрева брызнул не фонтан вина, а полилась кровь.
Из книг она знала, что околоплодные воды должны быть чистыми. Следы крови в них не являлись поводом для тревоги, но тут речь шла не о следах, а о темно-красных потоках.
– Мой ребенок, – заголосила Агнес.
Новая схватка потрясла ее, на этот раз боль не ограничилась поясницей и животом, а выстрелила вдоль всего позвоночника, словно электрический разряд проскакивал от позвонка к позвонку.
Для впервые рожающей женщины второй этап схваток должен длиться не меньше сорока минут, не меньше двадцати, если роды не первые, но она чувствовала, что приход Бартоломью в этот мир будет отличаться от описанного в книгах.
Фельдшера засуетились. Оборудование спасателей, вырезанные куски дверцы и корпуса оттащили в сторону, чтобы освободить место для каталки, ее колеса дребезжали по осколкам стекла, засыпавшим тротуар.
Агнес не помнила, как ее вытаскивали из «понтиака». Правда, в последний момент оглянулась и увидела тело Джоя, обвисшее на привязном ремне, потянулась к нему, к своей опоре, но ее уже уложили на каталку и повезли к «скорой помощи».
Начали сгущаться сумерки, изгоняя остатки дня, небо придвинулось к земле, иссиня-черное, словно кровоподтек. Зажглись уличные фонари. Пульсирующий свет красных маячков превращал капли дождя в кровавый душ.
Дождь стал холоднее, чем прежде, разве что не превратился в снег. А возможно, она разогрелась и воспаленная кожа острее откликалась на холодные капли. Каждая из них, казалось, шипела, соприкасаясь с ее лицом и с руками, которыми Агнес крепко сжимала раздувшийся живот, словно собиралась не подпустить к своему ребенку Смерть, приди она за ним.
Когда один фельдшер поспешил к «скорой помощи» и уже садился за руль, на Агнес накатила новая схватка, такая сильная, что на какие-то мгновения она практически потеряла сознание.
Второй фельдшер остановил каталку у задней дверцы машины «скорой помощи» и подозвал кого-то из полицейских, чтобы тот поехал вместе с ним. Вероятно, ему требовалась помощь на случай, если роды придется принимать в дороге.
До Агнес едва доходил смысл слов, которыми они перебрасывались между собой, во-первых, потому, что связь с реальностью уходила вместе с потоками крови, во-вторых, потому, что ее отвлекал Джой. Он уже не сидел в разбитом автомобиле, а стоял у открытой задней дверцы машины «скорой помощи».
Железо более не впивалось в его бок, позвоночник зажил, на одежде не было крови.
Зимний дождь не замочил ни его волосы, ни пиджак. Капли не долетали до него на какой-то миллиметр, словно вода и Джой состояли, соответственно, из материи и антиматерии, которые отталкивались друг от друга, потому что их соприкосновение привело бы к катастрофическому взрыву, способному потрясти основы вселенной.
Джой, конечно же, являл собой Тревожащегося Медвежонка: прищуренные глаза, сдвинутые к переносице брови.
Агнес захотелось потянуться к нему, прикоснуться, но тут же она поняла, что у нее нет сил поднять руку. Она более не держалась за живот. Обе руки лежали по бокам, ладонями вверх, и, даже для того чтобы согнуть пальцы, требовались невероятные усилия и концентрация внимания.
Когда она попыталась заговорить с ним, выяснилось, что шевельнуть языком ничуть не проще, чем поднять руку.
Полицейский впрыгнул в задний салон. Как только направляющие каталки совместились с пазами в заднем бампере, ножки автоматически сложились, превратив каталку в носилки на колесиках. И Агнес головой вперед закатили в машину «скорой помощи».
Щелк-щелк! Специальные держатели закрепили носилки на колесиках.
То ли руководствуясь знаниями, полученными на курсах оказания первой помощи, то ли следуя указаниям фельдшера, коп подложил под голову Агнес губчатую подушку.
Без подушки она не смогла бы поднять голову и посмотреть на заднюю дверцу.
Джой стоял снаружи, глядя на нее. Его синие глаза напоминали озера печали.
Может быть, и не печали – острой тоски. Ему предстояло двинуться в путь, но ему ужасно не хотелось отправляться в это странное путешествие без нее.
Как дождь не мог вымочить Джоя, так и вращающиеся красно-белые маячки на патрульных машинах не освещали его. Падающие капельки попеременно превращались то в бриллианты, то в рубины, тогда как Джой стоял темной глыбой, недоступной свету этого мира. Агнес вдруг поняла, что он – полупрозрачный, а его кожа – чистое матовое стекло, сквозь которое пробивается сияние Потусторонности.
Фельдшер захлопнул дверцу, оставив Джоя снаружи, в ночи, под дождем, на ветру между мирами.
«Скорая помощь» дернулась, водитель включил первую передачу, и машина тронулась с места.
Огромные, утыканные гвоздями колеса боли прокатились по Агнес, и на какое-то время она провалилась в темноту.
Когда бледный свет вновь достиг ее глаз, она услышала, как фельдшер и коп о чем-то озабоченно переговариваются, проделывая с ней какие-то манипуляции, но не смогла разобрать ни слова. Они говорили не просто на иностранном, но на древнем языке, уже с тысячу лет как позабытом.
Краска стыда бросилась ей в лицо, когда она поняла, что фельдшер разрезал штаны спортивного костюма и нижняя половина ее тела оголена.
В ее воспаленном мозгу возник образ матового младенца, такого же полупрозрачного, как Джой, стоявший у задней дверцы «скорой помощи». Опасаясь, что видение это означает самое страшное: ребенок родится мертвым, она прошептала: «Моя крошка» – но ни звука не сорвалось с ее губ.
Снова боль, но уже не просто схватка. Мучительная боль. Невыносимая. Утыканное гвоздями колесо опять прокатилось по телу Агнес, она словно попала в средневековую пыточную машину.
Она видела, что мужчины о чем-то говорят, видела их влажные от дождя, тревожные лица, но уже не слышала ни слова.
Собственно, она ничего не слышала: ни воя сирены, ни шуршания шин, ни позвякивания и стука инструментов и оборудования на полках справа от нее. Слух умер.
Но вместо того чтобы вновь провалиться в темноту, чего она ожидала, Агнес вдруг поняла, что поднимается вверх. Пугающее чувство невесомости охватило ее.
Она никогда не полагала себя привязанной к телу, вплетенной в кости и мышцы, но теперь она ощущала, как рвутся узы. И внезапно она обрела свободу, освободилась от бренного груза, воспарила над носилками, чтобы взглянуть на свое тело из-под потолка «скорой помощи».
Ужас охватил ее, едва она осознала, что превратилась в сгусток хлипкой субстанции, куда менее реальной, чем туман, крохотный, слабенький, беспомощный. В панике она подумала, что сейчас растворится в окружающем воздухе, как растворяются молекулы пахучего вещества, и перестанет существовать.
Страх этот подкреплялся видом крови, которая выливалась на матрац носилок, на которых лежало ее тело. Так много крови. Океан.
В звенящую тишину проник голос. Никаких других звуков. Ни сирены. Ни шороха шин по мокрому асфальту. Только голос фельдшера: «У нее остановилось сердце».
Далеко внизу, в стране живых, свет блеснул на игле шприца, который уже держал в руке фельдшер.
Коп расстегнул молнию куртки костюма для бега, потянул кверху просторную футболку, заголил грудь.
Сделав укол, фельдшер отложил шприц и схватился за дефибриллятор.
Агнес хотела сказать им, что все их усилия напрасны, что им бы надо угомониться и отойти в сторону, проявить доброту и дать ей уйти. Причин для того, чтобы и далее пребывать в этом мире, у нее не было. Она хотела присоединиться к своему мертвому мужу и своему мертвому ребенку, вместе с ними перебраться в то место, где нет боли, где нет таких бедняков, как Мария Елена Гонсалес, где никто не жил в страхе, как ее братья Эдом и Джейкоб, где все говорили на одном языке и каждый мог съесть столько пирогов с черникой, сколько хотел.
Она с радостью погрузилась в темноту.
Глава 13
После ухода доктора Паркхерста в больничной палате воцарилась тишина, более тяжелая и холодная, чем мешки со льдом, лежавшие на животе Младшего.
Какое-то время спустя он позволил себе чуть разлепить веки. На глаза надвинулась абсолютная темнота, знакомая разве что слепому. Ни искорки света не проникало в палату из ночи за окном, даже жалюзи спрятала темнота, как черные одеяния Смерти прячут ее лишенные плоти ребра.
А вот из стоящего в углу кресла, словно детектив Томас Ванадий ночным зрением не уступал кошке и увидел приоткрывшиеся глаза Младшего, донеслось:
– Ты слышал мой разговор с доктором Паркхерстом?
Сердце Младшего забилось так часто и громко, что он бы не удивился, если бы Ванадий, сидя в дальнем углу, начал в такт постукивать по полу ногой.
Младший промолчал, поэтому Ванадий ответил за него:
– Да, я думаю, что слышал.
Ох и хитер этот детектив. Знает, как подобраться незаметно, захватить врасплох, найти неожиданный ход. Настоящий специалист психологической войны.
Наверное, многие подозреваемые терялись, раскалывались, не зная, что противопоставить такому подходу. Но Младший не собирался лезть в расставленную западню. Уж он-то не мог пожаловаться на недостаток ума и изворотливости.
Вот на ум он и положился, воспользовался простыми методами медитации, позволяющими успокоиться и замедлить сердцебиение. Коп старался вывести его из себя, надеясь, что он совершит ошибку, но спокойные люди никогда себя не оговаривали.
– Как это было, Енох? Ты смотрел ей в глаза, когда толкнул ее? – монотонный голос Ванадия напоминал голос совести, который точил его, как вода – камень. – Или у такого убивающего женщин труса, как ты, духу на это не хватило?
«Плосколицый, двухподбородочный, наполовину облысевший, собирающий блевотину говнюк», – подумал Младший.
Нет. Так не годится. Спокойствие прежде всего. Полное безразличие к оскорблениям.
– Ты ждал, пока она повернется к тебе спиной, не решился встретиться с ней взглядом?
Какая патетика! Только тупоголовые дураки, необразованные и никчемные, могли попасться на эту удочку, признаться под воздействием столь топорных методов.
А вот Младший получил образование. Учился не только массажу. Получил диплом бакалавра наук, специализируясь по реабилитационной терапии. И, садясь к телевизору, что случалось не так уж и часто, смотрел не фривольные викторины или ситкомы[6] вроде «Гора Гомера» или «Деревенщина из Беверли-Хиллз», а серьезные драмы, требовавшие от зрителя определенных умственных усилий: «Дымящееся ружье», «Золотое дно», «Беглец». Из всех настольных игр он отдавал предпочтение «Крестословице»,[7] потому что она способствовала расширению словарного запаса. Будучи членом клуба «Книга месяца», он приобрел тридцать томов лучших образчиков современной литературы и уже прочел или хотя бы пролистал шесть из них. Прочитал бы все, если бы не широта круга его интересов: не хватало времени, чтобы в полном объеме удовлетворить все его культурные запросы.
– Ты знаешь, как меня зовут, Енох? – последовал вопрос.
«Томас Толстый Зад Ванадий».
– Ты знаешь, кто я такой?
«Прыщ на жопе человечества».
– Нет, ты только думаешь, что знаешь, как меня зовут и кто я такой. Ну да ничего. Со временем ты все поймешь и узнаешь.
От этого парня по коже бежали мурашки. Младший уже начал склоняться к мысли, что необычное поведение детектива отнюдь не тщательно продуманная стратегия, как казалось на первый взгляд. И причина заключалась в том, что у Ванадия съехала крыша.
Однако выжил коп из ума или нет, разговор с ним, особенно в кромешной, пугающей тьме, не мог принести Младшему никакой пользы. Он выбился из сил, тело болело, горло саднило, он опасался, что в ходе допроса, учиненного ему этой коротко стриженной толстошеей жабой, не сможет сохранить должный самоконтроль.
Поэтому перестал вглядываться сквозь тьму в человека, устроившегося в кресле в углу палаты. Закрыл глаза и попытался убаюкать себя, вызвав перед мысленным взором умиротворяющий образ волн, которые с монотонным плеском набегают на залитый луной берег.
Эта техника расслабления раньше срабатывала неоднократно. Он вычитал о ней в прекрасной книге «Как прийти к здоровому образу жизни через самогипноз».
Каин Младший всегда и во всем стремился к самоусовершенствованию. Он твердо верил в необходимость постоянно расширять свои знания и кругозор, для того чтобы лучше понимать себя и окружающий мир. Ответственность за выбор жизни, которую вел человек, целиком и полностью лежала на нем самом.
Книгу «Как прийти к здоровому образу жизни через самогипноз» написал доктор Цезарь Зедд, известный психолог, автор дюжины бестселлеров, научно-популярных книг, призванных помочь человеку в его стремлении к самосовершенствованию. Все они стояли на полках Младшего, рядом с книгами, полученными через клуб. Еще в четырнадцать лет Младший начал покупать книги Зедда, тогда еще в мягкой обложке, к восемнадцати, как только появилась такая возможность, заменил их на более солидные, в переплете, и с тех пор покупал исключительно первые издания новых произведений доктора.
Собрание сочинений Зедда стало для него самым полным, самым достоверным, самым надежным путеводителем по жизни. Если у Младшего возникали сомнения или тревоги, он обращался к Цезарю Зедду и всегда находил наиболее простое, правильное, естественное решение. А если ему случалось пребывать в прекрасном расположении духа, Зедд заверял его, что добиваться успеха и любить себя – нормальное состояние человека.
Смерть доктора Зедда на прошлый День благодарения стала ударом для Младшего, потерей для нации, для всего мира. Он считал, что уход из жизни доктора Зедда – трагедия, сопоставимая с убийством годом раньше президента Кеннеди.
И, как в случае Джона Кеннеди, смерть Зедда также была покрыта завесой тайны. Наверняка тут не обошлось без злой воли тех, кому слава Зедда стояла поперек горла. Лишь немногие поверили в то, что доктор Зедд покончил с собой, и Младший, конечно же, не входил в число этих идиотов. Цезарь Зедд, автор книги «Ты имеешь право быть счастливым», никогда не вышиб бы себе мозги из дробовика, в чем власти пытались убедить общественность.
– Ты притворишься, что проснулся, если я попытаюсь задушить тебя? – спросил детектив Ванадий.
Голос донесся не из угла, а прозвучал в непосредственной близости от кровати.
Если бы Младший не расслабился, лицезрея мысленным взором легкие волны, набегающие на залитый лунным светом берег, он бы вскрикнул от изумления, мог бы даже резко сесть, выдав себя и подтвердив подозрения Ванадия, полагавшего, что Младший уже давно очнулся.
Он не слышал, как коп поднялся с кресла и пересек комнату. С трудом верилось, что человек с толстым животом, свешивающимся над поясом брюк, бычьей шеей, обтянутой воротником рубашки, и вторым подбородком, размерами превосходящим первый, обладал столь сверхъестественной прытью.
– Я могу подпустить пузырьки воздуха в капельницу, – продолжил детектив. – Ты умрешь от эмболии, и никто ничего не узнает.
Лунатик. Последние сомнения отпали: Томас Ванадий столь же безумен, как Чарли Старкуэтер и Кэрил Фьюбейт, подростки-убийцы, которые в поисках острых ощущений несколькими годами раньше застрелили одиннадцать человек в Небраске и Вайоминге.
В последнее время с Америкой что-то происходило. Страна словно потеряла устойчивость. Накренилась. И общество медленно сползало в бездну. Сначала подростки-убийцы, убивающие ради того, чтобы убивать. Теперь копы-маньяки. А худшее, несомненно, еще впереди. Если сползание началось, остановить его чрезвычайно трудно, даже невозможно. Тому пример любая лавина.
Дзинь.
Какой-то странный звук, и Младший не сразу понял, чем он вызван.
Дзинь.
В любом случае у него не было ни малейшего сомнения в том, что звук этот напрямую связан с Ванадием.
Дзинь.
Ага. Ну конечно, он все понял. Детектив щелкал ногтем по бутылочке с раствором, закрепленной на стойке.
Дзинь.
И хотя Младший понимал, что заснуть ему не удастся, мысленно он вновь сосредоточился на успокаивающем образе легких волн, мерно набегающих на залитый лунным светом песок. Это же один из приемов, позволяющих не просто заснуть, но и расслабиться, а сейчас только расслабленность и могла его спасти.
ДЗИНЬ! Более сильный, резкий щелчок.
Мало кто серьезно относится к самосовершенствованию. А ведь в человеке заложено ужасное стремление крушить всех и вся, стремление, которое необходимо сдерживать, которому ни в коем случае нельзя давать волю.
ДЗИНЬ!
Когда люди не ставят перед собой положительных целей, не стремятся улучшить свою жизнь, они тратят энергию во зло. Они получают Старкуэтера, убившего столько людей безо всякой для себя выгоды. Они получают копов-маньяков и эту новую войну во Вьетнаме.
Дзинь! Младший ожидал очередного щелчка по бутылке, но его не последовало.
И он замер в напряженном ожидании.
Лунный свет померк, легкие волны более не радовали его мысленный взор. Младший сосредоточился, пытаясь вернуть в поле зрения воображаемое море, но на этот раз, а случалось такое крайне редко, методика Зедда его подвела.
Вместо моря возникли толстые пальцы Ванадия, с удивительной деликатностью ощупывающие устройство для внутривенного вливания, изучающие функциональное назначение его частей, точно так же, как слепой подушечками пальцев читает книгу, набранную шрифтом Брайля. Он представил себе, как детектив нашел сливное отверстие, переходящее в трубку, сжал последнюю большим и указательным пальцем. Увидел, как он достает шприц, тем ловким движением, каким фокусник выхватывает из кармана шелковый шарф. В шприце нет ничего, кроме воздуха. Он втыкает иглу в трубку…
Младшему хотелось позвать на помощь, но он не решился.
Не решился даже притвориться, что просыпается, с бормотанием и зевком, потому что детектив сразу засек бы обман, понял, что пациент давно уже не спит. Если же он только притворялся, что лежит без сознания, если подслушал разговор доктора Паркхерста и Ванадия, а потом отказался отреагировать на прямые обвинения Ванадия, его обман будет неминуемо истолкован как признание вины в убийстве супруги. И уж тогда этот упрямый, не знающий жалости детектив обязательно дожмет его.
Пока же он, Младший, имитировал сон, детектив не мог с абсолютной уверенностью утверждать, что обман имеет место. Он мог подозревать, но не знать точно. А потому у него останется хотя бы тень сомнения в виновности Младшего.
Растянувшуюся, как бесконечность, тишину вновь нарушил детектив.
– Знаешь, как я представляю себе человеческую жизнь, Енох?
«Этот глупец еще и философ».
– По мне, вселенная – некий музыкальный инструмент с бесконечным числом струн.
«Правильно, вселенная – одна огромная гавайская гитара».
В занудном монотонном голосе появились новые нотки.
– И каждое человеческое существо, каждое живое существо – струна этого инструмента.
«И у Бога четыреста миллиардов пальцев, и Он играет ну очень модную версию блюза „Отпуск на Гавайях“».
– Решения, которые каждый из нас принимает, и поступки, которые он совершает, суть вибрации, которые распространяются по гитарной струне.
«В твоем случае это скрипка, а мелодия – тема из „Психопата“».
Страстность в голосе Ванадия была подлинной, отталкивающейся от здравомыслия, а не горячности, не было в ней сентиментальности или елейности… и это пугало больше всего.
– Вибрации одной струны вызывают более слабые, ответные реакции во всех струнах, через корпус инструмента.
«Бредятина».
– Иногда эти ответные реакции очень заметны, но в большинстве своем они такие слабые, что услышать их может только тот, кто обладает необычайно высокой чувствительностью.
«Святой боже, позволь мне умереть прямо сейчас и освободи от выслушивания всей этой дури».
– Когда ты перерезал струну Наоми, ты положил конец воздействию ее музыки на жизни остальных и на будущее. Ты внес диссонанс, который будет слышен, пусть и слабо, во всех концах вселенной.
«Если ты пытаешься вызвать у меня еще один приступ рвоты, похоже, ты своего добьешься».
– Этот диссонанс вызовет множество других вибраций, часть которых вернется к тебе. Какие-то ты мог предугадать, какие-то – нет. Я – самая худшая из тех вибраций, которые ты предугадать не мог.
Несмотря на браваду невысказанных реплик Младшего, Ванадий лишил его спокойствия. Да, коп был явно не в себе, но не следовало держать его за обычного психа.
– Когда-то я был сомневающимся Фомой.[8] – Голос детектива доносился уже не от кровати, а от двери, хотя Младший не слышал его шагов.
Несмотря на невзрачную внешность, а тем более в темноте, когда внешность вообще не в счет, Ванадий производил впечатление мистика. И хотя Младший не верил ни в мистиков, ни в различные сверхъестественные силы, которыми эти люди, по их утверждениям, обладали, он знал, что мистики, не сомневающиеся в собственной избранности, чрезвычайно опасны.
Детектив держался своей струнной теории, но, возможно, ему открывались видения и слышались голоса, как Жанне д’Арк. Жанна д’Арк без красоты и грациозности, Жанна д’Арк со служебным револьвером и правом использовать его по назначению. Этот коп не угрожал английской армии, в отличие от Жанны, но, по мнению Младшего, он куда в большей степени заслуживал сожжения на костре.
– Но теперь у меня не осталось сомнения. – Голос Ванадия вновь стал занудным и монотонным. Раньше эта монотонность вызывала у Младшего отвращение, но теперь он предпочитал ее той спокойной страстности, которая недавно прозвучала рядом с его кроватью. – В любой ситуации, при любом развитии событий я всегда знаю, что надо делать. И я точно знаю, как поступить с тобой.
«Чем дальше, тем страшнее».
– Я вложил руку в рану.
«Какую рану?» – чуть не сорвалось с языка Младшего, но он вовремя разгадал замысел Ванадия и не поддался на провокацию.
После короткой паузы Ванадий открыл дверь в коридор.
Младший надеялся, что его не выдал блеск глаз в ту долю секунды, которая потребовалась, чтобы закрыть их.
Темный силуэт на фоне флуоресцентного блеска, Ванадий вышел в коридор. Яркий свет, казалось, поглотил его. Детектив замерцал и исчез, как мираж в раскаленной солнцем пустыне, растворился между полотнищами горячего мерцающего воздуха, которые, казалось, разделяли миры. Дверь закрылась.
Глава 14
Сильная жажда подсказала Агнес, что она не умерла: в раю не может быть жажды.
Разумеется, она могла бы и ошибиться с оценкой решения, принятого в отношении ее Высшим Судией. Жажда могла означать, что она в аду, где грешников кормят не пирогами с черникой, а солью, золой и пеплом, мучиться ей веки вечные среди убийц, воров, каннибалов и тех водителей, которые мчатся со скоростью тридцать пять миль в час мимо школ, где скорость движения ограничена двадцатью пятью милями.
Но ее бил и озноб, а она не слышала, чтобы ад страдал от недостатка тепла, так что, возможно, ее все-таки не приговорили к вечным страданиям. И это радовало.
Иногда она видела наклонявшихся над ней людей, но лишь силуэты, не могла разглядеть лиц, глаза застилал плотный туман. Возможно, наклонялись над ней ангелы или демоны, но она склонялась к мысли, что это обыкновенные люди, потому что один из них выругался, чего не следовало ждать от ангела, и они все старались устроить ее поудобнее, тогда как любой уважающий себя демон в подобной ситуации жег бы ей спички в ноздрях, загонял иглы в язык или пытал другими, более изощренными способами, которым его обучали в той школе, где демоны приобретают знания и навыки, необходимые для дальнейшей трудовой деятельности.
Они также произносили слова, которые не могли сорваться с уст ангелов или демонов: «…вводить жидкость в подкожную клетчатку… окситоцин внутривенно… обеспечивать идеальную стерильность, я подчеркиваю, идеальную, постоянно… несколько капель настойки спорыньи перорально, как только она сможет что-то пить…»
Но большую часть времени Агнес ничего не слышала и не видела, а плавала в темноте или грезах.
Каким-то боком ее занесло в «Разведчики». Она и Джой скакали на лошадях рядом с хмурым, объятым тревогой Джоном Уэйном, тогда как радостный Дэвид Наивен летел над ними в корзине, подвешенной к большущему, ярко раскрашенному шару, наполненному горячим воздухом.
Просыпаясь, переносясь из звездной ночи Дальнего Запада под электрический свет, видя над собой пятна лиц без ковбойских шляп, Агнес чувствовала, как кто-то медленными кругами водит куском льда по ее голому животу. Дрожа от струек холодной воды, стекающей по бокам, она пыталась спросить, зачем к ее животу прикладывают лед, если она и так промерзла до костей, но не могла шевельнуть ни губами, ни языком.
Внезапно она осознала (святой боже!), что кто-то засунул в нее руку, в самое чрево, и массирует ей матку, так же медленно, как чья-то другая рука водит куском льда по животу.
– Ей нужно сделать еще одно переливание крови.
Этот голос она узнала. Доктор Джошуа Нанн. Ее гинеколог.
Она и раньше слышала его голос, но узнала только сейчас.
С ней случилось что-то ужасное, она вновь попыталась заговорить, но безуспешно.
Раздраженная, замерзшая, вдруг напуганная, она вернулась на Дальний Запад, в теплую ночь, повисшую над пустыней. Уютно потрескивал костер. Джон Уэйн обнял ее за плечи. «Здесь нет мертвых мужей и мертвых детей». Он, конечно, хотел успокоить ее, но она разрыдалась, и Ширли Маклэйн пришлось увести ее от костра, чтобы по-бабьи поговорить о своем.
* * *
Агнес вновь проснулась, уже не в ознобе, а в лихорадке. Потрескавшиеся губы, сухой и шершавый язык.
В палате горел мягкий свет, тени расселись по углам, словно стая устроившихся на ночлег птиц.
Когда Агнес застонала, одна из теней расправила крылья, придвинулась ближе, к правой стороне кровати, и превратилась в медицинскую сестру.
– Пить, – прошептала Агнес. В ее голосе скрипел песок Сахары, должно быть, тем же сухим шепотом последние три тысячи лет мумия фараона разговаривала сама с собой в склепе.
– Еще несколько часов вам нельзя ни есть, ни пить, – ответила медсестра. – Слишком велика опасность рвотного рефлекса. Спазмы желудка могут привести к тому, что у вас вновь откроется кровотечение.
– Лед, – другой голос, с левой стороны кровати.
Медсестра перевела взгляд с Агнес на этого человека:
– Да, она может полизать кубик льда.
Повернув голову, Агнес увидела Марию Елену Гонсалес и подумала, что опять грезит.
На ночном столике стоял стальной кувшин, стенки которого поблескивали от капелек конденсата. Мария сняла крышку, ложкой на длинной ручке достала кубик льда. Подставив левую руку под ложку, чтобы капли воды не попали на белье, поднесла ее ко рту Агнес.
Лед был не просто холодным и мокрым, но удивительно вкусным, даже сладким, словно заморозили не воду, а кусок темного шоколада.
Когда Агнес начала крошить лед зубами, медсестра остановила ее:
– Нет, нет, глотать нельзя. Лижите его, пусть тает сам.
Это предупреждение, произнесенное очень серьезным тоном, перепугало Агнес. Если такая маленькая толика льда, попав в желудок, может вызвать приступ рвоты, который спровоцирует возобновление кровотечения, значит она исключительно слаба. И одна из окружающих ее теней – смерть, упрямо дожидающаяся своего часа.
Она вся горела, так что лед растаял быстро. Тоненькая струйка стекала в горло, но она не смогла изгнать из голоса сахарскую сушь, тогда Агнес попросила:
– Еще.
– Только один кубик, – смилостивилась медсестра.
Мария зачерпнула из запотевшего кувшина еще один кубик, сбросила его обратно, нашла побольше, замялась, но потом поднесла к губам Агнес.
– Воду можно разбить, если сначала превратить ее в лед.
Фраза эта вышла такой загадочной и красивой, что Агнес размышляла над ней, пока последняя крошка льда не растаяла на ее языке. А потом на смену льду пришел сон, темный и густой, как шоколадный крем.
Глава 15
Когда доктор Паркхерст пришел на вечерний обход, Младший более не стал притворяться спящим, но засыпал врача вопросами, ответы на большинство которых он уже знал, подслушав разговор Паркхерста с детективом Ванадием.
Горло все еще саднило от взрывной рвоты, его обожгло кислотой, выброшенной из желудка, так что голосом, одновременно хриплым и писклявым, он напоминал персонаж из кукольной программы для детей, которую показывали по субботам. Если б не боль, он бы даже посмеялся над своим голосом. Да только каждое слово драло горло, как наждаком, и из всех чувств у него осталась разве что жалость к себе.
Хотя он уже дважды услышал объяснения врача по поводу острого нервного эмезиса, Младший все-таки не понимал, каким образом шок от потери жены мог привести к столь сильному приступу.
– Раньше с вами такого не случалось? – спросил Паркхерст, стоя у кровати, и держа в руках историю болезни и глядя на Младшего поверх очков, которые сползли чуть ли не на кончик носа.
– Нет, никогда.
– Периодические приступы рвоты, возникаемые без видимых причин, могут служить одним из признаков двигательной атаксии, но никаких других симптомов у вас нет. Я бы не стал волноваться по этому поводу, если, конечно, приступ не повторится.
Младший скорчил гримаску: перспектива еще одной рвотной атаки его не радовала.
– Мы исключили большинство из возможных причин. У вас нет острого миелита или менингита. Или анемии мозга. Сотрясения тоже не было. Нет и никаких симптомов болезни Менье, мы еще сделаем анализы, которые позволят исключить возможные опухоль и патологические изменения мозга, но я, впрочем, и так уверен, что причина не в этом.
– Острый нервный эмезис, – хрипло пропищал Младший. – Я никогда не считал себя нервным человеком.
– О, это вовсе и не означает, что вы – нервный. В нашем случае все указывает на то, что приступ вызван психологическими факторами. Горем, шоком, ужасом… все эти чувства могут вызывать сильную физиологическую реакцию организма.
– Ага.
Жалость согрела аскетическое лицо врача.
– Вы очень любили свою жену?
«Я ее обожал», – попытался ответить Младший, но от избытка чувств у него перехватило дыхание. Лицо перекосило от горя, тут ему не пришлось делать над собой усилие, к его изумлению, из глаз брызнули слезы.
Встревоженный тем, что бурная эмоциональная реакция пациента может привести к рыданиям, которые, в свою очередь, вызовут спазмы желудка и новый приступ рвоты, Паркхерст подозвал медицинскую сестру и велел немедленно сделать Младшему укол диазепама.
А после инъекции сказал:
– Вы – очень восприимчивый человек, Енох. Подобная черта характера – большая редкость в нашем бесчувственном мире. Но в вашем теперешнем состоянии такая восприимчивость – ваш худший враг.
Врач продолжил обход, а медсестра оставалась с Младшим, пока не стало ясно, что транквилизатор подействовал и кровавая рвота пациенту более не грозит.
Звали ее Виктория Бресслер. Симпатичная блондинка, она, конечно, не могла составить конкуренцию ослепительно красивой Наоми, но последняя, не следовало этого забывать, уже отошла в мир иной.
Когда Младший пожаловался на жажду, сестра объяснила, что пить ему можно будет только утром. Причем на завтрак и ланч ему прописана жидкая диета. И лишь в обед он получит мягкую пищу.
А пока она может предложить ему лишь несколько кусочков льда, причем он должен их лизать, но не грызть.
– Пусть они растают у вас во рту.
Из кувшина на ночном столике Виктория по одному доставала кусочки льда, не кубики, а овальные голыши, и клала их в рот Младшего. Точными, тщательно выверенными движениями, как и полагалось опытной медсестре, но при этом с обворожительной улыбкой и кокетливым блеском глаз, более свойственным куртизанке. Ложку из его рта она вынимала намеренно медленно, как бы сладострастно. Младшему даже вспомнился эпизод трапезы из фильма «Том Джонс».
Младший привык к тому, что женщины пытаются соблазнить его. Внешние данные – тут природа не поскупилась – в сочетании с постоянным стремлением к самосовершенствованию превратили его в интересную личность. А самое главное, благодаря книгам Цезаря Зедда он научился очаровывать людей.
И хотя он никогда не хвастался своими подвигами и не участвовал в посиделках в раздевалке, где другие инструкторы взахлеб рассказывали о своих победах, Младший нисколько не сомневался, что может «обслужить» женщину куда лучше, чем любой другой мужчина. Возможно, слухи о его физических достоинствах и мастерстве дошли до Виктории: женщины часто говорят об этом между собой, пожалуй, даже чаще, чем мужчины.
Учитывая боли в животе и горле и крайнюю усталость, Младший чуточку удивился, обнаружив, что эта миловидная сестричка возбуждает его, превратив ложку в сексуальный объект. И хотя его состояние не позволяло даже подумать о чем-то романтичном, Младшего определенно заинтересовала возможность наладить отношения в будущем.
Конечно, он понимал, что такие мысли греховны, все-таки тело его жены еще не предали земле, и ему не хотелось выглядеть подлецом. Наоборот, он стремился создать у Виктории самое лестное мнение о себе. Наверняка был способ показать ей, разумеется не выходя за рамки приличий, что она его возбуждает.
«Осторожнее».
Ванадий мог это выяснить. С какой бы тонкостью ни отреагировал Младший на Викторию, Томас Ванадий мог прознать про его эротический интерес. Как-то. Каким-то образом. У Виктории не возникнет ни малейшего желания сообщать о той искре, что проскочила между ней и Младшим, она не захочет помогать властям упечь его в тюрьму, ибо в этом случае ее страсть к нему останется неутоленной, но Ванадий сможет пронюхать о ее секрете и не мытьем, так катаньем заставит ее дать свидетельские показания.
Так что ему, Младшему, нельзя говорить ничего такого, что могло бы стать достоянием присяжных. У него нет права даже на то, чтобы подмигнуть Виктории или ласково погладить ее по руке.
Не произнеся ни слова, не решаясь встретиться с Викторией взглядом, Младший обхватил губами очередной «голыш» льда, который предложила ему эта очаровательная женщина. А потом задержал ложку во рту, чтобы она не могла ее легко вытащить, и, закрыв глаза, застонал от удовольствия, словно в ложке был не лед, а амброзия, пища богов, словно наслаждался он не льдом, а самой медсестрой. А отпуская ложку, он прошелся по ней языком, после чего, когда сталь выскользнула изо рта, еще облизнул и губы.
Открыв глаза, по-прежнему не решаясь встретиться с Викторией взглядом, Младший знал, что она отметила и правильно истолковала его реакцию на ее сладострастные манипуляции с ложкой. Именно потому медсестра застыла, не донеся ложку до кувшина, у нее перехватило дыхание. Трепет возбуждения пробежал по ее телу.
Ни одному из них не было необходимости подтверждать взаимную приязнь кивком или улыбкой. Виктория знала, так же как и он, что их час придет, когда все текущие неприятности останутся в прошлом, когда Ванадий отстанет от них, когда все подозрения канут в Лету.
А пока они должны проявить терпение. Томительное ожидание, предвкушение желанной встречи только усилят сладостность их объятий, позволит подняться на вершину блаженства, доступную далеко не всем смертным, а лишь удостоенным статуса полубогов за их страстность, силу или чистоту чувств.
О существовании полубогов в классической мифологии Младший узнал лишь недавно в одном из изданий, полученных через клуб «Книга месяца».
Когда гулко бьющееся сердце Виктории замедлило свой бег, она положила ложку на поднос, закрыла кувшин крышкой и сказала:
– На сегодня достаточно, мистер Каин. В вашем состоянии избыток растаявшего льда тоже может вызвать приступ рвоты.
На Младшего произвело впечатление профессиональное спокойствие в голосе, скромность в поведении, столь умело маскирующие бушующую в сердце девушки страсть. Сладенькая Виктория была достойным партнером по заговору против властей.
– Благодарю вас, сестра Бресслер, – ответил он тем же спокойным тоном, едва подавив желание взглянуть на нее, улыбнуться и показать кончик розового языка, который, приложенный к нужным местам, мог бы доставить ей массу удовольствий.
– Я предупрежу другую сестру, чтобы она присматривала за вами.
Никто из них не сомневался, что они необходимы друг другу и со временем обязательно сольются воедино. Но Виктория давала понять, что сейчас для них обоих главное – осторожность. Мудрая женщина.
– Я понимаю.
– Набирайтесь сил, – посоветовала она, отворачиваясь от кровати.
Да, он тоже полагал, что ему потребуется хороший отдых, чтобы набраться сил и как следует подготовиться к той битве, которая ждала его в ее объятиях. Даже белый халат и громоздкие туфли на резиновой подошве не могли скрыть эротичности ее фигуры. В постели она наверняка превращалась в львицу.
После ухода Виктории Младший улыбался потолку, переполненный валиумом и желанием. А также тщеславием.
В данном случае тщеславие базировалось не на ошибке, не на завышенной самооценке, а на трезвом расчете. Его неотразимость являлась не личным мнением, а объективным и непреложным фактом, таким же, как сила тяжести или расположение планет в Солнечной системе.
Он, надо признать, удивился тому, что сестру Бресслер так потянуло к нему, хотя она, безусловно, ознакомилась с историей его болезни и знала о том, что совсем недавно он фонтанировал рвотой, в «скорой помощи» потерял контроль над мочевым пузырем и кишечником и в любой момент приступ мог повториться. Это был серьезный тест на животную страсть, которую он возбуждал в женщинах, даже не прилагая к этому никаких усилий, свидетельство мощного мужского магнетизма, который являлся такой же его неотъемлемой частью, как густые светлые волосы.
Глава 16
Агнес проснулась с теплыми слезами на щеках, с щемящим чувством потери.
Больница погрузилась в бездонную тишину, какая бывает в местах обитания человека лишь в предрассветные часы, когда потребности, желания и страхи прошедшего дня уже забыты, а следующего – еще не определены, когда хрупкие человеческие существа словно покачиваются на воде в коротком промежутке между двумя отчаянными заплывами.
Если бы не приподнятая верхняя половина кровати, Агнес не могла бы видеть свою палату, потому что слабость не позволяла ей оторвать голову от подушки.
Тени по-прежнему господствовали на большей половине помещения. Но они уже не напоминали ей птиц, слетевшихся, чтобы попировать ее телом.
Единственным источником света была лампа для чтения. Подвижный абажур направлял свет на кресло.
Агнес очень ослабела, глаза слезились, словно в них сыпанули песку, и болели даже от неяркого, отраженного света. Она уже собралась закрыть их и вновь отдаться сну, младшему братцу Смерти. Только в его объятиях она теперь находила успокоение. Однако увиденное в свете лампы прогнало сон.
Медицинская сестра ушла, но Мария осталась. Она сидела в кресле из винила, с металлическим каркасом, и работала.
– Тебе надо бы домой, к детям, – озаботилась Агнес.
Мария подняла голову:
– Мои дети у моей сестры.
– А почему ты здесь?
– Где еще я должна быть и почему? Я наблюдаю тебя.
Когда на глазах Агнес высохли слезы, она вновь увидела, что Мария шьет. У кресла стоял пакет с вещами, с другой стороны – ящик с нитками, иголками, подушечкой для булавок, ножницами и прочим арсеналом портнихи.
Мария зашивала одежду Джоя, которую Агнес распорола перед отъездом из дома.
– Мария.
– Que?
– Не надо этого делать.
– Не надо что?
– Не надо чинить эту одежду.
– Я починю, – стояла на своем Мария.
– Ты знаешь насчет… Джоя? – спросила Агнес. Голос, когда она хотела произнести имя мужа, так осип, что она и не знала, услышала ее Мария или нет.
– Я знаю.
– Тогда зачем?
Иголка заплясала в ловких пальцах Марии.
– Я не чиню ради лучшего английского. Теперь я чиню их только для мистера Лампиона.
– Но… он ушел.
Мария промолчала, продолжая шить, но Агнес узнала то особое молчание, необходимое для того, чтобы подобрать нужные слова.
Наконец, когда напряженная тишина, казалось, чуть не лопалась, Мария сказала:
– Это… единственное… что я могу сделать для него, для тебя. Я – никто, я не могу поправить что-то важное. Но я поправлю одежду. Поправлю одежду.
Агнес не могла смотреть на Марию. Свет более не резал глаза, но ее новое будущее, открывающееся ей со все возрастающей ясностью, ощетинилось булавками и иголками, которые впивались в глазные яблоки.
Она немножко поспала и проснулась от негромкой, но истовой молитвы на испанском.
Мария стояла у кровати, облокотившись на спинку изножия. Маленькие смуглые пальцы сжимали четки из оникса и серебра, но она не перекатывала бусины и не читала на память «Аве Марию». Молилась она за ребенка Агнес.
С огромной радостью Агнес услышала, что Мария просит не упокоить душу усопшего младенца, а сохранить жизнь еще живому.
Сил у Агнес не было, она словно превратилась в статую, ей казалось, что она не может пошевелить и пальцем, но, наверное, только усилием воли она сумела поднять руку и коснуться сжимающих четки пальцев Марии.
– Но младенец умер.
– Сеньора Лампион, нет. – В голосе Марии слышалось изумление. – Muy enferno, но не мертвый.
Очень слабый. Очень слабый, но не мертвый.
Агнес вспомнила кровь, ужасную алую кровь. Разрывающую ее боль и страшные алые потоки. Она-то думала, что ее ребенок вплыл в этот мир мертворожденным, на волне своей и ее крови.
– Это мальчик? – спросила она.
– Да, сеньора. Отличный мальчик.
– Бартоломью.
Мария нахмурилась:
– Что вы такое сказали?
– Его имя. – Она чуть сильнее сжала пальцы Марии. – Я хочу его видеть.
– Muy enferno. Его держат, как куриное яйцо.
Как куриное яйцо. Слабость туманила мозг, так что Агнес не сразу сообразила, о чем речь.
– Ага. Он в инкубаторе.
– Такие глаза, – сказала Мария.
– Que? – переспросила Агнес.
– Должно быть, у ангелов такие прекрасные глаза.
Агнес отпустила пальцы Марии, рука легла на сердце.
– Я хочу его видеть.
Прежде чем ответить, Мария перекрестилась.
– Они должны держать его в инкубаторе, пока он не будет вне опасности. Скоро придет медсестра, и я заставлю ее сказать, когда с ребенком будет все в порядке. Но я не могу оставить тебя. Я наблюдаю. Наблюдаю тебя.
– Бартоломью, – прошептала Агнес, закрыв глаза. В голосе звучало не просто изумление – благоговейный трепет.
Несмотря на переполнявшую ее радость, Агнес не сумела удержаться на поверхности реки сна, из глубин которой недавно поднялась. Но на этот раз она уходила в эти же глубины с надеждой и магическим именем, которое теперь угнездилось и в сознании, и в подсознании. Это имя, Бартоломью, оставалось с ней, пока больничная палата и Мария не померкли перед ее глазами, это имя, Бартоломью, тут же заполнило ее сны. Это имя прогнало прочь кошмары. Бартоломью. Это имя поддерживало ее.
Глава 17
Младший пробудился от кошмара, весь в холодном поту, словно свинья на бойне. Сам кошмар он вспомнить не мог. Что-то тянулось к нему из кромешной тьмы, это все, что осталось в памяти, чьи-то мерзкие руки схватили его… и тут он проснулся, тяжело дыша.
Ночь все еще царствовала за окном с венецианскими жалюзи.
В углу на столике горела лампа, но кресла там уже не было. Его передвинули к кровати Младшего.
В кресле, наблюдая за ним, сидел Ванадий. С ловкостью заправского фокусника он переворачивал четвертак пальцами правой руки. Монета ложилась на большой палец, исчезала, чтобы появиться на мизинце, скользила по костяшкам к большому пальцу… процесс повторялся и повторялся.
Часы на столике у кровати показывали 4:37 утра.
Детектив, похоже, вообще не спал.
– Есть одна миленькая песенка Джорджа и Айры Гершвинов, которая называется «Кто-то поглядывает на меня». Ты ее слышал, Енох? Этот кто-то для тебя – я, разумеется, не в романтическом смысле.
– Кто… кто вы? – прохрипел Младший, все еще не пришедший в себя от кошмара и присутствия Ванадия, но уже сообразивший, что ему надо держаться в роли ничего не понимающего человека, которую он играл с самого начала.
Вместо того чтобы отвечать на его вопрос, показывая тем самым, что, по его разумению, Младший и так знал и этот, и многие другие ответы, Томас Ванадий вновь удивил Младшего.
– Я смог получить ордер на обыск твоего дома.
Младший подумал, что это очередная ловушка. Не существовало доказательств того, что Наоми умерла насильственной смертью, а не в результате несчастного случая. Интуиция Ванадия… скорее, его навязчивая идея… не могла служить достаточным основанием для выдачи ордера на обыск судом любой инстанции.
К сожалению, некоторые судьи в таких вопросах руководствовались не столько буквой закона, сколько… впрочем, о коррупции судей не писал только ленивый. Да и Ванадий, который видел себя ангелом мщения, мог солгать в суде, чтобы получить требующийся ему ордер на обыск.
– Я не… я не понимаю. – Младший сонно моргнул, притворяясь, что еще находится под воздействием транквилизаторов и других медицинских препаратов, которые по-прежнему поступали ему в вену. И остался доволен нотками недоумения в собственном хриплом голосе, хотя знал, что даже лауреат «Оскара» не смог бы убедить этого критика.
Монетка продолжала скользить по костяшкам пальцев, от мизинца к большому, чтобы исчезнуть в каверне ладони и тут же появиться вновь, поблескивая в свете лампы.
– У тебя есть страховка? – спросил Ванадий.
– Конечно, – без запинки ответил Младший. – «Голубой щит».[9]
Сухой смешок сорвался с губ детектива, теплота, свойственная смеху других людей, в нем отсутствовала напрочь.
– А ты не такой уж слабак, Енох. Твоя беда в том, что ты не так уж хорош, как тебе кажется.
– Простите?
– Я говорил про страхование жизни, и тебе это известно.
– Ну… я застрахован на небольшую сумму. Это льгота, которую получают все работники диспансера лечебной физкультуры. А что? О чем, собственно, речь?
– Среди прочего я искал в твоем доме страховой полис твоей жены. Не нашел. Не нашел и аннулированных чеков на страховую премию.
Пытаясь как можно дольше разыгрывать карту недоумения, Младший протер лицо рукой, словно снимал с глаз паутину.
– Вы говорите, что побывали в моем доме?
– Ты знал, что твоя жена ведет дневник?
– Да, конечно. С десяти лет.
– А ты читал его?
– Разумеется, нет. – Это была абсолютная правда, поэтому Младший, отвечая на этот вопрос, посмел встретиться с детективом полным праведного негодования взглядом.
– Почему нет?
– Потому, что это нехорошо. Дневник – это глубоко личное. – Он предполагал, что для детектива нет ничего святого, но тем не менее удивился тому, что Ванадий задал этот вопрос.
Поднявшись с кресла и шагнув к кровати, детектив продолжал вертеть четвертак.
– Она была очень милой девушкой. Очень романтичной. Дневник набит рапсодиями о семейной жизни, о тебе. Она думала, что ты – самый лучший мужчина, с которым ей довелось встретиться, и идеальный муж.
Каин Младший почувствовал, будто в сердце вонзилась игла, такая тонкая, что оно продолжало сокращаться, словно игла особо и не мешала, но каждое сокращение отзывалось болью.
– Правда? Она так… написала?
– В некоторых абзацах она обращалась к Богу, очень трогательно благодарила Его за то, что благодаря Ему ты появился в ее жизни.
И хотя Младший был начисто лишен суеверий, в которые, спасибо наивности и сентиментальности, верила Наоми, из его глаз брызнули слезы.
Его терзали угрызения совести. Как он мог заподозрить Наоми в том, что она отравила его сэндвич с сыром или курагу. Она никогда не пошла бы против него, никогда бы не подняла на него руку. Дорогая Наоми с радостью умерла бы за него. Что она, собственно, и сделала.
Монетка перестала кружиться, зажатая между средним и безымянным пальцем. Детектив взял с ночного столика коробку с бумажными салфетками, предложил подозреваемому:
– Возьми.
Поскольку из вены правой руки по-прежнему торчала игла капельницы и поддерживающую шину никто не убирал, Младший потянулся за салфетками левой рукой.
Как только детектив поставил коробку на ночной столик, монета продолжила свое бесконечное вращение.
– Как я понимаю, ты действительно любил ее, пусть и по-своему, – заметил Ванадий, пока Младший сморкался и вытирал глаза.
– Любил ее? Разумеется, любил. Наоми была такой красивой, такой доброй… такой забавной. Самой лучшей… второй такой мне уже не найти.
Ванадий подбросил монету, поймал ее левой рукой, вокруг которой она закружилась с прежней легкостью.
Младшего бросило в дрожь. Почему на него так подействовал тот факт, что Ванадий одинаково хорошо владеет обеими руками, он понять не мог. Любой фокусник-любитель… если уделить тренировкам достаточно времени, необязательно и фокусник… мог овладеть этим трюком. В основе его лежала ловкость рук – не колдовские чары.
– Каким был твой мотив, Енох?
– Мой что?
– Вроде бы мотива у тебя быть не должно. Но мотив есть всегда, какой-то интерес. Если это страховая премия, мы найдем компанию, в которой застраховала жизнь твоя жена, и поджарим тебя, словно кусок бекона на сковороде.
Как обычно, коп монотонно бубнил. Он не угрожал – спокойно обещал.
Младший, словно в изумлении, округлил глаза.
– Так вы – полицейский?
Детектив улыбнулся. Улыбкой анаконды, собирающейся сжать смертоносные кольца.
– Перед тем как ты проснулся, тебе что-то снилось. Судя по всему, кошмар.
Неожиданный поворот в допросе застал Младшего врасплох. Ванадий умел не дать подозреваемому расслабиться. Разговор с ним напоминал эпизод из фильма про Робин Гуда: поединок на палках на скользком мостике из бревен через реку.
– Да. Я… я все еще мокрый от пота.
– И что тебе снилось, Енох?
Никто не мог посадить его в тюрьму из-за снов.
– Не могу вспомнить. Если сны невозможно вспомнить, это ужасно… Вы согласны? Они всегда такие глупые, когда вспоминаются. А вот если они не остаются в памяти… они кажутся страшными.
– Ты произнес во сне имя.
Скорее всего, детектив лгал, пытаясь расставить очередную ловушку. «Лучше бы я не признавался, что мне снился кошмар», – с горечью подумал Младший.
– Бартоломью, – добавил детектив.
Младший моргнул, но не решился повторить имя вслух, потому что среди его знакомых человека с таким именем определенно не было, и уж теперь отпали последние сомнения в том, что детектив расставил силки и терпеливо ждал, когда же в них попадет кролик. Иначе зачем он произнес это странное, ни о чем не говорящее ему имя?
– Кто такой Бартоломью? – спросил Ванадий.
Младший покачал головой.
– Ты произнес это имя дважды.
– У меня нет знакомых по имени Бартоломью. – Младший решил, что в данном конкретном случае правда ему не повредит.
– По твоему голосу чувствовалось, что ты в беде. Ты очень боялся этого Бартоломью.
Левая рука Младшего так крепко сжала влажные от слез салфетки, что, будь в бумаге побольше углерода, превратила бы их в алмаз. Он видел, что Ванадий смотрит на его сжатый кулак и побледневшие костяшки пальцев. Попытался разжать пальцы, но ничего не вышло.
Более того, каждое упоминание имени Бартоломью усиливало тревогу Младшего. На имя реагировал не только слух, оно проникало в кровь и кости, в тело и сознание, словно он сам был большим бронзовым колоколом, а Бартоломью – языком.
– Может, это персонаж из кинофильма, который я видел, или книги, которую читал. Я – член клуба «Книга месяца». Я всегда что-то читаю. Я не помню персонажа по имени Бартоломью, но, возможно, прочитал эту книгу несколько лет тому назад.
Младший вдруг осознал, что вот-вот выболтает лишнее, и усилием воли заставил себя замолчать.
Медленно поднимаясь, словно топор в руках палача, чтобы нанести точный и выверенный удар, взгляд Томаса Ванадия переместился со сжатого кулака на лицо Младшего.
Родимое пятно цвета портвейна вроде бы стало темнее и определенно изменило форму.
И если раньше серые глаза полицейского напоминали шляпки гвоздей, то теперь они превратились в точки, а за этими точками чувствовалась сила воли, которой хватило бы на то, чтобы пробуравить камень.
– Боже мой, – Младший прикинулся, что только теперь разум его очистился от воздействия лекарственных препаратов и он наконец понял, чем вызвано присутствие копа в его палате, – вы думаете, что Наоми убили?
Вместо того чтобы подтвердить слова, произнесенные в ходе своего первого визита в палату, Ванадий вновь удивил Младшего. Отвел взгляд, повернулся и направился к двери.
– Это просто ужасно, – просипел Младший, убежденный, что он теряет некое, он и сам не знал какое, преимущество, если коп вот так уйдет, не отыграв эпизод, без которого не обходился ни один интеллектуальный детективный телефильм с участием Перри Мейсона или Питера Ганна.
Остановившись у двери, не открывая ее, Ванадий повернулся, вновь посмотрел на Младшего, но ничего не сказал.
По максимуму добавив в голос шока и обиды, делая вид, что слова эти жестоко ранят его, Каин Младший, однако, спросил:
– Вы… вы думаете, что я убил ее? Это же безумие.
Детектив поднял руки, ладонями к Младшему, растопырил пальцы. После паузы показал ему тыльные стороны кистей… снова ладони.
Младший не сразу понял, что сие означает. Движения рук Ванадия напоминали магический ритуал. Что-то в нем было от священника, высоко поднимающего евхаристию.
Но загадочность медленно уступила место пониманию: четвертак исчез.
Младший не заметил, когда детектив перестал перекидывать монету через костяшки пальцев.
– Может быть, ты вытащишь ее из своего уха, – предложил Томас Ванадий.
И Младший действительно поднял дрожащую левую руку к уху, думая, что монета торчит из слухового канала, ожидая, когда ее с триумфом извлекут на всеобщее обозрение.
Но ушная раковина пустовала.
– Не та рука, – указал Ванадий.
Закрепленная на поддерживающей шине, полунеподвижная, дабы свести к минимуму вероятность случайного выхода иглы из вены, правая рука Младшего онемела и затекла.
Она словно уже перестала быть частью его тела. Бледная и экзотичная, как морской анемон, с длинными пальцами, напоминающими щупальца, которые скрутились вокруг рта анемона, готовые выброситься вперед и безжалостно ухватить любую проплывающую мимо добычу.
Как рыба-диск с серебряной чешуей, монета лежала на ладони Младшего, накрыв линию жизни.
Не веря своим глазам, Младший потянулся левой рукой к правой, взял четвертак. Холодный, несмотря на то что лежал на правой ладони. Не просто холодный – ледяной.
В чудеса Младший не верил, так что монета просто не могла материализоваться на ладони его руки. Ванадий стоял с левой стороны кровати. Не наклонялся к Младшему, не перегибался через него.
Однако в своей реальности монета не уступала телу мертвой Наоми, лежащей на каменистом гребне холма у подножия пожарной вышки.
В изумлении, в котором ужас многократно перевешивал восторг, доставленный ловким фокусом, Младший оторвал взгляд от четвертака и перевел его на Ванадия, ожидая напороться на еще одну улыбку анаконды.
Но увидел только закрывающуюся дверь. Столь же бесшумно, как день переходит в ночь, детектив покинул палату.
Глава 18
Серафима Этионема Уайт, несмотря на столь звучные имена, не тянула на ангела, хотя добротой сердца и души она могла тягаться с хозяевами Небес. Но вот крыльев, в отличие от ангелов, в честь которых ее назвали, у нее не было, и не могла она петь так сладко, как серафим, ибо природа наградила ее низким голосом и застенчивостью, с какой не попадают на сцену. Этионемы – хрупкие цветы, белые или светло-розовые, тогда как эта девушка в свои шестнадцать лет, прекрасная, как цветок, обладала не хрупкой, но сильной волей, которая бы не согнулась и не сломалась даже при самом сильном ветре.
Случайные знакомые, очарованные необычностью ее имени, звали девушку исключительно Серафимой. Учителя, соседи и не слишком уж близкие друзья – Серой. А вот те, кто знал ее лучше других и любил всей душой, как сестра Целестина, – Фими.
С того момента, как вечером 5 января девушка поступила в больницу Святой Марии в Сан-Франциско, медицинские сестры тоже начали звать ее Фими, не потому, что знали достаточно долго, чтобы полюбить, просто именно так называла ее Целестина.
Фими делила палату 724 с женщиной восьмидесяти шести лет от роду, Неллой Ломбарди, которая после сильнейшего инсульта восемь дней провела в коме и лишь недавно покинула отделение реанимации. Сейчас ее состояние стабилизировалось. Волосы Неллы сияли белизной, обрамляя серое, как пемза, лицо. Кожа начисто лишилась жизненного блеска.
К миссис Ломбарди никто не заходил. В мире она осталась одна, ее муж и двое детей уже давно умерли.
На следующий день, 6 января, когда Фими на каталке увезли на анализы в различные отделения больницы, Целестина осталась в палате 724, работая над портретами. Она училась в академическом художественном колледже.
Девушка отложила наполовину законченный, выполненный в карандаше портрет Фими, чтобы нарисовать несколько портретов Неллы Ломбарди.
Несмотря на урон, нанесенный болезнью и возрастом, красота не покинула лица старухи. Многое указывало на то, что в молодости она была ослепительной красавицей.
Целестина решила нарисовать Неллу, какой видела перед собой, голова на подушке, возможно, смертного одра, закрытые глаза, обвислые губы, лицо серое и застывшее. А потом, отталкиваясь от первого, сделать еще четыре портрета, воссоздать образ женщины, какой она была в шестьдесят, сорок, двадцать и десять лет.
Обычно, когда Целестину что-то тревожило, искусство становилось для нее убежищем от всех тягот. Когда она планировала, намечала, обдумывала рисунок, время не имело для нее никакого значения, реальная жизнь отступала на второй план.
В этот знаменательный день рисование не сумело увести ее от реальности. То и дело ее руки начинали так дрожать, что она не могла удержать карандаш под контролем.
Когда ее трясло так, что она не могла рисовать, Целестина отходила к окну и смотрела на многоэтажный город.
Удивительная красота Сан-Франциско, яркая история города находили прямой отклик в ее сердце, вызывали такую бурю эмоций, что иной раз она задавалась вопросом: а не в этом ли городе она жила в прошлой жизни? Очень часто улицы, на которые впервые ступала ее нога, казались ей до боли знакомыми. Знаменитые здания, построенные в конце девятнадцатого и начале двадцатого века, вызывали у нее смутные воспоминания о великолепных балах, и ее воображение иной раз рисовало яркие и живые детали, которые легко могли сойти за воспоминания.
На этот раз даже вид Сан-Франциско, под небом цвета китайского фарфора, с серебристо-золотыми облаками, не приносил утешения, не мог успокоить нервы Целестины. Проблемы ее сестры, в отличие от собственных, никак не хотели выходить из головы… да и не попадала она никогда в столь ужасную ситуацию, в какой сейчас оказалась Фими.
* * *
Девять месяцев тому назад Фими изнасиловали.
От стыда и страха девушка никому ничего не сказала. Пусть и жертва, она во всем винила себя, и боязнь стать всеобщим посмешищем возобладала над благоразумием.
Когда же выяснилось, что она беременна, Фими повела себя точно так же, как и многие наивные пятнадцатилетние девочки: попыталась избежать презрения и упреков, которые, как ей представлялось, обрушились бы на нее за то, что она вовремя не сообщила об изнасиловании. Не думая о последствиях, она сконцентрировалась только на текущем моменте, поставив перед собой цель как можно дольше скрывать свое состояние.
В борьбе за сохранение минимального веса ее союзником стала анорексия. Она научилась испытывать наслаждение от голодных болей.
Да, она ела, но только высококалорийную пищу, соблюдая хорошо сбалансированную диету. О неумолимо приближающихся родах старалась не думать, но, пытаясь избежать изменений в фигуре, свойственных женщине, вынашивающей ребенка, в меру своих сил заботилась о том, чтобы младенец получал достаточное питание.
Однако в эти девять месяцев тихой паники, здравомыслия в действиях Фими становилось все меньше, и своими действиями она ставила под угрозу и свое здоровье, и жизнь младенца, хотя не ела всякую дрянь и каждый день принимала по таблетке мультивитаминов. Чтобы скрывать происходящие с ней изменения, она носила свободную одежду и надевала поддерживающие бандажи. Потом сменила их на пояса, которые еще сильнее стягивали живот.
Поскольку за шесть недель до изнасилования она серьезно повредила ногу, ей даже делали операцию на сухожилии, Фими удалось, ссылаясь на боли в ноге, получить освобождение от уроков физкультуры, и медленно растущий животик остался для окружающих тайной.
К последней неделе беременности женщина в среднем набирает дополнительно двадцать восемь фунтов. Из них семь или восемь весит младенец. Три – плацента и околоплодные воды. Оставшиеся восемнадцать обусловлены задержкой жидкости в организме и увеличением жировых запасов.
Фими набрала меньше двенадцати фунтов. Ее беременности никто бы не заметил и без пояса.
За день до поступления в больницу Святой Марии она проснулась с жуткой головной болью, от которой все плыло перед глазами, и тошнотой. К этому добавилась боль внизу живота. Раньше такого с ней не случалось, хотя она и понимала, что это не схватки.
И со зрением вообще начало твориться что-то невообразимое. Комната не просто плыла перед глазами, на периферии начали вспыхивать искры. И где-то на полминуты она просто ослепла, придя в неописуемый ужас, который так и не покинул ее, хотя она вновь прозрела.
Несмотря на этот кошмар, несмотря на то что до родов оставалась неделя, максимум десять дней, Фими все еще не решалась признаться в случившемся отцу и матери.
Преподобный Гаррисон Уайт, хороший баптист и хороший человек, никогда не судил людей и не отличался черствостью сердца. А его жена, Грейс,[10] во всем соответствовала данному ей при рождении имени.
Фими не решалась сказать о своей беременности не потому, что боялась гнева родителей. Ее страшила мысль о том, что она увидит разочарование в их глазах. Она бы скорее умерла, чем опозорила их.
Второй приступ слепоты поразил ее в тот же день, когда она была в доме одна. Она выползла из своей комнаты в коридор, на ощупь добралась до телефонного аппарата в спальне родителей.
К счастью, она застала Целестину дома: в своей маленькой квартире-студии сестра работала над автопортретом. Услышав истеричный голос Фими и ее поначалу бессвязные слова, Целестина подумала, что мать или отец, а возможно и оба, умерли.
У нее чуть не разорвалось сердце, когда она узнала истинную причину звонка Фими. Это известие вызвало не меньшую печаль, чем смерть одного из родителей. Не только печаль, но и дикую злобу на человека, посмевшего надругаться над ее единственной сестрой.
Ужаснувшись девятимесячной изоляции, которой добровольно подвергла себя Фими, и ее физическим страданиям, Целестина посоветовала сестре первым делом рассказать обо всем родителям. Семья Уайт, сплотившись, могла выдержать любой удар судьбы.
Во время разговора со старшей сестрой зрение вернулось к Фими, но не благоразумие. Она умоляла Целестину не разыскивать мать или отца по телефону, не звонить врачу, а прилететь домой и быть рядом, когда придет время открыть ужасный секрет.
И Целестина, оставшись при своем мнении, скрепя сердце, во всем пошла навстречу Фими. Интуиции она доверяла ничуть не меньше, чем логике, и ужасное нервное напряжение, которое испытывала сестра, заставило ее поступиться здравым смыслом. Собираться времени не было. Каким-то чудом ей удалось сразу взять билет на ближайший рейс, и часом позже она уже летела в Спрюс-Хиллз, штат Орегон.
Через три часа после звонка Фими она стояла рядом с сестрой. В гостиной дома приходского священника, под взглядами Иисуса Христа и Джона Ф. Кеннеди, чьи портреты висели бок о бок, девушка рассказала отцу и матери о том, что сделали с ней, и о том, что в отчаянии и смятении она сделала с собой сама.
Конечно же, Фими окружили той безграничной, всепоглощающей любовью, которой ей так не хватало последние девять месяцев, чистой любовью, которую она, по ее разумению, не заслуживала.
И хотя раскрытые объятия семьи и сброшенный с плеч груз вины успокоили ее, в значительной степени вернули столь необходимое ей благоразумие, Фими наотрез отказалась назвать имя мужчины, который ее изнасиловал. Он пригрозил, что убьет и ее саму, и всю семью, если она даст против него показания, и она верила, что его угроза – не просто слова.
– Дитя, – сказал ей отец, – он больше никогда не тронет тебя. И Господь, и я об этом позаботимся, хотя ни Господь, ни я не прибегнем к помощи оружия. Для этого у нас есть полиция.
Но насильник так сильно затерроризировал Фими, его угрозы так крепко впечатались в ее сознание, что им так и не удалось убедить ее расстаться со своим последним секретом.
Мать воззвала к ее чувству моральной ответственности. Если этого человека не арестовать, не осудить, не отправить в тюрьму, он рано или поздно изнасилует другую невинную девушку.
Фими стояла на своем.
– Он сумасшедший. Больной. Злой, – по ее телу пробежала дрожь. – Он это сделает, он убьет нас всех, и ему плевать на то, что потом его застрелят полицейские или он умрет на электрическом стуле. Если я назову его имя, вам всем будет грозить смертельная опасность.
Целестина и родители сошлись на том, что к этому разговору надо вернуться после рождения ребенка. Потому что сейчас установление личности насильника представлялось далеко не самым главным.
Закон запрещал аборты, церковь считала их смертным грехом, так что родители Фими не хотели об этом и слышать. Кроме того, она была уже на сносях, а с учетом длительного голодания и ношения поясов аборт представлял огромную опасность для ее жизни.
А вот наблюдение врача ей требовалось, и требовалось немедленно. Они решили, что ребенка после рождения сразу определят для усыновления в семью, где его будут любить, где никогда не увидят в нем образ насильника-отца.
– Здесь я рожать не буду, – твердо заявила Фими. – Если он поймет, что я родила от него ребенка, он еще больше обезумеет. Я это точно знаю.
Она хотела улететь в Сан-Франциско с Целестиной, родить в большом городе, о чем не будут знать ни отец ребенка, ни ее друзья, ни прихожане преподобного Уайта. Чем больше родители и сестра убеждали Фими, что это не лучший вариант, тем тверже она стояла на своем. Наконец они поняли, что их настойчивость – прямая угроза как физическому здоровью, так и психике Фими, и на все согласились.
Симптомы, которые так пугали Фими, головокружение, боль в нижней части живота, временная потеря зрения, полностью исчезли. Возможно, причины их крылись в психологии, а не физиологии.
Все, кроме Фими, понимали, что задерживать встречу с врачом еще на несколько часов очень рискованно, но не менее рискованной представлялась и поездка в местную больницу, которая наверняка вызвала бы у девушки нервный срыв.
Такой пароль, как «чрезвычайные обстоятельства», позволил Целестине быстро связаться с ее врачом в Сан-Франциско. Он согласился посмотреть Фими и положить в больницу Святой Марии, как только она прилетит из Орегона.
Священник не мог оставить церковь, но Грейс хотела полететь с дочерьми. Фими, однако, и здесь настояла на своем: добилась, чтобы в Сан-Франциско ее сопровождала только Целестина.
И хотя девушка не смогла внятно объяснить, почему не хочет, чтобы мать находилась рядом, они не стали донимать ее уговорами, чувствуя, что эмоции, бушующие в душе и сердце Фими, не позволяют ей принимать взвешенные решения. Должно быть, Фими не хотела, чтобы ее нежная и благопристойная мать испытала стыд и позор, которые она сама так остро чувствовала все эти месяцы.
Грейс, разумеется, была сильной женщиной, для которой вера служила надежной броней от всех невзгод. Целестина знала, что мать будет страдать гораздо сильнее, оставаясь в Орегоне, вдали от дочери, но Фими, по молодости и наивности, не понимала, в отличие от остальных, что ее мать – скала, а не тростинка, гнущаяся от малейшего порыва ветра.
Смирение, с которым Грейс приняла решение Фими ради душевного спокойствия младшей дочери, тронуло Целестину до слез. Впрочем, она всегда любила и безмерно уважала мать за ее мудрость и умение выбирать единственно правильное решение.
С той же удивительной легкостью, с какой Целестине удалось купить билет из Сан-Франциско, она достала два обратных билета на вечерний рейс из Орегона: в этом ей словно помогали Небеса.
В воздухе Фими пожаловалась на звон в ушах, связанный, скорее всего, с перепадом давления. В какой-то момент у нее начало двоиться в глазах, в аэропорту после посадки пошла носом кровь.
Крови вытекло много, остановить ее никак не удавалось, и Целестину охватило дурное предчувствие. Она все более укреплялась в мысли, что совершила ошибку, промедлив с госпитализацией сестры.
Из международного аэропорта Сан-Франциско, по затянутым туманом улицам ночного города они достаточно быстро добрались до больницы Святой Марии, где Фими определили в палату 724. Сразу же выяснилось, что у девушки чрезвычайно высокое давление, 210 на 126, по существу, гипертонический криз, ведущий к инсульту, почечная недостаточность и другие опасные для жизни отклонения от нормы.
Ее немедленно уложили на кровать, начали вводить внутривенно препараты, снижающие давление, подсоединили к электрокардиографу.
Доктор Лиленд Дайнз, врач-терапевт Целестины, приехал прямо с обеда в ресторане отеля «Риц-Карлтон». Даже с редеющими седыми волосами и глубокими морщинами, которые прорезали лицо, выглядел Дайнз очень моложаво. Несмотря на многолетнюю практику, он не смотрел на пациентов свысока, говорил с ними мягко и обладал безграничным запасом терпения.
После осмотра Фими, которую начало тошнить, Дайнз прописал ей противосудорожное, противорвотное и седативное средства, все внутривенно.
Успокаивающее он назначил очень слабенькое, но Фими заснула буквально через несколько минут. Волнения последних часов и длинный перелет совершенно ее вымотали.
В коридоре, у двери в палату 724, доктор Дайнз рассказал Целестине о состоянии Фими. Среди сестер, тенями проскальзывающих по коридору, встречались и монахини в апостольниках и длинных, до пола, рясах.
– У нее преэклампсия.[11] Она бывает у пяти процентов беременных женщин, практически всегда после двадцать четвертой недели, и обычно успешно лечится. Но я не собираюсь подслащивать пилюлю, Целестина. У нее случай более серьезный. Она не наблюдалась у врача, не проходила никаких обследований, она на тридцать восьмой неделе беременности, и до родов ей осталось примерно десять дней.
Поскольку они знали дату изнасилования и ни раньше, ни позже у Фими не было никаких сексуальных контактов, рассчитать точную дату родов не составляло труда.
– По мере приближения срока родов преэклампсия может развиться в полную эклампсию.
– И что будет потом? – спросила Целестина, заранее страшась ответа.
– Среди возможных осложнений – кровоизлияние в мозг, отек легких, почечная недостаточность, некроз печени, кома… выбирай на вкус.
– Мне следовало положить ее в больницу дома.
Врач опустил руку на плечо Целестины:
– Не кори себя. Перелет она перенесла нормально. И хотя я никогда не бывал в орегонских больницах, сомневаюсь, чтобы там она могла рассчитывать на такой уровень медицинского обслуживания, как здесь.
Для того чтобы взять преэклампсию под контроль, на следующий день доктор Дайнз назначил Фими различные анализы. Он рекомендовал провести кесарево сечение, как только у девушки снизится и стабилизируется давление, но не хотел идти на операцию, не определив, к каким осложнениям могли привести голодная диета и долговременное сжатие нижней части живота.
И хотя Целестина уже понимала, что рассчитывать на оптимистичный ответ не приходится, она все-таки спросила:
– Ребенок, скорее всего, будет… нормальным?
– Надеюсь, что да, – ответил врач, сделав основной упор на слово «надеюсь».
В палате 724, стоя у кровати сестры, наблюдая за спящей девушкой, Целестина сказала себе, что она достаточно удачно справляется с возникающими трудностями. И похоже, сможет удержать ситуацию под контролем, не призывая на помощь родителей.
А потом у нее вдруг перехватило дыхание, словно чьи-то стальные пальцы сжали горло. Когда же она протолкнула воздух в легкие, назад он вырвался рыданием, из глаз покатились слезы.
Фими родилась на четыре года позже ее. Последние три года они виделись редко, потому что Целестина уехала в Сан-Франциско. Разница в возрасте и разделившее их расстояние, учеба и повседневные дела не вынудили ее забыть о своей любви к сестре, но из памяти стерлись чистота и сила этой любви. Однако теперь прежние чувства вернулись и так потрясли Целестину, что ей пришлось пододвинуть к кровати стул и присесть.
Склонив голову, закрыв лицо руками, она задалась вопросом: каким образом ее матери удавалось сохранять веру в Бога, когда такие ужасные испытания выпали на долю столь невинного существа, как Фими?
Около полуночи она вернулась в свою квартиру. Выключив свет, лежа в постели, она смотрела в потолок, не в силах уснуть.
Жалюзи она сдвинула, оставив окна открытыми. Обычно ей нравилось дымное, красновато-золотое зарево над ночным городом, но сегодня оно вызывало у Целестины смутную тревогу.
У нее возникло странное ощущение, что, поднимись она сейчас и подойди к окну, она бы увидела, что город окунулся в темноту, что все уличные фонари погасли. А этот странный свет шел от сливных канав, из открытых люков, не от города, а из лежащего под ним мира.
Внутренний глаз художника никогда не закрывался, даже во сне, непрерывно искал форму, образ, значение. Вот и сейчас он вел поиск на потолке. В игре тени и света на штукатурке Целестина видела суровые лица младенцев… деформированные, сморщенные… и лики смерти.
* * *
Через девятнадцать часов после поступления Фими в больницу Святой Марии, когда девушка проходила последние обследования, назначенные доктором Дайнзом, небо вдруг потемнело в ранних сумерках, и город вновь окрасился в красно-золотые тона, которые прошлой ночью подсвечивали квартиру Целестины.
День работы не пропал зря: она закончила карандашный портрет Неллы Ломбарди. И начала второй в серии, на котором собиралась изобразить ее шестидесятилетней.
Хотя Целестина не спала тридцать шесть часов, голова, спасибо тревоге и озабоченности, оставалась ясной. В этот момент не дрожали и руки: линии и тени ложились на бумагу с той же легкостью, что и слова, выбегающие из-под ручки находящегося в трансе медиума.
Сидя на стуле у окна, рядом с кроватью Неллы, с листом, приколотым к доске, она вела односторонний разговор с женщиной, находящейся в коматозном состоянии. Рассказывала истории о том, как росла вместе с Фими… и удивлялась своему красноречию.
Иногда Нелла вроде бы слушала, хотя глаза ее не открывались, руки не двигались. А зеленая точка на электрокардиографе вычерчивала устойчивую кривую.
Перед самым обедом санитар и медсестра вкатили в палату кресло-каталку с Фими. Осторожно переложили ее на кровать.
Девушка выглядела лучше, чем ожидала Целестина. Пусть и усталая, она улыбалась, а огромные карие глаза весело поблескивали.
Фими захотела посмотреть на законченный портрет Неллы и на свой, оставленный на полпути.
– Когда-нибудь ты станешь знаменитой, Цели, – прокомментировала она работы сестры.
– В следующем мире не будет ни знаменитых, ни очаровательных, ни титулованных, ни гордых, – Целестина улыбнулась, цитируя одну из наиболее знакомых ей проповедей отца, – ни власть имущих…
– …ни жестоких, ни ненавистных, ни завистливых, ни злых, – подхватила Фими, – ибо все это грехи нынешнего падшего мира…
– …и теперь, когда поднос для пожертвований плывет среди вас…
– …жертвуйте, как если бы у вас уже началась следующая жизнь…
– …не будьте лицемерным, жадным…
– …скаредным…
– …не привыкшим делиться…
– …Пекснифом[12] этого мира.
Они рассмеялись, взялись за руки. И впервые после панического звонка Фими из Орегона Целестина подумала, что со временем все образуется.
Но несколько минут спустя, после еще одного коридорного разговора с доктором Дайнзом, оптимизма у нее поубавилось.
Высокое, не желающее снижаться кровяное давление Фими, присутствие белка в моче и другие симптомы указывали на то, что преэклампсия появилась уже давно, а это увеличивало риск ее развития в эклампсию. Артериальную гипертензию вроде бы удалось взять под контроль… но только за счет более сильных препаратов, чем те, которые поначалу собирались назначить ей врачи.
– Добавим к этому, – продолжил доктор Дайнз, – что у нее маленький таз, а это чревато осложнениями даже при обычных родах. И мышечная ткань шейки матки, которая должна размягчаться в преддверии родов, по-прежнему жесткая. Я не верю, что шейка сможет достаточно раскрыться, чтобы пропустить плод.
– А младенец?
– Нет никаких свидетельств врожденных дефектов, но некоторые анализы свидетельствуют о тревожных отклонениях. Мы все узнаем, когда увидим ребенка.
Укол ужаса пронзил Целестину, когда ей не удалось подавить образ чудовища, полудракона, полупаука, растущего в чреве ее сестры. Она ненавидела ребенка, зачатого от насильника, и ненависть эта страшила ее, ибо на младенце никакой вины не было.
– Если ночью ее кровяное давление стабилизируется, я хочу, чтобы в семь утра ей сделали кесарево сечение. После родов угроза эклампсии полностью отпадет. Я бы хотел передать Фими доктору Аарону Калтенбаху. Он – первоклассный акушер.
– Разумеется.
– Разумеется, я тоже буду присутствовать при родах.
– Я вам очень признательна, доктор Дайнз. За все, что вы сделали.
Целестина, сама едва шагнувшая в мир взрослых, притворялась, что крепкие плечи и жизненный опыт позволяют ей выдерживать эту ношу. На самом деле непомерный груз гнул ее к земле.
– Иди домой. Поспи, – предложил доктор Дайнз. – Ты ничем не сможешь помочь своей сестре, если сама окажешься на больничной койке.
Она осталась с Фими, пока та обедала.
Девушка на аппетит не жаловалась и вскоре после обеда заснула.
Дома, позвонив родителям, Целестина приготовила себе сэндвич с ветчиной. Съела четверть. Дважды куснула круассан с шоколадом. Добавила ложечку орехового мороженого. Вкуса не почувствовала. Все казалось пресным, как больничная еда Фими, каждый кусок застревал в горле.
Не раздеваясь, Целестина плюхнулась на покрывало. Хотела немного послушать классическую музыку, а уж потом идти чистить зубы.
Тут до нее дошло, что радио она не включила. Но она заснула, прежде чем успела потянуться к радиоприемнику.
* * *
Седьмое января, четверть пятого утра.
В Южной Калифорнии Агнес Лампион снится ее новорожденный сын. В Орегоне, мучаясь от кошмара, Каин Младший во сне произносит имя, а детектив Ванадий, который ждет у кровати, чтобы сообщить подозреваемому о дневнике его погибшей жены, наклоняется вперед, чтобы не пропустить ни единого звука. При этом четвертак не останавливает своего движения по костяшкам пальцев правой руки.
В Сан-Франциско зазвонил телефон.
Перекатившись на бок, Целестина Уайт в темноте нащупала трубку только после третьего звонка. «Алло» наложилось на зевок.
– Приезжай сейчас, – дребезжащий голос старухи.
– Что? – сонно спросила Целестина.
– Приезжай сейчас. Приезжай быстро.
– Кто это?
– Нелла Ломбарди. Приезжай сейчас. Твоя сестра скоро будет умирать.
Весь сон сняло как рукой. Сидя на краю кровати, Целестина прекрасно понимала, что ей никак не могла звонить лежащая в коме старуха.
– Что все это значит?
Ей ответила абсолютная тишина. Из динамика не доносилось ни единого звука. Не то чтобы человек на другом конце провода медлил с ответом. Целестина не слышала ни легкого потрескивания, ни статических помех, ни намека на дыхание. Ничего.
Глубины этой беззвучной бездны напугали Целестину. Она не решалась открыть рот, потому что молчание это вдруг превратилось для нее в неведомое живое существо, крадущееся к ней по телефонному проводу.
Она положила трубку на рычаг, сдернула со спинки одного из двух стульев у кухонного стола кожаный пиджак, схватила ключи и сумочку и метнулась к двери.
На улице все звуки ночного города: урчание редких автомобилей, проносящихся по пустынным мостовым, грохот незакрепленного люка, попавшего под колесо, далекий вой сирены, смех пьяных людей, возвращающихся домой после затянувшейся вечеринки, – приглушала пелена серебристого тумана.
Звуки эти Целестина слышала не раз и не два, но город вдруг превратился в чуждое для нее место, где за каждым углом ее подстерегала опасность, а высокие здания вздымались над ней, как храмы незнакомых и жестоких богов. И в пьяном смехе гуляк, долетавшем до нее сквозь туман, ей слышалось не веселье, а безумие и мука.
Автомобиля у нее не было, больница находилась в двадцати пяти минутах ходьбы от ее дома. Молясь о появлении такси, она побежала. Молитва ее осталась без ответа, но путь до больницы Святой Марии занял у запыхавшейся Целестины чуть больше пятнадцати минут.
Лифт, поскрипывая тросами, еле-еле полз вверх. В замкнутом пространстве кабины ее частое дыхание гулким эхом отражалось от стен.
В предрассветные часы в коридорах седьмого этажа царила тишина. В воздухе стоял сосновый запах какого-то дезинфицирующего средства.
Целестина увидела, что дверь в палату 724 распахнута. Внутри горел свет.
Ни Фими, ни Неллы она не нашла. Лишь санитарка перестилала кровать старухи. С кровати Фими одеяло наполовину сползло на пол.
– Где моя сестра? – выдохнула Целестина.
Санитарка чуть не вскрикнула (Целестина испугала ее), выпрямилась, оторвавшись от работы.
И в этот момент чья-то рука коснулась плеча Целестины. Повернувшись, она оказалась лицом к лицу с монахиней, увидела розовые щеки и светло-синие глаза, которые с этого мига стали ассоциироваться у нее с дурными новостями.
– Я не знала, что они сумели связаться с вами. Вы очень быстро добрались сюда, дорогая, буквально за десять минут.
Со звонка Неллы Ломбарди прошло как минимум двадцать.
– Где Фими?
– Быстрее. – Монахиня повела ее по коридору к лифтам.
– Что случилось?
– Очередной гипертонический криз, – ответила монахиня, когда они уже спускались на этаж, где располагались операционные. – Несмотря на лекарства, у бедняжки резко подскочило давление. У нее начались эклампсические судороги.
– О господи!
– Сейчас она в операционной. Кесарево сечение.
Целестина ожидала, что ее отведут в комнату ожидания, но вместо этого монахиня открыла дверь предоперационной.
– Я – сестра Джозефина. – Она сняла сумочку с плеча Целестины. – Сумочка останется у меня. – Она помогла девушке снять кожаный пиджак.
Появилась медицинская сестра в зеленом хирургическом костюме.
– Подтяните рукава свитера и как следует намыльте руки до локтей. Мыла не жалейте. Я скажу, когда хватит.
Медсестра сунула в правую руку Целестины кусок мыла. Монахиня включила воду.
– К счастью, доктор Липскомб был в больнице, когда это произошло. Только что принял очень сложные роды. Он – специалист экстра-класса.
– Как Фими? – спросила Целестина, яростно намыливая руки.
– Доктор Липскомб принял младенца десять минут тому назад. Плацента еще не удалена, – сообщила ей медсестра.
– Младенец маленький, но здоровенький. Никаких пороков развития, – добавила монахиня.
Целестина спрашивала о Фими, а ей говорили о младенце, поэтому ее тревога только возросла.
– Достаточно, – сказала медсестра, и монахиня, протянув руку, закрыла кран.
Целестина отступила от раковины, подняла руки, совсем как хирурги в фильмах, и у нее возникло острое ощущение, что она дома, в постели, а происходящее ей только снится.
Потом медсестра надела на Целестину хирургический халат, завязала пояс на спине. Монахиня присела и надела на уличные туфли Целестины пластиковые бахилы.
Этот неординарный и срочный визит в операционную, святая святых, лучше всяких слов говорил о состоянии Фими.
К халату и бахилам добавились хирургическая маска и шапочка, под которую медсестра забрала волосы Целестины.
– Сюда.
Из предоперационной они вышли в короткий коридор. Бахилы поскрипывали по виниловым плиткам пола.
Медсестра открыла дверь, пропустила Целестину вперед, но не последовала за ней в операционную.
Сердце Целестины билось так сильно, что от его ударов вибрировали все кости. Колени подгибались, ноги отказывались ей служить. Она даже испугалась, что сейчас упадет.
Хирургическая бригада, словно в молитве, склонилась над операционным столом, на котором лежала Фими. Белые простыни пятнала кровь.
Целестина сказала себе, что не надо бояться крови. При родах без нее не обойтись. Кровь в подобных ситуациях – обычное дело.
Младенца она не увидела. В одном углу коренастая, толстая медсестра что-то делала на другом столе, практически закрывая его своим телом. Вроде бы кого-то пеленала. Скорее всего, младенца.
Ненависть к нему вспыхнула в Целестине с такой силой, что она почувствовала горечь во рту. Пусть и без пороков развития, ребенок все равно был монстром. Проклятием насильника. Здоровеньким, но здоровеньким за счет Фими.
Несмотря на то что операция продолжалась, высокая медсестра отступила на шаг и взмахом руки подозвала Целестину к столу.
Она подошла, наконец-то увидела Фими, живую… но столь разительно изменившуюся, что у Целестины прихватило сердце, будто грудная клетка внезапно съежилась, обжав его ребрами.
Лицо Фими перекосило, словно сила тяжести воздействовала на одну половину куда сильнее, чем на другую. Левое веко стянуло на глаз. Левый уголок рта опустился. Из него тянулась струйка слюны. Глаза блуждали, обезумевшие от страха, похоже, уже не могли сфокусироваться.
– Внутримозговое кровоизлияние, – объяснил хирург, скорее всего доктор Липскомб.
Чтобы удержаться на ногах, Целестине пришлось одной рукой опереться об операционный стол. Нестерпимо яркий свет резал глаза, воздух так пропитался запахами антисептика и крови, что каждый вдох давался с трудом.
Фими повернула голову, и ее глаза разом перестали блуждать. Она встретилась взглядом с сестрой и, должно быть, в первый раз поняла, где находится.
Попыталась поднять правую руку, но она не шевельнулась, никак не отреагировала, так что Фими потянулась к сестре левой рукой. Целестина схватила ее, сжала.
Девушка заговорила, но язык и губы не желали слушаться, вместо слов с них срывались бессвязные звуки. Блестящее от пота лицо еще больше перекосилось, Фими закрыла глаза, напряглась и попыталась снова. На этот раз ей удалось произнести одно, но понятное слово: «Ребенок».
– У нее только нарушение речи, – вставил хирург. – Говорить она не может, но все понимает.
Толстая медсестра с младенцем в руках возникла у операционного стола рядом с Целестиной. Та в отвращении отпрянула. Сестра повернула новорожденного так, чтобы мать могла увидеть его лицо.
Фими коротко глянула на младенца, вновь нашла взглядом глаза Целестины. Опять внятно произнесла одно слово: «Ангел».
То был не ангел.
Разве что ангел смерти.
Да, конечно, ни рогов, ни копыт у младенца не было. Крошечные ручки и ножки, как у любого новорожденного. Отцом его был не демон – человек. И зло, которое являл собой отец, никак не проступало на крохотном личике.
Тем не менее Целестина не хотела иметь с младенцем ничего общего, не могла понять, почему Фими назвала его ангелом.
– Ангел, – повторила Фими, ища в глазах сестры знак понимания.
– Нельзя тебе так напрягаться, милая.
– Ангел, – упрямо твердила свое Фими, а потом, с невероятным усилием, от которого явственно набух сосуд на левом виске, добавила: – Имя.
– Ты хочешь, чтобы ребенка назвали Ангел?
Девушка попыталась ответить: «Да», – но с губ сорвалось лишь: «Д-д, д-д». Кивнула, как могла, и сжала руку сестры.
Целестина решила, что у Фими нарушилась не только речь, но и связь с реальностью. Она не могла давать имя ребенку, предназначенному для усыновления.
– Ангел, – из последних сил повторила Фими.
Ангел. Чуть менее экзотичный синоним ее имен. Ангел Серафимы. Ангел ангела.
– Хорошо, – кивнула Целестина. – Да, конечно. – Она понимала, что не время сейчас спорить с Фими. – Ангел. Ангел Уайт. А теперь успокойся, расслабься, тебе нельзя перенапрягаться.
– Ангел.
– Да, да.
Толстая медсестра унесла младенца, пальцы Фими на руке сестры чуть разжались, а вот лицо вновь напряглось.
– Люблю… тебя.
– Я тоже люблю тебя, милая. – Голос Целестины дрогнул. – Очень люблю.
Глаза Фими широко раскрылись, пальцы до боли сжали руку Целестины, тело заметалось на операционном столе, она выкрикнула: «Н-не-е-е, н-не-е-е, н-не-е-е!»
А потом рука ее обмякла, тело – тоже, глаза застыли, потемнев от смерти, уставившись в никуда, на электрокардиографе зеленая точка начала вычерчивать прямую.
Целестину быстренько отодвинули от стола: хирургическая бригада предпринимала попытку вывести Фими из состояния клинической смерти. Потрясенная, она пятилась, пока не наткнулась на стену.
* * *
В Южной Калифорнии с приближением зари нового знаменательного дня Агнес Лампион все еще снится ее новорожденный сын: Бартоломью лежит в кувезе, а над ним на белых крылышках порхают ангелочки, серафим и херувим.
В Орегоне, стоя у кровати Каина Младшего, вращая монету по левой руке, Томас Ванадий спрашивает об имени, которое произнес мучимый кошмаром подозреваемый.
В Сан-Франциско Серафима Этионема Уайт лежит на операционном столе. Прекрасная и шестнадцатилетняя. Врачам спасти ее не удалось.
С нежностью, удивительной и трогательной для Целестины, высокая медсестра закрывает глаза мертвой девушки. Достает чистую простыню, разворачивает ее и покрывает ею тело, начиная с ног. Лицо исчезает последним.
И вдруг застывший мир снова приходит в движение…
Стянув с лица хирургическую маску, доктор Липскомб подошел к Целестине, которая по-прежнему вжималась спиной в стену.
Его узкое, длинное лицо, казалось, вытянулось еще больше под грузом лежащей на нем ответственности, а в зеленых глазах читалось сострадание человека, по себе знающего, каково терять самых близких.
– Я очень сожалею, мисс Уайт.
Она моргнула, кивнула, но ответить не смогла.
– Вам потребуется время… чтобы сжиться с этим. Может, вы хотите позвонить родным.
Ее отец и мать все еще пребывали в мире, где Фими была живой. И теперь предстояло перенести их в новый мир. Она не знала, где взять силы, чтобы снять телефонную трубку.
Но еще больше страшило Целестину другое: ей предстояло самое тяжелое в жизни испытание – наблюдать, как тело вывезут из операционной. Наверное, собственная смерть принесла бы ей меньше страданий.
– И разумеется, вы должны дать необходимые указания относительно тела, – продолжал доктор Липскомб. – Сестра Джозефина отведет вас в кабинет кого-нибудь из социальных работников, с телефоном, всем необходимым, вы сможете побыть там, сколько сочтете нужным.
Она слушала вполуха. Тело онемело. Она словно находилась под анестезией. Смотрела мимо него, в никуда, казалось, голос долетал из-под нескольких хирургических масок, хотя он сдвинул на шею ту единственную, в которой оперировал.
– Но прежде чем вы покинете больницу Святой Марии, я бы хотел, чтобы вы уделили мне несколько минут. Для меня это очень важно. Дело сугубо личное.
Тут до нее дошло, что Липскомб очень уж взволнован, даже с учетом того, что на его операционном столе только что умерла пациентка, пусть за ним и не было никакой вины.
Когда она встретилась с ним взглядом, хирург-акушер добавил:
– Я вас подожду. Скажите, когда сможете меня выслушать. Сколько бы вам ни потребовалось времени, чтобы прийти в себя. Понимаете… перед вашим приходом сюда произошло нечто экстраординарное.
Целестина хотела отказаться, чуть не сказала, что ее совершенно не интересуют чудеса медицины или психологии, свидетелем которых ему довелось стать. Единственное чудо, которое имело значение, – оживление Фими – не состоялось.
Но, глядя на его доброе лицо, зная, что он приложил все силы для спасения сестры, не смогла сказать «нет». Кивнула.
Ребенка в операционной уже не было.
Целестина не заметила, когда его унесли. Она хотела еще раз взглянуть на него, пусть от одного его вида ее чуть не выворачивало наизнанку.
Вероятно, ее лицо разительно изменилось, когда она пыталась вспомнить, как выглядел младенец, потому что хирург спросил:
– Да? Что-нибудь не так?
– Ребенок…
– Ее унесли в палату для новорожденных.
«Ее!»
До сих пор Целестина не задумывалась о поле ребенка, потому что не видела в нем личности.
– Мисс Уайт? Хотите, чтобы я показал вам дорогу?
Она покачала головой:
– Нет. Благодарю вас, не надо. Я зайду туда позже.
Результат изнасилования, ребенок воспринимался Целестиной как раковая опухоль, как зло, унесшее жизнь. Она не хотела смотреть на новорожденного, как не стала бы смотреть на поблескивающее от крови, только что вырезанное из тела новообразование. Поэтому она и не запомнила, как выглядела девочка.
Одна мелочь, одна-единственная, не выходила у нее из головы.
Но она не могла полностью полагаться на свою память, потому что стояла у операционного стола в невменяемом состоянии. Может, она ничего и не видела, только подумала, что видела.
Одна мелочь. Одна-единственная. Но очень важная, и Целестина знала, что должна получить однозначный ответ, прежде чем покинуть больницу Святой Марии, пусть для этого и придется еще раз взглянуть на ребенка, порождение насилия, убийцу ее сестры.
Глава 19
В больницах, так же как на фермах, завтракают рано, чуть ли не с рассветом, потому что и выздоровление, и ведение сельского хозяйства – работа тяжелая, и долгие дни уходят на то, чтобы спасти человеческие существа, тратящие не меньше времени на приобретение тех самых болезней, от которых потом пытаются избавиться.
Два яйца всмятку, кусочек хлеба, стакан яблочного сока и блюдечко апельсинового джелло[13] принесли Агнес Лампион в тот самый час, когда на фермах в глубине материка петухи еще кукарекали, а толстые курицы самодовольно квохтали над только что снесенными яйцами.
Хотя спала Агнес хорошо, а кровотечение удалось полностью остановить, она слишком ослабела, чтобы самостоятельно справиться с завтраком. Обычная ложка весила для нее никак не меньше лопаты.
И аппетита у Агнес не было никакого. Все ее мысли занимал Джой. Рождение младенца здоровым она почитала за счастье, но оно никак не компенсировало ее утрату. И пусть по жизни Агнес успешно противостояла депрессии, теперь на ее сердце опустилась темнота, которую не могли рассеять тысяча, а может, и десять тысяч рассветов. Если бы дежурная медсестра попыталась уговорить ее позавтракать, Агнес, скорее всего, отказалась бы от еды, но она не могла устоять перед настойчивыми уговорами одной известной ей портнихи.
Мария Елена Гонсалес, очень решительная, при всей ее миниатюрности, дама, по-прежнему находилась в палате. Да, кризис миновал, но она еще не убедила себя, что врачи и медицинские сестры смогут обеспечить Агнес должные уход и заботу.
Сидя на краю кровати, Мария чуть подсаливала яйца и с ложечки кормила Агнес.
– Яйца – это будущие цыплята.
– Из яиц вылупляются цыплята, – механически поправила ее Агнес.
– Que?
Агнес нахмурилась:
– Должно быть, я не о том. Что ты имела в виду, дорогая?
– Эта женщина спрашивала меня о курицах…
– Какая женщина?
– Не важно. Глупая женщина, которая высмеивала мой английский, пыталась сбить меня с толку. Она спрашивала, курица появилась первой или сначала было яйцо.
– С чего все началось, с курицы или яйца?
– Si![14] Так она и сказала.
– Она не высмеивала твой английский, дорогая. Это стародавняя головоломка. – Мария не поняла этого слова, и Агнес объяснила его значение: – Никто не может найти на нее ответ, независимо от владения английским. В этом все дело.
– Зачем задавать вопрос, на который нет ответа? Какой в этом смысл? – Мария озабоченно посмотрела на Агнес. – Вы еще не пришли в себя, миссис Лампион, у вас затуманена голова.
– Голова у меня ясная.
– Я отвечу на головоломку.
– И каков твой ответ?
– Первая курица должна появиться с первым яйцом внутри ее.
Агнес проглотила ложечку джелло и улыбнулась:
– Да, в конце концов, все очень просто.
– Все должно быть.
– Должно быть что? – спросила Агнес, допивая через соломинку последние капли яблочного сока.
– Просто. Люди стараются все усложнить, хотя можно обойтись без этого. Весь мир прост, как шитье.
– Шитье? – Агнес подумала: а может, в голове у нее по-прежнему туман?
– Шитье иглой. Стежок, стежок, стежок. – Мария убрала поднос с кровати Агнес. – Узел на последнем стежке. Просто. Надо только выбрать цвет нитки и тип стежка. А потом стежок, стежок, стежок.
Тут пришла медсестра, чтобы сообщить хорошие новости: маленький Лампион настолько хорошо себя чувствует, что его вынули из инкубатора. В подтверждение ее слов в палате появилась вторая медсестра, толкая перед собой колыбель на колесиках.
Первая медсестра, сияя, как медный таз, наклонилась над колыбелькой и достала розовое сокровище, завернутое в белое одеяло.
Совсем недавно Агнес не могла поднять ложку, но теперь силой она сравнялась с Геркулесом и смогла бы удержать две упряжки лошадей, рвущихся в разные стороны, не то что крошечного младенца.
– У него такие прекрасные глаза, – умилилась медсестра, которая передавала новорожденного в материнские руки.
Но в ребенке все было прекрасным, не только глаза, личико, не столь сморщенное, как бывает у большинства новорожденных, словно указывало на то, что он вошел в этот мир с чувством умиротворенности, которое никогда не покинет его, пусть жить придется далеко не в самом спокойном месте. А может, его наделили несвойственной младенцам мудростью и его лицо разгладили знание и опыт. А головку покрывали густые волосы, темно-каштановые, как были у Джоя.
Его глаза, о чем сказала Мария ночью и что подтвердила медсестра, просто завораживали своей красотой. В отличие от глаз большинства людей, одноцветных, с полосками более темного оттенка, радужка каждого глаза Бартоломью включала два цвета: зеленый – от матери и синий – от отца… Разноцветные сектора чередовались друг с другом. Великолепием и яркостью глаза могли бы соперничать с драгоценными камнями.
И когда Агнес встретилась с теплым и устойчивым, не плавающим из стороны в сторону, взглядом младенца, она прониклась ощущением чуда.
– Мой маленький Барти. – (Уменьшительное имя возникло само собой.) – Я думаю, тебя ждет необычная жизнь. Да, ждет, умненький Барти. Матери могут это знать. Тебя никак не хотели пускать в этот мир, но ты все-таки пробился сюда. Наверняка для того, чтобы совершить что-то очень важное.
Дождь, который внес свою лепту в смерть отца мальчика, прекратился еще ночью. Но утреннее небо оставалось серо-черным, тяжелые облака прижимались к земле, однако до того, как Агнес произнесла эти слова, небеса молчали.
А слово «важное» будто замкнуло небесную электрическую цепь. Слепящая молния расколола небо, от раската грома задребезжали стекла.
Взгляд младенца переместился с глаз матери в направлении окна, но на его личике не отразилось и тени страха.
– Не тревожься из-за этого грохота, Барти, – проворковала Агнес. – На моих руках ты в полной безопасности.
И последнее слово сработало, как чуть раньше «важное». Вновь небо полыхнуло огнем, а гром ударил с такой силой, что затряслось здание больницы.
Гром в Южной Калифорнии – большая редкость, так же как молния. Ливни здесь тропические, потоки воды безо всякой пиротехники.
И ярость второго разряда вызвала у двух медсестер и Марии крики изумления и тревоги.
Суеверная дрожь пробежала по телу Агнес, она крепче прижала к себе сына и повторила:
– В полной безопасности.
И тут же гроза дала себе волю, молнии засверкали по всему небу, раскаты грома накладывались друг на друга, стеклянные панели в окнах вибрировали, как натянутая на барабане кожа, тарелки на подносе съехались вместе и постукивали краями.
Когда от вспышек молний окно стало матовым, непроницаемым, совсем как затянутый катарактой глаз, Мария перекрестилась.
А Агнес, которую внезапно пронзила мысль, что этот природный феномен – угроза, нацеленная на ее сына, упрямо повторила еще раз, словно отвечая ударом на удар:
– В полной безопасности.
Самый мощный выброс небесной энергии стал и последним. Яркость, сравнимая с атомным взрывом, едва не расплавила оконное стекло, от грохота из зубов Агнес чуть не выскочили пломбы, а кости загудели, как флейты, словно стали полыми, начисто лишившись мозга.
Лампы замигали, воздух так пропитался озоном, что при вдохе между стенками ноздрей Агнес будто проскакивали искры. На том небесный фейерверк как будто отрезало, предохранители не вышибло, лампы не потухли. Представление закончилось, никому не причинив вреда.
Особо странным являлось полное отсутствие дождя. Такие катаклизмы никогда не обходились без потоков воды, обрушивающихся на землю, а тут ни единой капли не упало на стекло.
Вместо этого все вокруг замерло, такая удивительная установилась тишина, что присутствующие в палате переглянулись, а потом, чувствуя, как поднимаются волосы на затылке, вскинули глаза к потолку в ожидании некоего события, пусть и не зная, какого именно.
Никогда раньше молнии не останавливали дождь, наоборот, служили его предвестницами. А вот тут, словно испугавшись этого светопреставления, черные тучи начали медленно разбегаться, открывая синее небо.
Пока за окном все сверкало и гремело, Барти не заплакал, не выказал ни малейшей тревоги, а потом, вновь обратив взор на мать, одарил ее своей первой улыбкой.
Глава 20
Когда стакан яблочного сока, выпитый на заре, удержался в желудке Каина Младшего, ему разрешили выпить второй стакан, правда, маленькими глоточками. А также дали три крекера.
Он же мог съесть корову, с хвостом, рогами и копытами. Слабость оставалась, но опасность блевать желчью и кровью миновала. Так что в голодании не было никакой необходимости.
Непосредственной реакцией на убийство жены стал острый нервный эмезис, который по прошествии времени сменился отменным аппетитом и joie de vivre.[15] Ему приходилось сдерживать себя, потому что время от времени так и хотелось запеть. В общем, настроение у Младшего было самое праздничное.
Однако попытка отпраздновать случившееся привела бы к тюремному заключению, а то и казни на электрическом стуле. Ванадий, коп-маньяк, вполне мог приглядывать за ним из-под кровати или, переодевшись медицинской сестрой, ловить каждое его неверное движение. И Младшему не оставалось ничего другого, как медленно выздоравливать, чтобы лечащий врач не счел его исцеление чудом. А доктор Паркхерст намеревался выписать его только на следующий день.
Более не прикованный к постели капельницей, сменив бесформенный халат на пижамные штаны и куртку из хлопчатобумажной ткани, Младший, по рекомендации врача, попытался передвигаться на своих двоих. Никакого головокружения он не испытывал, особой слабости – тоже и мог бы без труда разгуливать по коридорам больницы, но решил, что не следует ему показывать чрезмерную активность, и в полном соответствии с ожиданиями доктора Паркхерста попросил снабдить его ходунками на колесиках.
Время от времени останавливался, облокачивался на ходунки, словно нуждался в отдыхе. Иной раз кривил лицо, убедительно – не театрально, и дышал тяжелее, чем мог бы.
Не раз и не два проходившие мимо медсестры останавливались и советовали ему не перенапрягаться.
Но ни одна из этих милосердных женщин не могла сравниться красотой с Викторией Бресслер, той, что давала ему лед и явно хотела запрыгнуть в постель. Однако он не пропускал взглядом ни одну медсестру, надеясь найти какую-нибудь не хуже.
Хотя Младший полагал себя обязанным первым допустить до своего тела Викторию, он не собирался соблюдать моногамию. Со временем, когда он стряхнет с себя подозрения, как стряхнул Наоми, он предполагал устроить себе, образно говоря, десерт-бар, а не ограничиваться одним эклером.
Ознакомившись с сестринским персоналом своего этажа, Младший, воспользовавшись лифтом, приступил к обследованию других, ниже и выше, уделяя особое внимание женскому полу.
И в конце концов очутился у большого окна в палату для новорожденных. В ней находились семь младенцев. У изножия каждой из колыбелек крепилась табличка с именем и фамилией ребенка.
Младший долго стоял у окна не потому, что устал или увлекся кем-то из медсестер. Но вид лежащих в колыбельках младенцев завораживал его, пусть он и не мог сказать почему.
Его не обуревала родительская зависть. Ему совершенно не хотелось иметь ребенка. Детей он полагал несносными маленькими чудовищами. Источником хлопот, обузой, но никак не благословением.
Однако его так и тянуло к этим новорожденным, и он начал убеждать себя, что подсознательно собирался прийти к этой палате с того самого момента, как покинул собственную. Просто не мог не прийти, притянутый таинственным магнитом.
К окну он подошел в превосходном настроении. А вот по мере того как он смотрел и смотрел на новорожденных, ему все больше становилось не по себе.
Младенцы.
Безвредные младенцы.
Да, безвредные, спеленатые, под одеялками, поначалу они вызывали у него лишь смутную тревогу, которая, непонятно почему, необъяснимо, вдруг сменилась диким, чуть ли не животным страхом.
Он по второму разу перечитал все семь имен на табличках, закрепленных на колыбельках. Он чувствовал, что в этих именах, или в одном из них, кроется разгадка его страха, потому что где-то там, за окном палаты, затаилась потенциальная угроза.
Имя за именем, его взгляд медленно прошелся по всем табличкам, и такая огромная пустота вдруг открылась в Младшем, что ему действительно пришлось опереться на ходунки, хотя раньше он лишь притворялся, что они ему нужны. Он почувствовал, что от него осталась одна оболочка и требуется совсем немного, чтобы расколоть ее, как яичную скорлупу.
Чувство это не было для него внове. Что-то такое он уже испытывал. В прошлую ночь, когда проснулся от кошмара, который не помнил, и увидел блестящий четвертак, перекатывающийся по костяшкам пальцев Ванадия.
Нет. Не в тот момент. Не от вида монеты или детектива. Он ощутил то же самое, когда Ванадий упомянул имя, которое он, Младший, вроде бы произнес в кошмарном сне.
Бартоломью.
Младший содрогнулся. Ванадий не выдумал этого имени. Оно отозвалось в сознании Младшего, как никакое другое слово из произнесенных детективом.
Бартоломью.
Как прежде, имя громыхнуло рокотом самого басистого колокола с кафедральной колокольни, ударившего холодной ночью.
Бартоломью.
Но ни одного из младенцев, которых он видел через окно, не звали Бартоломью, и Младший силился понять, что связывает эту палату и сон, который он не мог вспомнить.
Но пусть суть кошмара ускользала от него, Младший осознавал, что для его страхов есть веская причина, что кошмар этот был не просто сном, а предупреждением из будущего. И его Немезида, богиня возмездия, именуемая Бартоломью, существовала не только во сне, но и в реальном мире, и этот Бартоломью имел какое-то отношение к… младенцам.
Тут же не просто интуиция, а инстинкт самосохранения подсказал Младшему, что при встрече с человеком по имени Бартоломью он должен действовать без промедления, разобраться с ним так же решительно, как разобрался с Наоми.
Дрожа всем телом, в поту, он отвернулся от окна. Удаляясь от палаты с новорожденными, ожидал, что страх уйдет, но тот еще сильнее придавил его.
По пути к лифту он оглядывался не раз и не два. А войдя в палату, начал озираться, как затравленный зверь.
Медсестра засуетилась вокруг него, помогла улечься на кровать, встревоженная его бледностью и трясущимися руками. Внимательная, ловкая, сострадательная, но далеко не красивая, так что Младшему хотелось, чтобы она как можно скорее оставила его одного.
Но, оставшись в одиночестве, Младший горько пожалел об уходе сестры. Ему показалось, что ее присутствие может отвести грозящую ему опасность.
Где-то в мире затаился его смертельный враг, Бартоломью, каким-то боком связанный с младенцами, абсолютный незнакомец, но могущественный противник.
Младший мог бы подумать, что сходит с ума, если б не свойственные ему рационализм, целенаправленность, серьезность.
Глава 21
Солнце поднялось за облаками, за туманом, серый день начался серебристым дождем. Вода смывала грязь с улиц, в ливневых канавах бурлили ядовитые потоки.
Социальные работники не появлялись в больнице Святой Марии с рассветом, поэтому Целестина осталась, разделяя одиночество с одним из их кабинетов, где увидела влажное лицо утра, заглядывающее в окно, откуда позвонила родителям, чтобы сообщить ужасную весть. Отсюда же она договорилась и с похоронным бюро о том, чтобы забрать тело Фими из холодного больничного морга, набальзамировать и самолетом отправить в Орегон.
Отец и мать горько плакали, но Целестина сохраняла спокойствие. Понимала, что должна держать себя в руках. Слишком многое предстояло сделать, принять массу решений, прежде чем сесть в вылетающий из Сан-Франциско самолет и сопроводить гроб с телом сестры. Вот тогда, выполнив все возложенные на нее обязанности, она могла дать волю слезам, открыть душу горю, от которого сейчас отгораживалась каменной стеной. Фими заслуживала того, чтобы достойно прибыть к своей северной могиле.
Когда Целестина покончила со звонками, в кабинет вошел доктор Липскомб.
Уже не в хирургическом костюме, а в серых брюках из шерстяной ткани и синем кашемировом свитере поверх белой рубашки. Теперь он больше напоминал не хирурга-акушера, спасающего жизни матери и ребенка, а профессора философии, денно и нощно рассуждающего о неизбежности смерти.
Она уже хотела встать из-за стола, но он замахал рукой, предлагая остаться на месте.
Сам подошел к окну, выглянул на улицу, похоже, искал слова, чтобы описать «нечто экстраординарное», о чем упомянул раньше.
А когда заговорил, искреннее горе заметно смягчило его голос.
– Первого марта, три года тому назад, моя жена и двое сыновей, Дэнни и Гарри, семилетние близнецы, возвращались домой из Нью-Йорка, где навещали ее родителей. Вскоре после взлета… их самолет упал.
Так глубоко раненная одной смертью, Целестина и представить себе не могла, как Липскомбу удалось пережить гибель всей семьи. Жалость переполнила ее сердце, так сжала горло, что говорить она смогла только шепотом:
– Тот самый рейс «Америкэн эрлайнс»…
Он кивнул.
По загадочному совпадению, в первый ясный, солнечный день после нескольких недель ненастья «Боинг-707», едва взлетев, рухнул в Джамайка-Бэй. Экипаж и все пассажиры погибли. И теперь, в 1965 году, эта трагедия оставалась крупнейшей катастрофой в истории пассажирской авиации. Поскольку телевидение уделило ей максимум внимания, в памяти Целестины осталось много подробностей, хотя в то время она находилась на другой стороне континента.
– Мисс Уайт, – продолжил хирург, глядя в окно, – незадолго до вашего прихода в операционную этим утром ваша сестра умерла на операционном столе. Сделав вовремя кесарево сечение, мы, возможно, предотвратили кровоизлияние в мозг. Ради спасения и матери, и ребенка мы сосредоточили все усилия на том, чтобы вернуть Фими в этот мир и восстановить поступление крови к плаценте и нормальное питание младенца до проведения кесарева сечения.
Целестина не могла понять, чем вызван столь резкий переход от авиакатастрофы к Фими.
Липскомб повернулся к ней:
– Состояние клинической смерти Фими длилось недолго. Минуту, может, минуту и десять секунд. Когда она вновь вернулась к нам, стало ясно, что остановка сердца, скорее всего, следствие массивного мозгового кровоизлияния. Она плохо понимала, где находится, правую половину тела парализовало, у нее перекосилось лицо… Вы все видели сами. У нее начали возникать трудности с речью, словно рот набили кашей, но потом случилось что-то очень странное…
Трудности с речью возникли у Фими и потом. После рождения ребенка, когда она всеми силами пыталась донести до Целестины мысль о том, что ее дочь надо назвать Ангелом.
Какие-то интонации в голосе доктора Липскомба заставили Целестину медленно подняться. В ожидании чуда. В страхе. В благоговении. Возможно, по всем трем причинам.
– На какие-то мгновения голос ее вновь стал ясным и отчетливым, – продолжил Липскомб. – Она оторвала голову от подушки, нашла меня, встретилась со мной взглядом. Пристально всмотрелась в меня. Сказала… сказала: «Ровена вас любит».
По спине Целестины пробежал холодок благоговейного трепета: она уже знала, что услышит сейчас от хирурга.
И не ошиблась.
– Ровена – имя моей жены.
И, словно в ответ на внезапно приоткрывшуюся дверь между этим безветренным днем и другим миром, по окну забарабанили капли дождя.
Липскомб не отрываясь смотрел на Целестину.
– Прежде чем у вашей сестры вновь возникли проблемы с речью, она успела сказать: «Бизил и Фризил с ней, у них все хорошо». Вам, конечно, непонятно, о чем речь, но не мне.
Целестина ждала, затаив дыхание.
– Так Ровена называла мальчиков, когда они родились. Дала им шуточные имена. Говорила, что они прекрасны, как сказочные эльфы, следовательно, и имена у них должны быть словно у эльфов.
– Фими не могла этого знать.
– Не могла. Ровена перестала их так называть, как только малышам исполнился год. Про эти имена знали только она и я. Наш маленький семейный секрет. Даже мальчики их не помнили.
В глазах хирурга угадывалось желание поверить в чудо. На лице лежала тень скептицизма.
Врач и ученый, он строил жизнь на логике и материалистичном подходе. И не мог вот так легко смириться с тем, что логика и материализм, как ему пришлось убедиться на собственном опыте, не всегда могли объяснить многообразие окружающего мира и человеческого существования.
Целестина была куда как лучше подготовлена к восприятию этого трансцендентального события. Она не относилась к тем художникам, которые восславляют безумие и хаос или черпают вдохновение в пессимизме и отчаянии. На чем бы ни останавливался ее взгляд, везде она видела порядок, предназначение, завершенность замысла, бледную тень или яркий блеск застенчивой красоты. И для нее сверхъестественное не ограничивалось старыми домами, в которых, по слухам, обитали призраки, или необычными событиями, вроде засвидетельствованного Липскомбом, а распространялось на повседневную жизнь, проявляясь в расположении ветвей на дереве, в игре собаки с теннисным мячом, в формах сугробов, нанесенных бураном… во всем, что окружало ее, крылась непостижимая тайна, такой же фундаментальный компонент мироздания, как свет и тьма, материя и энергия, время и пространство.
– С вашей сестрой случались… подобные происшествия? – спросил Липскомб.
– Никогда.
– Ей везло в карты?
– Не больше, чем мне.
– Она не предсказывала будущие события?
– Нет.
– Экстрасенсорные способности…
– У нее их не было.
– …со временем могут получить научное подтверждение.
– Выходит, что есть жизнь после смерти?
Надежда на множестве крыльев порхала над хирургом, но он боялся позволить ей приземлиться ему на плечо.
– Фими не читала мыслей, доктор Липскомб, – добавила Целестина. – Это научная фантастика. – (Он встретился с ней взглядом. Но промолчал.) – Она не могла заглянуть вам в голову и выудить оттуда имя Ровена. Имена Бизил или Фризил – тоже.
Словно испугавшись уверенности, светящейся в глазах Целестины, хирург отвернулся от нее, снова шагнул к окну.
Она последовала за ним:
– Одну минуту, после остановки сердца, ее не было в операционной больницы Святой Марии, так? Ее тело, да, оставалось на столе, но не Фими.
Доктор Липскомб поднес руки к лицу, закрыл рот и нос, как раньше их закрывала хирургическая маска, словно опасался вместе с воздухом запустить в себя идею, которая могла полностью его изменить.
– Если Фими здесь не было, а потом она вернулась, значит эту минуту она провела где-то еще.
За окном, под дождем и туманом, город казался более загадочным, чем Стоунхендж, незнакомым, как любой из городов в наших снах.
Из-под рук раздался какой-то звук, словно хирург пытался исторгнуть из себя душевную боль, вцепившуюся в него тысячью острых коготков.
Целестина замялась, не зная, что делать, что сказать.
И, как всегда в минуты неопределенности, она спросила себя, а как бы в такой ситуации поступила ее мать. Грейс, в бесконечном своем милосердии, обязательно нашла бы нужные слова, сделала бы все необходимое, чтобы утешить, подбодрить, вызвать улыбку у самого несчастного человека. Зачастую, кстати, никаких слов не нужно вовсе, ибо в нашем путешествии по жизни мы чувствуем себя такими одинокими, что нам достаточно лишь дружеского жеста, который заверит, что мы не одни.
Она положила правую руку на плечо хирурга.
И разом почувствовала, как напряжение покидает его. Руки Липскомба соскользнули с лица, он повернулся к ней, по его телу пробегала дрожь уже скорее не страха, а облегчения.
Он попытался что-то сказать, а когда не смог, Целестина обняла его.
Она еще не дожила до двадцати одного года, он был вдвое старше ее, но прижался к ней, как маленький ребенок, а она, словно мать, утешала его.
Глава 22
В добротных темных костюмах, чисто выбритые, сверкающие, как их начищенные туфли, с брифкейсами, втроем они прибыли в больничную палату Младшего до начала рабочего дня, волхвы без верблюдов, без даров, но готовые оплатить горе и утрату. Двое адвокатов и один политический назначенец достаточно высокого уровня, они представляли собой штат, округ и страховую компанию в расследовании, начатом в связи с ненадлежащим состоянием ограждения наблюдательной площадки на пожарной вышке.
Они не смогли бы держаться более торжественно и уважительно, даже если бы труп Наоми, зашитый на спине, накачанный бальзамирующей жидкостью, с накрашенной физиономией, весь в белом, с Библией на груди, сжимаемой хладными руками, лежал в гробу в этой самой палате, в окружении цветов и ожидании скорбящих родственников и друзей. Предельно вежливые, сладкоголосые, с печальными глазами, заботливые и при этом расчетливо прикидывающие: а какую компенсацию может затребовать Младший?
Они назвали свои фамилии, Накер, Хисск и Норк, но Младший и не пытался ассоциировать лица с фамилиями, прежде всего из-за схожести как внешности, так и манеры поведения этих троих. А кроме того, Младший еще не отошел от похода по этажам больницы и от тревожной мысли о том, что некий Бартоломью, поблескивая злобными глазами, разыскивает его по всему миру.
После многословного елейного вступления, высказав уверенность в том, что Наоми ушла в лучший мир, подчеркнув, что государство стремится со всей ответственностью заботиться о жизни каждого гражданина, Накер, или Хисск, или Норк добрался до вопроса компенсации.
Разумеется, слово «компенсация» не произносилось. Упаси бог. В юридической школе, где английский был вторым языком, его заменяли другие слова. «Восстановление справедливости», «вознаграждение за причиненные страдания», «возмещение понесенной утраты». Даже «искупление».
Младший чуть не свел их с ума, прикидываясь, что не понимает, о чем, собственно, речь, тогда как эти трое мусолили интересующую их тему, чем-то напоминая заклинателя змей, выбирающего удобный момент, чтобы схватить за шею свернувшуюся клубком кобру.
Его поразило, что они прибыли так скоро, все-таки после трагедии не прошло и двадцати четырех часов. Происходящее казалось особенно удивительным в свете того, что, по версии безумного детектива, подгнившее ограждение не являлось единственной причиной смерти Наоми.
И Младший заподозрил, что они явились по наущению Ванадия. Копу наверняка хотелось оценить, насколько жадным проявит себя скорбящий муж, когда ему представится возможность обратить покойницу-жену в звонкую монету.
Накер, или Хисск, или Норк говорил о приношении, словно Наоми была богиней, которую они хотели отблагодарить золотом и драгоценными камнями.
Младшего стало от них тошнить, и он сделал вид, что начинает смекать, каким ветром этих господ занесло в его больничную палату. Он не стал возмущаться или выражать неудовольствие, прекрасно понимая, что может переиграть, взять фальшивую ноту, которая вызовет подозрения.
Вместо этого, очень корректно, ровным голосом, он сообщил им, что не нуждается в материальной оценке смерти жены и его страданий.
– Деньги не смогут ее заменить. Из полученной суммы я не смогу потратить ни цента. Мне придется просто отдать их. Так какой смысл изначально брать эти деньги?
Короткую паузу изумления прервал Норк, Накер или Хисск:
– Мы понимаем ваши чувства, мистер Каин, но в подобных случаях принято…
Горло Младшего по сравнению с прошлым днем болело не так уж и сильно, но этим мужчинам казалось, что хрипотца обусловлена бурей эмоций.
– Мне без разницы, что и где принято. Мне ничего не нужно. Я никого ни в чем не виню. Это несчастный случай. Если у вас есть бумаги, освобождающие учреждения, которые вы представляете, от ответственности, я их подпишу прямо сейчас.
Хисск, Норк и Накер переглянулись.
– Мы не можем этого сделать, мистер Каин, – наконец изрек один из них. – Во всяком случае, до того, как вы переговорите с адвокатом.
– Не нужен мне адвокат. – Младший закрыл глаза, откинулся на подушку, вздохнул. – Я хочу… покоя.
Накер, Хисск и Норк заговорили разом, одновременно, словно единый организм, замолчали, потом заговорили по очереди, пусть иногда и перебивая друг друга, стараясь убедить Младшего в их правоте.
А у него из закрытых глаз потекли слезы. Потекли сами, ему не пришлось прилагать для этого никаких усилий. Вызвали их не мысли о бедной Наоми. Следующие дни, может, даже недели не сулили ему никаких радостей жизни, до того момента, как сестра Виктория Бресслер окажется в его объятиях. Учитывая сложившиеся обстоятельства, у него были веские причины жалеть самого себя.
Его молчаливые слезы подействовали сильнее любых слов: Норк, Накер и Хисск ретировались, убеждая его переговорить с адвокатом, пообещав вернуться, вновь выразив свои глубочайшие соболезнования, как могут их выражать только адвокаты и политики, но определенно в смущении и замешательстве. Они не знали, как вести себя с этим вдовцом Каином, начисто лишенным жадности и злости, готовым простить всех и вся.
События развивались именно так, как представил их себе Каин в тот самый момент, когда Наоми обнаружила, что часть ограждения совершенно прогнила. План сформировался мгновенно, так что, когда они кружили по смотровой площадке, он лишь пытался выявить в нем недостатки и не находил ни единого.
На текущий момент он столкнулся лишь с двумя неожиданностями. Первая – неконтролируемый приступ рвоты. Он надеялся, что ничего такого больше не повторится.
Этот поток блевотины, достойный занесения В Книгу рекордов Гиннесса, вроде бы лишь подчеркнул боль утраты, вызванную внезапной смертью горячо любимой жены. И он при всем желании не мог бы найти более убедительного способа доказать свою невиновность и неспособность совершить предумышленное убийство.
За последние восемнадцать часов он многое узнал о себе, но более всего Младший гордился тем, что открыл в себе удивительно острую впечатлительность. Эта черта характера могла стать удобной ширмой, призванной прикрыть те безжалостные поступки, которых не удастся избежать в новой, полной опасностей жизни, выбранной им самим.
Второй неожиданностью стал Ванадий, сумасшедший коп. Вцепившийся в него мертвой хваткой. Как бульдог. Плохо остриженный бульдог.
И пока на щеках Младшего подсыхали слезы, он решил, что, скорее всего, ему придется убить Ванадия, чтобы избавиться от него и гарантировать собственную безопасность. Никаких проблем. Несмотря на свою сверхвпечатлительность, Младший ни секунды не сомневался, что убийство детектива не вызовет у него нового приступа рвоты. В крайнем случае он мог от радости подпустить в штаны.
Глава 23
Целестина вернулась в палату 724, чтобы забрать вещи Фими из крохотного стенного шкафчика и с ночного столика.
Ее руки тряслись, когда она пыталась уложить одежду сестры в чемодан. Простое вроде бы дело превратилось в непосильный труд. Материя, казалось, оживала в ее руках и соскальзывала с пальцев, вещи не желали складываться в аккуратную стопку. И лишь когда до Целестины дошло, что в данном случае лишняя складка ничему не повредит, она сумела поместить все в чемодан.
Она уже защелкивала замочек, когда в палату вошла санитарка, толкая перед собой тележку с чистыми полотенцами и простынями.
Та самая, что перестилала кровать Неллы Ломбарди, когда Целестина примчалась в больницу. Теперь пришел черед кровати, на которой лежала Фими.
– Мне очень жаль, что для вашей сестры все закончилось так печально, – принесла свои соболезнования санитарка.
– Спасибо вам.
– Такая милая девчушка.
Целестина кивнула, не в силах реагировать на доброту женщины. Потому что иной раз доброта может не принести успокоение, а, наоборот, еще сильнее расстроить.
– А в какую палату перевели миссис Ломбарди? – спросила она. – Я бы хотела… увидеться с ней, прежде чем уйду.
– О, так вы не знаете? К сожалению, она тоже покинула нас.
– Покинула? – Даже задавая вопрос, Целестина понимала, о чем говорит санитарка.
Действительно, подсознательно она знала, что Нелла умерла, с того самого момента, как поговорила с ней по телефону в четверть пятого утра. Когда старуха высказала все, что хотела, в трубке установилась абсолютная тишина, без свойственных телефонным линиям треска и помех, чего раньше никогда не случалось.
– Она умерла прошлой ночью, – ответила санитарка.
– А когда? Вы знаете время смерти?
– Сразу после полуночи.
– Вы уверены? Я насчет времени?
– Я как раз пришла на работу. Сегодня у меня полуторная смена. Она умерла, не выходя из комы, не проснувшись.
В голове Целестины ясно и отчетливо зазвучал дребезжащий голос старухи, предупреждающий о кризисе Фими.
– Приезжай сейчас.
– Что?
– Приезжай сейчас. Приезжай быстро.
– Кто это?
– Нелла Ломбарди. Приезжай сейчас. Твоя сестра скоро будет умирать.
Если и впрямь звонила миссис Ломбарди, получалось, что она взялась за телефонную трубку через четыре часа после собственной смерти.
А если звонила не старуха, то кто назвался ее именем и фамилией? И зачем?
Когда Целестина двадцатью пятью минутами позже появилась в больнице, сестра Джозефина очень удивилась: «Я не знала, что они сумели связаться с вами. Вы очень быстро добрались сюда, дорогая, буквально за десять минут».
Нелла Ломбарди позвонила до того, как у Фими начались экламптические судороги и ее спешно увезли в операционную.
«Твоя сестра скоро будет умирать».
– С вами все в порядке? – участливо спросила санитарка.
Целестина кивнула. С трудом сглотнула слюну. Горечь залила ее сердце, когда умерла Фими, и ненависть к ребенку, за жизнь которого мать заплатила своей жизнью: она знала, что это недостойные чувства, но ничего не могла с собой поделать. Однако эти два чуда, рассказ доктора Липскомба и телефонный разговор с Неллой, стали антидотом к ненависти. Они сняли злость, но и потрясли ее до глубины души.
– Да, – ответила она санитарке. – Спасибо вам. Все будет хорошо.
И с чемоданом в руке вышла из палаты 724.
В коридоре остановилась, посмотрела налево, направо, не зная, куда идти.
Неужели Нелла Ломбарди, покинув этот прекрасный мир, вернулась, вновь преодолев бездну, чтобы две сестры успели попрощаться до того, как одна из них последует за ней?
И Фими, которую вывели из состояния клинической смерти, отплатила за доброту Неллы посланием доктору Липскомбу?
С детства Целестину учили, что у каждого человека есть свое предназначение, что жизнь каждого – выполнение Промысла Божьего, и она без колебаний разделила убежденность в этом с доктором Липскомбом, когда тот изо всех сил пытался осознать, что же произошло с ним в операционной. Но и она сама никак не могла свыкнуться с тем, что наяву соприкоснулась с чудесами.
И хотя она понимала, что эти сверхъестественные события определят ее дальнейшую жизнь, можно сказать, уже определили, она не имела четкого представления о том, что должна делать. В основе замешательства, в котором она пребывала, лежал конфликт разума и сердца, здравомыслия и веры, а также битва между желаниями и обязанностями. И, не примирив эти противоположности, она не могла действовать, парализованная нерешительностью.
Она шагала по коридору, пока не поравнялась с дверью в пустую палату. Не зажигая света, вошла, поставила чемодан на пол, села у окна.
И пусть уже наступило утро, дождь и туман позаботились о том, чтобы в палате больницы Святой Марии царил густой сумрак. Тени вышли из углов, поглотив все пространство.
Целестина уставилась на свои руки, такие темные в этой темноте.
И наконец раскрыла в себе свет, необходимый ей, чтобы помочь найти дорогу в ближайшие критические часы. Поняла, что должна сделать, пусть у нее еще и не было уверенности, что ей достанет на это духа.
Она все смотрела на свои руки, тонкие, с длинными пальцами, изящные. Руки художника. Не кузнеца, не тяжелоатлета. Лишенные мощи, силы.
Она всегда полагала себя творческой личностью, способной, деятельной, преданной искусству, но никогда не видела в себе силы, твердости характера. Однако осуществить задуманное ею мог только сильный человек.
Пора идти. Пора действовать. Сделать то, что до́лжно.
Целестина не могла оторваться от стула.
«Сделать то, что до́лжно».
Страх сковал ее по рукам и ногам.
Глава 24
Под чистым, вымытым грозой, синим утренним небом Эдом отправился выполнять порученное ему дело: развозить пироги голодным.
Фордовский универсал модели 1954 года «Кантри Сквайр» он приобрел едва ли не на последние заработанные деньги. В то время, когда он еще мог работать, до того, как возникла у него… проблема.
Когда-то он был превосходным водителем. За последнее десятилетие умение вести автомобиль во все большей степени определялось его настроением.
Иногда даже мысль о том, что надо сесть за руль и рискнуть выехать в переполненный опасностями мир, становилась невыносимой. Тогда он плюхался в «лейзи-бой»[16] и ждал природной катастрофы, которая в самом ближайшем времени могла смести его с лица земли, похоронив саму память о его существовании.
В это утро только любовь к сестре, Агнес, придала ему мужества, и он решился развезти пироги.
Эдом, старший брат Агнес, появившийся на свет шестью годами раньше, жил в одной из двух квартирок над большим гаражом, который располагался позади дома, с двадцати пяти лет, после того, как более не мог работать. Одиннадцать последних лет.
Брат-близнец Эдома, Джейкоб, никогда не работал, он жил во второй квартирке, где поселился по окончании средней школы.
Агнес, унаследовавшая дом, гараж и участок, с радостью пригласила бы братьев в дом, благо места в нем хватало. Они иной раз приходили на обед, случалось, что летними вечерами сидели на крыльце в креслах-качалках, но ни один не соглашался жить в столь мрачном месте.
Много всякого происходило в этих комнатах. Семейная история пятнала стены. И ночью, когда Эдом или Джейкоб спали под остроконечной крышей, прошлое оживало в их снах.
Эдом изумлялся способности Агнес подняться над прошлым и переступить через многие годы мучений. Она-то могла видеть в этом доме лишь крышу над головой, тогда как для ее братьев он был пыточной камерой, где разбились вдребезги их души. Если бы они могли работать, то не подошли бы к дому и на пушечный выстрел, не то чтобы жить в непосредственной близости от него.
Впрочем, в Агнес Эдома восхищало многое. Если б он начал все перечислять, то наверняка бы впал в отчаяние, в полной мере осознав, что она гораздо лучше, чем он или Джейкоб, подготовлена к встрече с любыми превратностями судьбы.
Когда Агнес обратилась к нему с просьбой развезти утром пироги, потому что вместе с Джо собиралась в больницу, Эдому хотелось бы отказаться, но он согласился без малейшей заминки. Его не страшили напасти, которые в этой жизни могла обрушить на его голову природа, но он не вынес бы разочарования, увиденного в глазах сестры.
Она всегда и всем показывала, что гордится своими братьями. И относилась к ним с уважением, нежностью, любовью… словно не замечая их недостатков.
Никогда не выделяла кого-то одного… за исключением доставки пирогов. В тех редких случаях, когда Агнес не могла развезти пироги сама или не находила другого посыльного, она всегда прибегала к помощи Эдома.
Джейкоб, абсолютная копия Эдома, с таким же моложавым лицом, таким же мягким выговором, так же чисто выбритый и аккуратно одетый, пугал людей. Получая пирог из рук Джейкоба, они впадали в панику, их охватывал дикий ужас. После его ухода люди запирали двери, заряжали ружья, если они были в доме, не могли уснуть ночь или две.
Вот и теперь Эдом загрузил в автомобиль пироги и посылки и отправился по указанным сестрой адресам, хотя и не сомневался, что невиданной силы землетрясение, знаменитый Большой толчок, скорее всего, случится до полудня, и уж точно до обеда. И этот день станет последним в его жизни.
Причиной такой уверенности были те странные молнии, что положили конец дождю, вместо того чтобы возвестить о его начале. И небо очистилось чрезвычайно быстро: наглядное свидетельство того, что на высоте дул сильнейший ветер, тогда как на земле властвовал полный штиль. Резкое уменьшение влажности… не по сезону теплая погода… Все, все указывало на приближение катастрофы.
Погода под землетрясение. Жители Южной Калифорнии могли бы перечислить многие признаки этого природного феномена, но Эдом точно знал, что на этот раз его предчувствия обязательно обратятся в реальность. Гром прогремит снова, но на этот раз он донесется из-под ног.
Автомобиль он вел очень осторожно, чтобы не попасть под падающий столб, не рухнуть в реку вместе с мостом, не угодить в разверзшуюся поперек дорожного полотна трещину, а потому благополучно прибыл к пункту назначения, значащемуся в списке Агнес под номером один.
Скромный, обшитый досками домик давно уже не поддерживался в должном состоянии. Краска выцвела на солнце, местами облупилась, обнажив темное дерево. В конце засыпанной гравием подъездной дорожки под брезентовым навесом на лысых шинах стоял видавший виды «шеви»-пикап.
Здесь, на восточной окраине Брайт-Бич, вдали от моря, пустыня активно наступала на владения людей. Песок и колючие кустарники обосновались на границе дворов.
Недавняя гроза принесла с собой перекати-поле. Они цеплялись за садовые кусты, лежали вдоль обращенной к пустыне стены дома.
В этот сезон дождей лужайка, конечно, зеленела, но отсутствие системы полива указывало на то, что к апрелю солнце выжжет ее дотла, и в таком неприглядном виде она останется до следующего ноября.
С одним из шести черничных пирогов в руках Эдом пересек лужайку, траву на которой никто и никогда не косил, по скрипучим ступеням поднялся на крыльцо.
Ему не хотелось бы находиться в таком вот доме, когда землетрясение столетия тряхнет побережье и сровняет с землей крупный город. Но Агнес наказала, к сожалению, что он должен по-соседски посидеть, поболтать, а не просто оставить подарки и уйти.
Дверь открыла Джолин Клефтон, лет пятидесяти с небольшим, неряшливая, в бесформенном домашнем платье. Всклокоченные каштановые волосы тусклостью напоминали пыль и песок пустыни Мохаве. Но лицо оживляла россыпь веснушек, а голос был нежным и мелодичным.
– Эдом, ты такой же красавчик, как тот певец в «Шоу Лоренса Уэлка»![17] Честное слово! Заходи, заходи!
– У Агнес вновь пироговая лихорадка, – сообщил Эдом отступившей в сторону Джолин. – Мы будем есть пироги с черникой, пока сами не посинеем. Она просит освободить нас хотя бы от одного.
– Спасибо, Эдом. А что она делает этим утром?
Джолин, хоть и пыталась, не могла скрыть разочарования. Так же как любой другой житель города, она предпочла бы увидеть на пороге своего дома Агнес, а не Эдома. Но он нисколечко не обиделся.
– Ночью она родила, – поделился он доброй вестью.
Радостно вскрикнув, Джолин тут же сообщила об этом своему мужу Биллу, которого в гостиной не было.
– Билл, Агнес родила!
– Мальчика, – добавил Эдом. – Назвала его Бартоломью.
– Это мальчик, его зовут Бартоломью, – прокричала Джолин и повела Эдома на кухню.
На улице, в универсале, остались коробки с продуктами, ветчина, консервы для Клефтонов. Эдому поручили принести их потом, перед самым отъездом.
Агнес полагала, что пирог и дружеская беседа создадут должную атмосферу и эти продукты будут выглядеть не милостыней, а дружеским подарком.
В маленькой, но очень чистой и светлой кухне пахло корицей и ванилью.
Билла не было и здесь.
Джолин отодвинула стул от обеденного стола.
– Садись, садись!
Поставила пирог на столик у плиты, достала из буфета три фаянсовые кружки.
– Готова спорить, это необычный мальчик, очень красивый мальчик.
– Я его еще не видел, – ответил Эдом. – Утром говорил с Агнес по телефону. Она сказала, что мальчик замечательный. На голове много волос.
– Он родился с волосами на голове! – прокричала Джолин мужу, наполняя кружки горячим кофе.
Из дальнего конца дома донеслось ритмичное постукивание: Билл направлялся к кухне.
– Она говорит, что самое удивительное в нем – глаза. Она говорит, изумруды и сапфиры. Называет их «глаза от Тиффани».
– У мальчика потрясающие глаза! – прокричала Джолин Биллу.
Пока Джолин ставила на стол тарелки и кофейный кекс, появился Билл, тяжело опирающийся на две крепкие трости.
Ровесник Джолин, выглядел он лет на десять старше. Волосы посеребрило время, но за одутловатость и красноту лица ответственность делили болезнь и лекарства.
Ревматический артрит скрутил ему бедра. Ему давно следовало перейти на костыли или сесть в инвалидное кресло, но он упорно обходился тростями.
Гордость заставляла его продолжать работать и после того, как боль стала невыносимой. Но последние пять лет он уже не работал и пытался, без особых успехов, жить на пособие по инвалидности.
Билл осторожно опустился на стул, повесил трости на спинку, протянул правую руку Эдому.
Болезнь изуродовала и руку, костяшки пальцев распухли, потеряли форму. Эдом едва пожал ее, опасаясь, что даже легкое прикосновение может вызвать боль.
– Расскажи нам все, что знаешь о ребенке, – попросил Билл. – Где они отыскали такое имя… Бартоломью?
– Точно не знаю. – Эдом взял у Джолин тарелку с куском кекса. – Насколько мне известно, в составленном ими списке имен оно не значилось.
О ребенке он практически ничего не знал, только то, что услышал от Агнес. И уже выложил большинство подробностей Джолин.
Тем не менее повторил все снова. Тянул время, пытаясь избежать вопроса, который заставил бы его поделиться с ними и плохими новостями.
Но Билл задал этот вопрос:
– Наверное, Джо раздувается от гордости?
Эдом как раз набил рот кексом, поэтому получил еще одну возможность потянуть с ответом. Долго жевал и лишь потом, заметив недоуменный взгляд Джолин, кивнул, словно отвечая на вопрос Билла.
За этот обман ему пришлось заплатить. Кивнув, он вдруг понял, что не может проглотить прожеванный кусок кекса. Тот никак не желал покидать рот. Боясь, что закашляется, Эдом схватил кружку с кофе и потоком горячей черной жидкости отправил кекс в желудок.
Он не мог говорить о Джо. Сообщив новость, он как бы второй раз убивал Джо. Пока он молчал, Джо словно и не умирал. Слова убили бы его. Пока Эдом не произносил этих слов, Джо оставался живым, во всяком случае для Джолин и Билла.
Безумная мысль. Иррациональная. Тем не менее он не мог рассказать Клефтонам о смерти Джо: не поворачивался язык.
И вместо этого затронул более чем уместную тему: Судный день.
– Вам не кажется, что на дворе погода под землетрясение?
– Для января это отличный денек, – удивленно ответил Билл.
– Землетрясение тысячелетия запаздывает, – предупредил Эдом.
– Тысячелетия? – нахмурилась Джолин.
– В регионе Сан-Андреас каждые тысячу лет должно быть землетрясение силой не меньше восьми с половиной баллов по шкале Рихтера, чтобы снять напряжение в разломе. Очередное запаздывает уже на сотню лет.
– Нет, оно не произойдет в день рождения сына Агнес, это я могу гарантировать, – возразила Джолин.
– Он родился вчера, а не сегодня, – мрачно уточнил Эдом. – Когда произойдет землетрясение тысячелетия, небоскребы сложатся, как карточные домики, мосты рухнут, вода прорвет дамбы. В три минуты между Сан-Диего и Санта-Барбарой погибнет миллион человек.
– Тогда я, пожалуй, съем еще кусок кекса. – Билл пододвинул свою тарелку к Джолин.
– Нефте- и газопроводы дадут течи, взорвутся. Море огня захлестнет города, убьет новые сотни тысяч.
– И ты делаешь такие выводы, исходя из того, что мать-природа даровала нам в январе теплый, солнечный день? – спросила Джолин.
– У природы нет материнских инстинктов, – спокойно, но очень убедительно заявил Эдом. – Думать иначе – чистой воды сентиментализм. Природа – наш враг. Она – безжалостный убийца.
Джолин уже хотела наполнить его кружку, но передумала.
– Может, тебе больше не надо кофеина, Эдом?
– Вы слышали о землетрясении, которое первого сентября тысяча девятьсот двадцать третьего года уничтожило семьдесят процентов Токио и полностью Иокогаму?
– У них осталось достаточно сил, чтобы поучаствовать во Второй мировой войне, – заметил Билл.
– После землетрясения сорок тысяч человек собрались на открытом плацу площадью в двести акров. Вызванная землетрясением стена огня так быстро накрыла плац, что они умирали стоя.
– Да, землетрясения у нас случаются, – признала очевидное Джолин, – зато все ураганы достаются Восточному побережью.
– Наша новая крыша, – Билл указал на потолок, – выдержит любой ураган. Отличная работа. Скажи Агнес, что крышу нам сделали очень хорошую.
Чтобы оплатить Клефтонам новую крышу, Агнес собрала пожертвования двенадцати граждан и одного церковного прихода.
– Ураган, обрушившийся на Галвестон, штат Техас, в тысяча девятисотом году, унес жизни шести тысяч человек. Практически стер город с лица земли.
– Но с тех пор прошло шестьдесят пять лет, – напомнила ему Джолин.
– Менее чем полтора года тому назад ураган «Флора» послужил причиной гибели шести тысяч человек в странах Карибского моря.
– Не стал бы жить на Карибах, даже если бы мне за это платили, – буркнул Билл. – Такая влажность. И все эти жуки-пауки.
– Но по количеству смертей ни один ураган не сравнится с землетрясением. Одно из самых больших, в Шанхае, погубило восемьсот тысяч человек.
На Билла его слова не произвели впечатления.
– В Китае дома строят из картона. Неудивительно, что там все рушится.
– Произошло оно двадцать четвертого января тысяча пятьсот пятьдесят шестого года, – уверенно добавил Эдом. В его памяти хранились тысячи фактов, связанных с природными катастрофами.
– Тысяча пятьсот пятьдесят шестого? – Билл нахмурился. – Черт, тогда, наверное, у китайцев не было и картона.
С тревогой взглянув на часы, Эдом вскочил.
– Вы только посмотрите, который час! Агнес надавала мне столько поручений, а я тут сижу и болтаю о землетрясениях и циклонах.
– Ураганах, – поправил его Билл. – Они отличаются от циклонов.
– Только не будем сейчас о циклонах! – Эдом поспешил к универсалу, чтобы вытащить коробки с ветчиной и консервами.
Такого угрожающего неба, синего, без единого облачка, видеть ему еще не доводилось. И воздух абсолютно сухой. Вокруг все застыло. Определенно, погода под землетрясение. До того как этот знаменательный день сменится ночью, земля дрогнет и пятисотфутовые приливные волны накатят на берег.
Глава 25
Из семи новорожденных ни один еще не понимал, как много ужасов таится в мире, в который они только что пришли.
Монахиня и медсестра привели Целестину в палату для новорожденных.
Она старалась держаться спокойно, должно быть, у нее получалось, потому что ни одна из женщин, похоже, не почувствовала едва ли не парализовавшего ее страха. Двигалась она как автомат, с трудом передвигая негнущиеся ноги, мышцы сводило судорогой.
Медсестра взяла малышку из колыбельки, передала монахине. Монахиня с младенцем на руках повернулась к Целестине, отдернула тонкое одеяльце, чтобы Целестина могла получше разглядеть свою племянницу.
У Целестины перехватило дыхание: ее подозрения подтвердились. Цветом кожи крохотная девочка никак не тянула на шоколад, только на кофе с молоком.
Много поколений ни по прямой линии, ни среди ближайших родственников Целестины ни у кого не было столь светлой кожи. Все они, без единого исключения, цветом напоминали темное красное дерево.
То есть Фими, скорее всего, изнасиловал белый.
Кто-то из ее знакомых. Возможно, его знала и Целестина. Жил он или в Спрюс-Хиллз, или где-то неподалеку, поскольку Фими видела в нем реальную угрозу своей семье.
Целестина не собиралась изображать детектива. Она знала, что никогда не сможет выследить мерзавца и у нее не хватит духа обвинить его в совершенном преступлении.
И потом, пугал ее не монстр, который был отцом этого ребенка. Пугало решение, которое она приняла несколько минут тому назад, сидя в пустой больничной палате на седьмом этаже.
Она ставила на кон все свое будущее, если собиралась реализовать принятое решение. Здесь и сейчас, в присутствии малышки, в ближайшие одну или две минуты ей предстояло или передумать, или обречь себя на куда более трудную и опасную жизнь, чем та, что она рисовала себе раньше.
– Можно мне? – Она протянула руки.
Без малейшего колебания монахиня передала младенца Целестине.
Девочка казалась невесомой. Весила она пять фунтов и четырнадцать унций, но Целестина испугалась, что девочка легче воздуха и может уплыть из рук своей тетушки.
Целестина смотрела в маленькое личико цвета кофе с молоком, выгоняя из себя последние остатки злобы и ненависти, которые распирали ее в операционной.
Если бы монахиня и медсестра могли знать об отвращении, которое совсем недавно испытывала к девочке Целестина, они никогда не пустили бы ее в палату для новорожденных, никогда не доверили бы ей младенца.
Это порождение насилия. Это убийца ее сестры.
Она всматривалась в блуждающие глаза малышки в поисках греховности, доставшейся ей от отца.
Эти маленькие ручонки, такие слабые сейчас, которые со временем станут сильными. Будут ли они способны на злодеяния, как руки ее отца?
Это незаконнорожденное дитя. Это отродье человека-демона, которого Фими полагала больным и злобным.
И пусть сейчас перед ней был невинный младенец, сколько боли эта девочка могла принести остальным? Какие преступления могла совершить?
Но старания Целестины пошли прахом. Не смогла она найти в младенце даже малой толики злобы, доставшейся ей от отца.
Вместо этого она видела возродившуюся Фими.
Она видела ребенка, которому угрожала опасность. Где-то в Орегоне жил насильник, способный на любую жестокость, мужчина, способный на все, если, конечно, Фими не ошиблась, в том числе и на убийство дочери, о существовании которой пока не подозревал. Над Ангелом, если уж она назовет девочку, как хотела Фими, нависла та же угроза, что и над младенцами Вифлеема, которых перебили по указу царя Ирода.
Малышка ухватилась крохотной ручкой за указательный палец своей тети. Пальчики держали на удивление крепко.
«Сделай то, что до́лжно».
Вернув новорожденную монахине, Целестина спросила, откуда ей можно позвонить по личному делу.
* * *
Снова кабинет социального работника. Дождь тихонько барабанил по окну, за которым еще так недавно всматривался в туман доктор Липскомб, не рискующий встретиться взглядом с Целестиной, рассказывая о контакте Фими с давно умершими дорогими ему людьми.
Сев за стол, Целестина вновь позвонила родителям. Ее всю трясло, но голос звучал ровно.
Отец и мать говорили с ней одновременно, по параллельным аппаратам.
– Я хочу, чтобы вы удочерили ребенка. – И продолжила, не дожидаясь ответа: – Мне исполнится двадцать один год только через четыре месяца, но даже тогда у меня могут возникнуть проблемы с удочерением, потому что я – одинокая. А на то, что я ее тетя, никто и не посмотрит. Если вы ее удочерите, я ее воспитаю. Обещаю вам. Возьму на себя всю ответственность. Можете не волноваться, я не передумаю и не подброшу ее вам. С этого момента она становится стержнем всей моей жизни. Я это понимаю. Я это принимаю. Я этому рада.
Она опасалась, что они начнут спорить с ней. И хотя знала, что решение ее непоколебимо, тревожилась о том, что может не выдержать этого испытания.
Но отец не стал ее разубеждать, лишь спросил:
– В тебе говорят эмоции, Цели, или рассудок играет в твоем решении не меньшую роль, чем сердце?
– Не меньшую. Я все продумала, папа. За всю жизнь я не принимала более продуманного решения.
– Чего ты нам недоговариваешь? – вмешалась мать, интуитивно чувствуя, что Целестиной движет не только голос крови.
Целестина рассказала о Нелле Ломбарди и о послании, переданном Фими доктору Липскомбу после того, как ее вывели из состояния клинической смерти.
– Фими… была особенная. Я думаю, и ребенок этот не такой, как все.
– Помни ее отца, – вставила Грейс.
– Да, помни, – согласился ее отец, священник. – Если кровь заговорит…
– Мы в это не верим, не так ли, папа? Мы не верим, что кровь заговорит. Мы верим, что рождены в надежде под пологом милосердия.
– Да, – согласился он. – Верим.
Послышался усиливающийся с каждой секундой вой сирены: к больнице Святой Марии неслась машина «скорой помощи». По улицам, полным жизни, везли человека, оказавшегося на грани смерти.
Она рассказала им о том, что Фими попросила назвать дочь Ангелом.
– В тот момент я решила, что она плохо соображает из-за кровоизлияния в мозг. Если ребенка усыновляют чужие люди, они и выбирают ему имя. Но я думаю, она понимала… более того, знала, что я захочу сама воспитывать малышку. Что я должна это сделать.
– Цели, – услышала она голос матери, – я так тобой горжусь. И очень люблю тебя за то, что ты приняла такое решение. Но как ты сможешь работать, учиться и заботиться о ребенке?
Лишних денег у родителей Целестины не было. Маленькая церковь отца не приносила особого дохода. Они оплачивали дочери лишь обучение в художественном колледже. Все остальное: аренду квартиры, питание, одежду – Целестина оплачивала сама, работая официанткой.
– Мне не обязательно получать диплом весной следующего года. Я могу ограничить число курсов и окончить школу годом позже. Невелика разница.
– Но, Цели…
– Я – одна из лучших официанток, – прервала она мать. – Поэтому, если я попрошу ставить меня только на обеденные смены, мне пойдут навстречу. Чаевых в обед дают больше. Если я буду работать в одну смену, то у меня будет четкий распорядок дня.
– А с кем в это время будет ребенок?
– С сиделкой. Моими подругами, родственниками подруг. С людьми, которым я могу доверять. С хорошими чаевыми я смогу оплачивать сиделок.
– Может, воспитывать ее должны мы, твои отец и мать?
– Нет, мама. Так не получится. Ты знаешь, что не получится.
– Я уверен, что ты недооцениваешь моих прихожан, – вставил отец. – Они не отвернутся от нас или малышки. Наоборот, раскроют ей свои сердца.
– Не в этом дело, папа. Ты же помнишь тот день, когда мы все были вместе. Помнишь, как Фими боялась того человека. Не за себя… за ребенка.
«Здесь я рожать не буду. Если он поймет, что я родила от него ребенка, он еще больше обезумеет. Я это точно знаю».
– Он не причинит вреда маленькому ребенку, – возразила мать. – У него нет для этого никаких причин.
– Если он безумен и зол, причины ему и не нужны. Я думаю, Фими не сомневалась в том, что он убил бы ребенка, узнав о его существовании. А поскольку мы не знаем, кто этот человек, то должны доверять ее интуиции.
– Если он такое чудовище и узнает о ребенке, – заволновалась мать, – ты не будешь в безопасности и в Сан-Франциско.
– Он не узнает. Мы должны принять все меры к тому, чтобы он не узнал.
Ее родители замолчали, погрузившись в глубокие раздумья.
С угла стола Целестина взяла фотокарточку в рамке, запечатлевшую семью социального работника. Муж, жена, дочь, сын. Маленькая девочка смущенно улыбалась, с корректирующими пластинами на зубах. По выражению лица мальчика чувствовалось, что он отчаянный проказник.
Этот фотопортрет демонстрировал беспредельные смелость и мужество. Создание семьи в этом бурном мире – акт веры, ставка на то, что, несмотря на все трудности, у человечества есть будущее, любовь не уйдет, а душа выдержит все испытания, и ее не осилят даже всесокрушающие жернова времени.
– Грейс, – спросил священник, – что ты на это скажешь?
– Ты взваливаешь на себя тяжелое бремя, Цели, – предупредила мать.
– Я знаю.
– Сладенькая, одно дело быть любящей сестрой, но совсем другое – стать мученицей.
– Я держала на руках дочь Фими, мама. Держала на руках. И мое решение продиктовано не сентиментальностью.
– В твоем голосе слышится такая уверенность.
– Она такая с трех лет. – Голос отца звенел от любви.
– Я готова взять на себя воспитание девочки, оберегать ее от всех невзгод и опасностей. Она – особенная. Но я не бескорыстная мученица. Я буду черпать в этом радость, я это предчувствую. Мне страшно, не могу этого отрицать. Господи, как же мне страшно. Но при этом и радостно.
– Ты принимала решение рассудком и сердцем? – вновь спросил отец.
– Да, – подтвердила Целестина.
– Я считаю необходимым приехать в Сан-Франциско и побыть с вами несколько первых месяцев, пока ты не втянешься в новый ритм, – твердо заявила мать.
На том и порешили. И хотя Целестина сидела на стуле, ей казалось, что она перепрыгивает через глубокую пропасть, которая отделяла прежнюю жизнь от лежащей впереди, между будущим, которое могло быть, и будущим, которое будет.
Она не ожидала, что ей придется воспитывать ребенка, но не сомневалась в том, что обучится всему для этого необходимому.
Ее предки выдержали рабство, и теперь она стояла на их плечах, на плечах поколений, свободным человеком. И жертвы, которые она готова принести ради этой малышки, таковыми, по существу, не являлись, во всяком случае, история никак не сочла бы их жертвами. В сравнении с тем, что пришлось вынести другим, это был не более чем пустяк. Поколения страдали не для того, чтобы она увильнула от него. Она дорожила такими понятиями, как честь и семья. Так уж устроена жизнь – каждому приходится брать на себя те или иные обязательства и выполнять их.
И конечно, прошлая жизнь не подготовила ее к встрече с монстром, который был отцом девочки. А в том, что рано или поздно он придет, Целестина не сомневалась. Она это знала. В событиях, как и вещах, Целестина Уайт улавливала внутреннюю структуру, сложную и загадочную, и для нее, художницы, симметрия структуры, ее завершенность требовали появления отца девочки. Пока она не могла ему противостоять, но не сомневалась, что за отпущенное ей время сумеет достойно подготовиться к встрече с этим чудовищем.
Глава 26
К полудню, после лабораторных исследований, призванных установить, не являлось ли причиной столь острого приступа рвоты наличие опухоли или патологических изменений в мозгу, Младший вернулся в больничную палату.
И едва улегся в постель, как внутренне сжался, увидев возникшего на пороге Томаса Ванадия.
Детектив вошел, неся поднос с ланчем. Поставил его на вращающийся столик, повернул к Младшему.
– Яблочный сок, лаймовое джелло и четыре крекера, – прокомментировал детектив. – Если угрызения совести не заставят тебя признаться в содеянном, то такая диета сломит твою волю. Заверяю тебя, Енох, в орегонской тюрьме кормят куда лучше.
– У вас что-то не в порядке с головой? – спросил Младший.
Словно не понимая, что вопрос требует ответа, или же пропустив его мимо ушей, Ванадий подошел к окну и полностью раздвинул жалюзи. Ярчайший свет, казалось, затопил палату.
– Солнечный выдался денек, – заметил Ванадий. – Аккурат о таком поется в одной старой песне, «Солнечный торт». Ты ее знаешь, Енох? Написал ее Джеймс Ван-Хузен, знаменитый поэт-песенник. Впрочем, это не самая его известная песня. Он также написал «Все путем» и «Считай, что я безответственный». «Полетай со мной» – тоже его. «Солнечный торт» – не шедевр, но песенка милая.
Как всегда, говорил детектив на одной ноте. И лицо его оставалось бесстрастным.
– Пожалуйста, закройте жалюзи, – попросил Младший. – Очень уж яркий свет.
Ванадий отвернулся от окна, шагнул к кровати.
– Я понимаю, что ты предпочитаешь темноту, но мне нужен свет, чтобы получше разглядеть твою реакцию на новости, которые я хочу тебе сообщить.
И Младший, хоть и понимал, сколь опасно подыгрывать Ванадию, не смог удержаться от вопроса:
– Какие новости?
– Ты не собираешься выпить сок?
– Какие новости?
– Лаборатория не нашла в твоей блевотине ипекака.
– Чего? – переспросил Младший, потому что притворялся спящим, когда прошлой ночью Ванадий и доктор Паркхерст говорили об ипикаке у его кровати.
– Ни ипекака, ни другого рвотного, ни какого-либо яда.
Наоми ни в чем не виновата. Младший порадовался тому, что его воспоминания об их короткой и прекрасной совместной жизни более не будут омрачены. Слова детектива доказывали безосновательность его подозрений. Наоми – не вероломная сучка, пытавшаяся подсыпать яд ему в еду.
– Я знаю, что ты каким-то способом вызвал рвоту, но, похоже, у меня нет никаких возможностей это доказать.
– Послушайте, детектив, ваши грязные намеки на то, что я причастен к гибели моей жены…
Ванадий поднял руку, останавливая его:
– Давай обойдемся без праведной ярости. Прежде всего, я ни на что не намекаю. Я прямо обвиняю тебя в убийстве. Ты жил с другой женщиной, Енох? В этом твой мотив?
– Это оскорбительно.
– Честно говоря, а я всегда говорю с тобой честно, другой женщины я не нашел. Я опросил множество людей, и все думают, что ты и Наоми были верны друг другу.
– Я ее любил.
– Да, ты говорил, и я уже склонен думать, что это правда. Твой яблочный сок греется.
Согласно Цезарю Зедду, нельзя стать сильным, первоначально не научившись всегда оставаться спокойным. Сила и власть базируются на абсолютном самоконтроле, который невозможен без внутреннего спокойствия. А последнего, учит Зедд, можно добиться сочетанием глубокого, медленного, ритмичного дыхания и мыслей не о прошлом, не о настоящем, но исключительно о будущем.
Вот и лежащий в кровати Младший закрыл глаза, задышал глубоко, медленно и ритмично и сосредоточился на мыслях о Виктории Бресслер, медсестре, которая с нетерпением ожидала дня, когда сможет ублажить его по полной программе.
– В принципе, я пришел сюда за своим четвертаком.
Младший открыл глаза, но продолжал дышать глубоко и медленно, добиваясь внутреннего спокойствия. Он пытался представить себе, как выглядят груди Виктории, освобожденные от всех покровов.
Стоя у изножия кровати, в мешковатом синем костюме, Ванадий мог бы сойти за произведение эксцентричного скульптора, который сваял фигуру человека из «спэма»[18] и нарядил скульптуру из тушенки в одежду, снятую с пугала.
Но в присутствии коренастого детектива Младшему не удавалось настроить свое воображение на сексуальный лад. Перед его мысленным взором внушительные груди Виктории по-прежнему скрывались за белой униформой медицинской сестры.
– Жалованье у копа невелико, – говорил Ванадий, – так что каждый четвертак на учете.
И, как по мановению волшебной палочки, четвертак появился в его правой руке, между большим и указательным пальцем.
Но, уж конечно, не тот, который детектив оставил Младшему прошлой ночью. Такого просто быть не могло.
Весь день, по причинам, которые он, скорее всего, не смог бы сформулировать, Младший носил тот четвертак в кармане больничного халата. Время от времени даже доставал и пристально разглядывал.
Вернувшись из лаборатории, он улегся в кровать, не снимая тонкого, выданного в больнице халата. Так и лежал в пижаме и халате.
Ванадий не мог знать, где находится четвертак. Даже когда поворачивал столик, не мог залезть к Младшему в карман.
То была проверка на доверчивость, и Младший не собирался доставить Ванадию удовольствие, начав рыться в карманах в поисках монеты.
– Я собираюсь подать на вас жалобу, – пообещал Младший.
– В следующий раз принесу тебе специальный бланк.
Ванадий подкинул монету в воздух и развел руки ладонями вверх, показывая, что они пусты.
Младший видел, как серебристая монета, подброшенная ногтем большого пальца детектива, взлетала вверх. А потом она пропала, словно растворилась в воздухе.
На какое-то мгновение его отвлекли руки Ванадия. Однако коп не мог ухватить монету.
Она должна была упасть на пол, зазвенеть, ударившись о плитку, подпрыгнуть. Но ничего такого Младший не услышал.
А Ванадий, быстрый, как змея, вдруг оказался у кровати, навис над Младшим.
– Наоми была на седьмой неделе беременности.
– Что?
– Это те новости, о которых я упоминал. Самый интересный нюанс вскрытия.
Младший-то думал, что новое – рапорт лаборатории об отсутствии ипекака в блевотине. А выходило, что детектив пытался захватить его врасплох.
И теперь эти серые глаза буравили Младшего, пытаясь вызнать правду.
И конечно же, детектив одарил его очередной улыбкой анаконды:
– Вы ссорились из-за ребенка, Енох? Может, она хотела его оставить, а ты – нет. Для такого парня, как ты, ребенок – помеха. Его появление заставило бы тебя изменить стиль жизнь. Взять на себя серьезную ответственность.
– Я… я не знал.
– Анализ крови покажет, твой это ребенок или нет. Тогда многое и прояснится.
– Я мог стать отцом. – В голосе Младшего слышался благоговейный восторг.
– Так я нашел мотив, Енох?
Удивленный, оскорбленный бесчувственностью копа, Младший воскликнул:
– Что еще вам от меня надо? Я потерял и мою жену, и моего ребенка. Мою жену и моего ребенка.
Слезы брызнули из глаз Младшего, соленое море горя затуманило зрение и окропило лицо.
– Убирайтесь отсюда, отвратительный, жестокий сукин сын! – Голос его дрожал и от печали, и от ярости. – Немедленно убирайтесь отсюда, убирайтесь!
Направляясь к двери, Ванадий бросил на ходу:
– Не забудь про яблочный сок. Перед судом тебе надо набраться сил.
Слезы рекой лились из глаз Младшего. Его жена и его неродившийся ребенок. Он соглашался пожертвовать своей любимой Наоми, но, возможно, нашел бы цену слишком высокой, если б знал, что заодно жертвует и своим первенцем. Он переплатил. И теперь горевал об этом.
Не прошло и минуты после ухода Ванадия, как в палату влетела медсестра, без сомнения, посланная ненавистным копом. Даже сквозь слезы Младший видел, что она не из красавиц. Личико, может, и ничего, но уж больно худая и плоская.
Из опасения, что слезы вызовут спазмы мышц нижней части живота и новый приступ кровавой рвоты, сестра принесла с собой таблетку транквилизатора. Попросила запить ее яблочным соком.
Но Младший скорее выпил бы кувшин карболки, чем прикоснулся к соку, потому что ланч принес ему детектив Ванадий. Коп-маньяк, решивший не мытьем, так катаньем посчитаться с выбранной им жертвой, мог и отравить, если б пришел к выводу, что легальным путем ничего не добьется.
По просьбе Младшего медсестра налила ему стакан воды из кувшина, стоящего на ночном столике. Ванадий к кувшину не подходил.
Какое-то время спустя транквилизатор и техника расслабления Цезаря Зедда позволили Младшему вернуть самоконтроль.
Медсестра оставалась с ним, пока слезы не высохли. Облегченно вздохнула, убедившись, что до нового приступа рвоты дело не дойдет. Пообещала принести стакан свежего яблочного сока, после того как он пожаловался, что у этого какой-то странный вкус.
Оставшись в одиночестве, успокоившись, Младший смог рассмотреть сложившуюся ситуацию, исходя из центрального постулата философии Зедда: всегда ищи светлую сторону.
Каким бы жестоким ни было поражение, каким бы сильным – нанесенный удар, во всем можно найти светлую сторону, если проявить усердие в поисках. Ключ к счастью, успеху, психическому здоровью – полностью игнорировать негативное, отрицать его власть над собой, найти причину радоваться любому изменению в жизни, включая страшнейшую из катастроф, открывать светлую сторону даже в самом черном для себя миге.
В данном случае светлая сторона просто ослепляла. Разом потеряв красавицу-жену и неродившегося ребенка, он приобрел сочувствие (жалость, любовь) любого состава жюри присяжных, от которого прокуратура попыталась бы добиться вынесения обвинительного вердикта.
Ранее его удивил визит Накера, Хисска и Норка. Он-то думал, что еще не скоро увидит эту братию. И не столь представительную делегацию. Разве что единственного занюханного адвокатишку, который предложил бы скромную сумму компенсации.
Теперь же он понимал, отчего их пришло так много, готовых обсудить восстановление справедливости, вознаграждение за причиненные страдания, возмещение понесенной утраты. Коронер сообщил им о беременности Наоми до того, как уведомил полицию, и они мгновенно поняли уязвимость позиции властных структур.
Медсестра вернулась со стаканом яблочного сока, холодного и сладкого.
Младший выпил его мелкими глотками. И когда стакан опустел, пришел к неизбежному выводу: Наоми скрывала от него беременность.
За шесть недель после зачатия она должна была пропустить хотя бы один менструальный период. Она не жаловалась на тошноту по утрам, хотя ее наверняка мутило. Маловероятно, чтобы она не подозревала о том, что залетела.
Он никогда не заявлял, что не хочет иметь детей. И если она не говорила ему, что она носит под сердцем их ребенка, то не из страха.
Получалось, что она не могла решить, оставлять ли ребенка или сделать незаконный аборт без ведома Младшего. Она думала о том, чтобы выскрести его ребенка из своего чрева, ничего ему не сказав.
Это надругательство над его чувствами, это безобразие, это предательство потрясли Младшего.
Конечно же, он подумал и о том, что Наоми держала свою беременность в секрете, подозревая, что отцом ребенка является не ее муж.
«Если анализ крови покажет, что отец – не я, Ванадий получит мотив убийства», – подумал Младший. Ложный мотив, поскольку он действительно не знал ни о беременности жены, ни о том, что она могла переспать с кем-то еще. Но детектив смог бы убедить прокурора, а тот – хотя бы нескольких присяжных.
«Наоми, тупоголовая, неверная сука».
Теперь он жалел о том, что даровал ей такую легкую, быструю смерть. Если бы сначала помучил, то сейчас воспоминания о ее страданиях хоть как-то утешили бы его.
Какое-то время Младший искал светлую сторону. Но она ускользала от него.
Он съел лаймовое джелло. Крекеры.
И вот тут вспомнил о четвертаке. Сунул руку в правый карман больничного халата, но монеты не нашел, хотя ей полагалось быть именно там. Ничего он не обнаружил и в левом кармане.
Глава 27
Уолтер Пангло, владелец единственного похоронного бюро Брайт-Бич, веселый, добродушный, умеющий ладить с людьми, в свободное от подготовки покойников к похоронам время обожал возиться в саду. Выращивал розы и дарил большие букеты больным, влюбленным, школьной библиотекарше в день ее рождения, продавцам, которые хорошо его обслуживали.
Жена Дороти обожала его, в значительной мере потому, что он приютил в доме ее восьмидесятилетнюю мать и относился к пожилой даме как к герцогине или святой. Он был щедр к бедным, хороня их покойников за символическую плату, но со всеми положенными почестями.
Джейкоб Исааксон, брат-близнец Эдома, не мог сказать ничего дурного о Пангло, но все равно не доверял ему. И если бы владельца похоронного бюро застукали в тот самый момент, когда он вырывал у покойника золотые зубы или вырезал сатанинские символы на ягодицах, Джейкоб сказал бы: «Этого следовало ожидать». Не удивился бы Джейкоб, узнав, что Пангло собирает в бутылки зараженную кровь умерших от болезни, с тем чтобы в один прекрасный день пробежаться по улицам и плеснуть ею в лица ничего не подозревающих горожан.
Джейкоб не доверял никому, за исключением Агнес и Эдома. Нет, еще доверял и Джо Лампиону, после того как тот выдержал многолетнюю тщательную проверку. Но теперь Джо умер, и его труп лежал в камере для бальзамирования «Похоронного бюро Пангло».
Джейкоб уже вышел из камеры для бальзамирования с твердым намерением не попадать туда вновь, во всяком случае живым. И теперь Уолтер Пангло вел его по залу, заставленному образцами гробов.
Будь его воля, он похоронил бы Джо в самом дорогом гробу. Но Джейкоб знал, что Джо, скромный и застенчивый, такого выбора не одобрил бы. Поэтому выбор его пал на красивый, но без излишеств гроб чуть выше средней цены.
Глубоко опечаленный тем, что придется хоронить такого молодого, как Джо Лампион, вызывавшего у него самые теплые чувства, Пангло, положив руку на выбранный гроб, счел необходимым выразить сожаление и скорбь:
– Невероятно, автомобильная авария, и в тот самый день, когда родился его сын. Так печально. Жалко до слез.
– Не так уж невероятно, – ответил ему Джейкоб. – Каждый год двадцать пять тысяч человек погибают в автомобилях. Автомобили – не средство передвижения. Они – машины смерти. Десятки тысяч людей получают увечья, на всю жизнь становятся инвалидами.
Если Эдом страшился гнева природы, то Джейкоб знал, что истинная угроза человечеству исходит от самого человечества.
– И поезда ничем не лучше. Вспомните катастрофу в Бейкерфилде в начале шестидесятых. Экспресс «Санта-Фе чиф» на выезде из Сан-Франциско врезался в бензовоз. Семнадцать человек погибли, сгорели в огненной реке.
Джейкоб боялся того, что могут сделать люди друг другу дубинками, ножами, пистолетами, бомбами, голыми руками, но куда больше его пугали другие источники смерти: приспособления, машины, сооружения, создаваемые людьми для того, чтобы облегчить себе жизнь.
– Пятьдесят человек погибли в Лондоне в тысяча девятьсот пятьдесят седьмом, когда столкнулись два поезда. И сто двенадцать погибли и получили увечья в пятьдесят втором, тоже в Англии.
– Это ужасно, вы совершенно правы. – Пангло нахмурился. – На земле случается много ужасного, но я не понимаю, почему поезда…
– Разницы нет никакой. Автомобили, поезда, пароходы – все одно, – гнул свое Джейкоб. – Вы помните «Тоя Мару»? Японский паром, перевернувшийся в пятьдесят четвертом. Погибли тысяча сто шестьдесят восемь человек. А в сорок восьмом, прости господи, взорвался паровой котел на китайском пароходе, вышедшем из одного маньчжурского порта. Результат – шесть тысяч смертей. Шесть тысяч на одном-единственном пароходе!
И весь следующий час, пока Уолтер Пангло согласовывал с Джейкобом основные этапы похорон, последний сообщал подробности авиакатастроф, кораблекрушений, столкновений поездов, взрывов на угольных шахтах и заводах по производству боеприпасов, пожаров в отелях и ночных клубах, на газопроводах и нефтяных вышках…
В итоге к тому времени, когда были утрясены все детали, у Уолтера Пангло нервно задергалась левая щека. Глаза широко раскрылись, словно он чему-то так сильно удивился, что веки никак не желали возвращаться в нормальное положение. А ладони так потели, что ему то и дело приходилось вытирать их о полы пиджака.
Нервозность владельца похоронного бюро не укрылась от Джейкоба, и он понял, что его исходная недоверчивость в отношении Пангло имеет под собой веские основания. Этому недомерку наверняка было что скрывать. Не приходилось сомневаться в том, что так нервничать мог лишь тот, за кем числились серьезные проступки, в том числе и уголовно наказуемые.
И на прощание, когда Пангло уже открыл входную дверь похоронного бюро, Джейкоб наклонился к нему и прошептал:
– У Джо Лампиона нет золотых зубов.
На лице Пангло отразилось недоумение, но, скорее всего, он его лишь изображал.
Пангло вновь высказал свои соболезнования, вместо того чтобы прокомментировать состояние зубов усопшего, а когда сочувственно положил руку на плечо Джейкоба, того от прикосновения даже передернуло.
Сбитый с толку, Пангло протянул правую руку.
– Извините, не обижайтесь, но я никому не пожимаю руку, – услышал он от Джейкоба.
– Да, конечно, я понимаю, – пробормотал Пангло, медленно опуская протянутую руку, хотя, разумеется, он ничего не понимал.
– Дело в том, что никогда не знаешь, к чему перед этим прикасалась рука другого человека, – пояснил Джейкоб. – Может статься, что на заднем дворе своего дома респектабельный банкир похоронил тридцать расчлененных им женщин. А милая набожная женщина из соседнего дома спит в одной постели с разлагающимся трупом любовника, который попытался ее бросить, или, в качестве хобби, мастерит украшения из косточек детей дошкольного возраста, которых мучает и убивает.
Пангло быстренько сунул руки в карманы брюк.
– У меня подобраны газетные вырезки по сотням таких случаев, – продолжил Джейкоб, – а то и более худшим. Если вас это интересует, я сниму для вас копии.
– Вы очень добры, – замямлил Пангло, – но у меня так мало времени для чтения, совсем мало.
Пусть и с неохотой оставив тело Джо в руках этого подозрительно нервного человека, Джейкоб спустился с крыльца и ушел, ни разу не оглянувшись. Милю, отделявшую похоронное бюро от его дома, он прошагал пешком, пристально поглядывая на проезжающие мимо автомобили, проявляя особую бдительность на перекрестках.
В его квартиру над большим гаражом вела наружная лестница. Квартира делилась на две части. Первую, побольше, занимали гостиная и ниша, служившая кухней, с угловым обеденным столиком, за который могли сесть только два человека. Вторую – спальня с примыкающей к ней ванной.
Вдоль стен выстроились книжные шкафы и бюро. Там он держал бесчисленные материалы о несчастных случаях, рукотворных катастрофах, маньяках, массовых убийствах: неопровержимые доказательства того, что человечество, как случайно, так и сознательно, уничтожает себя.
В тщательно прибранной спальне Джейкоб снял туфли, лег на кровать, уставился в потолок, остро чувствуя собственную ненужность.
Агнес овдовела. Бартоломью родился без отца.
Слишком много горя, слишком много.
Джейкоб не знал, как он сможет подойти к Агнес, когда та вернется из больницы. Печаль в ее глазах убьет его с той же легкостью, что и удар ножа в сердце.
Присущий ей оптимизм, радость жизни, которые не покидали ее все эти сложные годы, не могли пережить такого испытания. И теперь он и Эдом теряли островок надежды, который они в ней видели. Их будущее погружалось во мрак отчаяния.
Оставалось рассчитывать лишь на то, что в этот самый момент самолет упадет с неба и в мгновение ока разотрет его в порошок.
Дом и гараж находились слишком далеко от железнодорожных путей. Так что он не мог надеяться, что сошедший с рельсов поезд врежется в его жилище.
С другой стороны, квартира отапливалась газовым камином. Утечка газа, искра, взрыв, и ему не придется лицезреть несчастную Агнес.
Время шло, самолет с неба не падал, Джейкоб поднялся, прошел на кухню и замесил тесто для любимых пирожков Агнес. Шоколадных с орешками.
Джейкоб полагал себя совершенно бесполезным, живущим в мире, которому ничего не мог дать, но был великолепным кондитером. Мог взять любой рецепт, даже от первоклассного шеф-повара, и улучшить его.
Когда он месил тесто, мир уже не казался ему таким опасным. Иногда, увлеченный работой, Джейкоб даже забывал про страх.
Газовая плита могла взорваться, упокоив его душу, но, если уж она не взрывалась, он по меньшей мере мог испечь пирожки для Агнес.
Глава 28
В начале второго на него набросились Хэкачаки, распираемые яростью, с налитыми кровью глазами, оскаленными зубами, пронзительными голосами.
Младший ожидал их появления и хотел, чтобы они явились во всей своей устрашающей красе, присущей им в прошлом. Тем не менее он вжался в подушки, когда они ворвались в больничную палату и сгрудились у его кровати. Лицами напоминая раскрашенных людоедов, выдержавших долгий пост, они энергично размахивали руками, изо рта у каждого вместе с криком летела не только слюна, но и кусочки пищи, застрявшие в зубах после ланча.
Руди Хэкачак, для друзей – Большой Руди, возвышался над землей на добрых шесть футов и четыре дюйма, напоминая скульптуру из дерева, вырубленную топором дровосека. В костюме из зеленого полиэстера, с короткими, не хватало как минимум дюйма, рукавами, рубашке цвета человеческой мочи и галстуке, который своей крикливостью мог бы сойти за флаг страны третьего мира, он выглядел как чудовище доктора Франкенштейна, отпущенное на вечер в бары Трансильвании.
– Тебе бы лучше начать соображать, что к чему, недоумок, – посоветовал Руди Младшему, схватившись руками за перекладину изножия кровати, словно хотел вырвать ее и, использовав вместо дубинки, научить зятя уму-разуму.
Если Большой Руди и был отцом Наоми, ей от него не досталось ни единого гена. Должно быть, яйцеклетка матери оплодотворилась его громоподобным ревом, потому что Наоми ничего не взяла от отца, ни внешне, ни внутренне.
Шина Хэкачак в свои сорок четыре года красотой превосходила любую из кинозвезд. Выглядела она на двадцать лет моложе своего возраста и так напоминала умершую дочь, что Младшего охватила эротическая ностальгия.
Но сходство между Наоми и матерью внешностью и заканчивалось. Шину отличали крикливость, себялюбие и грубость: лексиконом она могла соперничать с владелицей борделя портового города.
Она встала рядом с Большим Руди, и поток ругательств окатил Младшего, как струя нечистот, выплеснувшаяся из шланга ассенизаторской машины.
Затем к родителям присоединилась третья и последняя Хэкачак, двадцатичетырехлетняя Кайтлин, старшая сестра Наоми. Природа жестоко обошлась с Кайтлин, которая унаследовала внешность отца и самые отвратительные черты характера обоих родителей. Особый оттенок карих глаз приводил к тому, что при не слишком ярком освещении ее злые гляделки становились красными, как кровь.
К другим «достоинствам» Кайтлин относились пронзительный голос и пристрастие к ругани, характерное и для остальных Хэкачаков, но сейчас она не участвовала в словесной атаке, решив, что родители справятся сами. Но взгляд, которым она сверлила Младшего, в должных геологических условиях моментально пробил бы земную кору и добрался бы до скрытого под ней нефтяного месторождения.
К счастью для Младшего, они не пришли к нему днем раньше, скорбя об утрате, если, конечно, мысль о скорби заглянула в их головы.
С Наоми они никогда не были близки. Она как-то сказала, что в семье чувствовала себя Ромулом или Ремом, которых выкормила волчица, или Тарзаном, если бы он попал в руки злобных горилл. Младший видел в Наоми Золушку, красивую и добрую, а себя – любящим принцем, который ее спас.
Хэкачаки прибыли, отгоревав. В больницу их привела весть о том, что Младший выразил нежелание заработать деньги на трагической гибели жены. Они уже знали, что он отказался выслушать предложения Накера, Хисска и Норка.
Шансы родственников Наоми получить компенсацию за боль и страдания, причиненные смертью горячо любимой дочери и сестры, значительно уменьшались, если бы ее муж не пожелал взвалить ответственность за безвременную смерть Наоми на соответствующие структуры округа, штата, противопожарной службы. Вот тут, чего раньше никогда не случалось, они хотели, чтобы он выступил с ними единым фронтом, одной семьей.
Уже в тот момент, когда Младший сталкивал Наоми с наблюдательной площадки, он предвидел эту встречу с Руди, Шиной и Кайтлин. Он знал, что прикинется, будто предложение оплатить утрату деньгами, поступившее от штата, оскорбляет его, изобразит отвращение, очень убедительно будет сопротивляться нажиму… но потом, проведя в скорби и печали дни и недели, с неохотой позволит неутомимым Хэкачакам убедить его сдаться под напором их всесокрушающей жадности.
И к тому времени, как свирепые родственники его жены таки добились бы своего, Младший успел бы завоевать симпатии Накера, Хисска, Норка и всех остальных, у кого могли возникнуть подозрения в том, что он приложил руку к гибели жены. Возможно, даже Томас Ванадий поймет, что обвинял его напрасно.
Крича, как стервятники, ожидающие, когда же их предполагаемый обед отдаст концы, Хэкачаки получили два строгих предупреждения от медицинских сестер. Их попросили утихомириться и не тревожить пациентов, которые лежали в соседних палатах.
Чаще обычного встревоженные сестры, а один раз даже интерн, заглядывали в палату, чтобы проверить состояние Младшего. Они спрашивали, в силах ли он принимать посетителей – таких посетителей.
– Других родственников, кроме них, у меня нет, – отвечал Младший, как он надеялся, с печалью и готовностью к страданиям.
Его слова расходились с действительностью. Отец Младшего, неудачливый художник и большой любитель спиртного, жил в Санта-Монике, штат Калифорния. Его мать – она развелась с отцом, когда Младшему было четыре года, – двенадцать лет тому назад поместили в клинику для психохроников. Виделся он с ними редко. Наоми ничего о них не говорил. Такие отец и мать не делали сыну чести.
Когда очередная встревоженная медсестра покинула палату, Шина наклонилась к Младшему. Больно ухватила за щеку большим и указательным пальцем, словно хотела вырвать оттуда кусок мяса и сожрать его:
– Заруби себе на носу, безмозглый кретин. Я потеряла дочь, драгоценную дочь, мою Наоми, свет в окошке.
Кайтлин посмотрела на мать, как на предателя.
– Наоми… двадцать лет тому назад она выпрыгнула из моего чрева – не твоего, – яростным шепотом продолжала Шина. – Если кто-то сейчас и страдает, так это я, а не ты. И вообще, кто ты такой? Какой-то парень, который пару лет долбил ее, вот и все твои заслуги. А я – ее мать. Тебе никогда не понять мою боль. И если ты не встанешь плечом к плечу с семьей, чтобы заставить этих говнюков заплатить, сколько положено, я лично отрежу тебе яйца, когда ты будешь спать, и скормлю моему коту.
– У вас нет кота.
– Так я его куплю, – пообещала Шина.
И Младший знал, что это не пустая угроза. Даже если бы ему не хотелось брать деньги, а ему хотелось, он бы никогда не решился пойти наперекор Шине.
Руди, огромный, как Биг Фут,[19] и лживый, как лис, и изворотливый, как ящерица, боялся этой женщины.
У всех троих были сугубо человеческие причины жаждать денег. В пяти городках Орегона Руди принадлежали шесть приносящих неплохой доход салонов по торговле подержанными автомобилями и один, его гордость, салон, продающий как новые, так и подержанные «форды», но он привык жить на широкую ногу. К тому же четыре раза в год он ездил в Вегас, где просто сорил деньгами. Шине тоже нравился Вегас, но предпочтение она отдавала не казино, а магазинам. Кайтлин любила мужчин, особенно красавчиков, а поскольку в темной комнате ее могли спутать с отцом, за удовольствие приходилось платить.
В какой-то момент, когда трое Хэкачаков пошли в особенно яростную атаку, Младший заметил стоящего у двери и с любопытством наблюдающего за происходящим Ванадия. «Превосходно», – подумал он. Притворился, что не видит детектива, а когда еще раз скосил глаза на дверь, оказалось, что Ванадий исчез. Словно его и не было.
Хэкачаков выдворили из палаты на обед, но потом они вернулись и продолжили атаку. Больница никогда не видела такого спектакля. На работу пришла другая смена, новые сестры по делу и без оного заглядывали в палату Младшего, чтобы полюбоваться этим захватывающим зрелищем.
И когда все семейство, несмотря на протесты, выдворили из палаты – вышло время, отведенное на посещения, – Младший так и не уступил их напору. Он понимал, что должен сопротивляться как минимум несколько дней, чтобы убедить всех, что соглашается взять деньги против своей воли.
Оставшись один, он понял, что выжат досуха. Физически, эмоционально, интеллектуально.
Убийство далось ему легко, а вот последствия изматывали намного больше, чем он предполагал. И хотя денежные выплаты штата обеспечили бы ему безбедную жизнь до конца его дней, напряжение было слишком уж велико. Вот Младший и подумал: а стоило ли ради этого идти на такой риск?
Он решил, что никогда больше не пойдет на импульсивное убийство. Никогда. Более того, он дал зарок больше никого не убивать, разве что при самозащите. Скоро он станет богатым… если его поймают, будет что терять. Убийство – замечательная авантюра. Жаль, конечно, что он больше не сможет позволить себе такого удовольствия.
Если бы он знал, что до окончания месяца дважды нарушит данное себе слово и ни одна из жертв, к сожалению, не будет Хэкачаком, он бы не заснул с такой легкостью. Ему бы не снилось, как он ловко крадет сотни четвертаков из карманов Томаса Ванадия, тогда как детектив тщетно пытается найти хоть один.
Глава 29
В понедельник утром высоко над могилой Джо Лампиона прозрачное синее калифорнийское небо сияло таким ярким и чистым светом, что казалось, будто лежащий под ним мир отмылся от всей присущей ему грязи.
Огромная толпа скорбящих присутствовала на службе в церкви Святого Фомы. Места в церкви всем не хватило, многие остались на ступенях и тротуаре, а потом все до единого отправились на кладбище.
Агнес, сопровождаемую Эдомом и Джейкобом, на кресле-каталке катили по траве между каменными надгробиями к последнему прибежищу мужа. И хотя новое кровотечение ей не грозило, доктор порекомендовал ей избегать нагрузок.
На руках она держала Бартоломью. Погода выдалась достаточно теплой, так что младенца особо не кутали.
Без ребенка Агнес не пережила бы похорон. Но маленький комочек на руках стал для нее якорем, заброшенным в море будущего, не позволяющим ей с головой окунуться в воспоминания о прошлом, о всех хороших днях, проведенных с Джоем, в воспоминания, которые в этот критический момент, словно удары молота, разбили бы ей сердце. Потом эти воспоминания послужили бы ей утешением. Но не сейчас.
Земляной холм у могилы прикрывали охапки цветов и листья папоротника. На подвешенный гроб накинули черную материю, чтобы скрыть зев могилы.
Человек верующий, в тот момент Агнес не смогла отгородиться верой от мрачной, отвратительной реальности присутствия Смерти. В черном балахоне, костлявая, Смерть была рядом, бродила среди тех, кто провожал Джоя в последний путь, твердо зная, что со временем заберет с собой всех и каждого.
Стоя по бокам кресла-каталки, Эдом и Джейкоб уделяли внимание не столько погребальной службе, сколько небу. Оба брата хмурились, оглядывая бездонную голубизну, потому что не ждали от нее ничего хорошего.
Агнес полагала, что Джейкоб дрожал, предчувствуя, что им на головы вот-вот свалится аэробус, в лучшем случае легкий одномоторный самолет. Эдом, должно быть, прикидывал вероятность падения на кладбище в этот самый час астероида, который каждые несколько сотен тысяч лет уничтожал жизнь на всей планете.
Душу рвало в клочья, но Агнес не могла позволить себе дать волю чувствам. Променяй она надежду на отчаяние, как ее братья, Бартоломью умер бы до того, как родился. Он не мог обойтись без ее оптимизма, кто еще сумеет научить его радоваться жизни.
После службы среди всех, кто хотел выразить Агнес свои соболезнования, к ней подошел и Пол Дамаск, владелец «Аптеки Дамаска» на Океан-авеню. Смуглолицый – сказывалось средиземноморское происхождение – и невероятно рыжеволосый. С рыжими бровями, ресницами и усами, его симпатичное лицо отливало бронзой с патиной-морщинками.
Пол опустился на колено у ее кресла-каталки.
– Это знаменательный день, Агнес. Это знаменательный день со всеми его началами. Гм-м-м?
Слова эти он произносил в полной уверенности, что она понимает их смысл, улыбаясь, поблескивая глазами, чуть ли не подмигивая, словно они были членами некоего тайного общества, в котором три повторенных слова являлись кодом и содержали в себе нечто гораздо большее, чем слышалось в них всем остальным.
Прежде чем Агнес успела ответить, Пол поднялся и отошел. Другие друзья преклоняли колено у кресла-каталки, и скоро она потеряла из виду фармацевта, который растворился в толпе.
«Это знаменательный день, Агнес. Это знаменательный день со всеми его началами».
Такие странные слова.
Покрывало таинственности окутало Агнес, нервируя, но не вызывая неприятия.
По ее телу пробежала дрожь, и Эдом, опасаясь, что она замерзла и может простудиться, снял пиджак и накинул его на плечи Агнес.
* * *
В тот же понедельник утро в Орегоне выдалось мрачным, тяжелые туши дождевых облаков низко повисли над кладбищем, устроив Наоми невеселые проводы, но не пролились дождем.
Стоя у могилы, Младший пребывал в отвратительном настроении. Ему обрыдло изображать горе.
Три с половиной дня прошло с того момента, как он столкнул жену со смотровой площадки пожарной вышки, и за это время ему пришлось многое вынести. Весельчак по натуре, он не отказывался ни от одного приглашения на вечеринку. Ему нравилось смеяться, любить, жить, но разве он мог наслаждаться жизнью сейчас, зная, что должен постоянно изображать скорбь и разговаривать с нотками печали.
Хуже того, чтобы убедительно демонстрировать душевную боль и избежать подозрений в причастности к смерти Наоми, ему предстояло играть роль безутешного вдовца как минимум пару недель, а то и целый месяц. Будучи убежденным последователем системы самосовершенствования, созданной доктором Цезарем Зеддом, Младший не терпел людей, которые в своих действиях руководствовались сентиментальностью и общественным мнением, а теперь ему предстояло прикидываться, что он – один из них, причем прикидываться достаточно долго.
Будучи необычайно впечатлительным, он выразил скорбь по Наоми страданиями тела, неудержимой рвотой, горловым кровотечением, потерей контроля над основными функциями организма. Горе его было так велико, что едва не убило его. Но сколько же можно горевать, надо и честь знать.
Лишь несколько человек собрались у могилы. Младшему и Наоми вполне хватало компании друг друга, поэтому, в отличие от большинства молодых пар, у них практически не было друзей.
Хэкачаки, разумеется, присутствовали. Младший до сих пор не согласился присоединиться к ним в погоне за кровавыми деньгами. И знал, что покоя ему не будет, пока они не добьются желаемого.
Синий костюм Руди, как обычно, был ему мал и чуть ли не трещал по швам. Но здесь, на кладбище, на ум не приходила мысль о том, что у него плохой портной. Нет, создавалось полное ощущение, что он – осквернитель могил и костюм этот снял с кого-то из покойников.
На фоне гранитных монументов Кайтлин казалась пришелицей из потустороннего мира, поднявшейся из сгнившего гроба, чтобы мстить живым.
Руди и Кайтлин то и дело злобно посматривали на Младшего, а Шина точно испепелила бы его взглядом, но он не мог различить ее глаз за черной вуалью. Затянув свою потрясающую фигуру в черное платье, скорбящая мамаша, похоже, хотела как можно скорее покончить с выражением горя, потому что по ходу службы не раз и не два подносила к глазам руку с часами.
Младший собрался капитулировать в этот же день, на встрече родственников и семьи. Руди пригласил всех на фуршет, который организовал в выставочном зале своего нового фордовского салона, закрытого по такому случаю до трех часов дня, скорбные вздохи, легкая закуска и трогательные воспоминания на фоне новеньких, сверкающих «тандербердов», «гэлакси» и «мустангов». Фуршет предоставлял Младшему прекрасную возможность в присутствии свидетелей с неохотой, слезами, а то и злостью уступить яростному напору хэкачаковского материализма.
На том же кладбище, в ста пятидесяти ярдах от них, проходили еще одни похороны, причем народу на них собралось гораздо больше. Служба там началась раньше, и теперь люди уже тянулись к своим автомобилям.
Младший лишь мельком глянул на них, обратил внимание на то, что большинство – негры, и предположил, что хоронили тоже негра.
Его это удивило. Разумеется, Орегон не тянул на Глубокий Юг.[20] Наоборот, считался прогрессивным штатом. Тем не менее он удивился. В Орегоне жило не так уж много негров, горстка, в сравнении с другими штатами, однако до этого дня Младший полагал, что у них свои, отдельные кладбища.
Он ничего не имел против негров. Не желал им зла. Не испытывал к ним предубежденности. Живи и давай жить другим. По его разумению, пока негры держались своих и подчинялись общественным нормам, как все остальные, они имели право жить в мире и покое.
Но могила этого цветного человека располагалась выше могилы Наоми: кладбище находилось на склоне холма. Со временем, по мере того как тело негра начнет разлагаться, вытекающая из него жидкость проникнет в почву. Когда сильный дождь как следует промочит землю, почвенными водами жидкость, вытекшую из трупа негра, понесет вниз, пока она не доберется до могилы Наоми и не смешается с ее останками. Младший полагал, что такого быть не должно.
Но он ничего не мог с этим поделать. Перенос тела Наоми в другую могилу, на другое кладбище, на котором не было бы негров, вызвал бы множество разговоров. А ему не хотелось привлекать к себе дополнительное внимание.
Он решил, однако, обратиться к адвокату, чем быстрее, тем лучше, и составить завещание. Он хотел, чтобы тело его кремировали, а пепел захоронили в одной из мемориальных стен, выше уровня земли, чтобы в урну ничего не натекло.
Только один из участников вторых похорон направился не к стоящим в рядок автомобилям. Мужчина в темном костюме спускался по склону холма прямо к могиле Наоми.
Младший и представить себе не мог, с какой стати какому-то негру захотелось принять участие в похоронах его жены. Ему оставалось лишь надеяться, что не возникнет никакого конфликта.
Священник замолчал. Служба завершилась. Никто не подошел к Младшему с соболезнованиями. Их собирались выразить позже, на фуршете в салоне, где продавались автомобили компании «Форд».
Теперь он уже узнал приближающегося мужчину. Не негр и не незнакомец. Сам детектив Томас Ванадий, который достал его никак не меньше Хэкачаков.
Младший подумал о том, чтобы уйти до прихода Ванадия: их разделяло еще семьдесят пять ярдов. Но побоялся, что кто-то подумает, будто он стремится как можно скорее сбежать с могилы вроде бы любимой жены.
К этому времени у могилы, помимо Младшего, оставались только владелец похоронного бюро и его помощник. Они спросили, опускать ли гроб прямо сейчас или подождать его ухода.
Младший разрешил опускать гроб.
Двое мужчин отцепили и закатали зеленую складчатую юбку, прикрывавшую могильную лебедку, на канатах которой висел гроб. Зеленую, а не черную, потому что Наоми любила природу: Младший продумал и такие мелочи.
Открылась дыра в земле. С темными, поблескивающими влагой стенами. Под тенью гроба в черной глубине пряталось дно могилы.
Подошел Ванадий, встал рядом с Младшим. Дешевый черный костюм сидел на нем лучше, чем на Руди.
Детектив держал в руке белую розу на длинном стебле.
Лебедка приводилась в движение двумя ручками. Владелец похоронного бюро и его помощник начали синхронно их поворачивать, и под скрип шестеренок гроб медленно опустился в могилу.
– Согласно лабораторным данным, ребенок, которого она носила, практически наверняка твой, – нарушил молчание Ванадий.
Младший ничего не ответил. Он по-прежнему злился на Наоми, потому что она скрыла от него беременность, но порадовался своему отцовству. Теперь Ванадий не мог использовать измену Наоми как мотив убийства.
Эта приятная новость одновременно и опечалила его. Он потерял не только любимую жену, но и своего первенца. Он хоронил всю семью.
Не желая показывать копу, что известие об отцовстве порадовало его, Младший, не отрывая глаз от могилы, спросил:
– На чьи вы приходили похороны?
– Дочь друга. Говорят, она погибла в дорожно-транспортном происшествии в Сан-Франциско. Она была моложе Наоми.
– Трагично. Ее струна оборвалась слишком быстро. Ее музыка преждевременно затихла. – Младший чувствовал себя настолько уверенно, что позволил себе иронизировать над идиотской теорией копа. – Во Вселенной сейчас диссонанс, детектив. Никто не знает, как отголоски этого диссонанса отразятся на вас, на мне, на всех нас.
Подавив ухмылку и сохраняя серьезное выражение лица, он искоса глянул на Ванадия, но детектив смотрел в могилу Наоми, словно и не расслышал насмешки… а если и расслышал, не понял, что над ним издеваются.
И тут Младший увидел кровь на правом манжете рукава Ванадия. Кровь капала и с руки.
С длинного стебля белой розы не срезали шипы. А Ванадий сжал его так сильно, что они вонзились в мясистую ладонь. Но он, похоже, не замечал боли.
На Младшего вдруг напал страх. Ему захотелось как можно скорее уйти от этого психа. Но он не мог заставить себя сдвинуться с места.
– Этот знаменательный день, – говорил Ванадий, как всегда монотонно, не отрывая взора от могилы, – казалось бы, наполнен ужасной завершенностью. Но, как всякий день, в действительности его наполняют начала, и ничего больше.
С глухим стуком гроб Наоми соприкоснулся с дном могилы.
Для Младшего удар этот точно знаменовал завершенность целого периода его жизни.
– Этот знаменательный день, – пробормотал детектив.
Решив, что ему нет необходимости выслушивать остальное, Младший повернулся и направился к стоящему на дороге «субарбану».
После его приезда на кладбище налитые дождем облака не стали темнее, однако теперь они казались Младшему более зловещими.
Подойдя к автомобилю, он оглянулся.
Владелец похоронного бюро и его помощник заканчивали разбирать лебедку. Еще немного, и кладбищенскому рабочему осталось бы только закопать могилу.
На глазах у Младшего Ванадий вытянул над могилой правую руку. С зажатой в ней белой розой, стебель и шипы которой пятнала кровь. Разжал пальцы, цветок упал в яму в земле, на гроб Наоми.
* * *
В тот же понедельник, вечером, после того как Фими и солнце ушли в темноту, Целестина обедала с отцом и матерью в столовой дома священника.
Другие родственники, друзья, прихожане разошлись. И в доме воцарилась жуткая тишина.
Прежде в доме царили уют, тепло и любовь. Они никуда не делись, хотя иной раз по спине Целестины пробегал холодок, причину которого не следовало искать в сквозняке. Никогда раньше в доме не чувствовалось пустоты, но теперь он опустел: Фими навсегда покинула его.
Утром ей вместе с матерью предстояло вернуться в Сан-Франциско. Ей не хотелось оставлять отца наедине с этой пустотой.
Однако задерживаться в Орегоне они не могли. Младенца вскорости должны были выписать из больницы. Грейс и священник уже получили временное разрешение на опеку, так что Целестина могла, как и собиралась, взять на себя воспитание девочки.
Как обычно, обедали при свечах. Романтика давно и навечно поселилась в душах родителей Целестины. Опять же, они верили, что торжественная обстановка оказывает благотворное влияние на детей, даже если обед состоял всего лишь из куска мясного рулета.