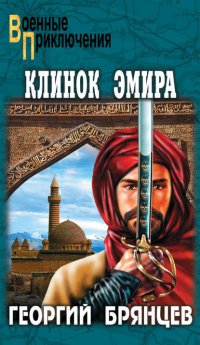
Читать онлайн Клинок эмира бесплатно
- Все книги автора: Георгий Брянцев
Пролог
Это было в августе двадцатого года.
Эмирская Бухара доживала свои последние часы. У стен цитадели эмирата, «священной» Бухары, стояли вооруженные отряды рабочих и дехкан советского Туркестана. Бой шел вторые сутки.
Из города палили из допотопных пушек, кремневых ружей и английских винтовок. Белобородые муллы, увенчанные белоснежными чалмами, воздев руки к небу, слали проклятия на головы отступников, посмевших поднять меч на наместника аллаха на земле – великого из великих, мудрейшего из мудрейших эмира бухарского.
По паутине глухих улиц, переулков и узких, точно щели, тупиков на поджарых афганских конях метались разъяренные эмирские сарбазы[1].
Грозно размахивая обнаженными саблями, они сгоняли перепуганных насмерть горожан к одиннадцати городским воротам строить новые укрепления.
Толпы опоенных анашой[2] и обезумевших фанатиков бесновались на дворцовой площади Регистан, вокруг башни смерти и перед дворцом эмира – Арком. Одни из них рвали на себе волосы и одежду, другие кричали осипшими от напряжения голосами:
– Смерть вероотступникам!
– Газават! Священная война!
Умар Максумов, бухарский чеканщик, сидел во дворе у своей крохотной глинобитной мазанки, держа на коленях шестилетнюю дочь Анзират. Крики и вопли на улице и треск беспорядочной стрельбы долетали и сюда. Девочка дрожала от страха, прижималась к широкой груди отца, плакала и испуганно лепетала:
– Боюсь… Боюсь, ата…
Не находя нужных слов для утешения, Умар крепкой и сильной рукой гладил черноволосую головку дочери.
Неожиданно к шуму боя примешались какие-то новые, незнакомые Умару посторонние звуки. Они плыли откуда-то сверху, нарастали, сгущались в странный и сплошной рокот. Этот угрожающий рокот уже покрывал многоголосый людской гул и трескотню ружей, от него мелко дребезжали оконные стекла и жалобно вздрагивала посуда в стенных нишах.
– Это еще что такое? – подумал вслух Умар, снял дочку с колен и поставил на глиняный пол.
– А? – спросила Анзират и, широко распахнув заплаканные глаза, тоже стала прислушиваться.
Встревоженный и заинтересованный, Умар закинул полу халата, взял дочку за руку и вышел во двор. Вышел, взглянул в бездонно-лазоревое летнее небо и обмер: по нему, точно легендарные драконы, раскинув двойные неподвижные крылья и делая большие круги, плавали в воздухе костлявые птицы.
Впервые за свою сорокалетнюю жизнь Умар увидел самолеты, о которых слышал лишь краем уха, но еще не представлял, какие они собой.
Анзират, уцепившись ручонками за халат отца, смотрела испуганными глазами в небо. Она уже не плакала, не дрожала. Детское любопытство пересилило страх.
– Раз, два, три, четыре… – считал Умар летавшие чудовища.
Сотворенные из холста, фанеры и деревянных реек, разболтанные и перелатанные, прошедшие через горнило мировой и гражданской войн, изжившие все свои рабочие сроки два «Фармана» и «Сопвича», послушные воле отчаянных смельчаков, каким-то чудом держались в воздухе. Черными гирьками с них падали двадцатифунтовые бомбы и крохотные пехотные гранаты. Они гулко разрывались где-то в центре города, сотрясая все вокруг и вздымая к небу султаны огня, клубы дыма и пыли.
– Велик аллах и милосерден его пророк, – прошептал мастер. – Кажется, наступает конец света. На этот раз эмиру не удастся избежать гнева и карающей руки всевышнего… Велик аллах!
Подхватив Анзират, он бегом припустился в мазанку, захлопнул дверь и уселся на старенькие ватные одеяла, сложенные горкой у глухой стены.
Умар задумался. В Бухаре он родился, здесь босоногим мальчишкой бегал по пыльным улицам, был водоносом, раздувал самовары в чайхане, работал погонщиком верблюдов, чистил заиленные арыки, мочил кожи в вонючих ямах. Бухара кишмя кишела сиротами, нищими и больными. Болезнь миновала Умара. Но нищета и сиротство едва не сгубили его юность.
Еще в детстве он потерял родителей – они умерли от холеры, – и мальчик долгие годы добывал себе сухую лепешку и пиалу зеленого чая случайной работой на задворках бухарского базара, пока не попал наконец в темную лавчонку старого чеканщика Юсупа.
Став юношей, Умар уже чеканил по меди, серебру и золоту не хуже старых известных мастеров и резал по металлу такие затейливые, тонкие узоры, что слава о молодом ремесленнике распространилась по всей Бухаре. Умара признали. А если уж бухарские знатоки признавали мастера, значит, признавал его и весь мусульманский Восток. О чеканщике Умаре, сыне Максума, заговорили в караван-сараях Хивы и Самарканда, Ферганы и Хорезма.
Дошла эта слава, на горе Умара, и до ушей повелителя Бухары – великого эмира. Воистину мудра старая поговорка: да охранит аллах козленка от ласки коршуна…
Нет числа эмирским прихотям. Посыпались на молодого мастера приказания, требования, выдумки – одна труднее другой, заказы – один сложнее другого. И все спешно, все немедленно! Эмир и его приближенные были нетерпеливы. Не раз отведал Умар палок по пяткам, плетей по спине и прелестей страшной клоповной ямы за задержку работы, неосторожное слово или недостаточно почтительный поклон. Однажды палачи грозного эмира уже сорвали было халат с плеч Умара и приготовились отрубить ему голову: эмир вознегодовал на чеканщика, увидев как-то за поясом одного из ханов кинжал с точно такой же насечкой, какую месяцем раньше Умар сделал для эмира. Повелитель Бухары был ревнив, удачная выдумка мастера могла принадлежать только ему и никому больше…
Тянулись годы, а порабощенный мастер ночами при жалком свете коптилки гнул спину над резьбой по золоту и серебру, украшал бирюзой, рубинами и эмалью тончайшие узоры на широких подносах и блюдах, делал затейливые рисунки на саблях и кинжалах.
Из рук Умара выходили бесценные сокровища подлинного искусства, а получал он за них несчастные гроши.
Вбежавший в мазанку чумазый подросток спугнул думы Умара.
Парнишка был бос и одной рукой поддерживал на ходу рваные ситцевые шаровары.
Умар узнал паренька. Это был круглый сирота, четырнадцатилетний Саттар Халилов, работник важного эмирского чиновника Ахмедбека.
Саттар подошел вплотную к Умару, перевел дыхание, шмыгнул носом и выпалил:
– Меня послал к вам, ата, Бахрам. Он велел сказать, что приедет сейчас вместе с Ахмедбеком. Уже седлает коней!
Умар не шевельнулся, не удивился. Кто только не посещал его убогую мазанку!
Прищурившись, он пристально поглядел в отчаянно-озорные глаза мальчонки. Только они, эти черные как угли глаза, говорили о том, что в этом худом, изможденном, не знающем отдыха, пропеченном азиатским солнцем и покрытом грязью теле ключом бьет неистребимая молодая жизнь.
– Проведи гостя в комнату к тетушке Саодат, – серьезно, как к взрослой, обратился Умар к дочке. – Пусть она покормит его вчерашним пловом. Там, кажется, осталось.
Анзират озабоченно сдвинула брови, закусила нижнюю губу и, взяв подростка за руку, провела через узкую дверь.
Умар вышел во двор. Звуки боя стихали. Перестали ухать пушки. Лишь изредка хлопали одинокие винтовочные выстрелы. Умар устало полузакрыл глаза и не поднял век, даже заслышав дробный стук копыт в переулке.
Вскоре над глиняным дувалом показались чалмы трех всадников.
Окруженные клубами пыли всадники остановились у ворот. Двое спешились и вошли во двор. Умар не спеша направился им навстречу. Впереди крупно шагал грозный Ахмедбек. Это был немолодой рослый и широкоплечий человек с короткой черной бородой, подбритой вокруг горла, и горбатым хищным носом. От пронзительного взгляда его будто раскаленных черных глаз у любого встречного холодок пробегал по спине. По пятам Ахмедбека шел его верный телохранитель Бахрам, мордастый и лоснящийся от жира детина.
Бахрам вырядился в голубой жандармский мундир с разнопарными эполетами, обшитый какими-то немыслимыми позументами, в ярко-красные просторные шаровары с широченными золотыми лампасами и щегольские офицерские сапоги из мягкого шевро с длинными шпорами. На левое плечо его свисал длинный конец огромной желтой чалмы. В руке он держал тяжелую камчу[3] с таким видом, будто только и ждал, чтобы пустить ее в ход.
– Салям алейкум! – хмуро приветствовал мастера Ахмедбек.
Умар склонил голову в поклоне, поцеловал полу золотистого халата бека и, следуя обычаям предков, пригласил знатного гостя в дом.
– Рахмат! Спасибо! – проворчал Ахмедбек. – У нас не так много свободного времени, чтобы заходить. Мы по делу.
Он снял с себя дорогую саблю и подал ее Умару. Потом достал лоскуток бумаги и тоже отдал ему.
Умар вгляделся в лоскуток: на нем были нарисованы пять человеческих черепов и затейливо написаны арабской вязью несколько букв и цифр.
– Все, что здесь изображено, надо перенести на клинок. Выбери сам, куда удобнее и незаметнее. К утру все должно быть готово. И ни один глаз не должен видеть, никто не должен знать… Молчи и забудь навеки, не то… – и Ахмедбек скрипнул зубами.
Не считая нужным выслушать ответ мастера, он кивнул и ушел. За ним, позванивая допотопными шпорами, последовал Бахрам.
Ахмедбек понимал: бумажку трудно спрятать и легко потерять. Она может размокнуть в воде и расползтись. Она может сгореть. Она, наконец, в трудный момент может обратить на себя внимание, особенно при задержании и обыске, и тогда придется объяснять то, что на ней изображено и что надо хранить в строжайшей тайне. А клинок – иное дело. Клинок – личное оружие каждого знатного джигита. На нем столько украшений и рисунков, что едва ли кто обратит внимание на какие-то черепа, буквы и цифры.
Ахмедбек отлично понимал все это, а Умар – нет. А быть может, и он понимал, но молчал…
Через минуту, подняв пыль в переулке, всадники скрылись.
Умар вернулся в мазанку и сел за низенький столик под окном, заваленный различными инструментами. В дверях показались Анзират и Саттар. Вытирая сальные после еды губы, они заговорщически переглянулись и встали по обе стороны мастера.
Умар в задумчивости держал в руках саблю Ахмедбека.
– Умар-ата! – нерешительно заговорил Саттар. – Ахмедбек позвал вас на войну и подарил эту саблю?
Мастер усмехнулся:
– Нет, дружок! С этой саблей Ахмедбек не расстанется. Она пожалована ему самим эмиром Саид Алимханом. А война… Пусть он сам воюет за эмира. Обойдутся без меня.
– Хорошая сабля, – заметил Саттар. – Я видел ее в доме Ахмедбека, когда помогал выбивать пыль из ковров. Она висела в его комнате.
Сабля и в самом деле была хороша. Вызолоченные блестящие ножны обвивала полоска голубой эмали. Эфес был выточен из слоновой кости лимонного цвета и венчался головой дракона с рубиновыми глазами. Перекрестье смотрело вниз серебряной головой Медузы Горгоны, обвитой змеями.
– Все дело тут в клинке, – тихо проговорил Умар.
– Покажите, пожалуйста, Умар-ата, – попросил Саттар. – Я не видел клинка. Хотел один раз вынуть его и посмотреть, а сын Ахмедбека Наруз накинулся на меня с кулаками.
Умар взялся за эфес, вытащил клинок и подал его парнишке.
– Смотри, – сказал он.
Клинок был странный: лишь чуть-чуть поуже ножен и весь покрыт чернью по серебру. Серебряный клинок? Но таких не бывает! На конце он расширялся наподобие турецкой елмани.
Саттар внимательно оглядел оружие и презрительно скривил губы.
– Что, не нравится? – с усмешкой спросил Умар.
– Им и не зарубишь… Смотрите, совсем тупой, – и парнишка провел пальцем по лезвию. – Его отточить надо.
– А это и не клинок, – рассмеялся Умар.
– Как не клинок?
– А вот так. Это – вторые ножны. Дай-ка сюда! Тут секрет есть. Гляди…
Умар нажал пальцем на едва заметную в голове дракона пластиночку и быстро выхватил из ножен уже настоящий клинок. Тонкий, гибкий, змеевидный, он блеснул в руке, подобно голубой молнии.
Глаза у Саттара округлились. Он стоял, полуоткрыв рот, очарованный чудом.
Умар ласково провел рукой по клинку, разделанному под синь, покрытому жемчужно-матовым орнаментом и тонкой золотой насечкой.
– Турки, видать, этот клинок делали, – проговорил Саттар. – А сталь, видно, дамасская. Бахрам говорил, что в Турции большие мастера есть.
– Ничего твой Бахрам не понимает, – ответил Умар. – А я вот что скажу тебе: делал этот клинок урус, великий мастер Иван Бушуй. Есть железные горы в России – Урал. А в тех горах – город Златоуст. Вот в городе железных мастеров Златоусте и жил Иван Бушуй. Он давно уже помер. А какой был мудрый мастер! Какой булат варил он! Получше дамасского. Он варил булат и струйчатый, и букетный, и полосовой, и волновой. Всякий. И клинок он выковал. А я рисовку делал, чеканил. Видишь, какая? Каждую золотую ниточку разглядеть можно. Рукоятку тоже я резал, по заказу эмира. Потом клинок отвезли в Стамбул, и тамошние оружейники сделали к нему первые ножны, а в Дагестане, в ауле Кубачи, вторые. И получился клинок с секретом. А ты говоришь – Бахрам, Бахрам! Что толку в твоем Бахраме…
Саттар молчал, не отводя взгляда от клинка. Немного погодя он спросил:
– Умар-ата! А зачем бек привез вам клинок?
– Тебе все надо знать? Плов поел?
– Ага.
– А теперь беги домой! Я тут и без тебя разберусь.
Анзират примостилась по левую руку отца на полу и молча стала наблюдать за его работой. Умар выполнил заказ в срок. Но за клинком никто не явился.
С наступлением темноты битва закипела с новой силой. Кровавый бой у городских стен гремел всю ночь, а когда в небе растворились последние звезды, горожане увидели над эмирским дворцом развевавшееся на ветру красное полотнище.
Эмиру бухарскому Саиду Алимхану удалось бежать от мести народа. Его сопровождала личная свита и в ее составе Ахмедбек со своим телохранителем Бахрамом.
За эмиром тянулся обоз. Верблюды и арбы были нагружены бесценными сокровищами.
Ахмедбек в спешке забыл не только клинок, который остался у чеканщика Умара Максумова, но и единственного наследника – сына, тринадцатилетнего Наруза Ахмеда.
Часть первая
1
Однажды ранней весной тридцать первого года, когда торговый инспектор Наруз Ахмед, собираясь в очередную командировку, торопился домой, чтобы захватить кое-что на дорогу, в одном из кривых переулков путь ему преградил незнакомый старик. Седая борода его простиралась до поясного платка, сухая маленькая голова, отяжеленная пышной чалмой, тряслась, запавшие глаза, спрятанные в морщинах, кололи, точно острое шило. В руке он держал длинную суковатую палку.
– Да обессмертит аллах твое имя, благородный Наруз Ахмед! Да ниспошлет он тебе здоровья, да продлит до бесконечности твои годы, – проговорил старик дребезжащим голосом.
– Здравствуйте! – удивленно ответил Наруз Ахмед, настороженно всматриваясь в незнакомое лицо. – Откуда вам известно мое имя?
– Твое имя известно мне, и я произношу его с благоговением…
Что-то отдаленно знакомое мелькнуло в памяти Наруза Ахмеда, но он не хотел заводить разговор с этим странным и подозрительным старцем.
– Не говорите загадками, ата. Я вас не знаю.
– Меня ты мог забыть, но не может сын забыть отца, храбрейшего из храбрых Ахмедбека.
Наруз Ахмед вздрогнул и машинально оглянулся.
– Тсс… – строго предупредил он и приложил палец к губам. Теперь он понял, зачем обратился к нему старик. – Кто разрешил вам тревожить покой умерших? Зачем вспоминать тех, кто по воле всевышнего покинул нас, грешных?..
– Пути аллаха неисповедимы. Забудем это имя, да живет оно в веках, – тут старик хихикнул, и бесчисленные морщинки на его сухом и желтом, как пергамент, лице мгновенно зашевелились, запрыгали. – Но я тебя с трудом узнал. Ты стал другой. Другая одежда…
– Одежду можно сменить, – прервал его Наруз Ахмед, – а сердце никогда…
– Мудрые слова. Приятно слышать ответ, достойный правоверного, – одобрил старик и тихо добавил: – Ты должен быть там, где скучает в одиночестве твоя вторая жена. И чем скорее, тем лучше.
Сказав это, он оставил Наруза Ахмеда и, шаркая каушами[4] и постукивая палкой, медленно побрел своей дорогой…
Сын грозного Ахмедбека, двадцатичетырехлетний Наруз Ахмед, чувствовал себя при советской власти не так уж плохо. Никак нельзя было сказать, что прошлое отца сильно обременяло его и как-то отрицательно сказывалось на его жизни. Совсем нет. Оставшись после бегства отца подростком, Наруз был взят на воспитание родным дядей, человеком преклонных лет и великой хитрости, бывшим мударрисом[5] бухарского медресе[6]. Дядя приложил все силы и терпение к тому, чтобы из тринадцатилетнего сына бека, прожившего детство в неге и изобилии, сделать вполне современного человека. Дядя поставил его на ноги и, можно сказать, вывел в люди.
Наруз Ахмед закончил школу второй ступени, годичные курсы торговых работников и вот уже несколько лет небезуспешно справляется с хлопотливыми обязанностями разъездного инспектора республиканского союза потребительской кооперации.
Наруз Ахмед слыл за энергичного, напористого и инициативного работника. На ишаках, верблюдах, автомашинах и поездах он носился по всей республике, заглядывая в самые глухие места, где только имелись магазины, лавки и заготовительные базы кооперации.
Старательно и придирчиво проверял он работу завмагов, кассиров и кладовщиков, непреклонно требовал отстранять от работы нерадивых и предавать суду вороватых. Он не знал жалости, составлял акты, строчил докладные, гремел горячими речами на собраниях и заседаниях. С ним считались и его боялись. Он был на виду. Он был в передних рядах.
Да и время было такое, что стоять в сторонке и работать с ленцой считалось неудобным.
На землях советской Средней Азии образовались три союзные республики: Узбекская, Туркменская и Таджикская. Невиданно росли и ширились посевные площади под белое золото – хлопок. Советский Союз в самое короткое время должен был покончить с зависимостью от зарубежных королей хлопка: в стране строились огромные текстильные фабрики и комбинаты. И люди трех солнечных республик были захвачены большими планами, горячей работой, великими надеждами.
Труженики-дехкане спорили, думали, примерялись и объединяли хозяйства в коллективные артели. Чайрикеры – безземельные крестьяне-издольщики – получали самые лучшие земли. Мелиораторы и ирригаторы обводняли древнюю сухую землю, проводили каналы, орошали пустыни, поднимая миллионы кубометров нетронутой земли. Водхозовские разведчики закладывали и бурили скважины в пустыне. Геологи рылись в земных недрах. Дорожники перекидывали мосты через дикие ущелья, покрывали асфальтом сотни километров дорог.
На карте возникали новые названия, бывшие кишлаки превращались в города. На жгучем песке степей пестрели сотни парусиновых палаток, войлочных кибиток, глиняных мазанок, дощатых времянок и бараков.
Тысячи энтузиастов стекались сюда, в знойную Азию, на помощь братьям – узбекам, таджикам, туркменам. Тут можно было встретить человека из любого уголка страны: с берегов Балтики и Черного моря, из суровой Сибири и ласковой Украины, из городов Подмосковья и Закавказья. По дорогам пылили неуклюжие грузовики, по пустынным тропам, заунывно побрякивая колокольцами, тянулись длинные караваны верблюдов. И везде на самом видном месте, подобно полковому знамени, красовались почетные доски, разделенные на две части: красную и черную. Да, время было горячее, и человек, который вздумал бы отсидеться в сторонке, сразу бросился бы в глаза…
Через полчаса Наруз Ахмед достиг дома, через час, сменив обычную одежду на халат и прихватив полевую сумку с бумагами, отправился в путь. А ровно через двое суток он въехал на усталом коне через узкую калитку во двор, закрытый со всех сторон высоким глиняным дувалом.
Возле калитки, по обе стороны дорожки, росли два старых развесистых ореховых дерева. Дорожку окаймлял ровно подстриженный вечнозеленый кустарник. Чуть поодаль, справа, возвышался каштан, опоясанный круглой деревянной скамьей с отлогой спинкой. Посреди двора пестрела ранними цветами круглая клумба. А по левую руку, прильнув вплотную к дувалу, стоял длинный приземистый дом с плоской земляной крышей. На крыше ярко цвели фонарики желтых тюльпанов. Четыре окошка дома смотрели во фруктовый сад, который пенился сейчас в бурном белоснежном цветении.
Никто – ни в центре республики, ни в городе, ни в районе – даже не подозревал, кому фактически принадлежит эта усадьба в небольшом, удаленном от жилых мест, затерявшемся в горах кишлаке.
По исполкомовским документам она считалась собственностью дехканина-середняка. Но подлинным ее владельцем был сын эмирского придворного Ахмедбека молодой Наруз Ахмед. Тут жили его мать, вторая жена (первая была в городе) и юридический «хозяин» усадьбы со своей женой. Он совмещал в своем лице обязанности домоуправителя и садовника, являясь в то же время самым преданным и верным человеком Наруза Ахмеда.
Едва Наруз Ахмед успел спешиться, как бог весть откуда выскочил садовник, подбежал к нему, рассыпался в приветствиях, приложился к халату хозяина и, подхватив коня под уздцы, застыл в ожидании распоряжений.
Наруз Ахмед снял с себя халат, стряхнул с него пыль и бросил на седло.
– Кто-нибудь спрашивал меня? – спросил он садовника.
Тот отрицательно закачал головой.
– Расседлай коня и приходи сюда, – приказал Наруз Ахмед.
Размяв скованные долгой ездой ноги, он прошел к каштану и уселся на скамью. Откинувшись на спинку, Наруз Ахмед стал сосредоточенно смотреть в изжелта-серое высокое небо, где по воображаемой спирали, отыскивая добычу, парил стервятник.
Наруз походил на уменьшенную, «мелкомасштабную» копию своего отца. У него было такое же узкое, удлиненное лицо, такие же тонкие с изломом губы, такой же нос с хрящеватой горбинкой и косо прорезанные навыкате глаза. Только все это помельче, похудее, поуже.
Когда садовник вернулся и встал перед хозяином, между ними произошел короткий разговор.
– Сколько подготовлено? – спросил Наруз Ахмед.
– Девять.
– Так мало?
Садовник объяснил, что в кишлаке остается не больше, и то самые одряхлевшие, а лучшие забраны на стройку канала.
Наруз нахмурился. Объяснение, видимо, не удовлетворяло его.
– А где эти девять?
– В долине.
Некоторое время он что-то обдумывал, постукивая концом плети по пыльным голенищам, потом сухо произнес:
– Подготовь двух к вечеру. Я пойду к себе, отдохну. Если кто будет спрашивать меня, проведи в мою комнату, но так, чтобы никто не видел.
– Все будет сделано, хозяин, – заверил садовник.
Наруз Ахмед прошел в дом, повидался с матерью и женой, долго управлялся с большим блюдом горячего жирного плова, выпил несколько пиал светлого зеленого чая и улегся спать.
Когда на дворе стемнело, кто-то тронул Наруза за плечо. Он спал чутко и тотчас вскочил. Перед ним, покрытый с головы до ног пылью, стоял рослый, обросший густой рыжей щетиной человек в длинном теплом халате, за ситцевым кушаком которого торчала рукоятка плетки.
Наруз Ахмед пристально всмотрелся в лицо гостя, черты которого напоминали ему кого-то, и вдруг радостно воскликнул:
– Бахрам-ака?!
– Я, я… А ты уже совсем мужчина. Джигит! Смотри, что сделали одиннадцать лет. И вылитый отец!..
– Ну, говори, рассказывай, – торопил обрадованный хозяин, поспешно одеваясь.
– Расскажу все в дороге. Собирайся!
– А есть не хочешь? Может, поедим?
– Хочу, но время не ждет. Перехватим на ходу.
Не прошло и десяти минут, как два всадника выехали из безмолвного кишлака и стали медленно подниматься в гору по извилистой каменистой тропе.
2
– Нет! – тряхнул головой юноша и облизал разбитые в кровь губы. – Нет и нет! – повторил он.
Парень стоял, связанный по рукам и ногам. Его поддерживали с обеих сторон два дюжих басмача. На сатиновой косоворотке юноши с разодранным воротом алел кимовский значок.
Перед ним, шагах в трех, на округлом камне-валуне сидел широкоплечий чернобородый и горбоносый курбаши. Он холодно смотрел на пленника, полуприкрыв тяжелые веки.
Дело происходило ранним утром в узком и глубоком безводном ущелье. Лучи поднявшегося солнца сюда еще не проникли. Вокруг возвышались дикие скалистые нагромождения, грозные и молчаливые в своем окаменелом раздумье.
– Глупец! – с усмешкой бросил курбаши. – Тебе неведомо, какая новая судьба ждет тебя и твой народ. Ты подобен слепцу. Ты видишь лишь то, что у тебя под носом.
Комсомолец угрюмо молчал, сплевывая кровь.
– Скоро на эту землю, – продолжал курбаши, топнув мягким сапогом, – придет священная армия воинов, старых, истинных хозяев. Они изгонят с нашей земли всех вероотступников, уничтожат всех большевиков. Они сурово накажут тех, кто поддался на безбожную агитацию коммунистов и записался в колхозы. Они восстановят священную власть эмира бухарского. И горе тому, кто не захочет встать под зеленое знамя армии ислама. Ты слышал о таком воине, как Ибрагимбек?
Комсомолец усмехнулся и ответил:
– Как же не слышать! Все зовут его Ибрагимом-локайцем, бандитом, конокрадом. Какой он воин! А ты слышал такие имена, как Кизилхан, Кур-Ширмат, Мадаминбек, Азизхан, Ашимбай-Керим, Аман-Палван?
Да, эти имена были знакомы курбаши. Больше того, почти всех он знал и видел. Это были такие же, как и он, главари басмаческих шаек.
Но курбаши предпочел дипломатично промолчать.
– Молчишь? – повысил голос комсомолец. – Они, как и ты, говорили: «Всех изгоним, всех уничтожим, всех накажем». А что стало с ними? Забыл? Я тебе напомню: их поганые кости, обглоданные шакалами, разбросаны в песках. То же ждет и твоего Ибрагима. То же ждет и тебя.
Глаза курбаши почти совсем закрылись. Стоявшие за его спиной басмачи глухо зароптали. Один из них, худой и высокий, шагнул было к юноше с тяжелой камчой в руке, но, остановленный жестом курбаши, попятился назад.
– Глупец! – еще раз повторил курбаши. – Ничтожный ты человек. Упрямство обойдется тебе дорого. Ты говоришь чужим языком, мальчишка, а я требую, чтобы ты заговорил своим.
– Я говорил языком человека, а не эмирского раба, – отрезал юноша.
– Я обещаю тебе сохранить жизнь. Ты еще молод. У тебя есть отец, мать и, наверное, любимая. Что из того, что ты загубишь свою жизнь и опечалишь их? Кому от этого польза?
– Я все время думаю о пользе для них и для всех честных мусульман, поэтому не трать лишних слов…
– Подумай! – предупредил курбаши. – Я требую от тебя немногого. Скажи, что было написано в той бумажке, которую ты вез на погранзаставу и проглотил?
Юноша молчал.
– Думай быстрее! – напомнил курбаши.
– Мне спешить некуда. Это тебе следует торопиться. Вот наши нагрянут…
– У тебя длинный язык, – прервал его курбаши. – Смотри, я могу его укоротить.
Юноша усмехнулся и сказал:
– Наши языков не режут, а вот голову тебе отхватят, как бешеной собаке.
Басмачи загудели, стали плеваться и с нетерпением поглядывали на своего главаря. Неужели он и это стерпит?
– Верблюжий ублюдок, – процедил сквозь зубы курбаши и поднялся с камня. Сжимая в руке плеть, он сделал шаг вперед, но в это время к нему подбежал мирза[7] банды Хаким и, не переводя дыхания, доложил:
– Едут… Двое едут… Бахрам и другой… молодой.
Курбаши оглянулся. Из горловины ущелья, приближаясь к лагерю басмачей, скакали два всадника. Один из них был Бахрам, другой – Наруз Ахмед.
– Да, это он, – тихо, только для себя, промолвил старый курбаши, и на короткое мгновение что-то человеческое и давно забытое шевельнулось в его груди. – Он… он…
Всадники спешились и, оживленно переговариваясь, направились к курбаши. Не доходя шагов десяти, Наруз Ахмед вдруг остановился. Он пристально взглянул на басмаческого главаря, как-то сгорбился, и из уст его сорвался крик:
– Отец! Отец!
Он стремительно подбежал к курбаши и бросился в его простертые руки. Старый курбаши Ахмедбек (а это был он) обнял сына, похлопал его по спине, отступил на шаг назад, окинул пытливым взглядом и сказал:
– Палван[8]!
Наруз отвел в сторону лицо с внезапно увлажнившимися глазами.
Нет, не напрасно он день и ночь думал об отце. Не напрасно втайне гордился тем, что в его жилах течет кровь такого человека! Не напрасно верил в возвращение отца. И вот отец стоит перед ним, такой же крепкий, сильный, без единой сединки в бороде. И глаза его, как и тогда, одиннадцать лет назад, смот-рят открыто, смело, по-орлиному. Так вот почему помалкивал хитрый Бахрам и не говорил о том, кто ждет их в ущелье. Подарок! Да какой еще подарок!
Под шушуканье и одобрительные возгласы басмачей отец и сын отошли в сторонку и уселись на камнях.
Несколько мгновений они молчали, удивленно и радостно разглядывая один другого. Первым начал разговор Ахмедбек. Он стал подробно расспрашивать сына, где и как живет он, в чем состоит его работа, поинтересовался семейными делами Наруза и, наконец, спросил, жива ли мать.
Подошел Бахрам, опустился на землю, попросил закурить.
– Бек, – сказал он, затягиваясь дымом. – Твой человек ждет приказа.
Курбаши повернул голову. Невдалеке стоял высокий и тонкий, словно жердь, басмач, прозванный в банде насмешливым именем Узун-кулок – «Длинное ухо», – и нетерпеливо топтался на месте.
Ахмедбек прервал беседу и приказал человеку подойти. Тот торопливо подбежал, скользнул быстрым взглядом по лицу Наруза Ахмеда и обратился к курбаши:
– Как велишь, господин, поступить с верблюжьим ублюдком?
Ахмедбек блеснул глазами и тотчас опустил веки.
– Я должен знать, что было написано на той бумажке, которая лежит в его желудке. Вытащи ее, – спокойно произнес он, будто речь шла о том, что бумажку следовало вытащить из кармана или тюбетейки.
– Все будет исполнено, господин, – басмач почтительно склонил голову, приложил руку к груди и удалился.
Прерванная беседа возобновилась.
Ахмедбек поинтересовался, был ли предупреж-ден кем-либо сын о необходимости подготовить лошадей.
– Да, был. В кишлаке Обисарым девять молодых объезженных лошадей отдыхают на выпасе в долине.
– Воробей на завтрак льву… – заметил курбаши.
Наруз объяснил, что в ближайшее время нет никаких надежд достать коней, так как все они взяты на строительство канала.
Вдруг страшный, нечеловеческий вопль огласил ущелье. Наруз вздрогнул.
– Что это? – с опаской спросил он, смотря в сторону лагеря.
– Ничего особенного, – успокоил его отец. – Узун-кулок делает операцию. Он у меня хирург.
Только сейчас Наруз Ахмед понял смысл приказа курбаши. Невдалеке несколько человек, навалившись на пленного, дико визжа и изрыгая проклятия, прижимали к земле его голову, руки и ноги. Узун-кулок действовал огромным ножом. А человек продолжал кричать так страшно, что у Наруза ослабли ноги и лоб покрылся испариной.
– Ты помнишь чеканщика Максумова? – спросил между тем отец. – Умара Максумова?
– Что? – переспросил Наруз Ахмед, ошеломленный невиданным зрелищем. Ему хотелось заткнуть пальцами уши, чтобы не слышать предсмертного крика, проникающего в душу, мозг и сердце.
Ахмедбек терпеливо повторил свой вопрос.
– Помню… как же… – рассеянно ответил Наруз Ахмед и скосил глаза в сторону крика.
– Где он? – полюбопытствовал Ахмедбек.
– Все там же, в городе… Я встретил его как-то… Примерно месяц назад. Постарел… седой весь… а бороду сбрил… – он вновь посмотрел туда. Басмачи, тесно обступив что-то, хохотали.
Пленный уже не кричал. Он умолк навсегда и лежал недвижимо. Стоя над ним на коленях, Узун-кулок спокойно орудовал своим ножом.
– Чеканщика Умара надо отыскать живого или мертвого, – твердо продолжал Ахмедбек. – Он присвоил мой клинок.
– Клинок?
– Да! Клинок, который пожаловал мне эмир Саид Алимхан. Ты должен помнить этот клинок. Он висел на ковре в большой комнате.
– Помню, – сказал Наруз Ахмед, и в памяти его действительно всплыли из далекого детства и просторная, прохладная комната, и большой багровый ковер на стене, а на нем – сабля с позолоченными ножнами, сверкающая солнечными зайчиками. – А ты знаешь, кто сейчас живет в нашем доме? – спросил он.
Ахмедбек сделал неопределенный жест рукой. Нет, это его не интересовало.
– Ты должен найти Умара и взять клинок. Отобрать, чего бы это ни стоило! А потом передашь мне. В этом клинке кроется большая тайна. Ее знают лишь два человека: я и Ахун-ата, твой первый учитель. И ты узнаешь эту тайну, как только придет Ибрагимбек.
– А почему он медлит? – поинтересовался Наруз Ахмед.
Брови курбаши недовольно сдвинулись. Его начинало раздражать легкомыслие сына. Ему говорят о клинке, а он спрашивает об Ибрагимбеке!
– Ты понял, что я сказал? – строго спросил курбаши.
– Конечно, понял, отец! Клинок я добуду. Добуду и спрячу. Но почему ты не хочешь сказать, когда придет Ибрагимбек?
– Ибрагимбек ждет моего сигнала, а время еще не подошло. Надо поднять людей. Сотни, тысячи, десятки тысяч людей. Надо отыскать и обеспечить надежные переправы. У Ибрагима армия. И создана она не для того, чтобы погибнуть при переходе границы. Ибрагимбек должен переправиться со своими воинами без боя, внезапно. А это не так просто. Со мной пошли сто двадцать джигитов, а уцелели семьдесят. Пятьдесят легли под пулями аскеров[9] с пограничной заставы…
Ахмедбек умолк. К нему вприпрыжку приближался Узун-кулок. На его лисьей физиономии, поросшей редкой, точно пух, растительностью, играла довольная улыбка. С вымазанных костлявых рук капельками стекала кровь.
Подойдя вплотную к курбаши, он молча протянул левую руку, разжал пальцы, и на узкой ладони его оказался небольшой, облепленный слизью комочек бумаги.
Ахмедбек всмотрелся в него, сощурил глаза и сказал сыну:
– Разверни и прочти.
Что-то вроде судороги пробежало по телу Наруза Ахмеда. Преодолев чувство гадливости, он осторожно, кончиками двух пальцев снял комочек с ладони басмача, положил его на гладкий камень и, взяв в другую руку маленькую гальку, разгладил бумажку. На ней были написаны десять строк по-русски мелким, убористым и разборчивым почерком. Но некоторые буквы разбухли, расползлись, а последняя фраза слилась в сплошное пятно.
Наруз Ахмед прочел:
«Одна партия бандитов, около сорока человек, оторвалась от преследования и ушла в пески. Вторая – примерно десятка три – скрылась в горах. Завтра в распоряжение вашей заставы подойдут два отряда. Отряд ОГПУ, усиленный краснопалочниками…» – Наруз Ахмед умолк. Напрягая зрение, он всматривался в окончание записки, но ничего разобрать не мог. – Дальше непонятно, – сказал он.
Ахмедбек нахмурился. Два отряда. Это не шутка. У них пулеметы, а чего доброго, и пушки. Да и бьются они, по совести говоря, лучше его джигитов. Если стреляют, так без промаха, если рубят, то наповал. Он при переправе потерял пятьдесят голов, а пограничники – самое большее полдюжины. Надо предупредить Ибрагимбека.
– Ступай, – сказал курбаши палачу.
Когда тот удалился, Ахмедбек вынул из-за пазухи новую, еще не утратившую запаха типографской краски карту и расстелил ее на земле между собой и сыном.
– Смотри сюда, – проговорил курбаши, тыча в какую-то точку черным пальцем. – Видишь этот мазар[10]? Сюда пригонишь своих лошадей. Там таятся два десятка джигитов. Их проворонили аскеры в зеленых фуражках. А вот у этого колодца ты можешь найти моих людей. Они укажут, где я. Это на всякий случай. А та партия, о которой идет речь в записке, направилась в пески. На днях я соединюсь с ней. Понял? – И свернув карту, он водворил ее на прежнее место.
Наруз Ахмед кивнул.
– Скоро придет сюда отряд курбаши Мавлана. Он побольше моего…
Наруз вторично кивнул.
– Теперь поезжай, сын мой, и ищи клинок. Бахрам поможет тебе. Он надежный человек. Прощай!
3
Наруз Ахмед постучал в калитку на окраине старой части Бухары. В ответ послышался сиплый сердитый лай. Через секунду собака, задыхаясь от ярости, уже царапалась в калитку и металась вдоль дувала. Наруз попытался заглянуть во двор, но дувал был намного выше его роста, а вырезанная в нем калитка не имела щелей.
Стучать вторично не пришлось.
– Хан! На место! – раздался звонкий женский голос, и собака умолкла.
«Хан… Надо же придумать, – возмутился Наруз Ахмед. – Издевка какая-то. Ну ничего, она дорого обойдется выдумщикам».
Щелкнула задвижка, и в проеме калитки показалась девушка. По груди и плечам ее вилось множество тоненьких косичек. Короткое светлое платье из легкой ткани, сшитое по-европейски, обрисовывало стройную фигуру девушки. Она была очень молода и на редкость хороша.
– Здесь живет Умар-ата? – спросил Наруз Ахмед.
– Да, это его дом, – последовал ответ.
– Я могу его видеть?
Девушка отрицательно покачала головой, внимательно всматриваясь в гостя: его лицо ей было незнакомо.
– Почему? – спросил с улыбкой гость.
– Отца нет, – ответила она.
– Жаль. А когда его можно застать?
– Не знаю. Он с добровольцами гоняется за басмачами. Вы знаете, что появились басмачи?
Наруз ответил, что слышал, но не придает значения этим обывательским слухам. Чего народ не болтает… Возможно, что это очередная базарная сплетня.
– Нет, это не сплетня, – возразила девушка. – Это правда. Три дня назад в нашей махалле[11] было собрание, и там говорили: басмачи напали на колхоз, убили несколько колхозников, захватили лошадей, продукты.
– Печально, если так, – проговорил Наруз и подумал: «Значит, отец уже действует». Он ждал, что девушка пригласит его в дом, но этого не случилось. – Очень жаль, что не застал вашего отца. Придется зайти еще раз…
Девушка молчала.
– До свидания…
– До свидания… – бросила девушка, и калитка захлопнулась.
План сорвался, пока проникнуть в дом чеканщика не удалось. В раздумье Наруз шел по улице, не зная, что предпринять. Вполне возможно, что заветный клинок где-то рядом и ждет… Стоит только войти в дом и взять его. Что может быть проще! И в то же время как сложно. А она красива… Слов нет – красива! А как стройна… И совсем юная. Ей самое большее – лет семнадцать. Она могла бы украсить ичкари[12] самого разборчивого мужчины… Пожалуй, и покойный эмир не отказался бы от такой наложницы. Хороша! Чертовски хороша…
Занятый этими мыслями, Наруз Ахмед не заметил, как дошел до дома Союза кооперативов. Он остановился, нерешительно взглянул на подъезд и потер лоб.
«Что ж, сегодня не удалось, но откладывать нельзя…» Поднимаясь по ступенькам на второй этаж, он твердо решил сегодня же обдумать, как лучше раздобыть клинок и, кстати, поразмыслить о будущем этой юной красавицы.
В коридоре Наруза Ахмеда окликнул заведующий инспекторской группой Алиев.
– Наруз-ака!
Наруз Ахмед обернулся и подошел с широкой улыбкой на лице.
Заведующий беседовал с каким-то русским толстяком. Речь шла о басмачах. Вытирая потное багровое лицо, толстяк перемывал косточки басмачам, отпускал крепкие словечки и ручался, что самое большее через месяц от них останется пыль.
«Это еще посмотрим, – отметил про себя Наруз Ахмед, с улыбкой глядя на лицо толстяка с расплывшимися чертами и согласно покачивая головой. – Не ты ли уж думаешь превратить их в пыль?»
– И какие же идиоты их вожаки! – продолжал горячо возмущаться толстяк. – Знаете, что они обещают? Восстановление трона эмира бухарского! Это, так сказать, их политический лозунг. До этого же надо додуматься… Неужели эти болваны всерьез считают, что дехкане только и мечтают, что об эмире… Ждут его не дождутся… Да они пылают к нему такой же нежной любовью, какой русские к Гришке Распутину! Ну, не идиоты? – Он безнадежно махнул рукой. – Ничему не научили их хозяева на той стороне. Какими были, такими и остались. Время не пошло им впрок. Ну, ладно… Будь здоров! Поплыву до председателя. Звони! – толстяк подал руку заведующему и вразвалку зашагал по коридору.
– Знаешь, кто это? – спросил заведующий.
– Нет.
– Бывший председатель кокандской чека. На его счету этих басмачей, пожалуй, не одна сотня наберется.
– А по виду… – начал было Наруз Ахмед.
– По виду не суди, – прервал его собеседник. – Я под его началом работал с двадцать второго по двадцать пятый. Многому у него научился. Хороший, народный человек, большой души. Умный и с хитринкой. Такого не проведешь! Ну, пойдем ко мне. Как съездилось, активист?
Они дошли до конца коридора и свернули в небольшую комнату с единственным окном, обращенным к югу. Сели. Заведующий за свой стол, а Наруз Ахмед по другую сторону, напротив.
Алиев стал перекладывать с места на место лежавшие на столе бумаги, переставил графин, выбросил из пепельницы в корзину для бумаг окурки, взял пиалу с недопитым остывшим чаем и отхлебнул глоток, потом достал из кармана пачку папирос «Пушки», и они закурили.
Поведение Алиева немного удивило Наруза Ахмеда. Он слыл деловым человеком и не любил разводить тары-бары. А сейчас… Сейчас он почему-то медлил, будто обдумывал, с чего начать разговор.
Удивленный Наруз счел нужным нарушить неприятное молчание.
– Товарищ Алиев, – начал он. – Вы помните акт, представленный мной на управляющего кашкадарьинской базой?
– Погоди! – прервал его вдруг Алиев и поднял указательный палец.
Наруз Ахмед, еще более удивленный, непонимающе смотрел на своего начальника.
Тот нахмурился, побарабанил пальцами по столу и спросил:
– Ты знаешь, кто привел басмаческую банду с той стороны?
У Наруза Ахмеда внутри все похолодело.
– Нет. Кто?
– Твой отец. Ахмедбек.
Наруз Ахмед почувствовал стеснение в горле. У него было такое ощущение, будто чья-то сильная рука душит его. Теперь конец. Конец…
Все погибло. Этот человек, вероятно, уже знает о том, что Наруз Ахмед виделся с отцом. Сейчас свяжут руки и поведут…
Алиев не разгадал его мыслей. Он понял его состояние по-своему.
Встав с места и обойдя вокруг стола, подошел к Нарузу Ахмеду, положил руку на плечо и проговорил:
– Знаю, что тебе тяжело. Да и любому на твоем месте было бы не легче. История, конечно, неприятная. Но ты не падай духом. Отец отцом, а сын сыном!
Алиев встал и прошелся по комнате. Наруз Ахмед облегченно вздохнул:
«Нет, еще не конец. Значит, о свидании с отцом никому не известно…»
– Мы знаем тебя, – заговорил вновь Алиев. – И верим. И потому что знаем, решили сказать тебе об этом. Не исключено, что отец попытается какими-нибудь путями войти с тобой в контакт. Жизнь есть жизнь. Ты его единственный сын… Поэтому смотри в оба и будь начеку! Я всегда к твоим услугам. – Он вновь умолк на минуту и, вздохнув, продолжал. – А сын мой еще три дня назад отправился на поиски басмачей с отрядом ОГПУ. Горячая голова… Отчаянный парень!
– А вы твердо уверены, что банду привел именно отец? – попытался уточнить Наруз Ахмед.
Алиев ответил:
– Я знаю, что говорю. Такими вещами не шутят.
4
Три всадника скакали по степи. Кое-где мелькали кусты цветущего саксаула, островками красовались распустившиеся тюльпаны. Под крепкими копытами коней шуршал песок.
На голове одного из всадников была выцветшая буденовка, на втором – тюбетейка, а у третьего – новенькая, ухарски заломленная фуражка защитного цвета.
Кони легко перемахнули через широкий безводный арык и на крупной рыси направились к кишлаку, спрятавшемуся между высокими песчаными барханами. Полузанесенный песком, полуразвалившийся, кишлак насчитывал не более трех десятков глиняных мазанок и выглядел вымершим. Но так лишь казалось. В мазанках, которые давно покинули жители, сейчас таился в засаде отряд особого назначения войск ОГПУ.
Из окна крайней мазанки на степь неустанно глядели два черных глаза. Они принадлежали ординарцу командира отряда.
– Товарищ командир! – позвал он лежавшего на полу у стены. – Наши едут.
Командир вскочил и быстро спросил:
– Четверо?
– Да нет, трое… Алиева нет…
Командир взглянул на ручные часы, оправил сползшую на сторону портупею и подошел к маленькому незастекленному окошку. Но он ничего не успел увидеть. В дверь один за другим вошли трое. Тот, что в буденовке, шагнул к командиру и, вяло козырнув, спросил:
– Разрешите докладывать?
Командир быстрым взглядом окинул всех троих: лица усталые, глаза ввалились, щеки обросли щетиной, одежда покрыта плотным слоем пыли.
– Садись сюда, Гребенников, – показал командир на разостланную кошму. – И вы садитесь, – пригласил он остальных. – Курите. Где застрял Алиев? Нашли?
Гребенников плотно сомкнул веки, и лицо его дрогнуло.
– Нашли, товарищ командир, и закопали в землю. Алиева больше нет.
– Так… – тихо уронил командир и хрустнул пальцами. – Рассказывай подробно, по порядку.
Гребенников провел рукавом гимнастерки по влажному лицу, размазал на нем пыль и стал рассказывать. Позавчера к вечеру без приключений, не встретив по пути ни единого человека, они добрались до пограничной заставы. Сразу узнали, что Алиев там не показывался. Никакого донесения застава не получила.
– Так… – заметил командир. – Значит, они его перехватили…
– Точно, перехватили, – подтвердил Гребенников и продолжал рассказ: – На заставе было спокойно. На той стороне – тишина. Утром того дня, когда мы прибыли на заставу, на той стороне границы появились два всадника. Они подъехали к самому берегу реки и долго смотрели в бинокль на советскую сторону. Потом уехали. Ночью на заставу прибыли два отряда, о которых писалось в записке, и сейчас же заняли отведенные им участки, замаскировались. Утром мы втроем с полувзводом пограничников выехали по направлению к горам, а в полдень наткнулись на следы басмачей. Следы привели в глухое ущелье, и там-то оказался Алиев, только мертвый и зверски изуродованный. Правда, огнестрельных ран на нем не обнаружено, но… вспорот живот и выпущены все внутренности… Вокруг – огромная лужа крови. Мы вынесли тело из ущелья и похоронили.
– Так… – сказал командир и скрипнул зубами. – Дальше…
– Банда, – вновь заговорил Гребенников, – видно, отдыхала в ущелье не одни сутки. Там много окурков, сожженных спичек, пустых банок из-под консервов, бараньи кости, пепел от костров. Похоронив Алиева, мы вместе с пограничниками пошли по свежему следу банды. Он вел нас километров пятнадцать, а когда мы выбрались на твердый грунт, пропал. Тут мы расстались с пограничниками. Они поскакали на северо-восток, а мы сюда. Взводный приказал передать вам вот это, – Гребенников протянул свернутый вчетверо листок бумаги.
Командир отряда развернул записку и прочел. Потом достал из полевой сумки карту-километровку, расстелил ее на полу и приказал ординарцу:
– Позови-ка товарища Максумова!
– Есть! – ответил ординарец и выбежал из хибарки.
Командир прилег на бок и стал внимательно изучать карту.
Прибывшие бойцы сидели в уголке на полу, жадно затягиваясь махоркой. Густой, пахучий дым слоистыми волокнами плавал по мазанке.
– Жарища страшенная, спасу нет, – пожаловался Гребенников. Но разговора никто не поддержал.
В мазанку в сопровождении ординарца вошел старый мастер Умар. Его пестрая тюбетейка поблескивала золотым шитьем. Ватный халат с широкими зелеными полосами по белому фону перепоясывал черный с серебром ремень длинной старинной шашки, покрытой замысловатой резьбой. Старику никак нельзя было дать больше пятидесяти лет. Годы его будто не старили; он мало изменился, разве только чуть-чуть раздобрел. Эта небольшая полнота сгладила на лице старые морщины.
Командир отряда оторвался от карты:
– Умар-ата? Плохо, брат, дело. Алиев погиб.
Максумов покачал головой:
– Ай-яй-яй… Какой был хороший, молодой!
– Да, парень был настоящий, – проговорил задумчиво командир. – Растерзали его басмачи… Ну ничего, попомнят они еще Алиева… Слышал ты про колодец под названием «Неиссякаемый»?
– Слышал, ака.
– Значит, есть такой?
– Есть. Но он не оправдал своего названия и давно иссяк.
– А на карте его нет.
– Зачем же вписывать в карту, если он без воды?
– Пожалуй, да, – согласился командир. – Далеко до него?
Чеканщик прищурил один глаз, прикинул в уме и ответил:
– Если сейчас тронуться, к заходу солнца можно добраться.
– Дорогу знаешь?
– Знаю.
– Вода на пути не попадется?
– Нет, ака. Воды в этих местах нет.
– К заходу солнца… – командир задумался. – Так, хорошо. Поднимайте народ. Пусть седлают.
5
Группа басмачей под водительством курбаши Ахмедбека, не соблюдая никакого строя, углублялась в знойные пески. В те пески, которые зовутся здесь летучими. Лишь только налетит сильный южный ветер, как снимаются пески с места и стремглав несутся вперед. И горе тому, кто попадется на их пути. Они хоронят под собой все живое.
Легконогие афганские скакуны, утомившиеся за долгий путь, шли вялой рысью.
Впереди на сером иноходце ритмично покачивался в седле Ахмедбек.
Мысленно он подводил итоги нескольким дням своего пребывания на советской земле. Первый налет на колхоз прошел удачно. Мало кто уцелел в кишлаке. А уцелевшие во веки веков не забудут Ахмедбека. Захвачено одиннадцать лошадей. Они нагружены мукой, солью, урюком. Это – общее. Но и на долю каждого джигита кое-что перепало. Обижаться нельзя. И второй налет прошел на славу. Плотина разрушена. Хлопковые поля залиты водой, и ни один кустик теперь уже не поднимется. Пусть знают… Пусть помнят… И оба налета обошлись без потерь. Ни единого убитого, ни единого раненого. А когда Ахмедбек соединится со второй группой своего отряда, тогда можно подумать о чем-нибудь более серьезном…
Быстро гасли звезды в небе. На востоке загоралась заря. Курбаши повернулся в седле и, взмахнув камчой, позвал к себе Узун-кулока.
– Как долго до Неиссякаемого? – спросил Ахмедбек.
– До восхода солнца успеем. В тугаях[13] надо бы сделать привал.
Ахмедбек кивнул. Привал нужен. Лошади устали.
Восток алел. Небо бледнело. Непомеркшие звезды робко мигали лишь на западе. Тугаи тянулись на большом пространстве широкой полосой, изогнутой по концам, и напоминали собой букву «С». Когда-то они окружали озеро, но оно давно испарилось. Сейчас дно его покрывал плотный белый, похожий на снег слой соли. На северной стороне густо рос камыш. И тугаи, и камыш в эту пору были в своем бурном расцвете и сочной зеленью ярко выделялись на фоне мертвых песков.
«Хорошее место, – подумал курбаши, окидывая взглядом заросли. – Надо запомнить его. Здесь можно укрываться днем».
Вдруг его иноходец насторожил уши и заржал. Заржал звонко, радостно, приветственно.
«С чего бы это? – насторожился Ахмедбек. – Или отдых чует?»
Он еще раз, более внимательно, оглядел изогнутую зеленую полосу и ничего подозрительного не заметил.
Басмачи въехали в чащу зарослей и, следуя движению руки курбаши, спешились. И тут внезапно с двух точек короткими очередями затакали и яростно забили, выплевывая горячие пули, станковые пулеметы. Это было так неестественно, так неожиданно, точно гора зашагала. На мгновение басмачи окаменели. И только когда упали на песок первые жертвы, раздались дикие вопли, крики «Алла-а-а!..». Банда рассыпалась. Одни залегли в песок и стали искать глазами невидимого врага, другие метнулись на коней, в седла. А пулеметы кинжальным огнем разили бандитов. Но вот они сразу умолкли. Послышались крики «ура!». С обоих концов буквы «С» выскочило по десятку конников в островерхих шапках.
Они сошлись на скаку, рассыпались, пригнулись к шеям лошадей и устрашающей лавиной устремились вперед.
Успевшие вскочить в седла басмачи сомкнулись плотной кучкой и рванулись навстречу бойцам отряда. Они инстинктивно поняли, что только этот ход может их спасти, что, зажатые в кольцо, образуемое аскерами и плотной, непролазной стеной колючего тугая, они несомненно погибнут.
Этой кучке удалось прорубиться сквозь скачущий строй. Но Ахмедбек не успел прорваться. Он, его помощник Саитбай и еще двое, прижатые к тугаям, яростно отбивались от насевших на них четырех конников. Четыре на четыре.
Узун-кулок упал на землю после первой же пулеметной очереди.
Правда, ни одна пуля его не коснулась и ни одной царапинки на нем не было. Но он счел за благо выйти из боя, предоставив своим сотоварищам самим отбиваться. Так, по крайней мере, можно если не спасти свою шкуру, то уж во всяком случае отдалить гибель. Он видел, как аскеры, повернув коней и выхватив клинки, бросились вслед удиравшим басмачам.
К аскерам присоединилось еще несколько всадников в одежде простых дехкан, вынырнувших точно из-под земли. Он видел, как валились с коней его друзья по банде и, перевернувшись через голову, оставались лежать на песке. Чуть приподняв над землей голову, он наблюдал, как четверо бойцов наседают на самого курбаши и его приближенных. Узун-кулок мог, конечно, подобрать валявшуюся рядом английскую винтовку с полным магазином и расстрелять патроны в спины этих четырех аскеров.
Расстрелять – и выручить Ахмедбека. Но Узун-кулок не сделал этого. Он уже понял, что исход схватки предрешен и что его подвиг не сможет изменить ход событий. Все ясно. Половина воинов Ахмедбека уже лежит тут, на просоленной земле, окруженной тугаями, оставшиеся не спасутся от острых сабель аскеров. Никому не уйти… Кони у аскеров свежие, а у басмачей уже притомились.
Узун-кулок понял, что занятая им «позиция», в сторонке от битвы на земле, сулит ему еще какие-то шансы на спасение.
Не замеченный никем, он пополз, как длинный червь, между мертвыми джигитами и лошадьми, с опаской поглядывая туда, где отчаянно рубились восемь человек. Он полз на животе, тянулся в камыши, как подбитая ящерица: то замирая и притворяясь убитым, то посылая коленями и локтями свое длинное тело на два-три сантиметра вперед. Когда до камышей осталось каких-нибудь два-три шага, Узун-кулок, охваченный нетерпением, приподнялся на четвереньки и прыгнул лягушкой. Прыгнул, растянулся и чуть не умер от страха: перед ним лежал и смотрел на него человек. И лишь когда он разглядел, что это Хаким – мирза их отряда, опередивший его в сообразительности, он пришел в себя и прошипел:
– Что смотришь? Ползи дальше… в тугаи…
– Пошел к чертовой мать, – послал его по-русски Хаким, которого трясло как в лихорадке. Зубы выбивали замысловатую чечетку.
– Ползи, ишак… Конями вытопчут здесь.
Это подействовало. Хаким затаил дыхание и пополз.
А четыре басмача все еще бились, но теперь уже против трех аскеров. Но вот Ахмедбек поднял на дыбы своего коня и, изловчившись, рубанул красноармейца по плечу. Тот закачался, выронил саблю и сполз с седла. Осталось двое. И если удастся уложить еще одного… Но тут свалился и басмач, разрубленный чуть не надвое сильным ударом рыжего чубатого бойца. Трое против двоих. Этот чубатый, как дьявол, мечется из стороны в сторону. У него послушный и верткий, сухой и жилистый конь. Если бы не чубатый, можно было бы вырваться, но от такого коня не уйдешь.
Справа от курбаши бился басмач, слева – его помощник Саитбай. Их кони упирались задами в стену зарослей и дико храпели. Но вот Саитбай вырывается вперед. Его конь налетает грудью на круп коня противника, и конь падает на передние ноги. В тот же миг вылетает из седла и седок.
Конец клинка Саитбая задевает кисть руки бойца, и тот роняет клинок.
Победа! Остался один! Рыжий, чубатый. Хоть он и ловок, но что сделает один против троих? Но что это? Верный Саитбай, в руке которого курбаши видел свою лучшую защиту, удирает.
– Саитбай! Назад! Будь ты проклят! – яростно кричит Ахмедбек, сверкая глазами.
Но Саитбай не внемлет его призывам. Он спасает себя.
Теперь их осталось двое – Ахмедбек и его последний воин. Они пытаются сразить чубатого, но это не так просто. Боец зверски орудует саблей, вертится как волчок, и к нему не подступиться. Значит, надо перехитрить, обмануть, заманить, но срубить во что бы то ни стало, иначе не вырваться в степь.
– Бросай клинки! Сдавайся, а не то обоих порублю в капусту! – кричит вдруг чубатый.
Ахмедбек скрипит зубами, и желваки твердыми орешками ходят под его темными скулами.
– Заходи сзади! – приказывает он басмачу.
Тот выполняет команду своего повелителя. Конь его в несколько прыжков вырывается в сторону. Но чубатый проделывает почти такой же маневр. Теперь курбаши надо оторваться от стены тугаев и броситься на врага сзади. Но этому маневру помешали. Ахмедбек увидел несущегося к месту схватки всадника. Старый халат его развевался, голова была открыта, клинок в поднятой руке так мелькал и вертелся, что казалось – над головой крутится сверкающее колесо. Всадник с ходу налетел на убегавшего Саитбая, и клинок блеснул над его спиной.
«Перехватить этого… перехватить… Не дать ему соединиться с чубатым», – решает Ахмедбек и зло посылает коня вперед.
Два скачущих идут на сближение, но Ахмедбек мгновенно меняет решение. Лучше не здесь… Лучше завлечь этого выскочившего узбека в пески и там помериться с ним силами.
Ахмедбек клонит повод вправо, и послушный его руке иноходец несется вперед.
– Куда, Ахмедбек? Куда, старая собака? Нет, я тебя не выпущу. Твоим клинком зарублю!
«Мастер Умар… Да, Умар Максумов. И мой клинок! – мелькнуло в голове курбаши. – Надо заманить проклятого Умара. Заманить подальше в пески. Иноходец выручит…» А там… там уж Ахмедбек рассчитается с этим нищим шайтаном. И клинок, желанный клинок, пропадавший одиннадцать лет, вновь вернется в руки хозяина.
Ахмедбек опускает камчу на потные бока иноходца. Коня будто подбрасывает. Он срывается в карьер и выносит всадника из зеленой западни. Но что это? Впереди маячат конники. Это аскеры возвращаются из песков. Один… два… три… О! Их много. Нет, сюда нельзя.
Ахмедбек вздыбливает коня, поворачивает направо, и конь стелется над землей вдоль зарослей тугаев.
Но Ахмедбек переоценил силы своего иноходца. В горячке смертельной схватки он не заметил, что конь его напрягает последние силы.
Проскакав несколько минут вдоль зеленой стены зарослей, Ахмедбек хотел было уже свернуть в пески, где царило спасительное безлюдье, как слева от него послышался натужный лошадиный храп. Курбаши чуть повернулся, скосив глаз, и на какую-то долю мгновения увидел над собой сверкающую полоску змеевидного клинка и блеснувшие рубиновые глаза желтого дракона.
Раздался свист, и голова Ахмедбека полетела в песок, покатилась и уткнулась в тугаи. А серый иноходец сразу перешел на спокойную рысь, унося на спине безглавое тело своего хозяина.
Чеканщик Умар с ходу промчался мимо, круто развернулся и поехал назад. К нему подскакали командир отряда с ординарцем.
– Здорово вы его, товарищ Максумов! – восторженно воскликнул ординарец.
– Можно поучиться у вас рубке, Умар-ата, – с уважением произнес командир.
Умар вытер клинок о круп своей лошади и вложил его в ножны.
– А вы знаете, кто это? – спросил он.
Командир усмехнулся:
– Кто его знает… Не представлялся мне… Зверюга, басмач…
– Все они, бандюги, на один лад, – добавил ординарец. – Рубать их надо, не спрашивая фамилии.
Умар покачал головой:
– Да нет, не все… Это Ахмедбек…
– Курбаши?! – воскликнул командир.
– Курбаши?.. – недоверчиво повторил ординарец.
– Да, он, – подтвердил Умар. – Уж я-то знаю эмирскую собаку. И рассчитался с ним его же клинком… Этот клинок подарил беку эмир бухарский… Не гадал, видно, курбаши, что так обернется для него подарочек…
– Что ж… по заслугам, – проговорил командир.
– Собаке собачья смерть, – поставил точку ординарец.
Всадники медленно отъехали.
6
Быстро катилось вниз злое солнце пустыни. На западной окраине неба полыхал багровый пожар. Мертвая зыбь песков простиралась вокруг, и, казалось, не было ей ни конца ни края.
Вторые сутки брели по безлюдью сквозь прохладу короткой ночи и зной долгого дня Узун-кулок и Хаким.
Впереди виднелись неясные очертания того кишлака, где недавно провел дневку отряд особого назначения.
Жажда и голод – самые страшные враги в пустыне – не пугали путников. Они отправились в свой нелегкий путь не с пустыми руками.
Выждав, когда аскеры, забрав своих раненых и убитых, лошадей и разбросанное оружие, покинули поле боя, Узун-кулок и Хаким вышли из укрытия.
Они долго всматривались, вслушивались и, убедившись окончательно, что никакая опасность им не угрожает, стали пробираться в заросли.
При виде людей стервятники всполошились и с недовольным клекотом прервали начатую трапезу. Но они не улетали, а кружились в воздухе, будто знали, что этим двум живым нечего задерживаться среди мертвых.
Узун-кулок и Хаким не на шутку перепугались, когда чуть не из-под их ног с визгом выпрыгнул и умчался шакал. У него была золотисто-серая шерсть и небольшие, широко расставленные уши.
– Падаль, – пробурчал Узун-кулок, стараясь вернуть утраченную храбрость.
Выйдя на место битвы, они остановились, окинули взором распростертые на песке трупы басмачей, и Узун-кулок изрек:
– Души правоверных воинов уже на небесах. Им теперь ничего не нужно. О них позаботится всемогущий. Ты поищи что-либо из еды, а я пороюсь у них в карманах.
Мертвых Узун-кулок не боялся. Сказывалась профессия: в течение семи лет он усердно нес службу палача при хивинском хане и набил руку основательно. Удалить язык у подкандального, выпустить ему кровь через вены, отрезать нос или уши, снять кожу со спины или отпилить голову – для него было сущей безделицей. Хивинский хан любил даже похвастаться своим палачом и, поцокивая языком, говорил приближенным: «Золотые руки».
Узун-кулок ощупал убитых, собрал несколько серебряных табакерок, пузыречки с насом[14], тюбетейки, пачки сигарет, серьги, кольца и браслеты, награбленные его собратьями в домах колхозников. Подумал и стянул с убитого Саитбая лакированные сапоги.
Хаким в это время промышлял по части еды, хотя и не так смело, как Узун-кулок. Красноармейцы угнали лошадей, нагруженных провизией, и Хакиму удалось собрать лишь несколько лепешек, горсти четыре урюка и два куска вяленого бараньего мяса. Самой удачной находкой оказался бурдюк, наполовину наполненный водой. Хаким вытащил его из-под убитой лошади.
Когда путники достигли брошенного кишлака, солнце уже опустилось за горизонт.
Они сделали привал, подкрепились из своих запасов и тут же заспорили. Хаким считал нужным сейчас же отправиться в путь, пользуясь прохладой. До ближайшего селения оставалось идти еще двое суток. Он доказывал, что надо беречь время, да и запасы еды очень скудны.
Узун-кулок возражал и требовал ночевки: сапоги покойного Саитбая оказались немного узковатыми, они жали в ступне и натрудили ноги.
Тогда Хаким заявил, что пойдет один. Он взял свою котомку, перекинул через плечо и зашагал по песчаной тропе.
– Подожди! Ты очень несговорчивый человек. Только мне надо разуться, – сдался Узун-кулок. – Пойду босым. – И он начал стаскивать сапоги.
Хаким терпеливо ожидал приятеля.
Через несколько минут они покинули кишлак.
Небо постепенно теряло свои краски, сгущалось, как бы поднималось выше, но звезд еще не было.
Узун-кулок шел первым. Они пересекали кладбище, лежавшее на дороге. Под ногами рушились глиняные холмики могил, поросшие колючкой.
И вдруг Узун-кулок сделал такой невероятный прыжок и так закричал, что Хаким замер на месте и затрясся от страха. От могилы, на которую только что ступил Узун-кулок, быстро отползала метровая змея толщиной в руку, светло-серой окраски, с темными пятнами на спине и боках.
– Гюрза… – в ужасе прошептал Хаким, следя широко открытыми глазами за гадиной. Она, извиваясь и шипя, стремилась к расщелине в могиле и через мгновение скрылась в ней. – Гюрза, – повторил Хаким.
Узун-кулок продолжал пронзительно кричать. Вначале он прыгал на одной ноге, ухватившись рукой за другую, затем стал кататься по земле, корчась от боли.
– Горит… горит!.. Ай-яй-яй!.. – кричал он.
«Гюрза – это верная смерть», – подумал Хаким.
Как человек самый грамотный в отряде, когда-то бывший прислужником в мечети, затем долгое время писарем курбаши, он кое-что прочитал за свою пятидесятилетнюю жизнь и знал, что после укуса гюрзы – этой самой страшной из змей Азии – человека можно спасти. Но для этого нужно многое. Прежде всего следует высосать кровь из ранки, затем перетянуть жгутом место повыше укуса, чтобы заражение не распространялось, потом вспрыснуть какую-то сыворотку и, наконец, напоить больного крепким горячим чаем.
Но где же взять сыворотку и чай? Да и стоит ли вообще предпринимать что-либо для спасения Узун-кулока? Заслуживает ли этот живодер того, чтобы ради него рисковать собственной жизнью? Нет, не заслуживает. Он очень плохой человек. Его боялись и ненавидели все добрые мусульмане. В Хиве им даже пугали детей. Не моргнув глазом, он мог бросить человека в костер, снять с человека кожу. Кличку Длинное ухо он тоже получил не напрасно. Он разнюхивал и выведывал, натравливал курбаши на джигитов, сплетничал. Он был мастер клеветы и мог запутать в сетях ложных наветов совершенно невинного человека. Его мог терпеть и держать около себя только Ахмедбек. А помощник бека – Саитбай, хотя и сам живодер из живодеров, Узун-кулока не выносил. За что же спасать его? Кому нужен он? Уж не лучше ли предоставить аллаху распорядиться его судьбой в этот злосчастный час? Да, так, пожалуй, будет лучше.
Хаким подошел к Узун-кулоку и опустился возле него на корточки.
Узун-кулок сидел на земле, обхватив руками ногу, и, покачиваясь взад и вперед, стонал. Чуть повыше лодыжки на правой ноге его виднелась маленькая, едва приметная ранка. Нога успела уже распухнуть и посинеть.
– Больно? – сочувственно осведомился Хаким.
– Ты… Ты виноват… Ты настаивал на том, чтобы идти… Из-за тебя… О-о-о!.. Пропал… пропал я… – прокричал Узун-кулок и на всякий случай подвинул к себе мешок с добром. – Ты что сидишь сложа руки?.. Спасай меня!.. Какой ты друг? Соси кровь из раны! Слышишь? Соси!
– Поздно! – ответил ему Хаким. – Уже поздно. Теперь надо отрезать ногу, – и он вытащил из-под халата длинный нож.
– Нет, нет! – закричал Узун-кулок. – Не надо резать. Нога мне нужна… Что я буду делать без ноги?
– Твое дело, – невозмутимо произнес Хаким. – Я говорю правильно. Лучше жить с одной ногой, чем совсем не жить. Моему деду отрезали ногу, когда ему было тридцать лет. Он рассек ступню кетменем и получил заражение крови. С одной ногой он прожил сто девять лет и пережил шестерых жен. Он имел четырнадцать сыновей, трех дочерей, восемьдесят девять внуков и двадцать три правнука. Один из внуков – я. Понял?
– Ты змей! Ты хуже гюрзы! Ты издеваешься надо мной. Аллах накажет тебя! – прокричал Узун-кулок, и на лице его выступил обильный пот.
– Я и не думал смеяться, – возразил Хаким. – Тебе это кажется. Если хочешь жить, давай я отрежу тебе ногу. Не всю. Всю не надо. Вот так, чуть повыше коленки. Смотри, какой у меня острый нож, – он провел лезвием по своему ногтю, и на ногте осталась белая полоска. – Этим ножом я всегда брил бороду Саитбаю. Ты же знаешь. А борода у Саитбая жесткая и крепкая, как проволока. Я быстро все сделаю. Закуси себе палец, закрой глаза, а я буду резать.
Узун-кулок перестал качаться, дыхание его стало тяжелым, прерывистым. Передохнув немного, он уставился глазами в одну точку, страшно заскрежетал зубами и решительно бросил:
– Режь! Мне все равно. Мне холодно. Сердце останавливается.
Но стоило только Хакиму прикоснуться рукой к его ноге, чтобы поднять повыше штанину, как Узун-кулок изловчился и здоровой ногой так пнул его в грудь, что Хаким отлетел шагов на десять.
– Вот тебе, шакал! – прохрипел Узун-кулок. – Ты жаждешь моей смерти?
Хаким поднялся, отряхнулся от пыли и без всякой обиды в голосе сказал:
– Я знал, что ты не согласишься. Ты трус. Ты был мастер другим отрезать ноги, руки, головы, копаться в их внутренностях. А когда дело коснулось тебя, ты оказался бабой. Жалкой старой бабой. Ну и подыхай! Я еще не встречал человека, который бы выжил после укуса гюрзы.
Глаза Узун-кулока готовы были вылезти из орбит. Из плотно сжатого рта тоненькой змеистой струйкой сочилась кровь. Его начало тошнить. Он попытался подняться, встал было на ноги, но тут же всхлипнул, рухнул на землю и, взглянув на Хакима отсутствующим мутным взглядом, стал бормотать что-то совсем непонятное.
«Бредит или притворяется? – спрашивал самого себя Хаким, вслушиваясь в отрывочные слова и фразы и пытаясь уловить в них какой-нибудь смысл. – Наверное, бредит».
Он приблизился к Узун-кулоку и взял его руку повыше кисти. Нет, жара никакого. Наоборот, рука холодна, так и должно быть. Хаким приложил руку ко лбу. Он был также холоден и влажен. Самые верные признаки укуса гюрзы.
Но вот Узун-кулок пришел в себя. Он сел. Неясное бормотание прекратилось.
– Дай нож! – крикнул он.
Хаким нерешительно смотрел на него.
– Слышишь? Дай нож! – требовал Узун-кулок. – Я сам отрежу себе ногу. Это моя нога.
Хаким пожал плечами, достал нож, но, зная коварство Узун-кулока, попятился назад и бросил нож на песок.
Узун-кулок быстро схватил нож за рукоятку, взмахнул рукой и метнул его в Хакима. Бросок был силен, но не точен. Хаким даже не двинулся с места и не уклонился. Нож пролетел мимо.
Хаким поднял его, спрятал и с усмешкой сказал:
– Бешеная собака, тебе, видно, скучно одному отправляться на тот свет, хочешь прихватить меня? Нет, я еще поживу. Не знаю, долго ли, но поживу. А ты ступай! Там тебя встретят твои жертвы.
Он отошел в сторонку, сел, подобрал под себя ноги и стал наблюдать.
Узун-кулок все чаще и чаще терял сознание, обмороки чередовались с кровотечением из горла.
Глубокой ночью, когда в песках лаяли и плакали на все голоса шакалы, Узун-кулок покинул грешную землю.
Хаким постоял немного возле, отыскивая доброе слово, приличествующее этому печальному случаю, но так и не нашел ничего подходящего.
– Живодером был покойник, – вздохнув, решил он окончательно.
Захватив мешки с едой, свой и Узун-кулока, Хаким зашагал на восход солнца и через сутки с небольшим вышел на хорошо накатанную дорогу.
Внешний вид Хакима был весьма печален. Вылинявшая и грязная чалма его походила на тряпку. Из разодранного халата клочьями вылезала вата. Сапоги из красной кожи обтрепались.
В разгар дня, когда солнце достигло зенита и кругом стояло пекло, Хаким заметил вдали двух скачущих всадников. Но никаких опасений в душе Хакима это событие не вызвало. За минувшие сутки он смог преодолеть в себе тот внутренний разлад, который мучил его несколько лет кряду. Душевную пустоту теперь сменило твердое окончательное решение. Это решение Хаким начал претворять в жизнь с той минуты, когда в тугаях над басмачами запели первые пули особоотрядцев. Теперь это решение окрепло. Хаким шел в Бухару.
У него там жена, два сына, дочь, маленький сад. Возможно, что есть уже внуки. Может быть, советская власть простит ему прегрешения? Ведь он за свою жизнь никого не убил. Он много видел, много слышал, много писал, но это еще не так страшно. Советская власть многих помиловала…
Когда всадники приблизились на расстояние, с которого можно было разглядеть их лица, Хаким остановился и застыл на дороге. Что угодно, но такой встречи он не ожидал. К нему скакали Бахрам и сын Ахмедбека.
– Хаким-ака! – удивленно воскликнул Бахрам. – Ты как сюда попал?
Всадники подъехали и остановились.
– Салям алейкум! – проговорил вместо ответа Хаким и начал мять свою куцую рыжеватую бороденку. Он еще не сообразил, как надо отвечать, как поведать этим двоим обо всем случившемся.
Ему помог в этом Бахрам.
– Где отряд? – быстро спросил он, приковав к Хакиму внимательный и пристальный взгляд.
– Отряда нет, Бахрам-ака… Беда, большая беда…
– Как? – откинулся в седле Бахрам.
– Отряда нет, – повторил Хаким. – Отряд попал в засаду, и все полегли… Уцелели только двое: я и Узун-кулок.
Всадники глядели на него с оторопелым видом.
– А Ахмедбек где? – крикнул после паузы Наруз Ахмед.
– О! Ахмед теперь в раю, среди гурий. Ему срубил голову старый Умар Максумов. Тот самый Умар, который когда-то в Бухаре был известен как знатный резчик, а потом сидел в эмирском клоповнике.
Наруз Ахмед сжал губы, чтобы стоном не выдать своего состояния.
– Когда это случилось? – спросил Бахрам.
– Трое суток назад, на рассвете, в тугаях, недалеко от колодца Неиссякаемого.
Наруз Ахмед молчал, и глаза его были страшны.
– А где же Узун-кулок? – спохватился Бахрам.
– Он тоже взят аллахом на небо, только двумя сутками позже. По дороге он наступил на гюрзу, и она принесла ему смерть.
Наруз Ахмед молчал. Он тешил себя надеждой, что этот оборванец не знает его…
– Куда ты бредешь? – строго спросил Бахрам.
Хаким замялся, озираясь по сторонам.
– В Бухару.
– Зачем?
– Видишь ли, Бахрам-ака… Отряда нет, коня нет… Аллах отвернулся от нас. Быть может, ему неугодны наши дела? Кто знает?
Сказав это, Хаким испугался и с опаской взглянул на руку Бахрама, лежавшую на эфесе шашки. Но рука оставалась спокойной.
Хаким нерешительно продолжал:
– В Бухаре мой дом… Давно там не был… Все по пескам и по чужбинам таскаюсь. Уже стар я, чуть-чуть передохну, отдышусь. Может, нового коня достану…
Наруз Ахмед не мог больше вынести болтовни этого оборванца: он приподнялся на стременах, взмахнул камчой, готовый опустить ее на голову Хакима, но его руку перехватил Бахрам.
– Не стоит. Не горячись! – сказал он. – Он нам еще пригодится. Ступай… Хаким!
Глаза Наруза Ахмеда гневно блеснули.
Всадники с места подняли коней в галоп и вскоре превратились в маленькие точки. Потом они вовсе исчезли в раскаленном, дрожащем мареве.
Пораженный и озадаченный великодушием Бахрама, верного телохранителя Ахмедбека, Хаким помял свою бороду, покачал головой и отправился своей дорогой.
– Кажется, – проговорил он вслух, – я отделался очень дешево.
7
К столетнему карагачу с пышной, раскидистой, точно шатер, кроной подъехали и остановились двое всадников. Они были в милицейской форме, при пистолетах, со шпорами на ногах.
Один из них легко спрыгнул с коня, отдал повод другому и коротко бросил:
– Пойду. Жди здесь!
– Да будет легок твой путь, – вполголоса проговорил оставшийся.
В кишлаке давно ютилась ночь. Высокое небо было густо усыпано звездами. С гор тянуло прохладным, освежающим ветерком.
Позванивая шпорами, человек миновал несколько домов и зашел в первую попавшуюся открытую калитку.
Во дворе стояла такая же тишина, как и на улице. Человек постоял несколько минут в нерешительности, выжидая, что вот-вот на него набросится с лаем собака, но этого не случилось. Он обогнул угол дома, юркнул в настежь открытую дверь и, остановившись перед второй, запертой, постучал.
– Кто там? – раздался женский голос.
– Милиция. Откройте!
За дверью послышался шорох, шепот, глухие шаги, и наконец дверь скрипнула. Показалась пожилая заспанная женщина с лампой в руке. Она уступила было дорогу гостю, но тот предупредил:
– Заходить не буду. Некогда. Как в кишлаке?
– Что как? – с недоумением переспросила женщина и, приподняв лампу до уровня головы, всмотрелась в незнакомое лицо.
– Тихо, спокойно?
– Да… да… А что?
– Ничего. Басмачи не заглядывали?
– Что вы… что вы… Аллах милует… Да и чего они сюда заглядывать будут. Мы ведь у города под боком. По дороге все время машины бегают.
– И не слышно о них ничего?
– Говорят разное, а где правда, трудно разобрать…
– Это хорошо, что не заглядывают, а заглянут – жалеть после будут. А где остановился обоз с ранеными аскерами?
– У нас.
– Я знаю, что у вас. Я спрашиваю, где? Ночью тут ноги сломать можно.
– А вы идите по этой же улице и как увидите арбы, вот там и раненые. Их уложили в алухане.
– Рахмат, спасибо! Попробую найти, – и человек ушел.
Он вновь побрел по пыли, и только тонкий перезвон его шпор нарушал плотную ночную тишину.
Дойдя до середины кишлака, он увидел арбы с поднятыми оглоблями, стоявшие вдоль дувала.
Человек зашел во двор.
В алухане – доме, где мужчины кишлака коротают за мирными беседами долгие зимние сумерки, сейчас расположили раненых особоотрядцев. Их было одиннадцать человек. Они лежали на коврах, одеялах, подушках, принесенных окрестными жителями.
До кишлака раненых сопровождали четыре вооруженных бойца. Не исключалась возможность встречи с басмачами. Теперь, когда эта угроза миновала, сопровождавшие вернулись в отряд и с ранеными остался один Умар Максумов, тоже легко раненный в левое предплечье.
Человек вошел в дом, приоткрыл дверь и заглянул в просторную комнату, освещенную керосиновой лампой.
Раненые стонали, охали, разговаривали во сне и поругивались.
Молодой узбек с забинтованной головой сидел, привалившись к стене спиной, и курил. Он уставился на человека черными глазами и молчал.
– Салям! – коротко приветствовал его вошедший.
– Салям! – вяло и равнодушно ответил раненый.
– Где начальник?
– Рядом в комнате.
– Рахмат! – и дверь закрылась.
Человек оказался в темных сенях. Он чиркнул спичкой и осмотрелся. Перед ним была узкая резная дверь, ведущая в соседнее помещение. Он погасил спичку и бесшумно потянул дверь на себя.
В малюсенькой комнатушке с голыми, обшарпанными стенами стояла тишина. На окне коптил чирог – самодельный светильник. У стены на разостланной кошме, широко раскинув руки, спал чеканщик Умар Максумов.
Он спал впервые за восемь дней: то некогда было поспать, а то побаливала рана. Его широкая волосатая грудь, выпирающая из-под розовой сорочки, мерно вздымалась и опускалась.
Возле него на полу лежали кавалерийский карабин и клинок в ножнах. Ножны, казалось, чуть излучали золотистое сияние, по их полотну струился голубой бирюзовый ручеек.
Вошедший постоял несколько секунд не двигаясь, всматриваясь в саблю. Затем, тихо ступая, приблизился и, не производя никакого шума, поднял клинок и надел на себя. Костяной дракон эфеса блеснул рубиновым огоньком, Медуза горгона с перекрестья взглянула пустым взглядом в глаза пришельца. Он наклонился и поднял карабин.
Человек постоял короткое мгновение, сдерживая дыхание и не сводя глаз с Максумова. Потом вытащил из-за голенища нож с толстой рукояткой и длинным лезвием и взмахнул им.
Убийца мгновенно обеими руками зажал рот своей жертве, чтобы та, не дай бог, не вскрикнула. Но этого и не требовалось. Умар даже не застонал. Он лишь вздрогнул всем телом и замер.
Человек стер пот со лба и дунул на чирог. Огонек погас.
…Кишлак по-прежнему спал, залитый тишиной и мраком. Человек шагал по улице спокойно, а сердце его скакало галопом.
Это был Наруз Ахмед. Пять суток он и Бахрам, переодетые в милицейскую форму, носились по кишлакам в поисках особого отряда ОГПУ, в составе которого был Умар Максумов, но напасть на след отряда им так и не удалось. И вот сегодня в сумерках на дороге, обгоняя обоз с ранеными, Наруз Ахмед и Бахрам совершенно случайно услышали имя резчика. Кто-то из раненых на задней арбе дважды назвал его.
Этого было достаточно. Наруз Ахмед и Бахрам ускакали прочь.
Недалеко от кишлака они засели в кустах у арыка и стали выжидать обоз. Когда он показался, у них мелькнула мысль сейчас же совершить нападение. Но вид четырех бойцов с винтовками на изготовку, сопровождавших обоз, несколько охладил их пыл. Нет, лучше подождать. И они дождались ночи…
Теперь дело было совершено.
Выбравшись на край кишлака, Наруз Ахмед уже не мог сдерживать себя и побежал к карагачу.
– Ну? – наклонившись в седле, приглушенно спросил Бахрам.
– Готово…
– Хоп!
– Проклятый Умар заснул навсегда. И сон его будет так же крепок, как сон отца.
Он вдел ногу в стремя, взялся за луку и вскочил в седло.
– Так… – протянул Бахрам. – А клинок?
– Вот! – и Наруз Ахмед похлопал рукой по ножнам.
Бахрам шумно вздохнул и спросил:
– Куда?
– В Бухару. Там нас ждет садовник.
Они тронули коней и скрылись в ночи.
8
– Ну, а потом? – спросила Анзират, опираясь на руку Саттара и стараясь заглянуть ему в лицо.
Задумавшийся Саттар будто очнулся и торопливо сказал:
– Потом мы поедем в Ташкент… Учиться.
– И я?
– Что? О чем ты? Ну, конечно. Вместе, вместе поедем и учиться будем…
Анзират покачала головой:
– Нет, ты думаешь не об этом, а о чем-то другом.
Саттар попробовал рассмеяться, но у него это не получилось.
– Чудачка ты…
– Вовсе не чудачка, – возразила Анзират. – Ты сегодня какой-то странный, не такой, как всегда.
– Странный? Нет, почему же… Я такой, как обычно.
– Ой нет! Я сразу заметила, как только ты вошел в дом. И тетушка Саодат заметила. Она шепнула мне на ухо: «У Саттара какие-то неприятности. Разузнай!»
Саттар промолчал.
Они шли по улице, затянутой вечерним сумраком. Издалека слышались голоса – это молодежь собиралась в комсомольский клуб. Анзират без охоты шла сегодня на спектакль; ей так редко удавалось видеться с Саттаром. Вот и сейчас он занят, думает о чем-то постороннем, и Анзират должна весь вечер быть одна…
Саттар смущенно молчал и печально поглядывал на девушку. Анзират спрашивает, почему он невеселый, странный. Если бы она знала, какое несчастье обрушилось на них. Страшное несчастье… Сегодня под вечер, всего час-полтора назад, в городскую больницу вместе с ранеными бойцами особого отряда привезли ее мертвого отца – Умара Максумова.
Знал Саттар и о том, что смерть свою старый мастер нашел не в открытой схватке с врагом, а от чьей-то предательской руки.
У Анзират нет больше отца… А отец у нее был замечательный. Много отыщется в Бухаре людей, которые пойдут проводить его в последний путь. Очень много. Много найдется людей, в судьбу которых вмешался Умар. Как его может забыть отец убитого доброотрядца Алиева, которого Умар спас от расправы белоказаков? А Расулев? Тот Расулев, что работает сейчас директором школы. А тогда, в двадцать первом, он умирал от тифа и голода. И спас его Умар. Спас не только его, но и его сестру и мать. Он выходил, выкормил их. А Шарипов, Ниязов, Фатхулин, Садыков – его ученики, которым он передал свое тонкое искусство! Да разве всех перечтешь? Одного старый чеканщик спас от смерти, другому еще в эмирские времена помог бежать от страшного клоповника, третьему, одурманенному и запуганному, открыл глаза, и тот ушел из басмаческой банды и привел с собой товарищей. И все они теперь честные люди и хорошо живут. Четвертому помог жениться. А сам Саттар? В двадцатом году Умар взял Саттара, круглого сироту, к себе, воспитал его, обучил ремеслу. А теперь Умара нет… Но как сказать об этом Анзират?
А сказать надо. Смерть, о которой знает уже целый кишлак и добрая сотня людей в городе, не могла долго оставаться тайной. Но сказать ей сейчас правду – нет, это было выше его сил.
Анзират, шедшая рядом, что-то чувствовала, видела, что ее верному Саттару не по себе.
– Почему ты молчишь? – сжимая его кисть горячими руками, спросила она.
– Думаю, – ответил Саттар первое, что пришло в голову.
– О чем?
– Да все о том же… Как мы поедем в Ташкент… А потом, быть может, в Москву… Ведь когда-нибудь надо побывать в ней, – солгал Саттар, и от этого на душе стало еще горше.
Анзират сердцем чуяла ложь.
– Ты говоришь неправду, – тихо сказала она и опустила голову. – Ты обманываешь меня. Ты хочешь, чтобы я обиделась и никуда не пошла?
– Нет… Не надо… Я все расскажу тебе, но потом…
– Когда?
– Когда буду провожать домой.
– Я хочу, чтобы ты сказал сейчас. Если ты любишь Анзират, ты должен сказать сейчас…
– Нет… Не сейчас… Это долго, и… мне надо спешить. Ты же знаешь, что я отпросился всего на час… Я приду к концу спектакля, провожу тебя домой и тогда все-все расскажу. Честное слово.
– Комсомольское?
– Комсомольское!
– Может, я провинилась перед тобой?
– Что ты… что ты!.. Никто здесь не провинился… Тут совсем особенное. Я даже не знаю, кто виноват.
– Возможно, отец?
– Что отец? – едва не вздрогнул Саттар и почувствовал стеснение в груди.
– Может быть, он виноват?
– Он и подавно ни при чем, – с тоской выговорил Саттар.
– Эй! Саттар, Анзират! Идите сюда! – раздался чей-то веселый голос. – Скоро начинаем…
У входа в клуб толпились девушки и юноши. Кругом раздавались громкие голоса, веселый смех, шутки.
– Иди, – подтолкнул Саттар любимую. – Я приду минут за десять до конца и буду ждать тебя здесь.
– Ну, смотри! – погрозила пальцем Анзират. – Ты дал слово.
– Да, да, да…
Девушка побежала, оглянулась на полпути, несколько раз махнула рукой и затерялась в бурлящей толпе молодежи.
Саттар повернулся и, взволнованный, быстро зашагал в ту сторону, где находились казармы дивизиона…
Сдержу слово… Легко сказать! А как она воспримет эту страшную весть? Если он, мужчина, узнав о смерти Умара, забившись в манеж, плакал навзрыд, то как же она?
Бедная Анзират! Бедная тетушка Саодат! Не ведают они, какое обрушилось на них горе.
Саттар шел, не видя встречных, поглощенный своими мыслями.
Недалеко от расположения части его вывели из раздумья хорошо знакомые призывные и беспокойные звуки – дивизионный горнист трубил тревогу:
«Там… там… та-та, та-ты, там…»
Саттар подхватил левой рукой клинок и бросился к казармам.
У распахнутых ворот он врезался в бурный встречный людской поток: поправляя на ходу шлемы, застегивая гимнастерки, подтягивая поясные ремни, к конюшням бежали бойцы и коноводы.
«Там… та-там… та-ты, та-ты-там», – звенела труба.
Через несколько минут, когда дивизион был выстроен на плацу, командир части сказал собравшимся командирам и политработникам:
– Полчаса назад на кишлак Чучман налетела басмаческая банда. Убиты председатель кишлачного совета и колхоза, секретарь партячейки, двадцать шесть колхозников, инженер и техник водхоза. Сообщение передано по телефону. В банде насчитывается около полусотни всадников.
Можно предположить, что основное ядро банды составляет группа, приведенная с той стороны Ахмедбеком… Наш план таков…
Еще через несколько минут в три стороны, звонко цокая подковами о булыжную мостовую, мчались навстречу степной темноте красные конники.
Среди них был и помощник командира взвода Саттар Халилов.
9
Спектакль затянулся допоздна.
В половине первого двери клуба с шумом распахнулись, возбужденные зрители с мокрыми спинами и лицами, обмениваясь впечатлениями, вывалили на улицу, в ароматную ночную прохладу, и быстро рассеялись по темным улицам и переулкам.
Анзират подошла к месту, где ее должен был поджидать Саттар.
Странно, его не было… Она прошлась вдоль фасада клуба, повернула обратно. Саттар не появлялся. В чем же дело? С ним никогда не случалось подобного. Быть может, его задержали в казарме?
Анзират теребила косички и прислушивалась, ловила ухом шорохи и звуки: может быть, раздадутся знакомые шаги…
Над городом плыла темная и теплая ночь. В садах самозабвенно и упоительно заливались на все лады соловьи. В воздухе мелькали летучие мыши. В арыках тихо журчали холодные потоки чистой горной воды.
Анзират подошла к арыку, присела, зачерпнула несколько раз пригоршнями воду и освежила лицо. И, задумавшись над ласково поющей водой, мысленно разговаривала с Саттаром. Но Саттара нет. Анзират поднялась, смахнула с рук холодные капли и, опечаленная, пошла домой.
Она шла медленно. Беспокойные мысли одолевали ее. Почему Саттар был такой необычный и так странно вел себя? Говорил об их будущей жизни, а в голосе ни одной радостной нотки, словно это будущее не радовало, а печалило его…
Но о чем он хотел рассказать? Наверное, что-нибудь очень важное, а может быть, и ужасное, если сразу не решился. А что, если разлюбил?
От этой мысли Анзират стало так страшно, что она даже остановилась посреди темной улицы. Но нет, не может этого быть. Ведь глаза Саттара были такими любящими, когда они прощались.
Она перешла мост через головной арык. На нее пахнуло прохладой и сыростью.
Позади, кажется, там, где рынок, раздался свист. Анзират не обратила на него внимания: мало ли кому пришло в голову свистеть!
Теперь она шла узкой улочкой, сжатой с обеих сторон высокими глухими дувалами.
Позади опять послышались какие-то звуки. Похоже было, что по дощатому настилу провели лошадей.
Анзират представила себе, как Саттар прибежит утром домой, и лицо у него будет смущенное, виноватое… А она сделает вид, будто ей некогда…
Совсем рядом раздался шорох. Анзират вздрогнула и остановилась.
Может быть, послышалось? Чепуха какая-то… И в ту же секунду через дувал перевалились и спрыгнули на улицу, чуть не сбив ее с ног, сразу двое.
Анзират не успела ни разглядеть их лиц, ни крикнуть. Они бросились на нее, заломили руки за спину и сунули в рот какую-то тряпку. Один обвязал ее веревкой, другой накинул на лицо душную паранджу.
Потом послышался конский топот. Чьи-то сильные руки подняли ее, перекинули через седло, и кони понеслись вскачь.
10
Пришло раскаленное сухое лето. В полдень зной, казалось, обжигал легкие. Столбик ртути поднимался до сорока восьми градусов. В городе дышать было трудно, и залитые горячим сиянием улицы будто вымерли. Но в казарме жизнь шла своим чередом. Ежедневно, вскакивая с постелей, бойцы дивизиона строились и бежали на конюшни чистить лошадей, потом – туалет, утренняя поверка, физподготовка, завтрак, политзанятия, изучение уставов стрелкового и конного дела, тактики и топографии.
Сегодня день выдался особенно жаркий. Солнце пекло немилосердно.
Саттар Халилов, проводивший со взводом занятия в манеже, услышал сигнал отбоя с особенной радостью. Отправив бойцов на конюшню расседлывать лошадей, он выкурил папиросу и присел в тени. Вчера он тоже не ходил в столовую: есть в такую жару не хотелось. Его мучила жажда, и, посидев немного, он направился к уличному киоску за воротами – выпить кружку квасу.
За последние четыре месяца Саттар заметно изменился. И без того сухое лицо его, покрытое темным загаром, стало еще суше и как бы замкнутее. Щеки ввалились, глаза сделались больше, и под ними залегли тени. Весь он стал худее, тоньше и будто выше. Но удивительно! – ослабевшим он себя не чувствовал, мышцы даже окрепли, и клинком он владел по-прежнему отлично, числясь в первой пятерке дивизиона.
Когда Саттар дошел до ворот, его окликнул дневальный:
– Товарищ помкомвзвода! Это вам… – и подал небольшой замусоленный конверт.
– Мне? – удивился Саттар.
На конверте не было никакой надписи.
– Да, вам, – подтвердил дневальный. – Сказано было вручить в руки самому Халилову. Я еще нарочно пошутил: у нас, говорю, два Халиловых, какому же из них? Мне ответили: тому, которого зовут Саттаром.
– Хм… Интересно! А кто же передал?
– Мужик узбек…
– Какой он из себя?
– Да обыкновенный, как и все. Не молод, в годах уже. Вот, правда, глаза его мне не понравились. Испуганные какие-то… А в остальном ничего особенного.
Халилов пересек широкую улицу и направился к киоску. На ходу он вертел конверт, рассматривал его со всех сторон и никак не мог додуматься, от кого же письмо.
Выпив кружку теплого и очень кислого кваса, он прошел до маленького сквера, сел на деревянную изгородь, разорвал край конверта, не спеша вынул из него помятый листок, сложенный вчетверо. Раскрыл – и замер… На него смотрели знакомые очертания букв. Этот почерк он различил бы из тысячи других! Письмо было написано рукой Анзират…
О Саттар, свет очей моих! – писала Анзират. – Знай, что страшная судьба, хуже смерти, постигла ту, которая любила тебя и для которой ты был повелителем сердца и радостью жизни. Ты должен был скоро назвать меня своей женой. Но теперь это уже невозможно, теперь я жена чужого, ненавистного человека.
Я пишу тайно, за мной следят, поэтому кратко расскажу, что случилось в тот вечер, когда я так ждала тебя, а ты не пришел.
Я долго ждала тебя, беспокоилась и сердилась, а потом одна пошла домой. В дороге все и случилось. За головным арыком на меня набросились двое, скрутили мне руки, заткнули рот, закутали в паранджу и увезли. Мы ехали ночь, день, еще ночь и еще день. И меня привезли туда, где я нахожусь сейчас. Кишлак называется Обисарым.
Меня насильно сделал своей женой Наруз Ахмед, сын басмача Ахмедбека. Третьей женой по счету. И он сказал мне то, чего не решился сказать ты: он умертвил отца. А потом выкрал и опозорил его дочь. Он сказал мне: «Ты родишь сына, и когда ему будет год, я на твоих глазах отрублю ему голову. Так же поступлю и со вторым. А тебя брошу в клоповник, и ты там сгниешь заживо».
За каждым моим шагом неусыпно следят его люди, но один из них пожалел меня и пообещал передать тебе это письмо. Может быть, это подвох, и письмо не дойдет до тебя? Не знаю, но хочу верить, что дойдет.
Я люблю тебя по-прежнему. Но как бы велика ни была эта любовь, я знаю, что уже недостойна быть твоей женой. Об этом я и не прошу тебя.
Прошу о другом: найди этот кишлак. Дом, в котором меня держат, самый большой и окружен тополями. Найди и вырви меня из этого страшного места. Я буду ждать тебя ровно месяц, а если ты не придешь, я наложу на себя руки. Так решило мое сердце…
Анзират,27 июня.
Несколько секунд Саттар сидел как оглушенный, непонимающе глядя в письмо. Жива! Она жива! Это главное, все остальное – чепуха. Он спасет ее, пусть это будет стоить ему даже жизни…
Первым побуждением Саттара было вскочить и броситься к тетушке Саодат – скорее сказать ей, что нашлась Анзират, что она жива. Надо обрадовать женщину. Ведь она сразу потеряла двух дорогих людей и осталась одна-одинешенька на свете!
Хотя нет. К тетушке бежать нельзя. Зачем тревожить ее сердце? Уж лучше явиться к ней вместе с Анзират.
Саттар еще раз прочел письмо, бережно свернул его, спрятал в карман гимнастерки и бегом направился к воротам казармы.
Все эти четыре месяца после таинственного исчезновения Анзират Саттар безуспешно разыскивал ее. Чего только он не предпринимал, куда только не обращался! На ноги была поставлена милиция, доброотрядцы.
Анзират искали в самом городе, на дорогах, на станциях, в дальних и близких кишлаках. Запросы о ней по телеграфным проводам полетели в Ташкент и Самарканд, Фергану и Чарджой, Сталинабад и Ашхабад. Ее тело искали на железнодорожных путях, в прудах, арыках, плотинах, реках, колодцах. Но человек пропал бесследно. Ни единая душа не могла пролить свет на тайну, окутывавшую исчезновение девушки. Высказывались тысячи догадок, предположений, построенных на зыбкой почве и, конечно, не прояснявших дела. Человек как сквозь землю провалился, не оставив никакого следа.
Постепенно все примирились с мыслью, что отыскать Анзират невозможно. Не смирился только Саттар. С мрачным упорством и отчаянной решимостью продолжал он розыски, используя для этого каждую свободную минуту, выходные и праздничные дни, совмещал их со служебными выездами, специально отпрашивался у командования в дальние поездки. Но все было тщетно…
И вот ее письмо! Сразу две тайны раскрыло: оно Анзират назвала и убийцу отца и своего похитителя – это был Наруз Ахмед.
Саттар вбежал в помещение штаба и, получив разрешение дежурного по части, начал с такой силой крутить ручку телефонного аппарата, что на столе все задребезжало. Он знал, что Наруз Ахмед служит в союзе кооперативов, и звонил туда. На вопрос Саттара, где находится сейчас Наруз Ахмед, работники отдела кадров порекомендовали ему обратиться в спецчасть. Саттар дозвонился туда, потребовал к телефону начальника и повторил свой вопрос. Начальник спецчасти помедлил, а потом любезно осведомился:
– А кто его просит?
Саттар почему-то ответил, что говорит знакомый Наруза Ахмеда.
В ответ он услышал:
– Справок по телефону не даем… Зайдите лично…
Озадаченный Саттар вышел из помещения штаба, постоял несколько минут под лучами раскаленного солнца, подумал. Собственно, зачем ему вдруг понадобилось удостовериться, работает или не работает в союзе Наруз Ахмед? Ну а если работает? Что из того? Что он, Саттар, может предпринять? С этого ли надо начинать? Нет, надо с кем-то посоветоваться. Если уж Наруз Ахмед пошел на такие страшные дела, то его, видно, голыми руками не возьмешь. Сагтар пересек раскаленный двор, поднялся на крыльцо, постучал в неприкрытую дверь и, получив разрешение войти, перешагнул через порог.
В низенькой комнате сидели за столом и прихлебывали чай из цветастых пиал командир второго эскадрона Корольков и уполномоченный особого отдела Шубников.
– Товарищ комэска! – обратился Саттар, приложив руку к козырьку буденовки. – Я к вам по личному делу. Разрешите?
– Присаживайся, – и комэска показал на табуретку. – Чай пить будешь?
– Не хочу, – усаживаясь, ответил Саттар. – Не до чая мне…
– Вот как! – усмехнулся Корольков. – Что же у тебя стряслось? Или опять старая история?
– Точно так, старая, – и Саттар полез в карман.
– Что ж… выкладывай, послушаем. Один ум – хорошо, а три – лучше.
– Вот, читайте, – подал письмо Саттар. – Лучше я не расскажу.
Комэска отпил из пиалы еще несколько глотков чаю, застегнул ворот гимнастерки и принялся за чтение. Читал он вслух, медленно, четко, соблюдая знаки препинания. Прочитав фразу по-узбекски, он секунду молчал, а потом, пошевеливая пальцами в воздухе, будто нащупывая слова, переводил на русский язык.
Уполномоченный слушал с невозмутимым лицом и продолжал прихлебывать чай. На лице его было такое выражение, будто все на свете ему безразлично, в том числе и судьба какой-то девушки Анзират, попавшей в беду.
Комэска прочел, покрутил головой, потуже затянул поясной ремень и сказал:
– Смотри! Вот диво! Значит, отыскалась?
– Я звонил на службу Нарузу Ахмеду, – пояснил Саттар, – но там мне не захотели отвечать. Говорят, справок по телефону не даем…
Корольков тем временем вынул из полевой сумки сложенную гармошкой карту, расстелил ее на столе и отыскал на ней кишлак Обисарым:
– Эге! Туда, верно, и ворон костей не заносит. Нашел, змеиное отродье, местечко! Что же, выручать надо деваху? – и он посмотрел на уполномоченного.
Тот продолжал пить чай, отдувался и молчал.
– Выручать, товарищ комэска! – горячо подхватил Саттар. – Если бы только знали, какая это девушка…
– Да уж известно какая, самая лучшая, – улыбнулся тот. – У старика Умара плохой дочки и быть не могло! А пишет она складно, ясно.
Саттар не знал, что сказать по этому случаю.
– И что же ты решил? – спросил комэска.
– Арестовать его надо, эмирскую собаку, товарищ комэска. Он – дважды преступник. Он убил Умара Максумова, похитил и… – дальше он не мог продолжать.
– Это правильно, – согласился комэска, и лицо его будто отвердело. – И к стенке поставить за такие художества. Обязательно к стенке. Но прежде поймать его надо. Он, небось, в конторе потребкооперации не сидит после таких дел, нас с тобой не дожидается…
– Поймать! – загорячился Саттар. – Немедленно! Разрешите, товарищ комэска, взять коня, Барса… Поскачу в этот кишлак, подниму на ноги тамошний актив, захвачу этого мерзавца. Анзират привезу.
– Прыткий ты, я вижу, – усмехнулся комэска. – Это не так просто… Я тебе скажу, а ты пока забудь. Понял? Я сам только что узнал. Наруз Ахмед банду водит…
Саттар от удивления поднял брови. Потом подумал, что в этом, собственно, ничего неожиданного нет.
– Но водить ему осталось недолго, – продолжал комэска. – Придет и его черед. И скорее, чем он думает. А пока он занят своими делами, ему, видно, не до жены. Поэтому мой совет…
– Все понятно, товарищ комэска. Можно отправляться?
– Стоп! Погоди! – поднял руку до сих пор молчавший уполномоченный особого отдела Шубников. – Так не пойдет, Саттар. Что же, думаешь, мы одного тебя в волчью пасть сунем? Не дело! Один в поле не воин. Девушку-то тебе на блюде едва ли вынесут. Не для того они ее уворовали. За нее они драться, пожалуй, будут. И ты, парень, выручая невесту, сам угодишь в беду.
– Не надо мне никого, – горячо возразил Саттар. – Сам управлюсь. Это мое чисто личное дело.
– Это еще как сказать, – невозмутимо заметил Шубников и, достав из кармана блокнот, начал что-то писать. Закончив, он сложил листок, подал его Саттару и спросил: – Командира особого отряда ОГПУ знаешь?
– Так точно.
– Отдашь ему. Он выделит тебе двух хлопцев. Я пишу каких. Одного русского, другого – таджика. Ребята – орлы.
– Есть! Спасибо! Я оседлаю коня и мигом!
– Вот и отлично, – потер руки комэска и обратился к Саттару: – Найдешь кишлак?
– Найду, – твердо заявил тот.
– А лучше посмотри на карту. Вот видишь, О-би-са-рым. И кишлачок-то так себе, дворов тридцать-сорок, не более, а забрался куда – ровно орлиное гнездо! Дорога одна через ущелье идет, а другая через перевал. Но эта длиннее. Выбирай сам, на месте будет виднее. Ну, поезжай! Командиру дивизиона я сам скажу. Дуй! Аллюр три креста!
– Есть! – ответил Саттар, круто повернулся и выбежал из комнаты.
11
Кавдивизион после долгого и утомительного марша по пескам Таджикистана остановился на дневной отдых в районе строительства крупной плотины. Бойцы и командиры, невзирая на адскую жару, спали, где кто мог. Ночью предстоял новый длительный марш и надо было набраться сил.
Уполномоченный особого отдела Шубников долго лежал в душной войлочной кибитке, силясь уснуть, но, окончательно убедившись, что из этой затеи ничего не выйдет, встал и вышел.
В голове от бессонной ночи и жары стоял неумолкающий звон, глаза воспалились и горели, словно они были забиты сухим песком.
Шубников, вялый и ослабевший, без всякой цели побрел по поселку строителей, напоминавшему собой цыганский табор.
В красном уголке с настежь распахнутыми окнами шла громкая читка газет. Слушатели сидели на скамьях, думая о чем-то своем. Кое-кто дремал.
Шубников прошел мимо. Миновав три ряда палаток с поднятыми краями, он подошел к крайней. Перед ней на открытом воздухе, к большому ящику, служившему столом, тянулась длинная очередь. Молодая женщина, врач или медсестра, в белом халате наливала из бутыли в чарку жидкость и давала каждому выпить.
По тому, как каждый выпивший кривился, отплевывался и тихонько поругивался, можно было догадаться, что здесь поили хинным раствором.
Шубников побрел дальше и, выйдя на край глубокого котлована, стал наблюдать за работой. Нескончаемой вереницей, приседая и балансируя, по дощатым настилам двигался людской поток: из котлована с гружеными тачками, а обратно – с пустыми. Голые спины землекопов, потемневшие от солнца, отливали медью.
К Шубникову подошел и встал рядом пожилой черный как жук человек в тюбетейке и цветастом халате. Он тоже наблюдал за работами и изредка покрикивал:
– Не задерживай, Усман! Не задерживай!
Или:
– Оттуда тачкой не выберете, возьмите носилки!
Шубникова он, казалось, не замечал. Так прошло несколько минут, и вот совсем неожиданно уполномоченный услышал:
– Большое дело, начальник. Большое дело…
– Ты, ата, мне говоришь?
– Да, тебе… Я искал тебя… Только ты не подходи ко мне. Это лучше. И не смотри в мою сторону. Стой так и слушай меня…
– Хорошо, – произнес заинтересованный Шубников и спросил: – А ты знаешь, кто я?
– Знаю, начальник, потому и говорю. Я – бригадир землекопов. В мою бригаду сегодня утром пришли трое оттуда…
– Откуда?
– С чужой земли.
– С той стороны?
– Да…
– Их много оттуда идет.
– Правильно, но все разные. Одним нужна мануфактура, другим мука, третьим чай, четвертым – наша кровь. Но эти трое – честные люди, рабочие люди. У них пустой желудок, они хотят работать. Им можно верить. Они мне сказали сейчас, что на нашу сторону перебрался курбаши Мавлан со своей бандой.
– Знаю об этом.
– Но ты не знаешь, где таится банда.
– А ты?
– Я тоже не знаю, а эти трое знают и могут сказать.
Шубников скосил глаза и посмотрел на таджика. Тот, прикрыв ладошкой брови, внимательно следил за работами в котловане.
– Мухитдин-ата! Иди, пей хину! – крикнул он. – А то опять вечером малярия затрясет. Передай тачку Халилу!
– Дальше говори, – напомнил о себе Шубников.
– И еще они расскажут тебе, что на подмогу к Мавлану идет с гор со своей шайкой какой-то Наруз Ахмед. Сообща они готовятся напасть на районный центр.
– Где эти люди? Я хочу их видеть.
– За этим я и пришел. Я пойду, а ты не теряй меня из виду. Иди за мной, но не сразу. Так лучше. Тут есть разные глаза и разные уши.
Бригадир отдал еще какую-то команду рабочим и медленной походкой направился в поселок. Минуту спустя в противоположную сторону пошел Шубников и обогнув высокие отвалы земли, повернул к поселку.
12
Белое солнце немилосердно жгло землю. С юга дул огненный «афганец», свистел в чахлых кустиках верблюжьей колючки, шевелил песчаные гряды, курчавил загривки мертвых барханов.
Вокруг простиралась бурая, выжженная пустыня. Сквозь палящий зной навстречу горячему солнцу мчались три всадника. Пыль покрывала их с головы до ног, песок лез в глаза, щекотал ноздри, поскрипывал на зубах.
Всадники торопились. Путь их лежал к далеким горам, что громоздились на юге, увенчанным белыми снежными шапками.
– Сатанинское пекло! – зло бросил Саттар Халилов, скакавший впереди. Он перевел коня с рыси на шаг. Два бойца пристроились к нему по обе стороны.
– Да, здорово печет, – согласился таджик Закир и, сняв фуражку, вытер рукавом бритую наголо голову.
– Посмотрите! – воскликнул Гребенников и выбросил руку вперед.
Зрелище было обычным для этих мест. Горячие лучи солнца, встречаясь на своем пути с охлажденным воздухом гор и преломляясь в нем, создавали причудливые миражи. Фантастические картины менялись одна за другой. Вначале показалась неохватная глазом ширь водной глади, а секунду спустя с другой точки рисовались уже какие-то сказочные чертоги со множеством колонн, которые, в свою очередь, сменил зеленый цветущий оазис.
– Если бы вместо всех этих сказок кишлак Обисарым показался… – зло проговорил Саттар.
– Его не увидишь, – ответил Закир. – Его только с воздуха и можно увидеть. В горах он лежит.
– Ты давно в нем был? – спросил Саттар.
– Шесть лет назад. Батрачил там весну, лето и осень. Мой родной кишлак в двадцати километрах от Обисарыма… И тоже в горах. Похожи они один на другой.
– А дом Наруза Ахмеда знал? – поинтересовался Саттар.
– Нет, про Наруза Ахмеда я тогда ничего не слышал.
– Эге! Кто же это? – и Гребенников резко осадил своего коня.
Все посмотрели направо. Из глубины песков наперерез им неслась группа всадников, примерно с полэскадрона.
Остановились и Саттар с Закиром.
– Это уже не мираж, – с усмешкой проговорил Гребенников. – От такого миража нам может не поздоровиться.
Все трое без всякой команды приготовили винтовки, передернули затворы и стали ждать.
– Стрелять только по команде, – предупредил Саттар и подумал:
«Плохо дело. Это, видно, джигиты Наруза Ахмеда. Нас они, конечно, увидели. Но как же мы их прозевали? Придется держать бой. Бежать глупо, да и все равно не уйдешь».
Группа мчалась без строя, и это-то главным образом насторожило Саттара, хотя он и знал, что нередко красные конники, чтобы не спугнуть басмачей и навязать им бой, следуя их же обычаю, передвигаются в песках без строя.
Когда расстояние сократилось, Саттар вдруг поднял винтовку над головой, потряс ею и крикнул:
– Наши! Дивизионцы!
Теперь уже Саттар хорошо разглядел серого коня, на котором сидел уполномоченный особого отдела Шубников.
Всадники сблизились, спешились, повалились на горячий песок и тотчас задымили цигарками.
Шубников улегся рядом с Саттаром и спросил:
– Кого-нибудь встретили в пути?
– Ни души. Ни вчера, ни сегодня. А что?
– Курбаши Мавлан соединился с Нарузом Ахмедом. Они целились на райцентр, но наши их отбросили, и теперь банда уходит в пески. Мы вышли на перехват.
– А особый отряд выступил? – спросил Гребенников.
– Выступил. И доброотрядцы, и краснопалочники. Все выступили. Мы их окружить должны. Завтра, по всем видам, рубиться будем.
Саттар смущенно сдвинул фуражку на глаза. Он понимал, что не вовремя оставил свою часть. Конечно, его личное дело тоже не терпит отлагательства, ведь речь идет о живом человеке, может быть, о жизни Анзират. И тем не менее он чувствовал себя неловко.
Шубников будто разгадал его мысли.
– Как только выручишь свою деву, поручи ее ребятам, а сам скачи ко мне. Понял?
Саттар кивнул.
– Я буду в засаде у Белого Мазара. Знаешь?
Саттар опять кивнул.
– А теперь скачи! Время дорого. И поглядывай хорошенько! Сейчас и на банду напороться не трудно. Их дозоры снуют всюду.
Уполномоченный поднялся с песка, еще раза два затянулся и отдал команду:
– По коням!
Дивизионцы взлетели в седла.
– Счастливо! – крикнул Шубников, трогая своего коня. – Быстрее оборачивайтесь, хлопцы!
Саттар, Гребенников и Закир сели на коней.
Группы тронулись, каждая в свою сторону.
Часа через три солнце спустилось к горизонту. Слева, километрах в десяти, неясно замаячили постройки одинокого кишлака.
– Колхоз имени Буденного, – пояснил Закир. – Хороший будет колхоз. Сейчас к нему воду ведут от канала.
Солнце скрылось за край земли. Небо сделалось багряным, потом тускло-серым.
Всадники понукали коней.
Наконец сиреневые громады гор вплотную надвинулись на степь. Дорога начала сужаться и повернула к ущелью, откуда тянуло холодным воздухом.
– Уртак помкомвзвода! – обратился к Саттару Закир. – Разрешите, я поеду передним. Тут трудная дорога. Очень трудная.
Всадники вытянулись гуськом. Каменистая ступенчатая тропа, прижимаясь к левой стене ущелья, повела на подъем.
– Овринг, – сказал, обернувшись, Закир.
Да, это был овринг – карниз, вырубленный руками человека вдоль отвесных скал. Местами он был выложен камнем, местами – бревнами, кое-где – хворостом. По зыбкому, непрочному настилу лошади двигались медленно. Чем выше поднималась тропа, тем осторожнее делался их шаг.
Слева высились скалы, справа, по дну ущелья, несся, грохоча и пенясь на камнях, бурный горный поток.
Почти у самого перевала, откуда тропа должна была пойти на снижение, на остром, как кинжал, скалистом пике всадники увидели крупного архара. Он стоял, не шевелясь, точно каменное изваяние, высоко подняв голову, увенчанную массивными рогами.
Карниз становился все уже и уже, и разминуться со встречным всадником здесь не было никакой возможности. Хворостяной настил колыхался под ногами коней. Казалось, что в любую минуту он может рухнуть и увлечь за собой в пропасть людей и животных.
Лошади, похрапывая, жались потными боками к каменной стене.
Когда в небе показались первые звезды, ущелье раздвинулось, горный поток исчез, и тропа незаметно перешла в каменистую дорогу. Она круто повела вниз, в неширокую долину.
Всадники придержали коней. Перед ними, как на рисунке, лежал кишлак. Среди темной зелени садов желтели глиняные домики. Один из них, как и писала Анзират, заметно выделялся. Он стоял посреди сравнительно большой усадьбы, окруженный высокими тополями, напоминавшими своей пирамидальной формой кипарисы.
Да, ничего не скажешь: Наруз Ахмед знал, куда упрятать свою жертву! Здесь Анзират ограждена от любопытных взоров и отрезана от всего мира.
Саттар тронул коня и начал спуск в долину.
Сумерки быстро сгущались. Наплывала звездная прохладная ночь. В кишлаке стояла тишина, и единственная улица его была безлюдна.
У ворот большой усадьбы всадники остановились. Ворота и дувал были настолько высоки, что даже с коня не удавалось заглянуть во двор.
Саттар постучал сапогом в ворота. Залаяла собака. Спустя некоторое время послышался голос:
– Кто там?
– Свои! – ответил Саттар. – Бойцы кавдивизиона.
– Сейчас, сейчас… Возьму ключи…
– Ого! – многозначительно заметил Гребенников. – Ворота на запоре.
– Таким «своим» они как раз и не особенно рады, – усмехнулся Закир. – Какие мы им «свои»?..
Пришлось прождать несколько минут, прежде чем загремели ключи и ворота раскрылись.
Гостей встретил взъерошенный и перепуганный «хозяин» усадьбы, садовник Наруза Ахмеда. Приложив руку к сердцу, он рассыпался в приветствиях.
Гости поздоровались, и Саттар спросил:
– Хозяин?
– Да, хозяин.
– Остановимся у тебя на несколько дней.
Садовник угодливо поклонился и предложил Халилову поставить лошадей в конюшню.
– Не стоит, – отклонил предложение Саттар. – Ночью лучше на воздухе, а утром видно будет. Располагайтесь вон там, – и он показал бойцам на угол дувала, где виднелось что-то вроде коновязи. – Коней не бросать, – тихо предупредил Саттар товарищей. – Дежурьте по очереди.
Задав лошадям корму, «хозяин» пригласил Халилова в дом. У порога он полил гостю на руки воду из старинного медного кувшина с узким горлом, потом ввел в просторную комнату с пустыми нишами в стенах, где, кроме низенького круглого стола и потрепанного ковра на полу, никакой обстановки не было.
Однако через несколько минут все преобразилось. Хозяин внес большую белую кошму, развернул ее и положил вдоль стены мягкие пуховые подушки.
Едва он успел уложить последнюю подушку, как в комнату степенно вошел плотный пожилой человек с отвислыми чертами лица и маленькими, близко поставленными глазами. Из-под распахнутого халата его выглядывал треугольник груди темно-багрового цвета.
– Это мой гость, родственник, – представил его садовник. – Приехал из Андижана проведать…
Гость подал твердую руку Халилову, и тот почему-то сразу решил, что это вовсе не родственник. Саттар не узнал в нем Бахрама, телохранителя Ахмедбека, – ведь много прошло с того времени, когда мальчишка Саттар видел грозного Бахрама.
Садовник удалился. Бахрам и Халилов уселись на кошму, закурили, помолчали, а потом заговорили о разных разностях. Говорил, собственно, Бахрам, а Халилов слушал. Слушал и в то же время мысленно обыскивал дом, в котором скрывали его любимую. Дом был велик. В нем, конечно, не две и не три комнаты. И в какой-то из них спрятана Анзират, но в какой – догадаться трудно. Неужели Анзират, несчастная родная Анзират, здесь, под этой крышей?
Обводя внимательным взглядом стены, Саттар заметил с правой стороны еще одну дверь, узкую, невысокую, закрашенную известью. По всему было видно, что ею давно не пользовались. Интересно, куда она ведет?
Пока Бахрам и Халилов курили и беседовали, пожилая женщина накрыла стол. На нем появилась цветная скатерка, пиалы, чайники, лепешки, мелкий кишмиш, вяленый урюк янтарного цвета, кувшин со сливками.
Когда Бахрам и гость стали усаживаться у стола, в комнату вошел местный мулла – жирный старик с полусонными глазами. Он преувеличенно любезно приветствовал редкого гостя, высказал несколько комплиментов по адресу красных командиров и заявил, что считает для себя большой честью знакомство с Халиловым.
В пиалы полился ароматный чай лимонно-желтого цвета.
– Надолго к нам в гости? – поинтересовался мулла тонким дребезжащим голосом.
– Как будете принимать! – шутливо ответил Халилов, отпивая горячий напиток.
– Обижаться не придется, – проговорил садовник. – Под крышей моего дома гость находит все, что душе угодно.
– А гости бывают часто? – спросил Саттар.
Его сотрапезники переглянулись. Ответил мулла:
– Сказать правду, не балуют. Редко заглядывают. Поэтому мы всегда и рады им.
– Когда-нибудь приходилось бывать у нас? – поинтересовался садовник.
Саттар ответил, что не приходилось.
– Может быть, позвать председателя совета? – искательно осведомился мулла. – Он вам нужен?





