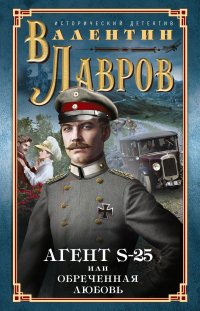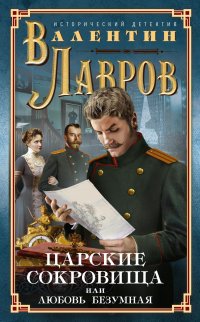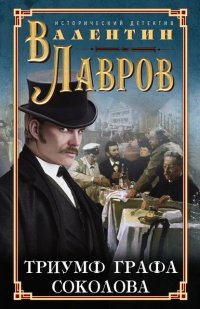
Читать онлайн Триумф графа Соколова бесплатно
- Все книги автора: Валентин Лавров
© В.В. Лавров, 2019
© «Центрполиграф», 2019
Борису Семеновичу Есенькину, человеку, много сделавшему
для развития книжной
культуры России
Эти события в свое время наделали много шума и потрясли умы обывателей. Все началось в декабре 1913 года, незадолго перед Рождеством Христовым. Последним счастливым Рождеством великой и богатой империи…
Близился полувековой юбилей создания в России земства. Государь, признавая великую заслугу земства перед престолом и Отечеством, приказал со всевозможной торжественностью отметить славную дату. Она пришлась на 8 января 1914 года.
Пышные празднества готовились по всей России – в городах губернских и уездных, в селах и деревнях.
Но главный бал, понятно, намечался в Зимнем дворце.
И тут из надежных агентурных источников стало известно: силы, именующие себя революционными, задумали еще не виданные по жестокости террористические акты. Но главное, они решили воспользоваться случаем для покушения на государя и его близких.
Дабы принять необходимые меры безопасности, программу праздника составили в Министерстве внутренних дел.
Товарищ (заместитель) министра, командир Отдельного корпуса жандармов Джунковский созвал совещание. Лучшие полицейские умы были приглашены в Петербург.
Среди самых уважаемых гостей был гений сыска – граф Соколов. И его вновь ожидали суровые, еще не виданные испытания.
Глава I
Таинственное исчезновение
Бесплатное зрелище
К десяти утра к Министерству внутренних дел, противно и непривычно для обывателей фырча в морозном воздухе синим вонючим дымом, то и дело подъезжали лакированные автомобили. Разлетаясь по наезженной мостовой и стуча полозьями, обитыми железными полосами, подкатывали сани, запряженные сытыми рысаками.
Ротозеи толпились на некотором отдалении, сдерживаемые строгими городовыми:
– Осади назад!
То и дело прибивались любопытствующие:
– По какой причине народ взбудораженный и такое собрание?
Какой-то мастеровой, с торчащими красными ушами из-под меховой фуражки, весело кричал пьяным голосом:
– Начальство собирается – самое главное. Желают опять всех заключить в крепостное состояние. Потому как от свободы только разброд и в умах волнение!
Старушка в шерстяном платке поверх шубейки согласно замотала головой:
– Дай-то бог! Помню, прежде как что – на конюшню и по заднице, и по заднице, – так народец шелковый ходил и начальство трепетал. А теперь – тьфу! Одно нахальство…
Купец в потертой лисьей шубе согласился:
– Это, бабушка, ты правильно говоришь – нынче все врассыпную пошло. Нельзя вожжи распускать, наш народец узду уважает. Самый раз крепостное состояние вернуть…
Маститый старик с солдатским Георгием на зипуне и костылем под мышкой степенно возразил:
– Зачем народ смущать? Крепости обратно быть невозможно, потому как кормить крепостных некому. Баре сами в упадок произошли.
– Твоя правда, дедушка, – согласился купец. – Теперь хорошо бы всех студентов и революционеров – в рудники. Или на остров.
– И то, – помотал головой солдат. – Истинно аспиды гнусные. Пусть на Сахалине козни чинят, клопов выводят.
– Про студентов, любезные, вы упомянули по собственной серости, а вот революционеров надо бы в бараний рог скрутить! – произнесла важная дама в дорогом манто до пят. – Глядите, господа, авто катит. Ба, это министр Маклаков собственной персоной! А с ним его правая рука – Джунковский. Замечательная личность!
– Это который в Москве губернаторствовал? – тоном знатока произнес купец. – Сказывают, в небо на аэроплане вздымался. Бедовый генерал. В Белокаменной всякую шантрапу под корень перевел. Государь приказал: переезжай, мол, голубчик, к нам в столицу, оборудуй как в Москве – прижми к ногтю жидов и революционеров. Теперь здесь старается.
– Батюшки, глядите, а кто этот почтенный будучи? На саночках который подлетел? – ахнула старушка, раздвигая на лице платок. – Ростом – каланча, а ликом – что тебе герой.
Толпа восхищенно задышала:
– Министр ему головой еле до плеча дотягивает!
Дама ахнула:
– Так это знаменитый граф, гений сыска… Невероятно! Буду рассказывать: живьем Соколова видела! Ведь не поверят.
Мастеровой заломил фуражку на затылок, с восторгом крикнул:
– Точно, он самый – Соколов! Я его на английском боксе в Манеже наблюдал. Как вмазал, так у его супротивника голова отвалилась. Страсть да и только!
– Да врешь небось? – с сомнением протянул купец. – Если бы, к примеру, топором…
– Точно говорю, почти отвалилась! – горячился мастеровой. – Того несчастного отвезли на «красном кресте». Наверное, в гошпиталь, а может, сразу на Охтинское кладбище. А Соколов, сказывают, рельсу на коленке скручивает.
– В прежние времена весь народ такой был, – прошамкал беззубым ртом солдат. – Потому шведов разбили и турок подмяли.
Старушка в платке вздохнула:
– Жидок народ стал, в голове мысли только об трактире. И табачный дым в небо пущать.
– Это точно, размаху в людях нет, – подтвердил купец. – Один граф Соколов и остался. Вот со скуки рельсы гнет.
Дама тоном знатока уронила:
– Относительно рельс не скажу, а в газетах публиковали: прошлой зимой в Неву целую банду убийц под лед спустил. Помнится, человек восемь называли.
– Вот это по-нашему! – хлопнул рукавицами солдат. – Самое место разбойникам и революционерам – подо льдом.
Вперед, расталкивая зевак локтями, пробилась раскрасневшаяся женщина – с тазом и кошелкой. Видать, из бани. Завистливо вздохнула:
– Что значит возле царя ходят – сытые да гладкие! Наслаждаются жизнью в свое удовольствие.
Плечистый городовой рявкнул:
– Не р-рас-суждать! Не твоего куриного ума забота. Ос-сади!
Легендарный граф
Впрочем, для тех, кто мало знает нашего знаменитого графа, представим его. За свою необычную физическую мощь, проницательный ум и неудержимый нрав граф был известен всей России.
Блестящий полковник лейб-гвардии Преображенского полка, поразив весь высший свет, пошел служить в полицию. И тут его подвиги всех восхитили. Не было случая, чтобы граф не раскрыл преступление, за которое взялся.
Тогда же по Петербургу пошла гулять песенка, сочиненная популярным в те годы куплетистом Добужским. В частности, в песенке были такие слова:
- У графа интуиция
- И развит интеллект,
- А это для полиции,
- Конечно, не дефект.
- В службе поражения
- Он никогда не знал:
- Любые преступления
- В момент он раскрывал.
Государь ему был обязан спасением жизни. Случилось это минувшей осенью, когда товарищи революционеры приготовили электрическую мину на дороге, по какой Николай Александрович направлялся из Нового Петергофа в Петербург.
Сыщик поступил просто и справедливо. Застав на месте преступления злоумышленника, он замкнул концы электрической мины. От злодея остались лишь какие-то лохмотья, повисшие на деревьях.
Вслед за этим Соколов проник в большевистское гнездо, свитое врагами Российской империи в Галиции, которая находилась в пределах Австро-Венгрии.
Прибыл сыщик в ставку Ульянова-Ленина под видом эмиссара германского министерства иностранных дел. Именно сюда дважды обращался Ленин с просьбой выделить миллионы на ведение враждебной агитации и разложения армии в России, на организацию стачек и диверсий.
Соколов провел операцию блестяще.
В руках российской охранки оказались списки подпольных типографий и организаций. Их в обмен на чек (понятно, фальшивый) сыщику передал сам Ленин. Смутьяны и террористы понесли чувствительный удар, а Соколов швырнул с моста в горную речушку большевистского вождя. Весь Саратов умирал от хохота, узнав, что Соколов закрыл на ночь в кладбищенском склепе провинившегося тюремного доктора Субботина.
Подобных подвигов было много. О них писали газеты и рассказывали анекдоты. Для смутьянов Соколов стал злейшим врагом, а якобы прогрессивные писаки пачкали свои издания клеветой на гения сыска.
Одному из таких борзописцев, некоему Шатуновскому-Беспощадному, граф засунул в глотку газету с его гнусным фельетоном. Это было справедливо. Не убивать же всякую рвань на дуэли!
Соколовым восторгались все – от вокзальных извозчиков и городовых до львиц высшего света и провинциальных барышень.
Последние раскупали открытки с портретом красавца сыщика и в минуты уединения любовались его мужественной красотой, впадая в нескромные мечтания.
Тревожные новости
Итак, в канун земских торжеств собралось все высшее полицейское начальство империи, корпуса жандармов, Генерального штаба и охранного отделения.
Главными были два вопроса: подготовка указа о борьбе с народным пьянством и обеспечение безопасности государя и августейшей семьи в дни земских торжеств.
Важные люди с застывшим на лицах выражением сознания собственной значимости, наделенные громадной властью, одетые в дорогие шинели с золотыми погонами и богатые шубы, степенным шагом подходили к резным дубовым дверям, которые перед ними только и успевали растворять два вышколенных солдата.
Гости блестели орденами и надушенными лысинами. С учтивостью они раскланивались друг с другом. Некоторые сбились небольшими группами и степенно обсуждали последние события на Балканах, нагрянувшие вдруг лютые морозы, грядущее водосвятие на Неве, в котором им всем придется участвовать вместе с государем, и по традиции все должны быть облечены лишь в мундиры и без пальто и шинелей – это в такой-то мороз.
Все друг друга знали, у всех были между собой отношения – иногда дружественные, порой очень сложные, зависевшие от многих причин, влияний и родства.
Еще при входе в подъезд гений сыска столкнулся со старым приятелем Гарнич-Гарницким. В прошлом директор Императорского фарфорового завода, нынче он занял важный пост директора картографической фабрики, выпускавшей секретные документы для военного ведомства.
– Почему взор у вас тревожен, Федор Федорович? – шутливо произнес сыщик.
Собеседник явно был чем-то угнетен. Он вздохнул:
– Всякие странные случаи стали вдруг происходить со мной. Хочу вашей помощи…
– К вашим услугам, сударь!
– Вечером вы что делаете?
– Иду в Мариинку.
– А после?
– Еще не знаю. Ближе к вечеру протелефонируйте мне, мы и решим.
– Очень нужно посоветоваться с вами, Аполлинарий Николаевич. Слишком серьезно то, что меня беспокоит. – Он просительно взглянул на собеседника. – Речь, возможно, идет о моей жизни.
Соколов удивленно поднял бровь, внимательно глядя в лицо собеседника. Потом решительно произнес:
– Вечером увидимся!
– Только на вас, граф, вся надежда.
Наследник монгольского хана
Едва Соколов сбросил на руки дежурного офицера шинель, как к нему с широкой улыбкой направился Джунковский.
Несмотря на некоторую полноту, генерал-майор держался по-военному прямо. Голубовато-светлые глаза светились умом.
* * *
Пройдет всего несколько лет.
Все смешается в российском доме.
Джунковского, одного из самых дельных и честных сынов России, будут допрашивать в Чрезвычайной комиссии Временного правительства.
Поэт Александр Блок, радовавшийся свержению монархии, как радуется неразумное дитя зачавшемуся в избе пожару, окажется среди дознавателей. Ему доверят важный пост – главного редактора стенографического отчета комиссии. Разумеется, не бескорыстно. Ежемесячно он будет получать конверт с изрядным для того времени жалованьем – шесть сотен целковых.
Деньги эти поэт отрабатывал усердно: ездил на допросы, «порой допрашивал и сам и непристойно издевался» (Ив. Бунин).
2 июня 1917 года после допроса Джунковского автор «Двенадцати» в своем дневнике напишет: «Погоны генерал-лейтенанта… Неинтересное лицо. Голова срезана. Говорит мерно, тихо, умно». Впрочем, с поэтической непоследовательностью тут же переменит мнение: «Лицо значительное. Честное… Прекрасный русский говор».
* * *
Джунковский двумя руками потряс ручищу Соколова:
– Граф, я рад, что вы приехали! Вы очень мне нужны. Я ведь отлично помню, как мы с вами в Москве охотились за убийцами начальника губернской канцелярии и как вы всем нам преподнесли урок.
– Когда сыщики во главе с Кошко по ошибке схватили по подозрению в убийстве знаменитого маэстро Левицкого? – Соколов рассмеялся. – Там с самого начала было видно, что полиция пошла по ложному следу.
Джунковский взял под локоть Соколова и отвел его в сторону, остановившись возле окна. Негромко, мерно произнес:
– Спасибо, что отозвались на мою телеграмму.
– Владимир Федорович, это я вам признателен. Ваше приглашение как нельзя более кстати. Мой отец давно недужит, я получил повод навестить его.
– Я мало знаком с Николаем Александровичем, но много наслышан о его полезной деятельности как члена Государственного совета, – любезно отозвался Джунковский. – Скажите ему мой поклон. Да, дело у меня к вам, граф, самое серьезное…
Джунковский задумчиво стал барабанить пальцами по оконному стеклу, раздумывая, с чего начать.
* * *
Родословная товарища министра внутренних дел восходила к началу XVI века. Тогда в Москву к Василию III прибыл легендарный монгольский князь Мурза-хан Джунка.
Русская ветвь началась в эпоху Петра I. Потомки товарища министра занимали важные государственные посты, отличаясь широтой ума и кристальной честностью.
Отец министра родился в 1816 году, сделал блестящую карьеру и достиг чина генерал-майора.
Сам Владимир Федорович служил в Преображенском лейб-гвардии полку и затем четырнадцать лет был адъютантом московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича.
Великий князь был убит. И уже с ноября 1905 года Джунковский был назначен губернатором старой столицы. Ему тут же пришлось участвовать в подавлении беспорядков, насилий, поджогов и грабежей, учиненных уголовниками и с присущей большевикам лживостью названных «революцией».
После падения большевистского режима историки признаются: «На годы губернаторства В.Ф. Джунковского приходится расцвет культурной, просветительской и общественной жизни в Москве».
* * *
– Наш надежный осведомитель в партии эсдеков сообщил, что революционеры готовят серию террористических актов. Они составили список своих главных «врагов» и будут их в порядке очереди уничтожать.
– Кандидаты в покойники известны?
– К сожалению, нет. Боюсь, имена их мы будем узнавать из полицейских и газетных сводок. Кроме того, революционеры замыслили покушение на государя и его августейшую семью. Когда бы вы думали? – Джунковский пошевелил жесткими усами, концы которых были чуть загнуты вверх. – Совсем скоро, восьмого января, во время приема в Зимнем дворце.
– Еще бы! Представители земств со всей империи прибудут, многолюдье. А царская семья в полном составе тут как тут. И все высшие чины. Момент – лучше не бывает, – задумчиво сказал Соколов. Вдруг в его голосе зазвучала надежда: – Может, это, Владимир Федорович, бред шизофреника?
– Боюсь, дорогой граф, что это суровая реальность. Ведь наши худшие опасения почти всегда сбываются.
– Готовься к худшему, обрадуешься лучшему, – белозубо улыбнулся Соколов.
Провокатор – любимец Ленина
Джунковский был человеком весьма осторожным. Он еще не решил, в какой степени привлечет к делу графа. По этой причине пока колебался: сообщить или нет Соколову, что донесение о террористических актах пришло от самого надежного агента – Романа Малиновского, 1878 года рождения, в прошлом слесаря на фабрике, любимца большевистской партии и доверенного лица самого Ульянова-Ленина?
Малиновский неоднократно сидел в тюрьмах за кражи и мошенничество. И в это же время был штатным осведомителем охранки. Из кассы департамента полиции, кроме регулярных премий, он ежемесячно получал громадные деньги – пятьсот рублей. Скажем, жалованье помощника петербургского градоначальника в чине майора было меньше.
Когда по инициативе Ленина баллотировали Малиновского в Государственную думу, у того по причине уголовного прошлого не было шансов туда попасть.
Но директор департамента полиции Белецкий принял необходимые меры, чтобы уголовник-провокатор в Думу прошел.
Для начала Малиновскому выдали новый паспорт – без компрометирующих отметок. Затем он получил у самого Белецкого необходимый инструктаж – «как себя вести на выборах», а еще – очередную денежную поддержку.
Без солидных материальных затрат в Думу еще никто не попадал. На эти деньги целый штат агитаторов призывал, убеждал, требовал «отдать голос борцу за народное счастье». За провокатора дружно голосовали те, кто сами себя называли «пролетариями» и «простым народом».
В Думе Малиновский прославился бурной деятельностью. Он, как и положено провокатору, громче всех горлопанил о свержении «грабительского правительства» и постоянно в самой непристойной, агрессивной форме заявлял требования в пользу «голодного, порабощенного народа». За буйное поведение многократно получал замечания от председательствующего, а однажды, утомленный безобразиями, председательствующий приказал приставам, и те выволокли большевистского депутата из зала.
Джунковский лишь задним числом узнал о противозаконной акции Белецкого. Товарищ министра был категорически против введения в Думу провокатора. Но дело было сделано. Теперь лишь оставалось пользоваться сведениями доносчика.
Малиновский… Об этой крайне интересной фигуре нам предстоит рассказать кое-что любопытное.
Хитрая задумка
Джунковский заметил:
– Благодаря своему осведомителю мы имеем важные сведения из самой верхушки ленинской партии. Но, – собеседник грустно покачал головой, – беда в том, что осведомитель не может сообщить, когда и кто будет проводить устранение чиновников и каким образом осуществят покушение на государя. По самым последним сводкам известно: боевая группа большевиков находится в Москве. Именно там и намечены первые жертвы.
Соколов вопросительно поднял бровь:
– Что намерен предпринять подполковник Мартынов?
– Вы первый, кому я это сообщил! – Джунковский многозначительно посмотрел на собеседника. – И я очень надеюсь на вас. Мартынов узнает об этом сегодня.
Соколов вспомнил о неприязненных отношениях Джунковского с начальником московской охранки. Товарищ министра считал его выскочкой, карьеристом, а главное – неискренним.
Но в полицейском деле честность в отношениях – главное. Недоверие как ржавчина, которая пожирает железо.
Джунковский добавил:
– Зато о содержании доноса осведомителя я известил министра. Что касается государя, то у нас есть правило: никогда не беспокоить его делами охранки и полиции вообще.
Гений сыска с легкой улыбкой произнес:
– Милый Владимир Федорович, вы отлично понимаете, что в одиночку я могу поймать лишь карманника или фармазона. Но ведь нам противостоит целая организация, которую пичкали деньгами не только такие безумцы, как покойный Савва Морозов или здравствующие миллионеры Столкинд, Цетлины, Максим Горький. Нет сомнений, что материальную основу всякой революции готовят враждебные государства. Как гимназистка без студента не окажется в интересном положении, так без заграничных денег никакая революция никогда не случится.
Джунковский обнял за плечи Соколова:
– Приятно, что мы с вами это сознаем!
– Но за что зацепиться?
– Вы, Аполлинарий Николаевич, найдете выход в самом запутанном преступном лабиринте!
Соколов горько вздохнул:
– Даже если я закажу обедню и поставлю в храме пудовую свечу, дело от этого не разрешится. – Вдруг осекся, задумчиво почесал квадратный подбородок, с азартом произнес: – С Божьей помощью, кажется, кое-что придумал. Ваш осведомитель может весьма пригодиться для дела.
Сыщик наклонился к Джунковскому и самым задушевным голосом, на какой был способен, поведал свою задумку.
Товарищ министра широко улыбнулся, оживленно проговорил:
– Замечательная мысль! – но тут же добавил:
– Если только вам удастся провести эти хитрую лису – Ленина. Ведь после того как в Поронине вы швырнули его в реку, лишь от упоминания вашего имени у этого типа начинается приступ панического страха. Да, вся наша задумка кажется невероятной…
– Но именно по этой причине может удаться, – вставил Соколов.
– Прекрасно! Вы где устроились, граф?
– Как всегда, в «Астории», в первом люксе.
Джунковский задумчиво смотрел в голубую беспредельность морозного неба. Наконец, соблазненный планом Соколова, медленно произнес:
– Да, я хочу, чтобы вы начали работать с этим человеком, с осведомителем. – Понизил голос до таинственного шепота: – Это важнейшее лицо в партии большевиков, близкий друг Ленина.
– И как его имя?
– Роман Малиновский.
Соколов весело проговорил:
– Вот оно что! Слышал выступление этого дяди в Думе – наглец редкий.
– Для нас важно, что в ближайшие дни он отправился на встречу с Лениным в Краков. И наша идея может привести механизм в действие.
– Мне тоже скоро надо ехать в Краков – на матч со Штаммом.
– Это очень кстати! – И добавил, вкладывая двойной смысл в свои слова: – Я уверен в вашей победе!
Соколов с нескрываемым интересом посмотрел на собеседника, в его глазах мелькнул шальной огонек.
– В нашей победе!
– Я могу устроить вам встречу на конспиративной квартире в Голодаевском переулке во владении некоего Жупикова. Это тихий домишко возле Немецкого кладбища.
– Может, Малиновский ко мне в номер придет?
Джунковский задумался:
– Боюсь, что этот визит могут заметить. Он известный политик…
– Но и я мало похож на человека-невидимку! Вашу квартиру возле кладбища могу «засветить»…
– Хорошо, пусть ваш люкс в «Астории». Нынче же, часов в одиннадцать вечера, Малиновский пожалует к вам.
Джунковский не объяснил, что, поручая важного осведомителя Соколову, он тем самым как бы ослаблял позицию Мартынова, нынче получавшего от Малиновского важные сведения.
Молоденький подпоручик, адъютант министра, задыхаясь от волнения, фистулой провозгласил:
– Прошу, господа, проходите, занимайте свои места!
Джунковский направился было к кабинету, но вдруг повернулся к Соколову:
– Граф, какие у вас планы на вечер? Вчера мне телефонировал Шаляпин, приглашает на ужин в «Вену». Уважим знаменитого певца?
– С удовольствием! И поужинаем, и поговорим. Не возражаете, Владимир Федорович, если я приглашу Гарнич-Гарницкого?
– Милое дело!
– Я нынче иду в Мариинку слушать «Аиду», потом к одиннадцати часам загляну к себе в «Асторию». Наш думец, полагаю, много времени у меня не отнимет?
– Думаю, нет.
– Ну и тут же буду у своего однофамильца, благо от «Астории» до «Вены» рукой подать.
Фамилия владельца артистического ресторана «Вена», открытого лишь десять лет назад, была Соколов.
Родственник Толстого
Звездоносные чины уселись за громадный, застеленный тонким зеленым сукном стол. Лица их были профессионально непроницаемы, но в атмосфере заседания угадывалась грозовая обстановка. И этому были особые причины.
Любопытно: никто за столом места не расписывал, но каждый точно знал, где ему надлежит занять кресло. Министр Маклаков, симпатичный человек с высоким лбом, бритыми щеками и подбородком, в золотом пенсне, с длинными усами, сел в торце стола. Рядом, на правах шефа жандармов, разместился Джунковский.
Хотя Соколов был лицом нечиновным, но он сам определил себе место где-то посредине, и это все сочли уместным. Рядышком уселся его приятель, товарищ министра Сахаров. Он цепким взглядом обвел собравшихся – выработавшаяся привычка старого сыщика. Задумчиво почесал кончик носа:
– Аполлинарий Николаевич, сколько за минувший год появилось новых лиц!
– Самая приятная перемена – министров! – усмехнулся Соколов, а поскольку даже его шепот был слышен за версту, многие на него оглянулись.
Гений сыска недолюбливал бывшего министра МВД Макарова за узость мышления и робость характера. Он понизил голос и закончил мысль:
– Хорошо, что нынешний молод, к тому же родственник великого Толстого, женат на внучке его сестры.
– Да, кажется, министру и сорока нет, а он себя хорошо зарекомендовал в бытность черниговским губернатором! Государь его и заметил.
– И образован: окончил филологический факультет Московского университета. К тому же он ярый монархист.
– И уж слишком нетерпим и горяч.
Соколов успокоил:
– Это быстро проходит – вместе с молодостью.
Маневры политиков
– Итак, господа, – бодрым баском начал министр, – мы пригласили вас по причинам весьма существенным. Мы должны нынче заслушать руководителей нескольких центральных губернских охранных отделений, узнать, как идет на местах подготовка к празднованию земского юбилея. Впрочем, слово при необходимости может взять каждый, дабы мы сообща рассудили дела, которые встают перед нами. Празднования должны пройти везде без малейших эксцессов. Но по имеющимся у нас сведениям, подрывные силы готовят новые акты, планируют покушение на государя и его августейшую семью. Сегодня же мы закончим нашу работу…
Министр отпил сельтерской воды, вытер платком губы и продолжил:
– С вашего позволения, я желал бы предварить наш разговор кратким анализом: каким образом сказываются на нашей деятельности последние реформы, нами предпринятые? – Министр чуть улыбнулся, словно отмежевываясь от тех болезненных перемен, которые предпринял с благословения государя Джунковский. – Прошу вас, Владимир Федорович…
* * *
Почти два часа длился доклад Джунковского.
Бывший московский генерал-губернатор был человеком знающим, толковым, преданным престолу и меньше всего думающим о собственных выгодах.
С прямотой военного, шевеля жесткими, чуть подкрученными вверх усами, время от времени проводя рукой по высокому, с большими залысинами лбу, министр в самых откровенных выражениях указывал на упущения, называл по именам виновных, призывал, увещевал, требовал.
Все это мало нравилось обиженным. Нет, открытой оппозиции не было, но имелось тайное и сильное недоброжелательство.
И было еще нечто – главное, что во все времена вызывало неудовольствие чиновников. Речь шла о решительных шагах по экономии средств. Их предпринял Джунковский, а одобрил государь.
Все знали, что этот вопрос, как бомба, взорвет зал. Но кто запалит шнур? Это было пока неизвестно.
* * *
Как всегда бывает при кадровых переменах, одних эти перемены делают счастливей, ибо возвышают по службе или развязывают руки на том поприще, которое они уже занимали, другие сразу же теряют свои позиции и выгоды или боятся потерять. В зависимости от хитросплетений обстоятельств и отношений, сразу же начинается скрытая, вполне партизанская война. Война с засадами, провокациями, неожиданными выпадами, неизбежными жертвами.
Когда последовал давно ожидавшийся высочайший указ об увольнении Александра Александровича Макарова, то полагали на этом посту увидать кого-нибудь из самых значительных особ – Кривошеина, Щегловитова или еще кого.
Подобное назначение было бы логично. Но вдруг вакансию занял Маклаков. Все недоумевали.
Но политика дело хитрое, что-то вроде шахмат: надо продумать партию на много ходов вперед.
Председатель Совета министров Коковцов был человек умный и расчетливый. На посту министра внутренних дел он не пожелал иметь лицо влиятельное, которое могло бы ему противодействовать или стать конкурентом на высокий премьерский пост.
Для усиления нового министра он назначил ему товарищем властолюбивого и любимого народом московского губернатора Джунковского.
И не ошибся.
Тот поставил условие: он, Джунковский, должен соединить в себе руководство всей имперской полицией и занять место генерал-майора Толмачева, начальника Отдельного корпуса жандармов.
Государь, несколько поколебавшись, согласился.
Джунковский занял пост и тут же принялся круто проводить реформы: сокращать расходы по департаменту полиции, упразднять районные охранные отделения, резко уменьшать количество охраны высокопоставленных лиц и прочее.
Как бы ни клялись государственные чиновники в любви к «великой России», но любой государственный урон они переносят куда легче, чем малейшее утеснение их личных благ.
Вот почему каждую фразу, каждую мысль Джунковского многие сидевшие в зале встречали с открытой неприязнью.
Плохая арифметика
Наконец речь зашла о самом болезненном – о сокращении расходов.
Директор департамента полиции генерал Белецкий, крупный ширококостный мужчина с густой, коротко подстриженной бородкой и усами, похожий на помещика-сибарита из отдаленной губернии, решительный в движениях и словах, язвительно процедил:
– Уважаемый Владимир Федорович, вы себе задавали вопрос: нужна ли такая экономия? Тут в самую пору вспомнить библейскую притчу о рабе, которому хозяин дал капитал. Вместо того чтобы его приумножать, он спрятал золотой талант поглубже – экономии ради. А вышло совсем плохо.
– Это бережливость Плюшкина, – ядовито отозвался Мартынов.
Белецкий продолжал:
– Экономия хороша лишь до той поры, пока она не идет во вред делу.
– И какому же делу вредит моя экономия? – усмехнулся Джунковский.
Начальник московского охранного отделения подполковник Мартынов – человек молодой и по этой причине горячий – снова крикнул с места:
– Террористы усиливают кровавую и подрывную деятельность, идет постоянная охота за высшими государственными чиновниками! Я уже не говорю об августейших особах. – Трагический пафос зазвучал в голосе Мартынова. – И в этот напряженный момент вы, уважаемый Владимир Федорович, принимаете решение: больше чем на треть сократить охрану высших лиц. Простите за прямоту, но это ни в какие ворота не лезет.
Джунковский налился гневом, нервно вцепился руками за край стола. Все стихли, ожидая со стороны товарища министра сердитой отповеди.
Но случилось все иначе.
Вдруг раздался громовой голос Соколова:
– Александр Павлович, в вас говорит не голос разума, а уязвленное самолюбие. Вы денег не жалели, но постоянно происходили политические убийства, и вы перед ними часто оказывались беспомощными. Стыдно сказать – преступников далеко не всегда умели поймать. Хотя не отыскать их было сложнее, чем отыскать. А Владимир Федорович провел сокращение в разумных пределах, даже отказался от собственных четырех охранников.
Белецкий растянул рот в ехидной улыбке:
– Так давайте вообще упраздним охрану – на радость террористам!
– Столыпина охраняли ровно сто агентов, и что? При полном их попустительстве и на глазах самого государя великий государственный муж был застрелен. Как это называется? – Голос Соколова громово раскатывался под сводами зала.
– Как? – язвительно улыбнулся Белецкий.
– Служебное преступление, последствия которого, возможно, будут испытывать и наши внуки. Будь моя воля, я отправил бы вас, Степан Петрович, в рудники.
Белецкий парировал:
– К счастью, Аполлинарий Николаевич, воля не ваша!
Соколов продолжал:
– Дело вовсе не в количестве охранников, а в их качестве. И ваш департамент, насколько я знаю, тоже охраняют сто человек. Вы, Степан Петрович, свою персону цените столь же дорого, как покойного премьера?
В зале раздались смешки, даже министр улыбнулся.
Белецкий, бледный от злости, подскочил в кресле, всем туловищем повернулся к министру:
– Почему всякий полковник может меня, старшего по чину и должности, оскорблять?
Соколов громко рассмеялся, а министр резонно заметил:
– Этот полковник не «всякий», а гордость российского сыска.
Умный, но злой Мартынов не к месту выскочил:
– И все же из уважения к генеральскому мундиру можно было бы полковнику вести себя сдержанней!
Джунковский, прищурившись, процедил сквозь зубы:
– Кстати, прежде чем вы, Александр Павлович, уселись в кресло начальника московской охранки, это кресло предлагали Аполлинарию Николаевичу.
– Да, это так! – подтвердил премьер-министр Коковцов. – Но граф отказался…
– И в правах вполне равен всем присутствующим! – веско добавил Джунковский. Он теперь твердо решил: «Наглеца этого Белецкого следует отправить в отставку! Корыстный, не заслуживающий доверия тип!»
Запоздалые споры вокруг урезанной сметы, значительное сокращение выдачи железнодорожных билетов и изъятие их из ведения Белецкого, а также выработка мер против народного пьянства продолжались часа три.
О принятии мер по последнему, злободневному вопросу весьма и давно ратовал государь.
Уход по-английски
– Вопросы есть, господа? – спросил Джунковский.
Все совещание дремал в кресле новый (взамен умершего в октябре генерала Дедюлина) дворцовый комендант Воейков. Должность его была тихой, вроде бы незаметной, но по своей близости к государю весьма влиятельной.
И вот, воспрянув от дремоты, Воейков негромким голосом проскрипел:
– Владимир Федорович, курсирует слух, видимо лживый, что вы якобы добились сокращения расходов по графе «Секретные суммы». И даже государь не согласен с вашим проектом. И по сей прозаической причине мы все еще не получили сведения по финансированию наших ведомств. Опровергните, пожалуйста, сии инсинуации.
Джунковский тяжело выдохнул, словно собирался принимать горькое, но необходимое лекарство, и сказал:
– Я уже говорил: намечено большое уменьшение расходов. Лучше сказать: мы будем проводить сокращение безмерно раздутых штатов. Отсюда естественным образом и произойдет сокращение расходов. Об упразднении районных охранных отделений вы уже знаете. Вас, Владимир Николаевич, сокращения сметы коснулись тоже – теперь вы, как дворцовый комендант, на секретные расходы, содержание охранной агентуры и на командировки агентов будете получать в год на сто пятьдесят тысяч рублей меньше.
– Но это не совсем разумно! – возмутился Воейков.
И он в пространных выражениях стал доказывать вредность такого сокращения.
Его поддержали Мартынов и Белецкий.
Маклаков возражал.
Премьер Коковцов занял нейтральную позицию.
На него обрушился Джунковский.
Соколову стало скучно.
Председательствующий Коковцов наконец объявил:
– Господа, нам предстоит заслушать доклад Владимира Федоровича. Но я предлагаю на час прерваться. В столовой ждет хороший обед. Привезли свежие устрицы.
Вдруг, вспомнив о гастрономических приверженностях Соколова, Коковцов многозначительно взглянул на гения сыска и добавил:
– И жирные копченые угри.
– Очень заманчиво! – сказал Соколов и пошел не в столовую, а к гардеробу.
Все совещания на свете гений сыска полагал совершенно ненужными пустяками, которые устраивают начальники, чтобы своей деятельности придать более энергичный вид.
Он надел шинель и, ни с кем не прощаясь, покинул совещание.
* * *
Отобедав, важные чиновники обсуждали вопрос, который весьма волновал государя: о народной трезвости и создании в противовес трактирам чайных, где мужички, ведя степенные, душеполезные беседы, вместо водки пили бы чаи – вприкуску и с баранками.
Разговор этот почти всем был скучен. Чем искоренить пьянство? Этого ни тогда, ни ныне никто не знает.
Некоторые чиновники откровенно дремали. Другие вяло спорили по пустякам.
В бесплодной перебранке попусту ушло время.
Так и не обсудив главный вопрос – мер по предотвращению террористических актов, – в начале шестого чины разъехались.
Силок для осведомителя
Прослушав «Аиду», Соколов вернулся в гостиницу.
Едва стал просматривать вечерние газеты, как в дверь кто-то постучал. Часы пробили ровно одиннадцать.
Роман Малиновский оказался крепко сбитым человеком лет сорока, с шевелюрой темных волос, щегольски подвитых. Щеки и борода были бритыми, усы – пышными и тщательно причесанными. Костюм на депутате-осведомителе был дорогим, модного покроя, но вида на хозяине не имел. Пролетарий, вдруг прикоснувшись к власти, пыжился навести на себя аристократический лоск. Но, как всегда случается, эти усилия гляделись напрасными и лишь вызывали улыбку сострадания.
На Соколова гость произвел впечатление какой-то немытости, сальности, словно человек давно в баню не захаживал.
Малиновский изрядно картавил, держал себя нахально, плохо слушал. Он много пил дорогого коньяка, который предусмотрительно выставил Соколов. Крупное лицо осведомителя все более наливалось кровью.
Соколов взглянул в глаза гостя как-то по-особенному, негромко произнес:
– Вы, Роман Вацлавович, догадались, почему я захотел встретиться с вами не в Голодаевском переулке, на конспиративной квартире, а здесь?
Малиновский грубо расхохотался, громко высморкался и, утирая крупный, в угрях, нос, сказал:
– Знаю, знаю! Вы испугались покойников.
– ?
– Там два кладбища – Армянское и Немецкое!
Соколов задушевно произнес:
– Нет, покойников я не боюсь! А боюсь, чтобы содержание нашей беседы не коснулось чьих-нибудь ушей. В домишке Жупикова все встречи с осведомителями прослушиваются, стенографируются и докладываются высшему начальству.
Малиновский сразу отбросил браваду, с некоторой робостью посмотрел на Соколова:
– А тут нас никто не слышит?
– Никто! У меня секретов от начальства нет, но, знаете, как-то неприятно, когда за тобой подглядывают. Еще позволите? – Соколов вновь наполнил гостю рюмку.
Малиновский быстро выпил. Он очистил банан, засунул его в рот.
– Совершенно согласен с вами, господин полковник! Коли своим не доверяют, это, скажу вам, паскудное дело.
Беседовали они минут тридцать. Соколов задавал различные вопросы, Малиновский повторял одно и то же: про готовящиеся в Москве покушения на видных чиновников.
– Это правда, что восьмого января на Государя готовится покушение? – пытливо взглянул Соколов.
Малиновский отвел глаза:
– Чушь!
Соколов поднялся, стал прощаться:
– Очень, очень вам признателен, сударь мой! – и вдруг добавил: – Устал от службы – хуже некуда. Повсюду воровство, протежирование бездарностей, обман верховной власти. Во многом я согласен с Ульяновым-Лениным: нынешний строй насквозь прогнил.
Малиновский бросил быстрый недоверчивый взгляд:
– Прогнил?
– А вы сомневаетесь? Тут среди конфискованной литературы мне попалась работа Ленина – «Социалистическая партия и беспартийная революционность». Читали? Очень рекомендую. Автор правильно пишет: в обществе, основанном на делении классов, борьба между классами неизбежно перерастает в борьбу политическую. Прекрасно сказано! Ну, желаю вам успехов, товарищ Малиновский.
Осведомитель теперь уже не спешил уходить. Он угодливо растянул в улыбке губы:
– Господин полковник, вы тоже считаете, что в России назревает политический кризис?
– Если быть перед собою честным, надо признать: революция в России неизбежна. Ленин, думаю, прав, когда пишет: ненависть и презрение пролетариата к буржуазии сплотят его ряды, увеличат его силы для нанесения решающего удара по реакции и всему буржуазному обществу.
Малиновский вывалился на улицу потрясенный, словно его по голове пыльным мешком огрели. Такого поворота беседы он не ожидал.
Провокатор шел по площади Исаакиевского собора, удивленно крутил головой и улыбался своим мыслям: «Даже начальство к революции поворачивается! Граф Соколов восхищается Ильичом, надо же! Во-первых, следует доложить в охранку. Интересно, какое вознаграждение дадут? Матильда Рогожкина шлюха публичная, а прикипела к моему сердцу, новую шубу требует. Деньги очень нужны! Во-вторых, необходимо обрадовать Ленина. Сам Соколов уважает Ильича и настроен революционно!»
Радушная «Вена»
С незапамятных времен на углу Малой Морской и Гороховой, как раз против Военного министерства, находилось трактирное заведение. Место людное, проходимое. Заходил сюда народец щец наваристых, с оковалком баранины похлебать да выпить чарку водки.
Но на стыке двух веков дело что-то не заладилось, бывшее доходное место пошло с молотка.
Тут как тут бывший лакей ресторатора Лейнера Ванька Соколов. Был он сметливым, трезвым, умел копейку за хвост удержать. Всю жизнь мечтою жил – свое дело завести. Вот на скопленные рублики приобрел помещение и утварь. Стал хозяином во фраке, в золотых очках и с бородкой а-ля академик. И теперь величали его уважительно – Иван Григорьевич.
А уважать было за что. Вчерашний лакей сделал не обычный ресторан, а литературный. Поваров набрал самых проверенных, знаменитых. Количество лакеев, швейцаров, истопников, мойщиков посуды, буфетчиков было впечатляющим – сто восемьдесят человек!
Соблазненный высоким жалованьем, от того же Лейнера сюда перебрался знаменитый на всю Европу виртуоз балалаечник Василий Андреев. И за собой, понятно, привел первый в России оркестр русских народных инструментов – «Великорусский оркестр». Ведь сам его и организовал, за что во все энциклопедии попал.
– Атмосфера тут хорошая, приличная! А публика – первосортная. Вчера, к примеру, сам знаменитый Гречанинов с Рахманиновым заходили. Говорят: «Музыку послушать!» Ну и старались мы… – с удовольствием говорил Василий Васильевич.
Это было чистой правдой. Многие повадились ходить в «Вену» ради музыки и отличной кухни.
Среди самых почетных гостей были первостатейные писатели. Гуляли они широко, знать, позволяли большие гонорары. Залетали и совсем бедные писаки-бумагомаратели, униженно мыкавшиеся за медными пятаками по редакциям. От художников, артистов, адвокатов, людей делового мира и просто богатой публики отбою не было.
И каждого привечал Иван Григорьевич, каждому ласковое слово умел сказать, каждого накормить, а то и безвозмездно водочкой угостить.
И слава шла-катилась по столичному граду, всякому было лестно увидать живую знаменитость – писателя-красавца Андреева или рыжеволосого, вечно в компании юных прелестниц поэта Бальмонта, послушать божественное пение Георгия Поземковского или Федора Шаляпина.
Полеты Куприна
Соколова привлекала спокойная атмосфера «Вены» и то, что в залах было запрещено курить: владелец – старообрядец и, как знаменитый трактирщик в Москве Егоров, на дух не переносил «табачного баловства». Хорошо было и то, что здесь всегда можно было встретить друзей.
Едва гений сыска появился в зале, как взоры всех сидевших обратились к нему, словно ветерок повеял.
– Граф Соколов, граф Соколов…
Хозяин – Иван Григорьевич – тут как тут, низко кланяется:
– Благодарим вас, Аполлинарий Николаевич, за неоставление и внимание! Ваша кумпания в Литераторском зальчике, изволят ждать-с, а холодные закуски и относительно выпить – на столе.
– Как поживаешь, Иван Григорьев?
– Бог милует! Публика, сами изволите видеть, валом прет-с. Да и то, при всем уюте и канфорте, наши цены против других ресторанов самые унизительные-с! – Вздохнул. – А иной раз и бесплатно поишь-кормишь. – Негромко, доверительным тоном: – Вон, извольте вправо посмотреть, личность знакомая – Александр Иванович Куприн.
– Открытку со своим портретом подарил?
– Обязательно! И написал: «Иван, я тебя люблю!» А как не любить? Две недели ходит каждодневно. И каждый раз один разговор: «Запиши, не забудь, Иван, в долговую книгу, за мной как в банке Братьев Джамгаровых на Невском – ничего не пропадает». И помечаю! – Строго посмотрел на гардеробщика: – Эй, Ефрем, чего глаза таращишь? Прими у гостя…
Гардеробщик, не решавшийся помешать разговору хозяина с важным гостем, вмиг подскочил и принял на руки шубу сыщика. (Для сведения любознательных: никаких номерков не полагалось, номерки появились лишь в большевистское вороватое время.)
Справа, в Первом зале, гуляла публика без претензий, малогонорарная. Был зал с тремя рядами столов, единственной люстрой электрического освещения и вешалками – тут же, на стене, возле столов, увешанных шубами и меховыми шапками. Толстый лысый господин в потертом фраке, задрав вверх бокал, что-то жарко говорил. В углу молодые люди в сюртуках железнодорожного ведомства что-то пели. По соседству нестриженый юноша, размахивая руками, читал стихи – должно быть, собственного сочинения. И все шумело, жевало, стучало приборами, оживленно беседовало.
Слева, в Литераторском (или Угловом) зале, с громадным зеркалом, с эстрадой, со множеством гуляющих гостей, сразу увидал своих. Они сидели под иконой Богородицы, висевшей в кипарисовом ящичке под самым лепным потолком.
Отовсюду неслись приветствия:
– Рады видеть! Садитесь к нам, граф!
Навстречу поднялся Гарнич-Гарницкий. Но его опередил Куприн. Косолапя короткими ножками, он подбежал к сыщику, обнял, дыхнул сложным запахом, радостно проворковал:
– Наконец-то объявился! Куда, граф, пропал? А ведь ты мне жизнью обязан!
– Ну?
– Помнишь, на Ходынском поле я с Уточкиным летал?
– Помню.
– А ты хотел лететь с покойным Чеховским. Как раз на моторном аппарате братьев Райт. Я тебе еще сказал: «Оставь, граф, затею!» Ты меня послушался, не полетел. А при посадке магнето отказало, мотор заглох, и Чеховской с бо-ольшим трудом сел.
– А я при чем? – Соколов с трудом сдерживал смех.
– Да ведь коли бы ты тоже полетел, то аппарат не выдержал бы твоего веса, вы вместе с покойным Чеховским непременно грохнулись бы.
Соколов рассмеялся, обнял этого талантливого человека и выдумщика с монгольским разрезом глаз. Куприн отправился к себе – догуливать.
Соколов поманил пальцем лакея:
– Вот тебе ассигнация! Угости Александра Ивановича по первому разряду. Только не говори, кто его угощает. – Вдруг Соколов весело рассмеялся: – Впрочем, скажи: «Очаровательная дама высшего света, молодая и в бриллиантах, молвила: дескать, я большая поклонница великого таланта Куприна. Я его люблю и отдамся при случае». Понял? Выполняй!
«Буду пить»
Очередь наконец дошла до Гарнич-Гарницкого.
– Заждались, Аполлинарий Николаевич! Вся компания в сборе, только вас ждем.
Он провел сыщика к столу. Тут под люстрой, бросавшей яркий свет, сидели Джунковский, Шаляпин, поэт Бунин.
– Опоздавшему штрафной бокал редерера, – пробасил Шаляпин, уже бывший малость навеселе. – Пьем за могучий народ русский, явивший свету графа Соколова.
– Такого богатыря бокал шампанского не возьмет, – улыбнулся Бунин. – Тут кубок полуведерный нужен.
– Сие зверское предложение отвергаю категорически! У меня скоро со Штаммом встреча по английскому боксу в Кракове. Так что многого себе не позволяю. А бокал – отчего не принять?
– Давно ли вы, Аполлинарий Николаевич, этого Штамма под орех разделали? Ведь мы были в Манеже, видели, как вы бахвала на пол уложили, – улыбнулся Бунин.
– Самые громкие триумфы рано или поздно кончаются, и почти всегда в последнем бою – фиаско. Таков закон природы. Мне, увы, уже давно не двадцать. – Соколов решительно добавил: – Аппетит я нагулял изрядный. Как говорит наш приятель Горький, голоден зверски.
Бунин поднялся с бокалом в руке:
– Лет семь назад, находясь у Горького в солнечном Сорренто и в пасмурном душевном состоянии, ибо пришло разочарование в очередной любви, я написал стихотворение «Одиночество». Позволите всего лишь несколько строк из этого стиха?
– Просим, просим! – поддержали гости.
Сильным, словно звенящим голосом поэт прочитал:
- И ветер, и дождик, и мгла
- Над холодной пустыней воды.
- Здесь жизнь до весны умерла,
- До весны опустели сады.
- Я на даче один, мне темно
- За мольбертом, и дует в окно…
- Мне крикнуть хотелось вослед:
- «Воротись, я сроднился с тобой!»
- Но для женщины прошлого нет:
- Разлюбила – и стал ей чужой.
- Что ж! Камин затоплю, буду пить…
- Хорошо бы собаку купить.
Бунин превосходно читал свою поэзию.
– Прекрасные стихи, – восхитился Шаляпин и захлопал в ладоши.
Остальные поддержали певца.
– Правильно, будем пить! – одобрил Гарнич-Гарницкий и медленно, с наслаждением втянул в себя игристый напиток. Повернулся к Бунину: – Иван Алексеевич, согласитесь, стихи писать можно и после застолья. Не вышло – разорвал бумагу, и делу конец. А в боксе за легкомыслие приходится платить здоровьем – получишь по голове, и немедленно. Пьем за победу на ринге графа Соколова!
Губительные раздоры
Гений сыска любил этого человека. Он задушевно произнес:
– Помню, Федор Федорович, как я с вашим паспортом из Галиции бежал.
– Очень любопытно! – заинтересовался Шаляпин. Повернул голову к Соколову: – Мне не верится, что ты, граф, мог от кого-то бежать.
– Как же не бежать! – улыбнулся Гарнич-Гарницкий. – Вся полиция Австро-Венгрии охотилась за нашим героем. Мало того что под чужим паспортом проник в суверенное государство, наш полковник еще с моста швырнул в реку какого-то типа, германского шпиона Уле…
– Ульянова-Ленина, – подсказал Соколов.
– Вот-вот, этого самого! – Гарнич-Гарницкий обратился к сотрапезникам: – Я и Штамм гастролировали во Львове.
– Никак с атлетикой не можешь проститься? – усмехнулся Шаляпин.
Гарнич-Гарницкий вздохнул:
– Говорят, что атлеты выступают на публике исключительно ради денег. Совсем не так! Тот же Людвиг Чаплинский, управляющий банком, действительный статский советник, чин четвертого класса. Но на арене частый гость, участник состязаний.
Соколов добавил:
– Не просто участник, двукратный рекордсмен мира по поднятию тяжестей. У самого Ивана Поддубного однажды выиграл схватку. Мне в прошлом году говорит: «Вызываю на матч по французской борьбе!» Я отвечаю: «Не люблю дышать пылью ковров. Бокс по английским правилам – к вашим, сударь, услугам. Хоть завтра». Людвиг почесал затылок и рукой махнул: «У вас правый свинг сокрушительный, да и весите на два пуда больше».
Бунин нетерпеливо спросил Гарнич-Гарницкого:
– Ну так что произошло во Львове?
– Стоим уже перед занавесом, оркестр пожарных туш играет. Откуда ни возьмись – наш Аполлинарий Николаевич. Спокоен и грозно-холоден, словно айсберг, на который в прошлом году «Титаник» налетел. Вдруг выясняется, что за графом по пятам несется свора полицейских, вот-вот развернется бой между нашим графом и полицией.
– Прямо на цирковой арене? – ехидно улыбнулся Бунин. – Представляю, зрелище вполне гладиаторское! Такого Колизей не видел.
– Но выход был найден гениальный: наш граф облачился в трико и выступал как артист. Полицейские сбились со следу.
– Очень остроумно! Ну а этот дядя-шпион, утонул?
– Ульянов-Ленин, – подсказал Соколов, – выбрался на берег.
– Как же, у Федора Ивановича и этого Ленина есть общий друг – Горький, – заметил Джунковский. – Этот «буревестник» привечает Ленина в Италии и дает на революцию деньги.
– Деньги дает на покушения и на убийства, – уточнил Соколов.
– Столько прекрасных жизней унесли покушения! И убивают самых дельных, самых верных сынов России. – Джунковский помрачнел, с горечью добавил:
– Если Россия погибнет, то причиной тому станут революционеры. Они Россию ненавидят.
Соколов грустно покачал головой:
– Да, ненавидят! Однако во всех бедах Отчизны – нынешних и будущих – виноваты лишь мы сами, наши раздоры. Что далеко ходить, наглядный пример – сегодняшнее совещание. Для многих чинов главное не дело, а собственные амбиции, личные интересы. Иначе жалкую кучку смутьянов можно было бы моментально раздавить.
Челкаша – на трон!
Гарнич-Гарницкий на этот раз выпил водку, отломил ломтик паюсной икры и с аппетитом закусил. После этого произнес:
– В борьбе со смутьянами нельзя полагаться на волю Божью. Надо беспощадно уничтожать революционную заразу уже при ее возникновении. А у нас из Сибири государственные преступники бегут в любое время и по собственному желанию. Наглядный пример – недавний побег Брешко-Брешковской. Разве не так, Владимир Федорович?
Джунковский согласно кивнул:
– Это совершенно ненормальная особа! Она патологически жаждет гонений и страданий, без них она не мыслит свое существование. Первый раз она попала за решетку еще в 1873 году. Особое присутствие Правительствующего сената за разлагающую работу среди крестьян и провоцирования среди них неповиновения лишил Брешковскую всех прав состояния и сослал на каторжные работы. С той поры она бегала несколько раз. А в седьмом году за пропаганду террора и организацию тайных кружков в Саратовской и Черниговской губерниях, а также за попытку поднять на бунт жителей Симбирска ее вновь отправили в Сибирь. Но уже вскоре наши либеральные сенаторы заменили ей каторгу поселением.
– И что же? – Шаляпин со смаком закусывал янтарной семгой.
– Нынешней осенью бежала в сторону Парижа, где главари российской смуты готовили празднование ее семидесятилетия. Чествование позорной и преступной жизни! К счастью, зловредную старуху схватили и вновь отправили этапом в Сибирь. Эти исчадия ада на нас с заговорами и бомбами, а мы им пальчиком грозим: «Ай-ай, так нельзя!»
Гарнич-Гарницкий, пребывавший в мрачном состоянии духа, согласно кивнул и жарко заговорил:
– Да, мы слишком великодушны. В каких-то поганых журнальчиках, которые называются почему-то «сатирическими», печатают всякие непристойные гадости про государя, про императрицу и Григория Распутина, про нашу православную церковь.
– Писакам все сходит с рук, писаки – публика наглая, – добавил Соколов. – Едва государь по своей милости объявил Манифестом от семнадцатого октября пятого года свободу слова, в свет тут же стали выходить пошленькие журнальчики, пропитанные ядом ненависти к России. Больше всего достается тому, кто дал возможность этим бумагомарателям свободно высказываться. Известные художники рисовали в самом непристойном виде государя и его министров. Я подсчитал и ужаснулся. Этой гнусной подрывной продукции выходило почти полторы сотни названий.
– Интеллигенция заражена нигилизмом, уже лет сорок открыто требует «свержения проклятого самодержавия», – заметил Бунин. – Авторитет самодержавия сильно подорван, это очевидно. И все это сделала российская мятущаяся интеллигенция. Но положим, свергнут они царя. А кто сядет на престол?
– Челкаш! – грустно усмехнулся Джунковский. – И он себя тут же окружит таким же ворьем и перережет всю российскую интеллигенцию – цвет нации.
– И в этом будет историческая справедливость – сами того добивались! – Гарнич-Гарницкий вдруг встрепенулся: – Под анчоусы еще не выпивали.
– Какой конфуз! – засмеялся Бунин. – Никакого уважения достойным представителям морских рыбешек. – И вдруг серьезно-печальным тоном: – Газеты почти в каждом номере трубят: «Победоносным шагом двинемся войной на загнивающую Европу!» И никто не хочет думать, что «победоносная» война – это тысячи трупов, миллионы разбитых судеб.
Соколов с грустью покачал головой:
– Горький только недавно вернулся в Россию, но, трепеща от гнева, на каждом углу восклицает: «Если грядет война, то самым страшным проклятием станет русская победа! Дикая Россия навалится стомиллионным самодержавным брюхом на просвещенную Европу!»
– Алексей Максимович, как многие другие интеллигенты, забывает, что благодаря этому «проклятому самодержавию» живет припеваючи, – сказал Джунковский.
Соколов охотно согласился:
– Да, у Горького маниакальная страсть воспевать воров и убийц. Его герой – бездомный босяк. А сам Алексей Максимович раскатывает по лучшим курортам мира, купил дворец в Сорренто, где привечает большевистскую верхушку.
– Зато этого Горького российская интеллигенция только что на руках не таскает, превозносит выше небес, – заметил Бунин. – Он, безусловно, очень талантлив, но талант его какой-то изломанный…
К столу подошел Куприн. Он обнял сзади за плечи Соколова, пробормотал:
– Граф, ты красив и знаменит, а меня дамы любят больше!
– Поздравляем! – рассмеялся Соколов. – И кто очередная жертва твоих чар?
– Имя назвать не могу, это нескромно. Лишь откроюсь, что это знаменитая графиня, юная красавица!
– И она уже лобызала тебя?
Куприн уклончиво отвечал:
– Мы не торопимся к вершине амуровых страстей. Пока графиня приказала накрыть для нас роскошный стол.
– Счастливец!
Куприн поцеловал в щеку Соколова, с чувством воскликнул:
– Я тебя люблю! – и уже обращаясь ко всем: – А жизнь сыщику я спас, это точно. Я отговорил его лететь с Чеховским… – и, малость пошатываясь, отправился восвояси.
Шаляпин с некоторым изумлением и восторгом проговорил:
– Вот настоящий русский человек: и талантлив, и бесшабашен. Ведь сколько раз он летал с Уточкиным!
Градоначальник под облаками
Соколов взглянул на Джунковского:
– Владимир Федорович, а вы ведь тоже летали с Уточкиным. И как там, в небе?
Джунковский сделал руками движение, обозначавшее: этого не понять, это самому испытать надо! Но вслух произнес:
– Во второй половине апреля десятого года в Московском техническом училище открылась выставка по воздухоплаванию. Интерес у нас к воздухоплаванию, сами знаете, громадный. Одновременно с выставкой на скаковом поле Ходынки устраивали пробные полеты бипланов. Публики ходило много, а тут вся Москва собралась: «Ура, сам Уточкин летит!»
Признаюсь, мне давно хотелось в небе побывать. Я прикатил на Ходынку и к Уточкину:
– Сережа, жажду с тобой в небо подняться!
Тот в ответ самым обыденным тоном, словно в трактир к Егорову собрались на блины:
– М-милос-сти п-прошу! З-забир-райтесь сюда. Т-только крепче держитесь.
Биплан Уточкина был системы «Фарман». Весил он тридцать пудов, наибольшая скорость – чуть меньше ста верст. Передовая техника! И вот на глазах тысяч людей ваш губернатор полез на биплан. Восторг оглушительный и всеобщий! Я себя чувствую героем. Что тебе граф Суворов, овладевающий Измаилом! Но уже через минуту иллюзии развеялись: не герой я, а несчастная жертва.
Сотрапезники слушали, боясь дыхнуть, а Шаляпин прямо-таки впился взглядом в рассказчика.
– Уточкин сидит впереди, а мое сиденье оказалось сзади и выше. Взглянул – а там крошечное велосипедное седло. Упора никакого, ноги можно поставить лишь на тонюсенькие поперечные жердочки. С ужасом думаю: «А за что руками держаться?» Оказывается, за такие же ненадежные жердочки. Куриный насест в деревне видели? Так вот он по сравнению с этими жердочками могучая стальная балка. Размышляю: «А что, если на высоте, где мощный встречный ветер, жердочки моего веса не выдержат, в прах развалятся? Что делать, господи? Может, отказаться от этой глупой затеи?» Нет, думаю, срама такого не переживу. Лучше погибну героической смертью.
Уточкин орет, заикается:
«Ф-фуражку с-сымите! В м-мотор попадет, тогда…»
Не договорил он, а мне и так понятно. Заревел за моей спиной мотор, зачихал, сиреневый вонючий дым стелется, а аэроплан затрясся, как умирающий в агонии. И двинулся, двинулся…
Побежал самолет по Ходынскому полю, все больше скорость набирает, по кочкам подпрыгивает, только зубы лязгают. Ощущение дурное, кажется, вот-вот вылечу от толчка на землю. Вдруг – рывок, меня прижало к моей жердочке. И так плавно оторвались от грешной земли, так хорошо на душе стало! Только адски ревет мотор да ветер стремительным потоком норовит сдуть меня. День ясный, солнечный. Поднялись – вся Москва как на ладони! Храм Христа Спасителя золотом куполов блестит. На горизонте голубой лентой Москва-река к Кремлю жмется. Из домов обывателей мирные дымы вверх тянутся. Красота необыкновенная! И понимаю, что все сейчас головы задирают, на нас смотрят. Загляделся, про страх и жердочки вмиг забыл. Спускаться на землю не хотелось – так хорошо в небе.
Обиженный Шаляпин
– Выпьем за отчаянного Владимира Федоровича! – предложил Шаляпин.
– За такого знатного авиатора необходимо выпить! – засмеялся Соколов и обратился к ресторатору:
– Иван Григорьевич, почто голодом нас моришь? Закусок мало.
– Уже на подходе, Аполлинарий Николаевич! Эй, Порфирий, бочоночек с икрой черной сюда ставь, к ракам. Обратите ваше милостивое внимание на салат оливье – пальчики оближете. На горячую закуску рекомендую-с брошет из судака, хороши омары, а устрицы самые наисвежайшие, вот это – форшмак из рябчика…
Шаляпин нетерпеливо дрыгнул ногой:
– Уха из стерлядей будет?
– Непременно-с, двойная, с расстегайчиками! А на рыбу холодную готовим студень «Царский» и аспиг из ершей.
Шаляпин продолжал:
– А нынче поставишь нам «Графа Соколова»?
– Это непременно-с. «Граф» – статья особая. Пользуется повышенным спросом. Подаем вместе с портретом гения сыска.
Джунковский, знаток ресторанных блюд, вопросительно посмотрел на ресторатора:
– Что за блюдо – «Граф Соколов»?
– Извольте знать, это когда стерлядь приготовляется на пару шампанского «Абрау-Дюрсо», а внутри фарш сложный – с лангустинами очищенными или крабами, икрой черной и красной. Это, простите, любимое блюдо Аполлинария Николаича-с. Рецепт его, сам нам подарил.
Шаляпин протянул:
– Да-а, в мою честь еще блюдо нигде не названо. Может, мне в сыщики податься?
Находчивый ресторатор тут же откликнулся:
– Только вам, Федор Иванович, чтоб в сыскном деле с графом Соколовым сравняться, следует стать, как Шаляпин в оперном! А это оченно трудно-с.
За столом улыбнулись.
В это время раздались аплодисменты – на эстраде появился маэстро Андреев. Музыканты, устраиваясь, загремели пюпитрами, задвигали стульями. Дирижер дал знак, все стихло, и вдруг полилась нежнейшая мелодия – «Ох ты, ноченька».
«Благословляю я свободу»
Шаляпин выпил еще шампанского и начал тихонько напевать.
Тем временем лакей подал нарочно для певца приготовленное изысканное блюдо – седло молодого барашка.
Шаляпин с неожиданной печалью произнес:
– Вот поставили мне седло, за которое нам в счет впишут не меньше десяти рубликов. А меня все время упрекают в том, что алчен, деньги, дескать, очень люблю. Даже Горький, капиталы лопатой гребущий, меня в «жадности» упрекает. Когда зовут петь купцы именитые или кто из великих князей, естественно, размер гонорара называю. Цену я себе знаю, бесплатно только птички поют. Но почему я должен по дешевке продаваться, а? Да, деньги я люблю. А как не любить? Я голода, холода и унижений смолоду ох как много натерпелся. И только потому, что сидел без копейки единой. Я-то знаю, как по два дня не евши в Казани и Нижнем ходил… И еще смертельно боюсь: голос потеряю, денег не будет, кто поможет? Никто, господа, бывшей знаменитости не поможет. Вот если только Иван Соколов в своей «Вене» тарелку супа и рюмку водки поставит. – На глазах Шаляпина блеснула слезинка. – Ванюшка, сукин сын, нальешь тарелку супа нищему Федору Шаляпину, а?
– О чем вы, Федор Иванович! – Ресторатор даже побледнел. – Когда хотите, всегда за честь сочту… бесплатно…
– Я ведь с ранних лет в себе силу необыкновенную ощущал, – горячо продолжал Шаляпин. – Начинал в Тифлисе. В тамошней оперетте меня не взяли солистом, поставили в хор. Вдруг – счастье удивительное! Меня приглашают в Мариинку. Для начала дали партию Руслана. Боже мой, как я провалил эту роль! Брр, вспоминать и стыдно, и страшно. С той поры ни разу не пел Руслана – зарок дал. Несколько раз пел Фарлафа, Руслана – ни-ни. В Мариинке после этого провала держали меня на крошечных ролях и мизерном жалованье. Я слушал самых знаменитых солистов и понимал: я ведь могу петь во много раз лучше! Так и пропал бы, если б меня вдруг Мамонтов не заметил. Он и пригласил в свою оперу, в Москву. Тут я запел – люстры мелко дрожали, нервные дамы в обморок от восторга падали.
Шаляпин вдруг расхохотался, поднялся во весь рост, обратился к залу:
– Господа, мы сегодня хорошо гуляем с моим другом графом Соколовым и со товарищи. Пусть этот вечер нам запомнится на всю жизнь. Посвящаю гению сыска, стерлядь имени которого вы сегодня можете заказать за двенадцать с полтиною по карточке и съесть, романс… – Повернулся к Андрееву: – Прошу, Василий Васильевич, «Благословляю вас»!
Зал затих. Полилась чудная мелодия Чайковского. Шаляпин взял негромко, в малую силу, но и в дальних уголках и наверняка на улице было слышно:
- Благословляю вас, леса,
- Долины, нивы, горы, воды!
Набирая мощь, свободно и счастливо играя каждым звуком, торжественно взял ноту, и необычной красоты звуки наполняли, казалось, не только это пространство – весь мир:
- Благословляю я свободу
- И голубые небеса.
- И посох мой благословляю,
- И эту бедную суму,
- И степь от края и до края,
- И солнца свет, и ночи тьму…
Когда стих последний аккорд, зал, очарованный этой красотой, еще долго сидел молча. Все были поражены до столбняка могучей божественной силой, воплощенной в этом человеке.
Потом бурно грянули овации.
И никто не кричал «бис» – в ресторане просить пения великого артиста было бы неприличным: он пришел сюда для отдыха.
За столом вновь закипел разговор. Бунин спросил Джунковского:
– Владимир Федорович, правду пишут газеты, что войны с Германией не миновать?
Тот неопределенно отвечал:
– Трудно говорить с определенностью, однако…
Его перебил Шаляпин, который страстно начал доказывать, что войны не будет.
Соколов обратился к Гарнич-Гарницкому:
– Отчего, сударь, вы нынче столь печальны?
Подметное письмо
Тот после некоторой паузы, задумчиво почесав переносицу, медленно произнес:
– Со мной произошла странная и нехорошая история. Я еще никого в нее не посвящал, вы, Аполлинарий Николаевич, первый. И я очень жду вашей помощи. Но теперь вижу, что ресторан не очень подходящее место для нашей беседы. Позвольте к вам завтра пораньше заглянуть?
– Конечно, Федор Федорович, приходите к девяти. Я буду в первом люксе ждать вас.
– Вот, на всякий случай возьмите это письмо. – И он протянул обычный, сиреневого цвета почтовый конверт.
Соколов удивился: кончики пальцев у этого всегда мужественного человека слегка дрожали.
Гарнич-Гарницкий продолжал:
– Лучше, если оно у вас будет. Сегодня моему камердинеру вручил письмо какой-то мужчина, приметы которого камердинер сообщить не умеет. Дома прочтите, оно напрямую связано с тем, что меня тревожит. Мои враги пошли на хитрость. Чтобы скомпрометировать меня, пишут как бы от лица неведомой мне возлюбленной. Теперь я не уверен ни в одном своем дне. Иду словно над пропастью.
На конверте изящным, немного округлым и каллиграфическим почерком было выведено черными чернилами: «Его высокоблагородию, действительному статскому советнику Ф.Ф. Гарнич-Гарницкому – лично».
Сыщик убрал письмо, произнес:
– Дома прочту, писала явно женская рука.
Раздался рокочущий голос Шаляпина:
– Эй, друзья! Почему не пьем? Не дело! Человек, беги на кухню, спроси: готов «Граф Соколов»? А то сейчас съедим своего, натурального. Ха-ха!
* * *
Разъехались незадолго перед закрытием ресторана, в половине третьего.
Следующий день стал у графа весьма хлопотливым.
Шантаж
В «Астории» Соколов принял душ (это он делал два раза в день – после сна и перед сном). Уже вытянулся на широчайшей, но недостаточно длинной постели по диагонали, как вдруг спохватился:
– Ах, письмо!
Он достал чуть смятый конверт, вынул из него обычный лист почтовой бумаги. В левом углу картинка – изящно отпечатанные белые и розовые маргаритки. Мелькнула мысль: маргаритки – смертные цветы, их сажают на могилах. Поднес к носу лист: запах был сложным – табачный смешался с еле заметным нежным – дамских духов, – который показался ему знакомым.
Сыщик улыбнулся, подумал: «Ну совсем как в дешевых книжонках про Ната Пинкертона или пресловутого Шерлока Холмса. Эти выдуманные сыскари по воле их авторов то и дело нюхают вещественные доказательства, словно охотничьи псы».
Расправил письмо, начал читать:
«Милый Теодор!
Все мои дни наполнены только Вами. Вы переменили мою жизнь. Я целую этот лист, ибо знаю, что Ваши руки коснутся его. Нет на свете ничего страшнее, чем любить и знать, что твои чувства никогда разделены не будут. О боже, за что такая мука?!
И все же луч надежды не померк: отдайте этим гнусным людям то, что они требуют. Может, они правы, что это пойдет на пользу нашей России, которую я патриотично люблю?
И тогда они выпустят меня из своих когтей! Я тут же сольюсь в любовной истоме с Вами, о мое дорогое дитя! Ваша душа создана для любви чистой и пылкой. Любовь – это неземное блаженство, которое в полной мере только я смогу дать Вам, ибо никто, кроме меня, не в состоянии оценить превосходные качества Вашей души.
Неужели какой-то пустяк, кучка каких-то жалких бумажек станут непреодолимой преградой между нами? Женское сердце так нежно, что одно неосторожное прикосновение может разбить его, как драгоценную фарфоровую вазу.
Я падаю на колени: Вы, милый ангел, можете растоптать меня, но берегите нашу любовь – она дарована небом!
Вечно Ваша Е.».
Соколов перечитал письмо. С удивлением подумал: «Боже, какой изящный слог! Сама Жорж Занд не писала столь возвышенно своему возлюбленному – Альфреду Мюссе».
Он спрятал письмо в ящик письменного стола, помолился на угадывавшийся за окном в непроглядной тьме купол Исаакиевского собора и через минуту погрузился в беспробудный сон.
Легенда
Утром Соколов спал дольше обычного. Разом пробудившись, открыл крышку золотого карманного «Буре». Стрелки показывали начало девятого. По обычаю размявшись гимнастикой, сыщик перешел к силовым упражнениям: приседания, отжимания с полсотни раз – уперевшись руками в пол, а ноги поставив на широкий мраморный подоконник.
Едва принял душ и оделся, в дверь постучали. Это был Гарнич-Гарницкий.
– Завтракать, сударь, желаете? – гостеприимно осведомился Соколов.
Гость махнул рукой:
– У меня аппетит пропал, похудел на шесть фунтов. Если только чашку крепкого чая…
Лакей принес в люкс из ресторана легкий завтрак и самовар. Соколов, поглощая омлет из дюжины яиц с ветчиной, участливо спросил:
– И что вас тревожит, Федор Федорович?
– Нынешней осенью, в самом конце ноября, я в поздний час возвращался с какого-то приема. Хотелось прогуляться. Я отпустил извозчика, а сам не спеша двинулся вдоль Малой Невки. Кругом ни души. Вдруг слышу торопливые шаги. Оглянулся – меня какая-то долговязая фигура, одетая в ватерпруф, догоняет. Еще на подходе, шагов за десять, фигура вежливо приподымает шляпу:
«Простите за беспокойство. Если не ошибаюсь, вас зовут Гарнич-Гарницкий?»
Лица в темноте не разглядеть. Я удивления не показываю, спокойно отвечаю:
«Чем, сударь, могу быть вам полезным?»
«О да, вы можете быть полезным. Наш разговор совсем конфиденциальный. Я прошу вас не волноваться. Пока вы в полной безопасности». – Слова вежливые, а тон угрожающий.
Чувствую, добра ждать от этой встречи не приходится. Требовательно произношу:
«Для начала, сударь, представьтесь!»
«Можете меня называть Александром Степановичем».
Я заметил: при некоторых звуках у этого типа словно просвист выскакивает. И акцент небольшой. Спрашиваю:
«Вы немец?»
«Это не главное. Наш разговор полезен для вас и для России. Вы ведь любите Россию?»
«Продолжайте!»
«Скажите, вы желаете хорошего для России? В этом случае вы обязаны помочь нам. В противном случае вас ждут очень большие неприятности».
Одним словом, после некоторых угроз, в том числе… – Гарнич-Гарницкий малость замялся. – Ну, в общем, этот тип потребовал, чтобы я передал ему полный набор военных карт. Это значит выдать секретнейшие сведения: дислокацию войск, инженерные сооружения, коммуникации. В случае отказа, заявил тип, меня и мою семью «ликвидируют в назидание другим».
Соколов перестал пить чай, вопросительно поднял бровь:
– И что было дальше?
– Этот господин стал убеждать меня, что все «порядочные» люди так и мечтают изменить Родине: «Многие дальновидные русские полезно сотрудничают с нами.
Ваш приятель-сыщик Соколов столкнулся с одним из них. И еле ноги унес». – «Вы имеете в виду Ульянова-Ленина?» – «Его самого!» – «Жаль, что Соколов не утопил его, а только искупал в реке». – «Утопить Ленина – на его место нашлось бы много других. Вы, к примеру». – «Нет, любезный, как вас там…» – «Александр Степанович!» – «Так вот, Александр Степанович, только отпетый негодяй может сотрудничать с нашими врагами. А для меня Россия – не пустой звук. Так что я не поддамся на ваши угрозы. И вообще советую ко мне с подобными гнусными предложениями впредь не соваться».
Гарнич-Гарницкий подошел к высокому окну, долго смотрел на засыпанные снегом мостовые, на покрытые снегом деревья, на золотившийся в морозном мареве купол Исаакия. Он долго молчал. Наконец продолжил:
– Казалось бы, чего проще разоблачить эти козни! При передаче карт схватить вражеского агента, допросить и устроить крупный международный скандал. Рулон с картами я должен тщательно упаковать в непромокаемую клеенку. Затем выждать ненастный день, когда хороший хозяин собак на улицу не выпускает, и в темное время суток швырнуть секретные карты за ограду германского посольства по Морской, сорок один.
Соколов глядел на собеседника чуть иронично.
– Сделать послу Фридриху Пурталесу бесценный подарок? Ну и приключение! А сколько было обещано заплатить?
– Тридцать тысяч рублей.
– Щедро! И все, конечно, фальшивые?
– Я этого не знаю.
– А способ передачи денег?
– Я даже не стал спрашивать. Я ведь не собираюсь их получать. Может, мне домой принесли бы. При первой встрече я хотя и не имел при себе оружия, но хотел схватить этого типа.
– Однако он оказался не дураком?
– Да, эти люди все продумали. Тип вытащил револьвер, упер мне в спину и приказал: «Идите вперед и не оглядываться! Если подымете шум, тут же пристрелю. Вперед, до конца улицы!» Я двинулся в указанном направлении. Шагов через двадцать оглянулся – типа нигде не было видно.
Соколов незаметно и с наслаждением потянулся в кресле. Спросил:
– И что же дальше?
– Я сказал типу, что подумаю. Сначала хотел направиться в отдел контрразведки. Но потом решил, что эта история может на меня бросить тень. Я решил, что, когда ко мне вновь подойдет этот тип, обязательно его арестую. Или застрелю. Вот видите. – Он подошел к вешалке, влез в карман своей шубы и достал револьвер. – С той поры хожу вооруженным.
Разоблачение
Зоркий Соколов сразу разглядел: карманная модель 1909 года системы «Смит-и-Вессон», так называемый «усовершенствованный», ствол шести дюймов.
Соколов уставился своим знаменитым буравящим взглядом в приятеля. Тот заерзал, завертелся. Нервно спросил:
– Что вы меня гипнотизируете?
– А вы разве не догадываетесь?
– Я вам все по-дружески рассказал, а вы словно не верите мне. Странно, право.
Соколов вскочил с кресла, побегал вперед-назад по ковру, словно не зная, куда девать избыток энергии. Остановился против Гарнич-Гарницкого, вонзил в него немигающий взгляд, укоризненно покачал головой:
– Ну, братец, странно, очень странно!
Гарнич-Гарницкий задумчиво посопел, повертел большими пальцами сложенных кистей рук и пожал плечами:
– Не понимаю, право, вы в чем-то меня подозреваете…
– У меня сторожем в мытищинской усадьбе служит некогда знаменитый «кассир» – взломщик сейфов Буня Бронштейн. Когда ему начинают отливать пушки, то бишь врать, он произносит старую еврейскую поговорку: «Если вы хотите иметь собеседника, то не держите его за дурака». – Соколов вдруг перешел на «ты»:
– Если ты, Федор Федорович, хочешь иметь советчика, то не держи его за наивную институтку.
Гарнич-Гарницкий потупился.
Соколов продолжал:
– Почему германский агент приперся именно к тебе? Только потому, что ему есть чем тебя шантажировать. Ведь ежели ты ничем не запятнал себя перед этой шпионской публикой, то они никогда бы к тебе не полезли. Русский дворянин, действительный статский советник, директор картографической фабрики – нет, такого прельстить на измену за деньги невозможно. Гораздо проще и много дешевле завербовать кого-нибудь из твоих чертежников или топографов. Так, господин фантазер?
Гарнич-Гарницкий совсем сник.
Соколов с улыбкой смотрел на него. Вдруг подошел вплотную:
– Это письмо вовсе не фальшивка. Каждая строка дышит истинной страстью. Дам совет: пиши честную объяснительную записку и топай с ней к Джунковскому или самому министру. Только не пытайся что-нибудь скрывать. Тебя все равно передадут военной разведке, а там ребята ушлые, тебя вмиг насквозь разглядят.
– Да, я смалодушничал, – наконец выдавил из себя Гарнич-Гарницкий. – Я сразу перешел к финальной части этой истории, а про истоки ее умолчал. Стыдно признаваться, ибо все это пóшло. – И он снова надолго замолк, словно задремал в кресле, потупив взор в пол.
Соколов подождал-подождал и самым суровым тоном произнес:
– Нет, это не эндшпиль, это миттельшпиль. Финал предсказать легко: тебя найдут с ножом, засунутым между лопаток. И чтобы этого избежать, ты обязан все рассказать. И не только мне. Ну, не теряй попусту времени. Только признайся: ведь ты знаешь ту, которая тебе прислала письмо, так? Ведь сам тон письма говорит об этом.
Гарнич-Гарницкий обхватил голову руками и часто задышал, словно собрался нырять в морскую пучину.
В царстве любви и азарта
Гарнич-Гарницкий горько вздохнул и начал рассказ: – Да, вижу теперь, что нет смысла от вас таиться.
А история банальная и постыдная.
Все началось в начале октября. На службе я получил месяц для отдыха. Я решил путешествовать по Европе. Побывал дня два в Берлине, затем недолго в Париже и, наконец, оказался в совершенно удивительном месте – в Монте-Карло. Остановился по привычке в самом фешенебельном и страшно дорогом отеле «Де Пари». Не мне объяснять вам, что это за сказочная страна, вознесшаяся среди пышной южной растительности на скале Средиземного моря. Множество отелей, ресторанов, кафе, вилл. А главное, блестящая, роскошная публика со всего света. Повсюду звучит музыка, изящные фраки и смокинги, кружева и шелк бальных платьев, блеск чудовищных бриллиантов и обнаженных плеч. Тут, поверьте, любой потеряет голову. Сама обстановка подталкивает к романтическим знакомствам.
В первый же день моего пребывания в этом удивительном месте я отправился на ужин в ресторан. Народа было довольно много, но метрдотель был со мной особенно любезен. Он провел меня к удобному месту, возле громадного окна, откуда открывался широкий вид на заманчиво мерцающий вечерними огнями город. Словно самый богатый и уважаемый гость, я сидел за отдельным столиком. Меня обслуживали два лакея. У меня мелькнула мысль: «Меня перепутали с каким-то принцем!»
Я заказал роскошный ужин с шампанским.
Успел принять бокал-другой, как сердце мое отчаянно заколотилось. В зале появилась обтянутая шелком, совершенно очаровательная девица лет девятнадцати, хорошего сложения, с пышной прической на хорошенькой головке. Ее сопровождала какая-то пожилая дама, как позже выяснилось, компаньонка. На заманчивой груди девицы искрилось необыкновенной красоты и богатства бриллиантовое колье.
Все мужчины и женщины бросили на вошедшую восхищенные взоры.
Соколов улыбнулся:
– Но повезло только моему приятелю. К столику подлетел мэтр и с тысячью извинений просил разрешения посадить незнакомку именно за ваш стол, так?
Гарнич-Гарницкий удивленно покачал головой:
– Именно так и было! Мы, понятно, тут же познакомились, разговорились. Девушку звали Елизавета Блюм, она оказалась по происхождению русской, родилась и прежде жила в Москве, а недавно перебралась к родственникам в Берлин. Отец был богатым человеком, банкиром, выходцем из Киева. К несчастью, в прошлом году умер. Без него в семье дела пошатнулись, но привычка к красивой жизни, видимо, осталась. Теперь Елизавета Блюм путешествовала по Европе и только сегодня прибыла из Берлина.
– Это она все вам сразу рассказала?
– Не сразу, конечно. Компаньонка жаловалась на нездоровье, у нее постоянно болели ноги. Так что уже на следующий день после нашего знакомства компаньонку я отвел к местной знаменитости – на виллу Де Френс к русскому врачу Владимиру Григорьевичу Вальтеру. Тот выписал микстуру и получил невероятный гонорар – пятьсот франков, которые почему-то пожелал заплатить я сам. Так что теперь компаньонка грела ноги под пальмой на скамейке возле «Де Пари», а я проводил целые дни со своей ненаглядной Елизаветой.
Я сорил деньгами, удовлетворял любые прихоти возлюбленной. Мы побывали на концерте симфонической музыки, а еще посмотрели какую-то глупую оперетку, съездили на электрическом трамвае в соседнее Монако, с любопытством поглядели словно на игрушечный, пыхтящий паровозик, шедший на громадной предоблачной высоте виадука, соединяющего Ментону с Монте-Карло. Мы гуляли по бульвару Кондамин и бродили по песчаному берегу Средиземного моря. Хотелось плавать, но у нас собой не было купальников. Моя девица азартно воскликнула: «Зачем они нам?» Отыскав какую-то глухую бухточку, разделись и прыгнули в синюю морскую прозрачность.
Гарнич-Гарницкий мечтательно вздохнул:
– Ах, что бы ни случилось потом, эти дни вспоминаются каким-то беспрерывным счастьем! А изумрудные глаза стоят передо мной…
Тайны женской прелести
Случилось неизбежное – она пала в мои объятия.
Почти сутки – остаток ночи и весь день, – исходя безумной и нежной страстью, мы провели у меня в номере. Наша любовная фантазия не знала границ. Признаюсь, в гостиничном номере, кажется, не было места, которое не послужило бы нам приютом для любовных восторгов.
Никогда я не испытывал таких чувств. Теперь мы не расставались вовсе. Я был на седьмом небе от счастья.
Утром, пока Елизавета отдыхала после бессонной любовной ночи, я шел в цветочный магазин. Когда моя богиня пробуждалась, возле ее постели уже стоял громадный букет благоухающих роз. Я целовал ее ноги и вновь валился в постель.
Минуло два дня. Моя возлюбленная, мило улыбнувшись, вопросительно посмотрела на меня:
– Теодор, наше счастье заставило нас забыть, где находимся?
– В раю!
– Это так, но рай называется Монте-Карло. Царство вечного праздника и азарта. Должна открыть тебе, Теодор, страшную тайну: я очень азартна. – Елизавета потерла ладошки. – Нынче же пойдем играть.
– Конечно! Но прости мою назидательность. На правах старшего должен тебя, милая, предупредить: будь очень осторожна в знакомствах, здесь множество аферистов всех мастей, выдающих себя за графов, маркизов, банкиров. Все они заняты только тем, чтобы втянуть порядочных людей в какую-нибудь неприятную историю.
Елизавета громко засмеялась. Только позже я понял причину смеха, который теперь припоминается мне демоническим.
Итак, мы зачастили в разгоряченную атмосферу алчности, корыстных восторгов и безутешного горя – в казино.
Любопытно: казино построил в стиле ренессанс в 1878 году архитектор Шарль Гарнье, тот самый, что проектировал Парижскую оперу.
Эдвин
Среди роскошных интерьеров под громадными хрустальными люстрами, источавшими яркий свет, ежедневно свершались трагедии и фарсы. Однажды Елизавета столкнулась с человеком высокого роста, с моноклем в глазу. В руках он держал тросточку с массивным золотым набалдашником. Моя спутница представила человека: «Эдвин, бывший компаньон покойного отца».
У Гарнич-Гарницкого от волнения пересох рот. Он стал наливать себе боржоми – и руки у него мелко дрожали, хотел улыбнуться – улыбка вышла жалкой.
Соколов развалился в кресле и задумчиво глядел на приятеля. Рассказ его очень заинтересовал. Поскольку Гарнич-Гарницкий от волнения не мог продолжать, сыщик сочувствующим тоном произнес:
– Я тебя, Федор Федорович, понимаю. И лишь самый гнусный ханжа может тебя осудить. Женские чары околдовывают, лишают на время воли и разума.
Гарнич-Гарницкий с благодарностью пожал Соколову руку:
– Спасибо, что не осудили!
Соколов продолжал:
– Ну а дальше я поведаю, что было. Ты, как человек рассудительный и умудренный, пытался удерживать свою даму от необдуманных шагов. Советовал играть лишь в рулетку, Елизавета норовила пройти к столикам, где шла крупная картежная игра в трант-э-карант, где мечущий талию тасует шесть полных колод – всего триста двадцать карт. Ставки тут допускаются только золотом или кредитными билетами не меньше двадцати франков. Именно отсюда чаще всего уходят в последний путь – на приморскую террасу, где пускают себе пулю в лоб.
Соколов прервал рассказ, нажал на кнопку звонка. Вбежавшему лакею приказал:
– Сотерн и клубнику, только смотри самую свежую!
Понимающе улыбнулся и продолжил:
– Дама твоя, однако, оказалась чрезмерно азартной. Приобретала у разных темных личностей, которых возле казино тьма-тьмущая, «верные беспроигрышные системы», слушалась бесполезных советов крупье, брала с собой большие суммы денег. Проигравшись, всегда начинала отыгрываться. Так, мой влюбчивый друг?
– Увы, все было именно так! Даже удивительно, сколь точно воспроизводите события…
– Поскольку барышня постоянно твердила тебе, что «хочет сыграть по-крупному», а ты, мудрый соотечественник, ее постоянно удерживал от риска, эта очаровашка однажды сбежала от тебя на игру. А когда вернулась в номер, на ней не было лица и ее тысячного бриллиантового колье. Она с горькими воплями упала в твои объятия. Плечи ее сотрясались от рыданий, твои нежные руки гладили ее мокрые щеки, а возлюбленная вдруг стала прощаться с тобой: «Ах, не забывай меня, любимый! Знай, я уйду из этого мира с твоим сладким именем на устах – я брошусь в морскую пучину. Пусть она поглотит мою юную несчастную жизнь». И тут выяснилось, что она проиграла не только свои бриллианты, но еще и заняла кучу денег у Эдвина. И эти деньги она, понятно, тоже проиграла. А чтобы вернуть этот долг, надо продать все имущество и оставить маму и сестер нищими. Елизавета в последний раз горестно воскликнула, вздымая руки к небу: «Ах, почему я тебя не слушалась!» И направилась прочь, чтобы бросить свое прекрасное соблазнительное тело со скалы. Но ты в благородном порыве остановил несчастную и осыпал лицо страстными поцелуями. Так?
Любовь смертельная
Гарнич-Гарницкий оторопело глядел на гения сыска. Он пробормотал:
– Да, да, все было именно так, как вы, Аполлинарий Николаевич, говорите. Словно были свидетелем этой драматической сцены.
Породистое лицо директора картографической фабрики осунулось, постарело. Он повторил:
– Да, вы поразительно точно воспроизвели… Теперь-то я сам вижу эти козни, но тогда я так был сильно влюблен, словно ослеп. Я стал Елизавете предлагать все деньги, что были при мне, лишь бы она не уезжала, не бросала меня. Елизавета от денег гордо отказалась: «Никогда ни у кого содержанкой не была и не буду! Даже у тебя, которого впервые так полюбила. Единственный!» Ну и новые объятия, обещания вечной верности, любовные утехи…
Лакей принес сотерн и крупную клубнику, разлил желтое сладкое вино по бокалам и удалился.
Приятели выпили.
Соколов с любопытством спросил:
– Ну и когда же началось главное?
Щеки Гарнич-Гарницкого порозовели, он проговорил:
– В тот же вечер! Елизавета куда-то отлучалась, а вернувшись в номер, долго целовала меня и ласково гладила лицо ладонями. Вдруг спросила:
«Милый, ты вправду любишь меня?»
Я воскликнул вполне искренне:
«Конечно!»
Она потупила глаза и прошептала:
«Теодор, ты можешь обещать мне? Ты выполнишь мою просьбу?»
«Какую?»
«Думаю, для тебя она вовсе не трудная, а меня может спасти. И я обещаю тебе, милый Теодор, что никогда больше не подойду к игорному столу. И только тебя одного буду любить – всегда, до самой смерти. Буду твоей рабой!»
Я уже облегченно вздохнул, полагая, что речь идет о деньгах, которые Елизавета хочет попросить у меня. Улыбнувшись, сказал:
«Ради того, чтобы моя прелесть не стала топиться в море, обещаю выполнить любую просьбу».
Елизавета вдруг мило улыбнулась:
«Прости, я рассказала Эдвину, что ты печатаешь карты. Это его заинтересовало. Он уверил, что откажется от денег, которые я ему должна…»
«То есть?!»
«Если ты ему сделаешь небольшую услугу, совсем пустяковую».
«Какую?»
«Пожалуйста, милый Теодор, поговори сам с ним. Я ничего в ваших мужских делах не смыслю».
Еще не понимая, о чем пойдет речь, я согласно кивнул:
«Конечно!»
Елизавета прильнула к моим губам.
И только тут у меня мелькнула страшная мысль: не изображает ли девица свою любовь? Может, не было проигрыша, а меня водят за нос?
Приглашение к позору
Уже подозревая худшее, я отправился на нижнюю террасу, сбегавшую к морю. Там на открытой веранде, покуривая дорогую гаванскую сигару, положив ногу на ногу, в плетеном кресле дожидался меня Эдвин. Он держался крайне независимо, даже несколько вызывающе. Сунув мне руку, без обиняков заявил:
«Я представитель военной разведки Германии. Мне нужны последние военные карты. Я не только прощу долг вашей возлюбленной, – он показал расписку Елизаветы, там была какая-то фантастическая сумма, – но и готов вас лично обеспечить до конца жизни».
Я, признаюсь, уже не был особенно удивлен таким поворотом событий. С усмешкой произнес:
«То, что вы мне предлагаете, называется изменой Родине. Никогда и ни при каких обстоятельствах я не пойду на предательство».
Эдвин нагло пустил мне струю дыма в лицо.
«Пойдете, еще как пойдете. Не хотите за деньги, пойдете из страха быть опозоренным».
Этот негодяй полез в бумажник и вытащил оттуда пачку фотографий, таких, какими в железнодорожных вагонах торгуют глухонемые. Я взял их в руки, вгляделся и просто оторопел: на фото красовались мы с Елизаветой, обнаженные, в самых откровенных позах. К моему стыду, это были подлинные снимки, я помнил эти моменты. Ужас! Нас тайком фотографировали…
Собеседник произнес, нагло усмехнувшись:
«А вы, сударь, шалун! Такую богатую фантазию иметь надо… Пожалуй, следует обрадовать российскую военную контрразведку в лице ее начальника полковника Батюшева – послать ему набор, а другой – вашей милейшей супруге Наталье Алексеевне, проживающей на Загородном проспекте, в доме под номером двадцать один. А потом можем протелефонировать ей по домашнему номеру 57-612 и узнать о незабываемом впечатлении, которое на нее произведут эти забавные фотокарточки».
Я заявил:
«Поступайте как знаете! Скорее себе пулю в лоб пущу, чем выдам государственные секреты».
Эдвин понял, что метод кнута себя не оправдал. Он вдруг стал мягче, начал убеждать:
«Ваша позиция мне симпатична. Вы честный, порядочный человек. Но, простите, плохой патриот. Россия стонет от самодержавия. Самые честные граждане мечтают сбросить ненавистное иго кровавого царизма. Скоро будет война. Ваша услуга поможет избежать ненужных жертв, ускорит свержение проклятого деспотизма. Россия сделается свободным демократическим государством, сольется в едином европейском союзе. Вас вознесут на пьедестал почета, вы станете национальным героем. Вам воздвигнут памятники. Ваше имя станет известно каждому гимназисту. Вы вновь встретитесь с Елизаветой, которая полюбила вас самой горячей, искренней любовью».
«Нет!»
Эдвин скрипнул зубами:
«Ну, как знаете. Только за ваше упрямство придется отвечать».
Прежде чем уйти, я не удержался, задал вопрос, который меня мучил:
«Скажите, Елизавета обо всем этом знала? И о том, что нас фотографируют?»
Эдвин сделал гримасу:
«Какое это может иметь значение? Сделайте германскому правительству услугу, и вы получите дом в любом месте Европы, много денег, и тогда самые красивые женщины станут добиваться вашей любви».
Я поднялся и, не поклонившись, ушел.
Несчастная осень
Гарнич-Гарницкий изрядно волновался. Он выпил сотерна и вдруг простонал:
– Да, лишь в тот момент я до конца понял, как женщины могут играть мужчинами, их чувствами. Уверен, Елизавета была приманкой. Я был оскорблен. Я решил прервать свою поездку. Вернувшись в номер, побросал в чемодан вещи и в самом скверном состоянии духа, проклиная свое легкомыслие, сел на поезд. На третий день я вернулся в Петербург. Впрочем, остаток каникул я использовал для спортивной гастроли, в разгар которой мы встретились с вами, Аполлинарий Николаевич, во Львове. Тут, впрочем, я вновь был вынужден прервать гастроль. – Слабо улыбнулся. – Вы мне ее прервали. Вот такая несчастная осень!
– И что было дальше?
– Я жил в постоянном страхе. Ведь даже спортивную гастроль я придумал для того, чтобы скрыться из Петербурга, который стал казаться мне опасным. В каждой подворотне, за каждым углом теперь мне мерещился убийца. Супруге своей я настоятельно советовал не выходить по вечерам из дому, велел не открывать двери посторонним. Попросил полицмейстера, и возле нашего дома на Загородном проспекте поставили будку с городовым. Но проще спрятаться от дневного света, чем от пули наемного убийцы. Вот теперь – письмо с угрозами. Так я и живу в постоянном страхе. И вся надежда у меня только на вас, Аполлинарий Николаевич.
– Фото этой девицы и образца ее почерка у тебя нет?
– Увы, нет! Да, чуть не упустил главного: тот, кто представился мне Александром Степановичем, как две капли воды похож на Эдвина из Монте-Карло. Даже просвист во время разговора у него такой же.
Соколов прошелся по гостиной, задумчиво почесал подбородок:
– Это очень серьезно! Об этом необходимо сообщить, сударь, в военную контрразведку. Они что-нибудь придумают. И уж во всяком случае, вся эта история станет их головной болью, а не вашей и не моей. Каждый должен заниматься своим делом. Удивляюсь, что еще прежде вы сами об этом не догадались.
– Причину, Аполлинарий Николаевич, я вам объяснил. Слишком много в этой истории сокровенного. Хотел некоторые подробности не предавать огласке, но вы сразу это поняли. Впрочем, я не теряю надежды самому расправиться со своим обидчиком.
– Это пустые фантазии! Застрелишь Эдвина, и тебе придется отвечать перед российским законом за убийство. Всю подноготную будешь рассказывать перед полным залом любопытной публики, падкой на сенсации. Или тебя, Федор Федорович, лишат всех прав состояния и прикуют к каторжной тачке.
– А что делать?
– Я уже сказал: твое молчание будет истолковано как измена Родине. С этим, сударь, не шутят. Всякие поэтические нюансы относительно любовных вздохов и поцелуев суд в расчет не возьмет. Да и где уверенность, что еще прежде без излишних разговоров тебе в каком-нибудь темном переулке не всадят пулю в затылок?
Гарнич-Гарницкий пожал плечами:
– Не верю в это! Ну, ликвидируют меня, другой займет мое место. Какая разница?
Соколов встал с кресла, погрозил пальцем:
– В твоих рассуждениях большой изъян. Во-первых, многим, в том числе и мне, известно, что ты очень редкий по уму и способностям работник. Вот почему и оказался на нынешней ответственной службе. Другого такого найти будет не просто. Ведь не сумела же Россия обрести замену Столыпину. Твой случай, разумеется, иного масштаба, но все же…
Гарнич-Гарницкий вздохнул:
– И потом, новый директор может оказаться более сговорчивым или пугливым… Вы это хотите сказать?
– Правильно, господин предсказатель! Ведь нынче убить человека стало столь же просто, как откупорить для дамы бутылку крюшона. Это лет двадцать назад раскрывали все преступления, какие хотели раскрыть. Теперь многое изменилось. Убийцы стали наглы и жестоки. Полиция завалена нераскрытыми делами и по этой причине бывает нерасторопна.
– Но ведь я именно по доверию к вашему необычайному таланту и обратился, Аполлинарий Николаевич! – Гарнич-Гарницкий замялся, но все же произнес:
– Если со мной что случится, попробуйте, милый мой граф, отыскать убийц и наказать их. Обещаете?
Соколов подошел к приятелю, обнял его и произнес:
– Твердо обещаю, если буду в силах! Дружба, товарищество – для преображенцев звуки не пустые. И ты, Федор Федорович, это уже доказал. Теперь очередь за мной. Только не проще ли предотвратить преступление, чем позже отрывать головы преступникам?
Почтовый штемпель
Сыщик прошел в кабинет и тут же вернулся с конвертом в руках. Он стал внимательно его рассматривать. Задумчиво произнес:
– В Москве семь десятков почтовых отделений. На конверте штемпель двадцатого. Девятнадцатое – на Арбатской площади, двадцать первое – на Большой Царицынской в Хамовниках. – Соколов наморщил лоб. – Но где двадцатое? – Сыщик начал в глубокой задумчивости вышагивать вперед-назад по гостиной.
Гарнич-Гарницкий произнес:
– Зачем мучиться? В справочнике посмотрим…
Соколов резво отозвался:
– Э, нет, обязательно надо вспомнить то, что забыл. Нельзя своим слабостям давать поблажку – никогда! Иначе память будет рассыпаться – медленно, но верно. Когда моложе был и, – он лукаво улыбнулся, – боксом не увлекался, память у меня была феноменальной. Скажем, мне требовалось не больше двух раз перечитать список всех городских почтовых отделений, и он прочно застревал в памяти. – Хлопнул приятеля по плечу: – Ну вот, вытащил из недр сознания. – Двадцатое почтовое отделение находится в Лефортовской части, на улице Княжнина, в доме тринадцать. Фамилия заведующего то ли Красин, то ли… Нет, фамилию не знаю! Я ни разу с ним дел не имел. – Засмеялся. – Иначе бы помнил, включая номер телефона.
Друзья попрощались.
Смертельная схватка
Не прошло и пяти минут после ухода раннего визитера, как раздался стук в дверь. В люкс вошел сам Джунковский. Соколов принял шинель, предложил:
– Завтрак, чай?
– Не до этого!
Джунковский в задумчивости немного походил по кабинету и резко повернулся к сыщику:
– Только что из Москвы срочная депеша. Похищен человек. И не какой-нибудь чистильщик обуви, а сам прокурор судебной палаты действительный статский советник Александров. Гнусная история! Почему похитили именно Александрова? На политических судебных процессах он порой напоминал не прокурора, но адвоката. Право, непонятно…
– Подробности известны?
– Только те, что найти человека не могут – ни живого, ни мертвого.
Помолчали. Джунковский возмущенно продолжил:
– Прежде убивали, становясь в героические позы, на улицах, на глазах сотен людей. Теперь похищать начали.
– С какой целью?
– Сам мечтаю узнать. Во времена молодого Толстого и Шамиля в горах чеченцы воровали русских офицеров с корыстной целью – выкуп просили. Тут, понимаю, нечто другое.
Джунковский остановился возле Соколова, глядя ему в глаза снизу вверх:
– Граф, поезжайте в Москву. Будем поддерживать связь через нарочного – каждый день он станет курсировать между Москвой и Петербургом. Я назначаю вас старшим по расследованию этого преступления. Нет, это не штучки уголовников. Чует мое сердце, что-то страшное на нас надвигается. То-то все живут словно в угаре: шампанское, канкан, всеобщий разврат.
Опять лихорадочно побегал по кабинету, подскочил к звонку, нажал.
Тут же влетел коридорный.
Джунковский не успел открыть рта, как Соколов опередил:
– Беги в ресторацию, принеси водки и необходимые закуски! Живо!
Уже откуда-то из коридора, замирая, донесся ответ:
– Слушаюсь…
Тревожное известие
Слуги были вымуштрованы великолепно. Желание постояльца воспринималось как приказ Цезаря черным рабам.
Кажется невероятным, но не прошло и трех минут, как с первого на четвертый этаж успели подняться услужающие. Постучав, в люкс степенно вплыл метрдотель. Его сопровождал лакей с горкой разнообразных тарелок. Сдерживая от быстрой ходьбы дыхание, прошли в столовую, накрыли принесенной скатертью стол и разложили серебряные приборы.
И тут же на пороге выросли трое официантов с подносами. Стол сразу же украсился запотелыми графинчиками с разнообразными водками, водрузили блюдо с раскрытыми на ледяных изумрудинах устрицами, шел пар от горячей картошки, в селедочнице лежал оформленный луком и зеленью малосольный залом, соблазнительной горкой возвышалась на тарелке маслянистая глыба паюсной икры, появилась нежно-розовая малосольная семга…
Метрдотель налил в рюмки водку и застыл у стены.
– Братец, можешь идти. – Джунковский сделал движение пальцами. – Горячие закуски через полчаса.
…Застолье длилось уже часа два. Обильный завтрак, хоть и медленно, двигался к завершению. Два государственных мужа тщательно и с фантазией продумали первые шаги по распутыванию дела о похищении прокурора.
Когда все тонкости этого странного и малопонятного дела были обсуждены, Соколов, упершись взглядом в Джунковского, огорошил его:
– Сегодня-завтра к вам, Владимир Федорович, пожалует Гарнич-Гарницкий.
Высокий гость удивленно поднял брови:
– Что-то приключилось?
– Да, история такая, что никакому Пинкертону не снилась. – И гений сыска кратко изложил суть происшествия.
Джунковский внимательно слушал, барабаня пальцами по подлокотнику кресла. Потом задумчиво произнес:
– Я докладывал государю, что на Россию накатывается страшная волна европейского заговора. Как бы она не смыла дражайшее Отечество. Ваши новости, Аполлинарий Николаевич, еще раз подтверждают мои самые страшные догадки. Военные карты со стратегическими дорогами, с нитками узкоколеек, с фортификационными сооружениями особенно интересны потенциальному врагу в канун нападения. Так-то, сударь мой!
– Зато в обществе повсюду веселятся, повальное гулянье и любовные флирты, игра в фанты и бутылочку, шампанское рекой льется. Рассказывают, перед тем как «Титаник» пошел ко дну, там тоже неестественно бурно веселились. Как бы дорогие россияне вскоре не прослезились!
Соколов прошел в кабинет, вынул из ящика анонимное письмо.
– Вот послание Елизаветы, а точнее, тех, кто стоит за нею.
Джунковский внимательно осмотрел конверт, вынул послание, два раза перечитал, задумчиво почмокал губами:
– Да-с… Много я отдал бы, чтобы найти автора.
– Могу у себя оставить письмо?
– Разумеется, коль скоро вам придется заниматься этой небывалой историей.
– Судя по почерку, писала женщина, довольно аккуратная, волевая…
Джунковский рассмеялся:
– Вы последователь психографологии Ильи Моргенстиерна?
– Во всяком случае, я уверен, что почерк в сильной степени говорит о внутреннем мире человека. И уж во всяком случае, лишь взглянув на руку писавшего, могу дать ему хотя бы поверхностную характеристику. Неряшливый почерк всегда соответствует неряшливому человеку.
Собеседники, вспомнив Моргенстиерна, имели в виду его толстенный труд почти в семь сотен страниц – «Психографология», вышедший в Петербурге в 1903 году. Автор подверг исследованию более двух тысяч автографов выдающихся людей и знаменитых преступников.
Этот ученый разговор был прерван неожиданным образом.
Нежданный визит
Вдруг дверь растворилась. Соколов поднял голову и остолбенел. Он увидал совершенно изумительной красоты и редкого нахальства даму – Веру Аркадьевну фон Лауниц.
Гостья раскраснелась от мороза, ее личико обрамлял мех прелестной шубки, а меха очень красят хорошеньких женщин.
Ее пытался удержать коридорный, твердивший:
– Барыня, барыня, сюда без доклада нельзя… Никак нельзя!
Вера Аркадьевна размахнулась своим обычным оружием – большим кожаным ридикюлем, норовя припечатать им голову коридорного:
– Пошел вон, дурак!
Тот от ридикюля увернулся, а гостья бросилась Соколову на шею.
– Ах, коварный обманщик! – смеялась она, не обращая внимания на Джунковского. – Ты – плут! Сколько водил меня за нос, а я тебе верила. Ох, жулик ты мой прожженный! Называл себя Штакельбергом, а на самом деле, – она наклонила голову Соколова, горячо дыхнула ему на ухо, – ты граф Соколов, знаменитый сыщик. Как я тебя люблю. А почему у тебя товарищ министра сидит?
– А ты хочешь, чтобы у меня сидел африканский лев?
Соколов поднял красавицу, словно пушинку, в воздух и поставил перед Джунковским:
– Владимир Федорович, позвольте вам представить свою избавительницу – госпожу фон Лауниц. Это та самая отважная дама, что в австро-венгерском Поронине, в самом логове большевистского главаря Ленина, быть может, спасла мою свободу. Она размозжила бутылкой вина голову печально известному Сильвестру Петухову. Петухов держал меня на мушке.
– С той поры у него мушки в голове летают, – звонко расхохоталась гостья. – Его лечат в психиатрической клинике Дрездена.
Джунковский, при виде очаровательной особы, весь преобразился, приосанился.
– Женской природе любезен шампанский напиток.
Был вызван ресторанный лакей, который принес в ведерке со льдом шампанское. Выпили по бокалу.
Джунковский продолжил:
– Вы совершили героический поступок, госпожа фон Лауниц. – Шеф российских жандармов, блестя золотом погон, с чувством поцеловал ей руку. Немного подумал и произнес: – Вы сохранили жизнь и свободу замечательному сыну Российской империи, любимцу государя графу Соколову. Если ваш супруг, важный чиновник германского МВД фон Лауниц, не сделает вам скандала, то Министерство внутренних дел Российской империи будет счастливо наградить вас ценным подарком за исключительное мужество.
Вера Аркадьевна вся расцвела.
– Плевала я на своего Лауница. Он бегает за мной как собачка. Спасибо за подарок! А когда дадите? Дешевые штучки не присылайте. – Перешла на доверительный тон: – А я-то удивилась, что Штакельберг, то есть граф Соколов, якобы немец.
– Почему? – с легкой улыбкой спросил Джунковский.
– А потому, господин генерал, что в Германии таких мужиков не было и не будет. Вот мой муж – германец. Пива и шнапса нажрется, придет домой, от него по всем комнатам трактиром разит. Не успеет головой подушки коснуться, и уже, – рассказчица выразительно закатила глаза, – «хр, хр»! Я его кулаком по лысине: ты, мол, чего, не видишь, какая красавица рядом с тобой лежит? У тебя в душе ничего не шевелится, никакое законное и естественное желание не жжет тебя? А он мне: «Ах, моя фрейлейн, сегодня я устал! Завтра!» – Вера Аркадьевна по-матросски сплюнула на ковер. – Тьфу! Завтра, завтра, только не сегодня. Настоящий мужчина при виде женщины должен, словно племенной бык, наливаться буйной кровью и делаться неукротимым, без раздумий бросаться в ее объятия! Как великий граф Соколов.
Джунковский в восторге хлопнул в ладоши:
– Какая прелесть, как выражается! – и повернулся к Соколову. – Соблазнительна до крайности.
Сыщик галантно спросил:
– Шампанского еще хочешь?
– И не только шампанского! Тебя тоже хочу. – Тяжелое пролетарское детство Веры Аркадьевны время от времени прорывалось наружу. – Еще бутылку, и самого дорогого.
– Дешевым не угощаем, тем более роскошных дам, – вставил слово Джунковский.
– Кстати, господин генерал, вы на службу не опаздываете, а? – нахально состроила глазки Вера Аркадьевна. Ей не терпелось остаться вдвоем с возлюбленным.
На прощание Джунковский пожал Соколову руку и с душевными нотками произнес:
– Очень на вас надеюсь, милый Аполлинарий Николаевич!
Соколов подумал: «Ко мне, как к знаменитому доктору, на прием приходят…»
Духи для блондинок
В номер внесли вино и фрукты.
Соколов взял анонимное письмо, адресованное Гарнич-Гарницкому, и обратился к гостье:
– Ласточка, пока ты еще не вкушала вина, понюхай эту бумажку, скажи, следы каких духов она хранит?
Вера Аркадьевна втянула в себя воздух один, другой раз и решительно произнесла:
– Это «Пастораль», довольно дорогие духи. Маленький флакон стоит тридцать рублей. Но я лично предпочитаю «Суламифь» – сорок два рубля. «Пастораль» хороша для девушек-блондинок, а для молодых дам с каштановым цветом волос элегантней «Суламифь».
– Какая фабрика выпускает «Пастораль» – заграничная или?..
– «Ралле», это наша, российская. Ну давай, тигр ты мой бенгальский, выпьем! – Вновь прильнула к уху, зашептала: – У тебя здесь подслушивают?
Соколов неопределенно пожал плечами:
– Не знаю, все может быть!
Тогда Вера Аркадьевна страстно зашептала:
– Давай еще раз выпьем и предадимся самому сладкому на свете – любви. Твое здоровье, неукротимый ты мой!
Вера Аркадьевна выпила, съела кусок ананаса и бодро проговорила:
– Я топ-топ – в ванную комнату! Ох, как тебя вожделею. Всю ночь, граф, ты снился мне. – Запела:
– «Ты снился мне в сиреневом тумане…» С трудом дождалась утра. – Опять прильнула к уху: – Я тебе подарок принесла. – Она кивнула на свою сумку.
Соколов, удобно сидевший в кресле, нутром почувствовал: начинается нечто интересное!
И он не ошибся.
Любовные и прочие секреты
Блестя капельками влаги на голом теле, из ванной появилась Вера Аркадьевна. Она шла к Соколову, протянув руки и оставляя за собой на ковре влажные следы. При каждом шаге сотрясались упругие мячики грудей с налившимися сосцами. Она с притворной ворчливостью сказала:
– Где мой халат? Или хотя бы простыню дай!
Вдруг, схватив сыщика за руку, увлекла его за собой в спальню. Повалив на широкую постель, жарко задышала:
– Мой граф, мое сокровище, как я соскучилась по тебе! Каждый день ты был в моих мыслях. Я не могу больше без тебя. От страсти сгораю! Я тебя очень люблю. Давай сбежим куда-нибудь далеко-далеко, в какую-нибудь глухомань, скажем, в Америку. Я буду твоей рабыней. Хочешь самую красивую рабыню?
Она начала страстно целовать его обширную грудь, нашла его губы и надолго присосалась к ним. Томно закатывая глаза, произнесла:
– Ну, милый, разденься скорей! Не заставляй девушку изнывать в любовной истоме. От этого девушка быстрей стареет.
Соколов засмеялся:
– Зато бурная любовь сообщает женщине красоту и здоровье.
– Ах, дорогой граф, какие правильные слова ты сказал! Налей еще вина и согрей теплом своего атлетического тела несчастную девушку. Иначе обижусь и тебе ничего не расскажу… А мне есть что рассказать! – И лукаво состроила глазки. – И показать!
О патриотизме
Через час, разглядывая богатую лепнину на потолке, Соколов произнес:
– А в Поронине ты выказала себя героиней. Настоящая Жанна д’Арк. Ты знаешь, кто такая Жанна д’Арк?
Гостья фыркнула:
– Ты думаешь, что я совсем дурочка? Я знаю про эту девушку, даже в театре спектакль смотрела. Отчаянная была, но несчастная! – Она улеглась поверх сыщика и уставилась в него своими светящимися глазами. Вздохнула. – Никто ее не любил…
– Ну конечно, она жила во время Столетней войны. Вера Аркадьевна округлила глаза:
– Что, и вправду сто лет сражались?
– Хоть и с перерывами, но больше – с 1337 по 1453 год.
– А кто с кем воевал?
– Французы с англичанами. Жанна была французской крестьянкой.
– Ее убили?
– Ее сожгли на костре.
– Кто сжег?
– Англичане.
– Ах, дураки глупые! Это ведь очень больно, когда сжигают на костре. – Вера Аркадьевна нахмурила бровки, надолго замолчала, явно что-то обдумывая. Поцеловала графу шею, начала гладить маленькой теплой ладошкой щеку Соколова. – Скажу тебе, любимый, честно: я за Родину не могла бы погибнуть. Я вообще не понимаю, что такое Ро-ди-на. Российская империя? Но в ней кроме хороших людей живет столько плохих, которых я не люблю. Помнишь этого, который тебя хотел застрелить, а я ему бутылкой голову проломила в Поронине?
– Сильвестр Петухов?
– Он самый. Или маленький лысый Ленин со своими бабами – Крупской и Арманд. Они ведь тоже из России. Или убил великого князя Сергея Александровича – Каляев. Я должна за всю эту мерзость погибнуть, как Жанна д’Арк? Сражаясь против них – могу, да и то не хочется.
– Да тебя никто и не просит погибать, живи до ста лет. Станешь чулки вязать, внуков учить на фортепьяно и напишешь мемуары «В алькове с графом Соколовым».
– Знаешь, что Ленин делал? Он закрывался на задвижку в комнате с Арманд, а ключи нарочно вынимал из дверей. Бедная Крупская наблюдала в замочную скважину их любовные утехи, кричала и билась головой о двери. А эта парочка хохотала, словно в цирке веселились. Я сама была свидетельницей этих диких сцен. Откуда столько жестокости? И я должна за этих… погибать, и только потому, что они тоже родились в России? Никогда!
О любви
Соколов не ответил.
Тогда Вера Аркадьевна опять уставилась в него сумасшедшим взглядом и с каким-то восторгом произнесла:
– Но я могу погибнуть ради своей любви! – Вдруг ее глаза наполнились слезами. – Погибнуть ради любви к тебе, милый граф. Ах, какая была бы сладкая смерть – уйти с твоим именем на устах! Я так тебя обожаю. – И на сей раз она с нежностью поцеловала возлюбленного в плечо.
– Как ты узнала, что я в Петербурге?
– Очень просто! Я дала деньги в тех ресторанах и гостиницах, где ты бываешь, чтобы мне протелефонировали, как только появишься. Вот мне и сообщили сразу из двух мест – из «Астории» и из «Вены».
– И кто известил?
Вера Аркадьевна шаловливо улыбнулась:
– Свою агентуру не сдаю!
Она набросила одеяло на их головы и, прильнув к уху Соколова, прошептала:
– Я ведь теперь все про тебя знаю, ты полковник российской охранки. Сейчас кое-что скажу, а ты запомни: Германия скоро начнет войну с Россией.
Соколов сбросил с головы одеяло.
– Откуда у тебя такие сведения?
– К нам в субботу приходил с супругой Гельмут фон Луциус…
– Это советник германского посла?
– Ну да, Пурталеса… Поначалу они уединились в бильярдную, все там о чем-то шептались. А позже, за столом, водочки приняли, раскраснелись и уже вовсю спорили о сроках всеобщей мобилизации, об усилении агитационной и террористической деятельности в России и еще о чем-то. Да о той же мобилизации: дескать, надо сорвать новый призыв в армию в России. И в связи с этим что-то про Государственную думу вспоминали, про какого-то Малиновского… Я ведь не все слыхала. Меня постоянно болтливая Луиза отвлекала, супруга советника.
– А еще какие-нибудь, кроме Малиновского, имена упоминали?
– Да, Ленина, к примеру. Пурталес был недоволен, что германское правительство на него ставку делает, называл его «плешивым недоноском». А муж мой, наоборот, защищал Ленина, говорил, дескать, необходимо его активней субсидировать.
– Что еще?
– А еще вспомнили какого-то прокурора, кажись, Александрова. И очень при этом хохотали, ржали, словно жеребцы. Чего веселились? Право, не поняла. И больше ничего услыхать мне не удалось, вот истинный крест.
Вдруг обхватила обеими руками шею Соколова, потянула к себе:
– Ой, надоели мне эти мужские глупости! Иди, миленок, ко мне, ну же, скорей!
Государственные секреты
Потом, облизывая языком припухлые губы, томно говорила:
– Тебе что, списки агентов нужны? Ну, ласковый мой, не отказывайся. Ты в Поронино за какими-то списками мотался? Ленин сам об этом на всю деревню кричал, обзывался на тебя нецензурно. Да я тебе сколько хочешь всяких секретных бумаг притащу, у моего Лауница два сейфа набиты ими.
Соколов с деланым равнодушием произнес:
– Может, там ресторанные счета или другой мусор? Как ты разберешься?
Вера Аркадьевна задышала графу в лицо.
– Чего я, дура, что ль? – Малость подумала, предложила: – А хочешь, сам приходи, когда мужа не будет. Выгребай все, что хочешь, – для тебя, орел мой ясноглазый, ничего не пожалею. Слышь, а нынче я тебе принесла некоторые бумажки. Я взяла их на время из сейфа фон Лауница. Это список немецких фирм. Об этих делах особенно жарко спорили Пурталес и фон Лауниц. Другой раз, если удастся, я принесу список некоторых российских агентов, которые работают на Германию.
– Покажи!
Вера Аркадьевна встала с постели. Широкий солнечный сноп, бивший в окно, осветил, словно на сцене, ее нежно-розовое тело. Покачивая бедрами, она подошла к креслу, вынула из сумки пакет и передала его Соколову.
Тот, испытывая редкий азарт и волнение, достал первый попавшийся в руку документ. Это был бланк с грифом министра иностранных дел Германии фон Ягова. Он содержал текст на немецком языке, напечатанный на пишущей машинке:
«Уважаемый фон Лауниц!
Благодарю за последние сведения о российских банках, в которых наиболее сильны экономические связи с нашим государством. В преддверии грядущих, известных Вам событий работу в этом направлении необходимо всячески усиливать.
В связи со сказанным обращаю Ваше внимание на Русский для внешней торговли банк. Необходимо самым спешным образом наладить более тесные контакты с председателем правления г-ном Давыдовым. Берлинский Дойче банк в лице Гельфериха готов выделить необходимые средства для этой работы.
Главное негласное воздействие на крупнейшие и средние российские банки, то, о чем мы с Вами говорили во время нашей последней встречи в Берлине, – замаскированное под видом различных якобы негерманских фирм участие нашего капитала…»
Далее шел перечень банков, с которыми необходимо было «работать». Другой документ содержал перечень мер, необходимых для срыва или ослабления нового призыва в российскую армию.
– Умница, но ты понимаешь, что все эти бумажки надо нынче же положить на место? Да так, чтобы твой славный муженек ничего не заметил.
– Конечно, мой Лауниц уехал на встречу с резидентом, потом будет на обеде в посольстве, домой вернется часам к семи вечера.
– Как имя резидента?
– Он не назвал его. Фон Лауниц, в отличие от тебя, лю-убит меня ужас как! Он ничего от меня не скрывает. Я и не спрашиваю его, а он сам: к резиденту, говорит, нынче еду. Очень, дескать, встреча ответственная. Я же не дура, не буду спрашивать: какая у него кличка да где живет?
– Ты, красавица, очень умная. И ничего пока не расспрашивай. Только при удобном случае, может, в постели да перед сном, скажи: «Все говорят, что в Москве пропал какой-то прокурор. Не слыхал, не нашли его еще?» И все, больше ни-ни!
Вера Аркадьевна вновь стала целовать грудь Соколова, приговаривая:
– Буду, буду осторожной, как мышка! – Вдруг приподнялась на локтях. – А ты меня не бросишь? Ты меня люби, пожалуйста, очень сильно. И к другим бабам не ходи. А то на тебя все пялятся – уж очень ты хорош, мой разлюбезный граф! Ну прошу, поцелуй меня. – И она, словно большая грациозная кошка, что-то мурлыкая, сладко потянулась.
Соколов взял руками ее голову, заглянул в лицо, поцеловал в нос и жестко произнес:
– Ты знаешь, чем тебе грозит провал? Немцы тебя надолго посадят в тюрьму или расстреляют. И фон Лауниц тебя не спасет.
Вера Аркадьевна глухо застонала.
– Он первым от меня откажется. Как я его ненавижу, какой он мелочный! Лучше погибнуть за час любви с Соколовым, чем до конца дней спать с постылым мужем. – Помолчала, поводила пальчиком по щеке сыщика, доверительно произнесла: – Когда ты рядом, я ничего не боюсь. Ей-богу! Ну а если что случится, ведь ты меня выручишь, правда?
Соколов подумал: «Это хорошо, что она пришла! Но женщина надежна только до той поры, пока любит. Кто это метко сказал: „Для женщины прошлого нет. Разлюбила, и стал ей чужой“? Ах, это Бунин вчера свои стихи в „Вене“ читал. Очень тонко подмечено». Вслух произнес:
– Конечно, сделаю все возможное! Но… не обольщайся. Я ведь не могу победить всю германскую контрразведку. Там очень умные ребята есть.
Он подошел к телефонному аппарату, соединился с Министерством внутренних дел. Отыскал Джунковского. Произнес:
– Владимир Федорович, срочно пришли Жукова. Пусть возьмет с собой необходимое.
Товарищ министра удивился:
– Вот как? Любопытно-с! Я сам с ним приеду. Не возражаешь?
– Буду рад, но не раньше, чем через час.
Джунковский рассмеялся:
– Чтобы не сочли за дезертира любовного фронта?
– Или за труса, отказывающегося от сладостной и триумфальной виктории.
* * *
Когда Соколов вернулся в спальню, Вера Аркадьевна с веселым хохотом повисла на его шее:
– Любимый, что-то пауза затянулась!
– Согласен. Пауза в любви должна длиться чуть дольше паузы на сцене! По новейшей системе Станиславского.
– Нет, по системе графа Соколова!
Фото на память
Когда Джунковский и Жуков прибыли в люкс, Вера Аркадьевна из спальни не выходила. Так распорядился Соколов. Едва взяв в руки список немецких фирм, которые вели разведывательную работу в Петербурге и с которыми работал фон Лауниц, Джунковский поднял вверх большой палец и тихо восторгнулся:
– Замечательно! – Он с чувством пожал руку Соколову. – Обязательно продолжай эту работу.
– Но я сегодня же должен уехать в Москву.
– Что делать! – шумно выдохнул Джунковский. – Дел нынче у нас много, а граф Соколов, увы, один. – Он кивнул фотографу: – Жуков, приступай.
Фотограф, полноватый, с артистическим шиком одетый мужчина, в накрахмаленной рубахе и шелковом галстуке, с коротко подстриженными усиками, уже успел сбросить на кресло казенное пальто с котиковым воротником и шапку. Теперь он доставал из обширного баула репродукционную камеру, магниевую подсветку и со свойственной ему назидательной манерой укоризненно обращался к Джунковскому:
– Сто раз говорил, чтобы деньги дали на пластинки для репродукций. Называются бромосеребряные коллодийные. Не дают! Хорошо, что своих пяток остался. Работать не на чем!
– Николай, хватит болтать! Снимай, да побыстрей! – строго прикрикнул Джунковский и начал осторожно разворачивать документы – германские государственные секреты.
Фотограф Жуков был замечательным мастером. Любопытна его судьба. Родителей он не знал, ибо был подброшен на порог нижегородского приюта. Когда ему было лет десять, он напросился на работу мальчиком к знаменитому фотографу с Осыпной улицы Андрею Карелину.
Мальчишка мыл полы, бегал в лавку за колбасой, относил заказы – и все исправно, не по-детски точно и обязательно.
Карелин стал обучать Кольку своему ремеслу, поставил его лаборантом. Тот оказался смекалистым. К восемнадцати годам он досконально знал все о линзах, о фокусном расстоянии, о поле изображения, о выборах объектива, о фильтрах, об одинарных и двойных кассетах, о дорожных и стативных камерах и прочее, прочее.
В 1890 году с ним произошел курьезный случай. Николай Жуков приехал по делам своего ателье в Петербург. Закупив необходимое новейшее оборудование и материалы, встретил знакомца и отправился с ним в трактир на Невском. Здесь они выпили сверх меры, на улице малость пошумели, кого-то зацепили разок по морде. За все эти художества были доставлены в участок.
Когда составляли протокол, дежурный офицер удивился:
– Говоришь, фотограф? Не врешь, что у Карелина служишь? Как раз в команде фотографов вакансия открылась. Давай, Жуков, я тебя под конвоем отправлю в приемную Клейгельса. И дам сопроводительное письмо. Еще благодарить меня будешь. Служба у фотографов замечательная, спокойная – трупы и задержанных преступников снимать на пленку и все прочее, что требуется по обстоятельствам. И дактилоскопию проводить будешь, дело нехитрое.
Жуков спросил:
– Ваше благородие, а кто такой Клейгельс?
Дежурный расхохотался:
– Ну, братец, ты точно деревенский. Николай Васильевич Клейгельс – генерал-адъютант и наш градоначальник. Да не бойся, генерала ты и не увидишь, тебя направят к начальнику отряда.
…В тот же день и решилась судьба Жукова, он стал полицейским фотографом с весьма солидным жалованьем двести рублей в месяц и казенной квартирой.
Итак, Жуков все переснял, убрал аппаратуру, подозвал полицейского извозчика и отбыл проявлять, закреплять, промывать и печатать.
Торжествующий Джунковский отправился прямиком к министру Маклакову. Он доложил о вербовке важного осведомителя.
Министр, выслушав Джунковского, покачал головой.
– Ну и Соколов! – и с восхищением произнес простонародную поговорку: – На ходу подметки режет. Одно слово – гений сыска. Как Толстой в литературе.
– Да, супруга фон Лауница агент наиважнейший. – Смягчил, сколько смог, свой хриплый, командный голос. – Хорошо бы ее деятельность поощрить. Преподнести, скажем, бриллиантовую брошь от Фаберже.
Министр был человеком прижимистым. Он сложил губы в трубочку, промурлыкал мотивчик из «Аскольдовой могилы» и наконец возразил:
– Не рано ли? Муж заметит подношение, допытается до правды, отправит ее в Берлин. И тогда – прощай, важный осведомитель!
– Он ее любит и раболепно поклоняется.
– То есть делает все возможное, чтобы охладить к себе супругу?
Джунковский продолжал:
– Мы ведем на эту семейку плановую разработку. Среди слуг есть наш осведомитель. От него известно, что Вера Аркадьевна поколачивает своего высокопоставленного муженька. Она заставляет делать его столь неприлично-унизительные вещи, что говорить стыдно.
Маклаков сделал еще одну попытку:
– Но Вера Аркадьевна богата. Ею движет любовь. Она стала агентом из страсти к Соколову.
Джунковский выложил последний, самый главный козырь:
– Любая женщина мало отличается от папуаса: любит все блестящее, и желательно – дорогое.
Министр сдался. Вместо просимых полутора тысяч рублей он решил дать тысячу. Но когда пришел кассир, решил еще удержать немного для казны:
– Оформите и передайте Владимиру Федоровичу из секретных сумм девятьсот пятьдесят рублей.
Джунковский не выдержал, расхохотался.
Маклаков покраснел:
– Я не для себя, для казны экономлю! Кстати, очень одобряю, что вы, Владимир Федорович, отказались от охраны. Бог милостив, сохранит вас для России, а четверым бездельникам больше не надо жалованье платить. Пусть в городовые идут.
В тот же день Соколов простился с Верой Аркадьевной. Глядя в ее полные нежности глазищи, внушительно произнес:
– Никаких самостоятельных шагов не предпринимать! О наших встречах никому ни слова.
– Граф, не держи меня за дурочку. – С любовью глядела в его лицо. – Ох и потешил ты меня сегодня – до гробовой доски помнить буду. Я для тебя, милый, сделаю все, что ты захочешь.
– Мне надо съездить дня на два в Москву, и я вернусь к тебе, дорогая. Я очень буду скучать…
Но граф в сроках ошибся. Не зря народ молвит: «Человек предполагает, а Господь располагает».
Дилижансы и паровозы
Путь из новой столицы в старую был привычным и даже приятным.
Это в былые времена, когда наши прабабушки носили кринолины, гадали о снах по Мартыну Задеке, прадедушки победителями вернулись после войны с Наполеоном и за ночь проигрывали в карты деревеньку с двумя сотнями крепостных душ, – в те романтические годы дорога в шестьсот девяносто восемь верст с четвертью была сущей каторгой. Несколько суток приходилось томиться в громоздком дилижансе или трястись, обдуваемому всеми ветрами, в немыслимой коляске.
За сомнительную радость получить место внутри дилижанса приходилось платить сто рубликов ассигнациями – деньги немалые даже для лиц состоятельных. При этом билет требовалось приобрести загодя, а накануне отъезда следовало явиться в контору дилижансов, сдать паспорт и свидетельство полиции, что к выезду пассажира препятствий не имеется.
Замечательный монарх и талантливый созидатель Николай I, оболганный потомками, соединил обе столицы железнодорожной ветвью. И жизнь путешествующих россиян сразу изменилась к лучшему.
Теперь нарядные мужчины и дамы, расположившись в удобных, отделанных кожей и деревом купе, с жуткой скоростью, семьдесят верст в час, неслись к Белокаменной. В уютных вагонах был разлит яркий электрический свет, царила чистота, тепло и довольство.
Поезд номер 100 отходил от перрона Московского вокзала в одиннадцать вечера.
Сыщик вспрыгивал в вагон за минуту до отправления и никогда не опаздывал. Вагон был синего цвета, то есть первого класса. Душ, туалет, комплект столового серебра, хрустальные графины и бокалы – не езда, наслаждение!
Гений сыска, коли явилось бы такое желание, мог заказать для себя салон-вагон (полтора рублика за версту) или даже экстренный поезд. Но по природной скромности никогда этого не делал.
Поверх мундира сыщик надел свою богатую шубу, а на голове, подчеркивая гигантский рост, была круглая меховая шапка, которую, глядя на сыщика, стал носить и Шаляпин.
Возле дверей соседнего, четвертого купе стоял приземистый, весьма плотного сложения рыжеволосый человек с глубоким шрамом на левой щеке, в новом шевиотовом костюме. На болезненно-бледном бритом лице выделялись водянистые глаза. Они глядели холодным, оценивающим взглядом.
Рыжий молча поклонился сыщику.
Ударил колокол, провожающие, торопливо целуясь и тараторя на ходу, спешили выскочить из вагона.
Собакевич
Еще не миновали Фарфоровый пост, как сыщик снял мундир, аккуратно повесил его в шкаф.
Под душем он был недолго, а когда выходил из него в дорожном халате, услышал громкий, настойчивый стук в дверь.
На пороге стоял высокий человек лет сорока, с копной темных волос, курчавящихся на голове и в бороде, с крупными чертами медного цвета лица, с бараньими, навыкате глазами, глядевшими на мир требовательно и смело. На нем был надет двубортный сюртук с желтыми металлическими пуговицами, плохо сходившийся на объемистой груди. В таких сюртуках обычно ходят писари заштатных управ.
Соколов подумал: «Удивительно похож на Собакевича, про которого Гоголь сказал, что скорее железо простудится и станет кашлять, чем этот дядя».
Напуская на себя развязанность бывалого гусара, покачиваясь в такт вагону, незнакомец громко произнес:
– Почему дверь, милостивый государь, не открываете? Я кулак свой из-за вас натрудил, во, глядите, весь красный.
– Я не мог открыть.
– То есть? – Вид у визитера был самый решительный.
– Фальшивую монету делал.
Незнакомец пожевал мясистыми губами и строгим голосом брякнул:
– Не советую вам, лицу статскому, столь неуместно шутить с кавалерийским офицером. – Тут же поправился: – С бывшим офицером.
Соколов, удержав смех, серьезным тоном ответил:
– Брр, я уже испугался!
– То-то! Позвольте представиться: кавалерист в отставке Семен Кашица. С кем имею честь? – И он сделал энергичную попытку подкрутить усы, но вагон качнуло, и кавалерист обязательно бы грохнулся, если бы судорожно не уцепился за дверную ручку.
Соколов решил не упустить случай повеселиться. Он изобразил некое подобострастие:
– С вашего позволения, коммивояжер Соколов.
Кавалерист Семен Кашица произнес:
– В соседнем, четвертом купе мой дорожный товарищ. Достойный, доложу вам, человек. Потомственный дворянин. Не желаете ли вы составить нам компанию в карты?
– Не желаю!
Кавалерист изумленно округлил глаза, словно был уверен: в дороге лучше картежной игры ничего не бывает. Наступая на Соколова и все более распаляясь от гнева, закричал:
– Как? Отчего же? Ах, сударь, вам заносчивость не позволяет! Может, вы опасаетесь за свой капитал? У нас компания честных людей. Вам нечего нас бояться. Если вы не желаете рисковать, то мы можем играть по маленькой.
Соколову эти разговоры надоели. Он подошел к кавалеристу:
– Пшел отсюда, дурак! – и грудью так толкнул картежника, что тот вылетел в открытую дверь, сильно стукнулся затылком и распластался на ковровой дорожке.
Сыщик повернул ключ замка.
* * *
Соколов всегда брал в дорогу книги. Теперь с ним был роскошно изданный, на дорогой бумаге и с иллюстрациями Бенуа том «Пиковой дамы».
Он прочитал эпиграф:
«Пиковая дама означает тайную недоброжелательность.
Новейшая гадательная книга.
А в ненастные дни
Собирались они
Часто;
Гнули – Бог их прости! —
От пятидесяти
На сто…»
После Пушкина принялся за том Константина Батюшкова «Опыты в стихах и прозе», вышедший в 1817 году. Соколов открыл наугад – выпала сороковая страница, глава «О характере Ломоносова»: «По слогу можно узнать человека… Характер писателя в его творениях. По стихам и прозе Ломоносова мы можем заключить, что он имел возвышенную душу, характер необыкновенно предприимчивый и сильный…»
Задумчиво посмотрел в ночную мглу, стремительно убегавшую за окном: «Прекрасно и точно подметил поэт! И все же… Разве имеет возвышенную душу особа, которая писала послание Гарнич-Гарницкому и которая помогает убийцам?»
В дверь вновь настойчиво долбанули, начали стучать громче прежнего.
Азартные соседи
Соколов положил книгу на столик, распахнул дверь. И вновь, раскачиваясь в такт вагону, стоял кавалерист. Выпучивая глаза и раздувая щеки, он сердито смотрел на Соколова. Крикнул:
– Не позволю в грудь толкать! Ва-ам, сударь мой, наглость не пройдет-с. Я дуэлянт отчаянный, кодекс назубок знаю-с. Напоминаю невеждам: «Для наличности оскорбления действием-с необходимо прикосновение или попытка к тому. Прикосновение равносильно удару». Глава третья, параграф «С». – Кавалерист сделал ударение на последней «а». – Оскорбление третьей степени-с. Вызываю драться на пистолетах. Как только остановимся в Бологом – к барьеру, там остановка полчаса. Не сомневайтесь, коммивояжер, я вас успею застрелить, а секунданта сей миг пришлю.
Соколов, уже не скрывая усмешки, сказал:
– Зачем же такая кровожадность, любезный? Сразу же – дуэль! Тем более что на дворе тьма кромешная. Может, позволите до Москвы подождать?
– Не позволю-с! – Сделал паузу. – Впрочем… как там вас зовут… у вас есть шанс.
– Как приятно! Может, мне удастся задобрить вас и избежать стрельбы?
– Во-первых, вы попросите прощения. Во-вторых, предлагаю: пройдем в соседнее купе раскинуть партию. Устроим, так сказать, дуэль картежную. Га-га! – Кавалерист громко зареготал.
Соколов развел руками:
– Насчет прощения, боюсь, ничего не выйдет. А вот в карты, если вы так настаиваете, то я в безвыходном положении, вы меня вынудили.
– То-то! И не пытайтесь улизнуть-с, я страсть как не люблю статских штафирок. – Кавалерист подергал волосатыми ноздрями.
Соколов, вновь напуская на себя застенчиво-смиренный вид, поинтересовался:
– Мне переодеться или так позволите, по-простому?
– Да хоть в исподнем, – с раздражением отвечал кавалерист. – Только деньги возьмите. Я, знаете, в долг не играю.
– Зачем в долг, наше дело дорожное, – вздохнул Соколов. – Тут, конечно, сподручней сразу расчет сделать.
Соколов отправился на игру.
* * *
Гений сыска вошел за кавалеристом в прокуренное соседнее купе. Развалившись на диване, в непринужденной позе сидел с узким, полуинтеллигентным лицом, с ежиком рыжеватых волос, с тонкой, по новейшей американской моде, ниточкой усов и со шрамом через всю щеку человек лет тридцати, тот самый, который раскланивался с сыщиком прежде, в коридоре вагона. Он протянул влажную ладонь:
– Иван Гаврилович Елагин, потомственный дворянин! Простите назойливость моего соседа, он человек добрый, но сейчас выпивши.
На столике стояли две бутылки малаги, одна из которых была уже пустой, валялись кости от съеденной курицы, моченые яблоки, большой кусок вареной колбасы и здоровый охотничий нож с широким лезвием, которым свежуют медведей.
Кавалерист, довольный собой, обратился к рыжему:
– Позвольте, Иван Гаврилович, представить нашего дорогого соседа, коммивояжера, э-э… – посмотрел на графа, – пардон, фамилию вашу запамятовал.
– Соколов.
– Господин Соколов изъявил горячее желание играть. Так говорю?
Соколов усмехнулся.
– Какое уж там желание, под угрозой смерти завлекли сюда. Вот этот отважный господин, – кивнул на кавалериста, – угрожает: «Застрелю в Бологом! Или играй». А я играть, может, толком не умею.
Игра
Рыжий осклабился, показав, желтые зубы.
– Малаги, сударь, примите. Все для организма радость. – И он в мутный стакан плеснул вина.
– Не пью! – коротко ответил Соколов.
Кавалерист дыхнул табачным запахом.
– Вот это нехорошо – от угощения отказываться! Выпью сам. – И, наполнив стакан, залпом выдул его.
Рыжий, как настоящий игрок, был совершенно трезв. Он примиряюще молвил:
– Это личное дело – пить не пить. Будем метать?
– Можно, коли честная компания не возражает! – отвечал Семен.
– Ставки делаем!
Соколов медленно вытащил из кармана пухлый зеленый бумажник из крокодиловой кожи, открыл его на столе.
Игроки жадными взглядами впились в бумажник.
Соколов со всей торжественностью из толстой кипы ассигнаций вытащил пять «катюш» и положил их под карты. Бумажник оставил на столе. Обвел взглядом игроков:
– Банку пятьсот. Играть не умею, но люблю.
– Однако! – крякнул кавалерист.
Он долго лазил по всем карманам, собирая деньги. Потом наклонился к уху рыжего, что-то зашептал. Острый слух Соколова уловил:
– В долг… верну… Ведь притащил пациента!
Соколов чуть усмехнулся: «Это я „пациент“, сейчас „лечить“ начнут. Ну да кто кого!»
Рыжий скривил рот, похлопал себя по карманам.
– И где мой лопатник? Во, под себя засунул и забыл. – Вытянул из портмоне сторублевую бумажку и протянул кавалеристу. Затем и сам сделал ставку.
Кавалерист взял нож, отрезал толстый кусок колбасы и начал с жадностью жевать.
Рыжий распечатал новую колоду карт. С хитрым прищуром посмотрел на Соколова:
– Вы как пойдете гнуть, так у вас всякий банк небось затрещит?
– Облапошите нас вчистую! – ухмыльнулся кавалерист. – Завтра в Белокаменной в одном исподнем высадимся.
«Сейчас начнет из себя „валежник“ изображать, – подумал Соколов. – Вот уже колоду держит неумело, словно голой рукой горячий утюг. Теперь делает фальштос – будто по-честному тасует!»
Рыжий стал метать, и было полное ощущение, что он карты едва ли еще раз в жизни видел.
Соколов улыбнулся своей догадке.
Кавалерист все время краснел, волновался и быстро ставил карту за картой.
Рыжий оставался совершенно спокойным, словно на кону стоял стакан семечек, а не годовое жалованье какого-нибудь коллежского асессора.
Соколов, по своему обыкновению, тоже не выказывал никаких чувств. Он знал весь расклад: «Кавалерист – игрок, но сейчас пьяный, игры у него не будет. Рыжий позволит мне выиграть две-три первых метки. Потом и шестерик погонит, пока не выбьет меня окончательно из денег. Мастер высокого класса! Техникой берет».
Сильными, красивыми пальцами, оставаясь внешне равнодушным, сыщик загибал углы.
Рыжий продолжал отчетливо, словно машина, метать, полностью сохраняя непроницаемость.
Кавалерист нервно теребил бородку. Вдруг его щеки стали белыми, а на лбу высыпала испарина: его карты были биты.
Рыжий шумно выдохнул:
– Ваша! – И он выразительно посмотрел на Соколова.
Соколов безразличным тоном произнес:
– Моя ставка – полторы тысячи рублей, – и, словно извиняясь, добавил: – Уж очень я азартный.
Кавалерист шмыгнул носом.
– Я выхожу из игры. Эх, везет людям. – И, выпив вина, снова отрезал себе колбасы. Он вздохнул, выковыривая пальцем мясо из зубов. – Фраерское счастье светлее солнца! – Уловив особый взгляд рыжего, он с наигранным весельем крикнул: – С такого выигрыша положено шампанское ставить! Не каждый день так везет.
– Неси выпивку и закуску! – сказал Соколов и протянул двадцать рублей.
Рыжий сделал удивленное лицо:
– О, да вы, сударь, человек фартовый! Играете по-крупному, угощаете по-щедрому.
Кавалерист криволапо заспешил, затопал по коридору.
– Везет вам, господин Соколов! – вздохнул рыжий. – А я, пожалуй, с горя сейчас напьюсь.
– Разве это честная игра – вы, сударь, напьетесь, а я трезвый, как жених на свадьбе? – сказал Соколов, поняв, что его хотят напоить, чтобы вчистую обыграть. И он сделал вид, что клюнул на эту удочку.
– Тогда и вы малость душу порадуйте, господин коммивояжер! – обрадовался рыжий.
В это время в купе влетел задыхающийся Семен. За ним с трудом поспевал ресторанный лакей с бочонком, в котором среди льда лежали три бутылки шампанского. Другой лакей поставил на стол поднос, на котором на хрустальных кусочках льда темнели устрицы, вазу с персиками и виноградом и стал наливать в принесенные фужеры шампанское.
Выпили за приятное знакомство, затем за полезное провождение времени, за счастливое прибытие…
– Беги, Семен, в ресторан, пусть еще три шампанских несут, – малость заплетающимся языком молвил рыжий. Он твердо решил напоить Соколова, который пил с ним заровно.
Лакеи снова принесли три бутылки, на сей раз хорошего редерера – французского шампанского – и шоколад.
– Открой, любезный! – барственным тоном распорядился Семен.
Лакей отбил смолку, которой была залита пробка, отломал проволоку и ловко сделал хлопок.
– Позвольте по хрусталю раздать!
Игроки вытянули еще по три бокала. Соколов видел, как его новые знакомые на глазах хмелеют. Его самого шампанское не брало.
Рыжий решил: «Пора метать!»
Раздевание пациента
Рыжий и кавалерист обменялись взглядами. Рыжий сделал неприметное движение головой – сверху вниз, которое толковалось: пациент созрел! Для затравки еще одну метку отдам, но последнюю.
Кавалерист махом влил в себя фужер шампанского. Он с жадностью глядел на гору денег, возвышавшуюся на столе, – три тысячи! – и со сладкой болью мечтал: «Мне бы этот капитал! Уж я развернулся бы!»
Но если кавалериста кто-нибудь спросил, в чем этот разворот состоит, то он толком бы ничего не ответил. Вероятней всего, пропил бы с проститутками или продул в карты.
* * *
Тем временем рыжий без особых хлопот еще спустил Соколову полторы тысячи. На этом заманка должна закончиться и начаться главная часть шулерской игры – раздевание пациента.
Шампанское уже сильно разобрало рыжего. Он больше не изображал новичка. Его руки в перстнях так и замелькали.
Соколов молча восхитился: «Наконец-то себя показал… Истинный артист! Что с колодой вытворяет – карты у него словно дрессированные. Теперь ясно, что рыжий играет наверняка – шулер как пить дать».
Соколов еще прежде понял, что рыжий – мастер тасовки. Такой может запустить одна в одну – разложить все пятьдесят два листа как захочет – хоть по мастям, хоть через одну – черная-белая, черная-белая! Талант! И схватить этого зихерника за руку – дело почти невозможное.
Но Соколов и сам умел делать все то, что делал рыжий. Понтирующий Соколов объявил:
– Шесть тысяч целиком!
Рыжий остался внешне спокойным, только энергичней стал жевать гнусным сфинктером – узкой полоской губ.
Кавалерист перестал дышать, подался вперед.
Рыжий стал метать, теперь кончики пальцев его мелко дрожали.
Соколов напряженно соображал, и вдруг его словно свыше осенило, он вспомнил великого поэта:
– Ставлю пиковую даму!
Рыжий вдруг потерял всю невозмутимость, застонал враз севшим, каким-то загробным, глухим голосом:
– Ах, старая сука, пошла налево… – Он вмиг сник, съежился, и весь его облик вдруг сделался жалко-несчастным. И лишь глаза с ненавистью глядели на обидчика, который так хитро провел его, ловкого пройдоху.
Смертельный исход
Рыжий проиграл все, что было, включая чужие деньги, которые вез в Москву. В голове стучала кровь. «Перехитрил сам себя, сам себя, сам себя…»
Скрипнул зубами, твердо решил: «Нет, с деньгами этого фраера не отпущу!»
Несчастным голосом, словно последний нищий на паперти, взмолился: