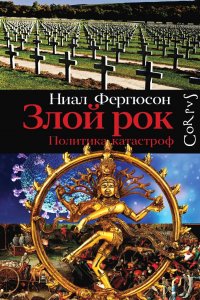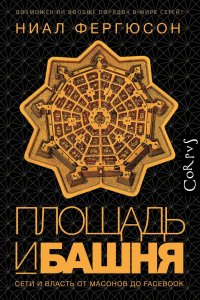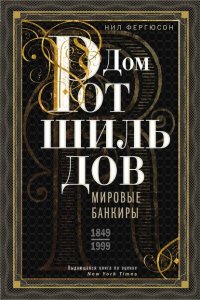
Читать онлайн Дом Ротшильдов. Мировые банкиры. 1849—1999 бесплатно
- Все книги автора: Ниал
The House of Rothschild: The World’s Banker 1849—1999
Copyright © 1998, Niall Ferguson
All rights reserved
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2019
© «Центрполиграф», 2019
Предисловие
Если рассматривать 1789–1848 гг. как «эпоху революций», ее главными выгодоприобретателями явно стали Ротшильды. Конечно, им дорого обошлись политические потрясения 1848–1849 гг. Тогда, как и в 1830 г., из-за революций государственные облигации резко упали в цене, только в гораздо большем масштабе. Для Ротшильдов, которые держали большую долю своего огромного богатства в виде облигаций, подобные события предвещали серьезные потери капитала. Хуже того, Венский и Парижский дома оказались на грани банкротства, из-за чего остальным домам – Лондонскому, Франкфуртскому и Неаполитанскому – пришлось выручать их из беды. Однако Ротшильды пережили и этот величайший из всех финансовых кризисов между 1815 и 1914 гг., а также величайшую революцию. Более того, было бы странной иронией судьбы, если бы они не выжили: в конце концов, если бы не революция, им было бы нечего терять.
Именно первая французская революция, которую называют Великой, революция 1796 г., буквально снесла стены франкфуртского гетто и позволила Ротшильдам начать свое феноменальное, беспрецедентное и с тех пор никем не превзойденное экономическое восхождение. До 1789 г. жизнь Майера Амшеля Ротшильда и его родных ограничивалась дискриминационными законами. Евреи не имели права обрабатывать землю, торговать оружием, специями, вином и хлебом. Им запрещали жить за пределами гетто, а по ночам, по воскресеньям и в дни христианских праздников их там запирали. Они подвергались дискриминационному налогообложению. Как бы усердно ни трудился Майер Амшель, сначала в качестве торговца антикварными монетами, затем – биржевого брокера и торгового банкира, во всех сферах для него по тогдашним законам устанавливались строгие пределы. И лишь когда Великая французская революция перекинулась на юг Германии, ситуация стала меняться. Во Франкфурте не только открыли Юденгассе; с живших в городе евреев сняли многие законодательные ограничения – не в последнюю очередь благодаря финансовому влиянию Майера Амшеля на Карла фон Дальберга, наполеоновского наместника в Рейнской области. После того как французы ушли, франкфуртские власти и многие горожане очень старались вернуть прежнюю систему ограничений, которая касалась прав проживания и общественного положения, но эта система, напоминавшая апартеид, уже не могла быть восстановлена в полном объеме.
Более того, после революционных войн Ротшильды получили такие деловые возможности, о которых они раньше не могли и мечтать. По мере того как нарастали масштаб и стоимость конфликта между Францией и остальной Европой, так же росли и потребности в займах у противоборствующих государств. В то же время разрушение привычных, устоявшихся методов ведения торговли и банковских операций привлекло многих тщеславных любителей риска. Так, Наполеон решил отправить в ссылку курфюрста Гессен-Кассельского, что позволило Майеру Амшелю (одному из «придворных поставщиков» курфюрста с 1769 г.) стать для него основным источником денег. Он собирал проценты по тем активам, которые не попали в руки французов, и заново инвестировал средства для курфюрста. Занятие было опасным: Майер Амшель попал под подозрение французов. Полицейские даже допрашивали его и его близких, хотя они впоследствии и не подвергались преследованиям. Зато и прибыли росли пропорционально риску. Ротшильды быстро овладели искусством скрытности.
Более того, революция и война способствовали восхождению Натана, властного сына Майера Амшеля. Начав с экспорта британских тканей в Манчестере, он стал одним из «столпов» лондонского Сити и финансировал британскую военную экономику. В обычные времена Натан, несомненно, процветал бы как торговец тканями. Он безошибочно опирался на метод снижения цен и роста объемов. К тому же он отличался поразительными энергией, тщеславием и работоспособностью. («Я не читаю книг, – говорил он братьям в 1816 г. – Не играю в карты. Не хожу в театр. Единственная моя радость – работа».) Но особенно благоприятные условия для отважного и изобретательного новичка возникли из-за войн Великобритании с Францией. Запретив в 1806 г. британский экспорт в континентальную Европу, Наполеон повысил не только риск, но и потенциальную прибыль для тех, кто, подобно Натану, стремился прорвать блокаду. Наивность французских властей, которые охотно позволяли британским слиткам пересекать Ла-Манш, предоставила Натану еще более прибыльную сферу деятельности. В 1808 г. ему удалось перебраться из Манчестера в Лондон, который к тому времени, особенно после оккупации Амстердама Наполеоном, стал поистине всемирным финансовым центром.
«Ловким ходом», позволившим Натану перескочить в первую лигу торговых банкиров, стало использование английских инвестиций курфюрста Гессен-Кассельского для пополнения собственных средств. В 1809 г. Натан добился соответствующих полномочий на новые закупки британских облигаций для курфюрста, и они принесли неплохой доход; за следующие четыре года он купил ценных бумаг более чем на 600 тысяч ф. ст. В мирное время Натан наверняка стал бы крупным инвестиционным менеджером; однако в суматохе войны он сумел распорядиться облигациями курфюрста как собственным капиталом. Сам того не зная, ссыльный курфюрст стал пассивным партнером в новом банкирском доме «Н. М. Ротшильд» (его министр Будерус гораздо охотнее вкладывал средства во Франкфуртский дом). Вот почему в 1813 г. Натану удалось предложить свои услуги правительству Великобритании, у которого отчаянно не хватало средств на финансирование предпоследней кампании Веллингтона против Наполеона. Вот что имел в виду Карл, когда позже говорил, что «старик» – то есть Вильгельм, курфюрст Гессен-Кассельский – «сколотил нам состояние».
Откровенно говоря, скорее им следовало бы благодарить усердие и проницательность их собственного «старика». Именно Майер Амшель в 1810 г. придумал структуру компании, которая почти столетие продержалась в неизменном виде, лишь с самыми минимальными изменениями, связав воедино четыре поколения его потомков по мужской линии. Члены семьи женского пола и их супруги в семейную компанию категорически не допускались. И именно Майер Амшель научил сыновей таким реалистичным правилам ведения бизнеса, как: «Лучше иметь дело с правительством, у которого трудности, чем с тем, на чьей стороне удача»; «Если не можете сделать так, чтобы вас любили, постарайтесь, чтобы вас боялись»; «Если высокопоставленный человек входит в [финансовую] компанию с евреем, он принадлежит евреям». Видимо, помня последний совет, братья стремились осыпать влиятельных политиков и прочих важных персон подарками, выгодными займами, подсказками, как выгодно вложить деньги, и откровенными взятками. Самое главное, Майер Амшель учил сыновей ценить единство. «Амшель, – говорил он старшему сыну в 1812 г., лежа на смертном одре, – держи братьев вместе, и вы станете богатейшими людьми в Германии». Тридцать лет спустя его сыновья повторили отцовские заповеди следующему поколению; к тому времени они стали богатейшими людьми в мире, более того, богатейшей семьей во всей истории.
Операции 1814 и 1815 гг., в ходе которых Натан и его братья собрали огромное количество золота не только для Веллингтона, но и для союзников Великобритании на континенте, стали началом новой эпохи не только финансовой, но и политической истории. Ротшильды растягивали свой кредит до предела; иногда они абсолютно теряли представление о своих активах и задолженностях, ставя на карту все, чем они владели, ради комиссионных вознаграждений со стороны государства, процентных выплат и спекулятивных прибылей на обменном курсе и колебаниях рынка облигаций. Только в 1815 г. Натан провел с правительством Великобритании операций на общую сумму около 10 млн ф. ст., в то время громадную сумму. Лорд Ливерпул может служить классическим примером английского преуменьшения: тогда он назвал Натана «очень полезным другом». Как признавали другие современники, наполеоновских полководцев невозможно было победить без наполеоновских финансов. Людвиг Бёрне по праву называл братьев Ротшильд «финансовыми Бонапартами»; Натан, как признавал Соломон, был их «генералом-главнокомандующим». Хотя во время битвы при Ватерлоо они были на грани краха, – война закончилась гораздо быстрее, чем рассчитывал Натан, – в 1815 г. Ротшильды стали стерлинговыми миллионерами. Почти сразу же после этого Натан осуществил, наверное, самую успешную операцию всей своей жизни: он вложил огромную сумму в британские государственные облигации (консоли), воспользовавшись экономическим подъемом, вызванным послевоенной финансовой стабилизацией. Он забрал прибыль, не дожидаясь, пока рынок достигнет высшей точки. Эта мастерская операция одномоментно принесла Натану более 250 тысяч ф. ст.
1820-е гг. стали временем как политической, так и финансовой реставрации. Многие свергнутые европейские монархи вернулись на свои престолы. Под руководством князя Меттерниха великие европейские державы объединялись для отпора новым революционным импульсам, где бы они ни возникали. Нет сомнений в том, что эту реставрацию оплачивали Ротшильды. Благодаря им у Австрии, Пруссии и России – членов Священного союза, – а также у представителей династии Бурбонов во Франции появилась возможность выпустить облигации под такие проценты, которые раньше могли себе позволить только Великобритания и Голландия. В том, что благодаря Ротшильдам князю Меттерниху стало легче «поддерживать порядок» в Европе, особенно после того, как к реставрации Бурбонов в Неаполе и Испании приложили руку Австрия и Франция, – нет никаких сомнений. Можно смело считать, что в шутке о том, что Ротшильды – «главный союзник Священного союза», имелась большая доля истины. Кроме того, в ту эпоху Ротшильды предоставляли займы избранным частным лицам, в том числе многим высокопоставленным особам: самому Меттерниху, королю Георгу IV и его зятю Леопольду Саксен-Кобургскому, позже ставшему королем Бельгии. Как жаловался Людвиг Бёрне, «Ротшильд стал человеком, который… дает аристократам власть презирать свободу и лишает людей мужества, чтобы противостоять насилию… верховным жрецом страха, на чьем алтаре приносят в жертву свободу, патриотизм, честь и все гражданские добродетели».
Впрочем, к эпохе Реставрации Ротшильды всегда относились двояко. Вряд ли им было по душе возвращение к власти представителей консервативных элит, которые – ярче всего в Германии – стремились снова сделать евреев гражданами второго сорта. Однако Натан был не из тех, кто способен отказаться от выгодной операции по идеологическим соображениям. Действия Священного союза, участники которого выступали против революционных движений в Испании или Италии, не всегда положительно сказывались на делах: война расшатывала рынок облигаций не в последнюю очередь из-за ее губительного влияния на государственный бюджет. Потенциальными новыми клиентами становились новые режимы, возникавшие в таких странах, как Испания, Бразилия или Греция; и опыт подсказывал, что страны, в которых утвердилась конституционная монархия, – гораздо лучшие клиенты, чем абсолютистские режимы. Примечательно, что Ротшильды склонны были давать деньги взаймы испанским либералам, но отказались финансировать Фердинанда VII после того, как он вернулся на престол и в стране восстановился абсолютизм. Как заметил Байрон в «Дон-Жуане», Ротшильды имели одинаковую власть над «роялистами и либералами». Гейне пошел еще дальше, назвав Ротшильда революционером наравне с Робеспьером, потому что «Ротшильд… уничтожил власть земли, приведя к верховной власти систему государственных облигаций, тем самым мобилизовав собственность и доход и в то же время наделив деньги привилегиями, которыми раньше обладала земля».
Тому же Гейне принадлежит незабвенная фраза: «Деньги – бог нашего времени, и Ротшильд – их пророк». Несомненно, самым важным вкладом Ротшильдов в экономическую историю было создание поистине международного рынка облигаций. Конечно, потоки капитала пересекали государственные границы и раньше: в XVIII в. голландцы вкладывали деньги в государственные облигации Великобритании, а Бетманы, франкфуртские конкуренты Ротшильдов, в тот же период размещали на рынке крупные партии австрийских облигаций. Но никогда раньше облигации какого-либо государства не выпускались одновременно на многих рынках на таких привлекательных условиях, как, например, в случае с Пруссией в 1818 г.: облигации были деноминированы в фунтах стерлингов, проценты выплачивались в том месте, где производилась эмиссия, был создан фонд погашения.
Выпуск облигаций был не единственной сферой деятельности Ротшильдов. Помимо всего прочего, они учитывали коммерческие вексели, торговали золотыми слитками, обменивали иностранную валюту, напрямую участвовали в торговле товарами, пробовали свои силы в страховании и даже предлагали частные банковские услуги отдельным представителям элиты. Они играли важную роль на рынках золота и серебра: именно Ротшильды, выступившие как «последнее средство для последнего кредитора в критической ситуации», в 1825 г. не допустили приостановки обмена фунта на золото Английским Банком. Но главным для них был рынок облигаций. Более того, покупка и продажа на различных вторичных рынках облигаций служила почти таким же важным источником прибыли, как собственно эмиссия: покупка-продажа облигаций стала главным видом спекуляции, в которой братья принимали участие.
Именно многонациональный характер подобных операций выделял Ротшильдов среди их конкурентов. В то время как Амшель, старший брат Натана, продолжал возглавлять исходный семейный банкирский дом во Франкфурте, его самый младший брат Джеймс обосновался в Париже. В конце 1820-х гг. Соломон и Карл основали филиалы Франкфуртского дома в Вене и Неаполе. Пять домов образовали уникальную компанию; они совместно выступали в крупных операциях, аккумулировали прибыль и делили расходы. Благодаря регулярной и подробной переписке они могли забыть о разделявшем их расстоянии. Партнеры встречались лишь раз в несколько лет, когда новые обстоятельства вынуждали внести изменения в их договор о сотрудничестве.
Такая многонациональная структура предоставляла Ротшильдам важные преимущества в нескольких отношениях. Во-первых, она позволяла им заниматься арбитражными операциями (одновременной покупкой и продажей ценных бумаг на разных рынках), эксплуатируя разницу в ценах между, скажем, лондонским и парижским рынками. Во-вторых, они могли выручать друг друга в случае финансовых затруднений или затруднений в сфере ликвидности. Никогда, даже в 1848 г., финансовые кризисы не поражали всю Европу одновременно и с одинаковой силой. В 1825 г., когда пострадала Великобритания, Натана выручил Джеймс. В 1830 г., когда обрушился парижский рынок, Натан отплатил брату взаимностью. Если бы Венский дом был независимым учреждением, он несомненно обанкротился бы в 1848 г. Только после того, как остальные дома списали значительные суммы, Ансельм, сын Соломона, сумел восстановить положение.
Стремительно накапливая капитал – они не распределяли прибыли, довольствуясь низкими процентами в своих индивидуальных партнерских долях, – Ротшильды вскоре получили возможность проводить такие операции в беспрецедентном масштабе. Безусловно, они были крупнейшим банком в мире; к 1825 г. они в десять раз превосходили своих ближайших соперников, банк «Братья Бэринг» (Baring Brothers). Это, в свою очередь, позволяло им гибко менять деловую стратегию. После первых лет работы, которые были отмечены большими рисками и высокими прибылями, они могли довольствоваться более низкой рентабельностью, не подрывая своего верховенства на рынке. Более того, компания Ротшильдов оказалась столь долговечной во многом именно благодаря отходу от принципа максимизации прибыли. Время от времени они сталкивались с конкурентами – классическим примером такой конкуренции в эпоху Реставрации стал Жак Лаффит. Конкуренты нагоняли Ротшильдов во время подъемов на рынке благодаря тому, что шли на больший риск, но попадали в беду, когда за периодом подъема неизбежно следовал спад.
Богатство влекло за собой определенный статус. В глазах современников Ротшильды олицетворяли «новые деньги»: они были евреями, они не получили хорошего образования и воспитания – однако за несколько лет они скопили активов в виде ценных бумаг, которые стоили гораздо больше многих аристократических поместий. Внешне эти выскочки как будто жаждали получить признание со стороны так называемой «старой элиты». Как будто желая изгнать воспоминания о тех днях, когда (по воспоминаниям Карла) «мы все спали в одной комнатушке на чердаке», они покупали самые красивые особняки в таких местах, как Пикадилли в Лондоне и улица Лаффита в Париже. Позже они приобрели первые загородные усадьбы в Ганнерсбери, Ферьере и Шиллерсдорфе. Они заполняли свои дома картинами голландских художников XVII в. и французской мебелью XVIII в. Они устраивали пышные званые ужины и великолепные балы. Они добивались титулов и других почестей: простой Якоб (Иаков) Ротшильд превратился в барона Джеймса де Ротшильда, генерального консула Австрии в Париже, кавалера ордена Почетного легиона. Своих сыновей они воспитывали как джентльменов, прививая им вкус к таким видам досуга, о которых в гетто не слыхивали: верховая езда, охота, изящные искусства. Их дочерям давал уроки фортепьяно сам Шопен. Литераторы – особенно Дизраэли, Гейне, Бальзак – искали покровительства у этих новых Медичи, хотя позже карикатурно изображали их в своих произведениях.
Однако, общаясь между собой, Ротшильды относились к собственному подъему по общественной лестнице довольно цинично. Титулы и почести были «частью шумихи»; они помогали братьям получить доступ в коридоры власти. Званые ужины и балы были для них неприятной обязанностью, которая служила той же цели: почти все мероприятия играли роль спецобслуживания, оказываемого особо важным клиентам, как бы мы сказали сейчас, «корпоративного гостеприимства». Даже «облагораживание» следующих поколений было поверхностным: настоящее образование их сыновья по-прежнему получали «в конторе».
Самой важной оговоркой, связанной с ассимиляцией Ротшильдов, оставалась религия. В отличие от многих других богатых европейских евреев, перешедших в христианство в 1820-х гг., Ротшильды неукоснительно придерживались веры своих предков. Хотя степень их религиозности была разной, – например, Амшель строго соблюдал все обряды, Джеймс относился к ним поверхностно, – братья сходились в том, что их всемирный успех тесно связан с их иудаизмом. Как выразился Джеймс, религия означала «все… от нее зависят наша удача и наше счастье». В 1839 г., когда Ханна Майер, дочь Натана, перешла в христианство, чтобы выйти замуж за Генри Фицроя, от нее отвернулись почти все родственники, включая родную мать.
Следствием убеждения Ротшильдов, что верность иудаизму является важной составной частью их земного успеха, стал тот интерес, какой они проявляли к судьбе своих «беднейших единоверцев». Их обязательства по отношению к еврейской общине в широком смысле слова не сводились лишь к традиционным благотворительным взносам и включали в себя систематическое политическое лоббирование за еврейскую эмансипацию. Традиция, начатая Майером Амшелем в эпоху Наполеоновских войн, по которой деньги Ротшильдов способствовали защите гражданских и политических прав евреев, продолжалась более или менее непрерывно в течение столетия. В 1840 г., когда евреев, проживавших в Дамаске, ложно обвинили в «ритуальном убийстве», Ротшильды организовали успешную кампанию для того, чтобы покончить с преследованиями. Тот случай стал лишь самым ярким из многих. Займы, которые Ротшильды предоставляли папе римскому, также использовались в качестве рычага влияния для улучшения участи евреев, проживавших на территории Папской области. Как ни странно, усилия английских Ротшильдов ближе к дому оказались не столь успешными. Натан и его жена Ханна уже в 1829 г. принимали участие в кампании против недопущения евреев в парламент. Через семь лет Натан умер, а проблема так и не была решена. Кампанию по эмансипации евреев, проживавших в Англии, суждено было возглавить Лайонелу, сыну Натана.
И все же нельзя безоговорочно отождествлять Ротшильдов с более широкими слоями еврейского населения. От остальных европейских евреев их отделяло не только богатство. Родословная Ротшильдов также отличается своеобразием. Дело в том, что среди Ротшильдов была широко распространена эндогамия – они были сторонниками браков не просто с единоверцами, но и с членами собственной семьи, с близкими родственниками. Им казалось, что Ротшильду подходит только другой Ротшильд: из 21 брака, заключенного детьми и внуками Майера Амшеля в период 1824–1877 гг., не менее чем в 15 супругами становились его прямые потомки. Типичным примером может служить женитьба Лайонела, сына Натана, на Шарлотте, дочери Карла, в 1836 г. Брак был устроен родственниками и оказался не очень счастливым. Главным обоснованием для такой стратегии было укрепление связей в пределах семейной финансовой компании. План достиг своей цели, хотя на современный взгляд родословное древо того периода выглядит сомнительным с точки зрения генетического риска. Браки между кузенами способствовали тому, что фамильное состояние не распылялось. Подобно строгому правилу, согласно которому дочери и зятья не допускались к священным гроссбухам компании, и повторению завета Майера Амшеля, чтобы братья хранили единство, родственные браки стали одним из средств, не давших Ротшильдам прийти в упадок по образцу Будденброков из романа Томаса Манна. Конечно, примерно так же рассуждали и другие династии. Браки между кузенами были относительно широко распространены в еврейских коммерческих семьях. Обычай был свойственен не только евреям: браки между кузенами практиковали и жившие в Великобритании квакеры. Более того, даже в европейских королевских фамилиях браки между кузенами призваны были скреплять политические связи. Однако у Ротшильдов эндогамия была распространена до такой степени, с какой не могли соперничать даже представители династии Саксен-Кобургов. Именно поэтому Гейне называл Ротшильдов «исключительной семьей». Более того, другие евреи постепенно начали относиться к Ротшильдам как к своего рода еврейской королевской фамилии: их называли «королями евреев», а также «евреями королей».
Революция 1830 г. выявила две важные вещи. Во-первых, Ротшильды не были привязаны к Священному союзу; они, напротив, охотно предлагали свои финансовые услуги либеральным и даже революционным режимам. Более того, как только Джеймс оправился после первого тяжелого потрясения, вызванного революцией, он понял, что ему проще вести дела с «буржуазной монархией» Луи-Филиппа. Таким же близким по духу оказалось и молодое государство Бельгия, особенно после того, как бельгийцы (подобно грекам) согласились принять в качестве монарха «ручного» немецкого принца, который к тому же был клиентом Ротшильдов, и подчинились предписаниям, выработанным совместно великими державами. Во-вторых, Ротшильды стремились к тому, чтобы великие державы достигали подобных соглашений, и считали, что и в этой области очень действенны финансовые рычаги влияния.
Начало революции породило общее падение в цене французских рентных бумаг (бессрочных облигаций, которые во Франции играли ту же роль, что и консоли в Великобритании). Падение ренты застало Джеймса врасплох; его баланс тут же стал убыточным. Но главным фактором в 1830-е гг. стал страх. Именно он больше всего способствовал неустойчивости европейских финансовых рынков и отсрочил восстановление ренты даже после того, как учредили более или менее стабильную конституционную монархию. Все боялись, что французская революция, как и в 1790-е гг., выльется в большую европейскую войну. В тот период именно страх более всего другого стал причиной крайне пагубного влияния на финансы даже в тех странах, которые не затронула революция.
В начале 1830-х гг. несколько раз возникала опасность войны из-за Бельгии, Польши или Италии. Ротшильды к тому времени обладали настолько широкими связями, что были способны выступать в роли миротворцев в каждом случае. Многие ведущие европейские государственные деятели пользовались уникальными возможностями частной системы сообщения Ротшильдов – она зависела главным образом от собственных курьеров, которые возили письма в разные места. Почтовая служба Ротшильдов служила своего рода тогдашней экспресс-доставкой и предоставляла семье одну из форм власти, которую давали знания. Джеймс виделся с Луи-Филиппом, выслушивал его точку зрения, писал о ней Соломону, который отправлялся к Меттерниху и передавал важные сведения. Затем процесс повторялся в обратном порядке; ответ Меттерниха доходил до Луи-Филиппа посредством не менее двух Ротшильдов. Естественно, бывало и так, что «передающие звенья» могли в процессе передачи слегка изменять информацию; однако чаще благодаря полученным важным новостям Ротшильды получали возможность корректировать действия на фондовых биржах, прежде чем передавать сведения дальше.
В то же время главенство Ротшильдов на международном рынке облигаций давало им и власть другого рода. Из-за того что любое государство, которое всерьез планировало начать войну, нуждалось для этой цели в деньгах, Ротшильды рано поняли, что в случае необходимости могут накладывать вето: нет мира – нет денег. Или, как выразился в декабре 1830 г. австрийский дипломат князь Прокеш фон Остен, «это все вопрос цели и средств, и то, что говорит Ротшильд, имеет решающее значение, а он не даст денег на войну».
Система не всегда работала безупречно. Хотя современникам приятно было сознавать, что Ротшильды способны поддерживать мир в Европе, просто пригрозив урезать кредит, на самом деле имелись и другие причины, объяснявшие, почему в 1830-е гг. не началась война. И все же в определенные времена Ротшильдам удавалось демонстрировать политическую власть финансовыми средствами. Так, недвусмысленный отказ Соломона поддержать новый заем в 1832 г. если не победил, то по крайней мере ослабил воинственность Меттерниха. А такие молодые государства, как Греция и Бельгия, были буквально обязаны Ротшильдам своим рождением: семья разместила для них займы под гарантии великих держав.
Таким образом, к 1836 г., когда безвременно, после тяжелой болезни, умер Натан, Ротшильды основали огромную компанию, располагающую поистине неисчерпаемыми средствами и географическим охватом. Их влияние распространялось не только на Европу; они опирались на многочисленные агентства и филиалы, созданные не только на других европейских рынках, но и во всем мире. Сведения стекались к ним со всех сторон: от Вайсвайлера в Мадриде до Гассера в Санкт-Петербурге и Белмонта в Нью-Йорке. Их власть завораживала современников, не в последнюю очередь из-за их недавнего столь скромного положения. Один американский очевидец изобразил пятерых братьев, которые «стоят выше королей, поднимаются выше императоров и держат весь континент у себя в руках»: «Ротшильды управляют христианским миром… Ни одно правительство не действует без их совета… Барон Ротшильд… держит ключи мира или войны». Такую картину можно назвать преувеличением, но не фантазией. И в то же время их огромная и влиятельная организация по сути оставалась семейным предприятием. Ею управляли как частной – более того, строго секретной – компанией, а главным делом партнеров стало распоряжение собственным капиталом семьи.
И когда в компанию вступило третье поколение, предпринимательская энергия не сократилась, хотя отношения между пятью домами стали чуть менее конфедеративными. В некотором смысле Джеймс начал с того, чем закончил Натан; он стал primus inter pares – первым среди равных. Он тоже был человеком властным, авторитарным, неутомимо преданным делу, стремился зарабатывать не только на учете и переучете векселей и арбитражных сделках (скупке и продаже ценных бумаг), но и крупными эмиссиями облигаций, которые приносили самые большие прибыли. Благодаря его долгожительству дух франкфуртского гетто сохранялся в компании вплоть до 1860-х гг. Однако Джеймс никогда не мог главенствовать над остальными домами так же, как Натан. Хотя один из сыновей Натана – Нат – нехотя стал помощником Джеймса в Париже, остальные племянники никогда не находились под его пятой. Таким же способным и преуспевающим, как Натан, оказался его сын Лайонел, хотя там, где Натан взрывался, Лайонел действовал sotto voce (вполголоса). Сын Соломона Ансельм тоже отличался сильной волей. Джеймс не мог по-настоящему управлять и своими старшими братьями; в особенности Соломон склонен был больше обращать внимания на интересы австрийского правительства и других венских банков, чем хотелось бы его партнерам.
В каком-то смысле переход от монархии к олигархии в пределах семьи оказался выгодным: он позволил Ротшильдам откликаться на новые финансовые возможности середины XIX столетия более гибко, чем мог допускать Натан. Например, Соломону, Джеймсу и Амшелю удалось сыграть ведущую роль в финансировании железных дорог в Австрии, Франции и Германии, в то время как их брат, живший в Англии, в этой сфере зиял своим отсутствием.
Натан склонен был и в 1830-е гг. работать так же, как он привык работать в предыдущее десятилетие. После того как стабилизировались финансы крупных европейских государств, он начал искать новых клиентов в более дальних пределах: в Испании, Португалии и Соединенных Штатах. Но одно дело стать «хозяином финансов» в Бельгии; повторить тот же процесс на Пиренейском полуострове или в Америке – совсем другое дело. Политическая нестабильность и в Испании, и в Португалии привела к досадным дефолтам по выпущенным Ротшильдами облигациям. В Соединенных Штатах препятствием стала децентрализация фискальных и монетных учреждений. Ротшильды надеялись вести дела с федеральным правительством, однако оно «спустило» возможность иностранных займов на уровень штатов. Кроме того, Ротшильды надеялись, что Банк Соединенных Штатов (БСШ) со временем станет аналогом Английского банка. Однако БСШ в 1839 г. обанкротился из-за политических интриг и ненадлежащего финансового управления. То, что Ротшильдам не удалось надежно закрепиться в Соединенных Штатах – они не доверяли назначенному ими же самими агенту на Уолл-стрит, – стало единственной крупной стратегической ошибкой в их истории.
Подобные превратности на знакомом поле государственных финансов логически подводили их к необходимости диверсификации. Так, решение приобрести контроль над европейским рынком ртути отчасти стало ответом на риски государственного дефолта. Контролируя такой солидный актив, как Альмаденское ртутное месторождение, которое тогда считалось крупнейшим в мире, Ротшильды могли финансировать правительство Испании с минимальным риском, ссужая деньги против партий ртути. Участие в разработке месторождения оправдывалось вдвойне благодаря применению ртути в аффинаже серебра. Ротшильды, к тому времени уже приобретшие опыт в операциях с золотом и другими драгоценными металлами, распространили сферу своих интересов и на чеканку монет.
Однако самые большие надежды сулила такая новая отрасль деятельности, как финансирование железных дорог. В большинстве европейских стран государство играло довольно заметную роль в железнодорожном строительстве. Государство либо напрямую финансировало строительство (как в России и Бельгии), либо субсидировало его (как во Франции и некоторых государствах Германии). Поэтому выпуск акций или облигаций для железнодорожных компаний не слишком отличался от выпуска государственных облигаций – кроме того, что железнодорожные акции были гораздо неустойчивее. Вначале Ротшильды стремились играть в процессе чисто финансовую роль. Но им неизбежно приходилось принимать более плотное участие в процессе из-за больших зазоров между эмиссией ценных бумаг той или иной железнодорожной компании и фактическим открытием движения на линии, не говоря уже о выплате дивидендов по акциям. К 1840-м гг. братья Лайонела, Энтони и Нат, тратили довольно много времени, стараясь соблюсти интересы своего дяди Джеймса при сооружении французских железных дорог. Представители третьего поколения не склонны были рисковать так же, как их предшественники. Об этом свидетельствуют письма Ната, в которых он сурово критикует «любовь» Джеймса к таким линиям, как Северная или Ломбардская железная дорога. После железнодорожных катастроф (например, у Фампу в 1846 г.) Нат решил, что его страхи реализовались. И все же в конечном итоге Джеймс оказался прав: доходы с капитала на акции континентальных железных дорог на протяжении всего XIX в. стали главной причиной того, что Французский дом вскоре перерос Английский. К середине столетия Ротшильдам удалось построить весьма рентабельную сеть железных дорог, покрывшую всю Европу.
Впрочем, в одном отношении опасения Ната подтвердились. В отличие от управления государственными долгами управление железными дорогами напрямую и ощутимо затрагивало жизнь обычных людей. И вот из-за своей причастности к железным дорогам Ротшильды подверглись беспрецедентной общественной критике. Радикальные литераторы, как поначалу и их собратья социалистического толка, начали изображать их в новом и зловещем свете: эксплуататорами «простого народа», которые стремятся получать доходы и прибыль за счет налогоплательщиков и обычных пассажиров. Нападкам в прессе Ротшильды подвергались и раньше. Однако в 1820—1830-е гг. их в основном обвиняли в том, что они финансируют политическую реакцию; конкуренты обвиняли их в мошенничестве. В 1840-е гг. враждебность к богатству слилась с враждебностью по отношению к евреям: антикапитализм и антисемитизм дополняли друг друга. Ротшильды оказались идеальной мишенью.
Наряду с подстрекательскими выпадами в прессе экономический спад середины 1840-х гг. стал предвестником политической нестабильности. В отличие от 1830 г. революцию 1848 г. можно было предсказать задолго до ее начала. Ротшильдов трудно обвинять в слепоте, однако они недооценили масштабов кризиса. Противоречие заключалось в том, что в период экономического застоя увеличивался государственный дефицит из-за сокращения налоговых поступлений; в краткосрочном плане это означало для Ротшильдов новые операции, против чего они не могли устоять. И Соломон, и Джеймс буквально накануне восстания разместили крупные займы. После того как из Парижа революция распространилась на восток, облигации промышленных предприятий и железных дорог, выпущенные Соломоном, стало просто невозможно продать, и так же невозможно стало выполнить его обязательства по контракту перед Австрией. Джеймс избежал бури только потому, что сумел внести серьезные изменения в самый последний договор займа с новым правительством, наивным в финансовом отношении.
Благодаря своей многонациональной структуре, огромным средствам и превосходным политическим связям Ротшильдам удалось пережить восстания 1848–1849 гг. В тех условиях, когда убытки несли почти все, их относительное положение, возможно, даже слегка укрепилось. Однако восстановление экономики европейских стран и (неслучайное) возвращение политической стабильности породили новые проблемы.
Во-первых, одним из малозаметных достижений революции стало то, что бюрократы в разных странах уже не так противились замыслам создания акционерных компаний и компаний с ограниченной ответственностью. После того как образовывать такие компании стало проще, начало расти количество новых участников финансовой отрасли. Братья Перейра начинали как энтузиасты-железнодорожники; они обладали технической сметкой, но у них не хватало денег для реализации собственных идей – отсюда их подчиненное отношение к Ротшильдам в 1830-е гг. В 1850-е гг. они сумели вырваться на свободу, когда, собирая капитал «Креди мобилье», привлекли средства многочисленных мелких вкладчиков.
Можно сравнить трудности, которые символизировали братья Перейра, с переменой в отношении между государственными финансами и рынком облигаций. В 1850-е гг. во многих странах были предприняты первые серьезные попытки продавать облигации по открытой подписке, без посредничества банков – в других случаях банки выступали скорее как гаранты, а не покупали новые облигации сразу же. Кроме того, государства стали эксплуатировать растущую конкуренцию между частными и акционерными банками, чтобы снизить комиссионные. Хотя Ротшильды по-прежнему занимали главенствующее положение на рынке облигаций, они перестали быть монополистами. Еще больше ослабило их развитие телеграфа, положив конец периоду, когда их курьеры могли доставлять важные для рынка новости раньше конкурентов.
И все же самую важную угрозу для финансовой гегемонии Ротшильдов представляла политика. Триумф Луи Наполеона Бонапарта во Франции снова вселил неуверенность в европейскую дипломатию. Вплоть до 1870 г. все боялись, что он захочет превзойти своего дядю. В то же время правила международной игры слегка изменились благодаря тому, что многие политики, особенно Палмерстон, Кавур и Бисмарк, склонны были ставить национальное своекорыстие выше международного «равновесия» и возлагали доверие не столько на международные конференции, сколько на пушки. По сравнению с относительно мирными 33 годами (1815–1848) следующие 33 года были отмечены чередой войн в Европе, не говоря уже об Америке. Ротшильды оказались бессильны предотвратить эти войны, несмотря на все их усилия.
В мае 1848 г. Шарлотта де Ротшильд подтвердила, что верит «в светлое европейское и ротшильдовское будущее». Ее уверенность в затухании французской революционной эпохи имела под собой достаточно оснований. Во второй половине XIX в. угрозы для монархии и буржуазной экономики в самом деле сократились. Но «светлое ротшильдовское будущее», как оказалось, зависело от способности семьи справиться с новыми задачами. Самыми серьезными из них стали национализм и социализм – особенно в тех случаях, когда они сочетались друг с другом.
Часть первая
Дяди и племянники
Глава 1
Сон Шарлотты (1849–1858)
Я легла спать в 5 и проснулась около 6; мне приснилось, что огромный вампир жадно сосет мою кровь… Очевидно, когда объявили результаты голосования, последовали громкие восторженные одобрительные крики… во всей палате [лордов]. Конечно, мы не заслуживаем столько ненависти.
Шарлотта де Ротшильд, май 1849 г.
Хотя Ротшильдам удалось в финансовом отношении пережить бурю, можно считать, что 1848 г. все же стал для них роковым переломным моментом – но по причинам, не связанным ни с экономикой, ни с политикой. В годы, последовавшие непосредственно за революцией, подверглась испытанию сама структура семьи и компании. Читая их письма, легко забыть о том, что четверо оставшихся сыновей Майера Амшеля были к тому времени уже стариками. В 1850 г. Амшелю было 77, Соломону – 76, а больному Карлу – 68 лет. Их мать, родившаяся в 1753 г., прожила так долго, что увидела, как на национальной ассамблее, которая собралась в ее родном городе, королю Пруссии предложили корону объединенной Германии. Более того, как сообщалось в «Таймс», к 1840-м гг. Гутле Ротшильд стала кем-то вроде символа: «Почтенная мадам Ротшильд из Франкфурта, приближающаяся к своему столетнему юбилею, на прошлой неделе испытывала легкое недомогание и дружески укоряла своего лечащего врача в связи с тем, что его предписания не действуют. «Чего же вы хотите, мадам? – оправдывался врач. – К сожалению, сделать вас моложе мы не можем». – «Вы ошибаетесь, доктор, – ответила остроумная дама, – я не прошу сделать меня моложе. Я желаю стать старше».
Появились и карикатуры, посвященные этой теме: на одной, озаглавленной «99-я годовщина бабушки», изображен Джеймс (Гутле на заднем плане), который говорит группе доброжелателей: «Господа, когда она дойдет до номинала, я пожертвую государству небольшую сумму в 100 тысяч гульденов» (см. ил. 1.1). Согласно еще одной версии того же анекдота, врач уверяет ее, что она «доживет до ста». – «О чем вы говорите? – возмущается Гутле. – Если Господь может принять меня по курсу 81, за 100 он меня не возьмет!»
Современникам нравилось, что Гутле упорно отказывалась переезжать из старого дома «Под зеленым щитом» на бывшей Юденгассе; ее решительность предполагала, что корни феноменального экономического успеха Ротшильдов заключены в своего рода еврейском аскетизме. Людвиг Бёрне еще в 1827 г. рассыпался в похвалах в ее адрес: «Смотрите, она живет в том маленьком доме… и, несмотря на всемирное владычество, каким обладают ее царственные сыновья, не испытывает никакого желания покинуть свой маленький родовой замок в еврейском квартале». 16 лет спустя, посетив Франкфурт, Шарль Гревилль был изумлен, увидев, как «старая мать Ротшильдов» выходит из «того же темного и полуразрушенного особняка… ничуть не лучшего, чем соседние дома», на «еврейской улице»: «На этой узкой мрачной улице, перед этим жалким домом стояла красивая коляска, обитая синим шелком; дверцу распахнул лакей в синей ливрее. Вот открылась дверь дома, и стало видно, как по темной узкой лестнице спускается старая женщина; ее поддерживала под руку внучка, баронесса Шарль Ротшильд, чья карета также ждала в конце улицы. Два лакея и несколько горничных помогли старушке сесть в коляску; несколько обитателей улицы собрались напротив, чтобы насладиться зрелищем. Я в жизни не видел более любопытного и разительного контраста, чем платья дам, и старой, и молодой, их экипажи и ливреи, и убогое место, в котором упорно живет эта старуха»[1].
И вот 7 мая 1849 г. Гутле скончалась на 96-м году жизни, в окружении оставшихся в живых сыновей.
В тот период семью Ротшильд постигла настоящая череда смертей. За год до Гутле скончалась Ева, жена Амшеля. В 1850 г. умерли вдова Натана Ханна, а также – к огромному огорчению парижских Ротшильдов – ее младший внук Майер Альберт, второй сын Ната. В 1853 г. умерла Адельгейд, жена Карла. Через год та же участь постигла Каролину, жену Соломона. Нетрудно представить, как подействовали эти события на старших представителей второго поколения. Майер Карл отмечал, как «глубоко поразила» Амшеля смерть матери: «Это огромная потеря [для него]… и я не могу передать, сколько ужасных часов провели мы за последнее время… Дядя А. не выходит из комнаты, но ему уже лучше после первого удара, когда мы в самом деле боялись за него». Он стал лишь слегка «спокойнее», когда семья собралась во Франкфурте на похороны Гутле. Более того, в преклонном возрасте Амшель и его брат Соломон выглядели совершенно несчастными. Они все меньше и меньше времени проводили в «конторе» и все больше – в саду у Амшеля.
1.1. Неизвестный автор. 99-я годовщина бабушки. Fliegende Blätter (ок. 1848)
Новому делегату от Пруссии в парламенте восстановленного Германского союза, деятельному и ультраконсервативному юнкеру по имени Отто фон Бисмарк, Амшель казался жалким стариком. Конечно, «в денежном выражении» Ротшильд оставался «самым почтенным» человеком в местном обществе, как писал Бисмарк жене вскоре после приезда во Франкфурт. Но «заберите у всех них деньги и жалованье, и увидите, насколько непримечательны» он и остальные граждане Франкфурта на самом деле. Вновь прибывший во Франкфурт Бисмарк получил от Амшеля приглашение на ужин и ответил в типичной для него отталкивающей манере (Амшель послал приглашение за десять дней до события, дабы убедиться в том, что его примут), написав, что придет, «если будет еще жив». Такой ответ «настолько встревожил» Амшеля, что он пересказывал его всем знакомым: «Почему он пишет «если будет жив», зачем ему умирать, ведь он так молод и крепок!» Дипломат-юнкер, личные средства которого были весьма ограниченными, а жалованье – скудным, придя в гости, испытал изумление, смешанное с отвращением, увидев «обилие серебра, золотые вилки и ложки, свежие персики и виноград, превосходные вина», которыми его угощали на ужине у Амшеля. Он не сдержал презрения, когда старик после еды горделиво хвастал своим любимым садом: «Он мне нравится, потому что он – настоящий старый еврей-махинатор и никем другим не притворяется; к тому же он ортодоксальный иудей и отказывается за ужином притронуться к чему-либо, кроме кошерной еды. «Иоганн, возьмите хлеба для оленей», – приказал он слуге, когда собрался показать мне свой парк, в котором он держит ручных оленей. «Герр барон, это растение обошлось мне в две тысячи гульденов, честно, в две тысячи гульденов наличными. Можете взять его за тысячу; или, если хотите взять его в подарок, мой слуга доставит его вам домой. Я ошень высоко фас ценю, герр барон, вы красивый человек, вы умный человек». Он низкорослый, худой и тщедушный и довольно седой. Самый старший в роду, но он несчастен в своем дворце, бездетный вдовец. Его обкрадывают слуги и презирают офранцуженные и англизированные племянники и племянницы, которые унаследуют его богатство без всякой любви и благодарности»[2].
Как верно предсказывал Бисмарк, именно последний вопрос – кто унаследует их богатство – очень занимал старших Ротшильдов, которые по этой причине по многу часов обдумывали свои завещания. За много лет до того, в 1814 г., Амшель пошутил, что разница между богатым немецким евреем и богатым польским евреем заключается в том, что последний «умрет, когда находится в убытке, в то время как богатый немецкий еврей умирает, только когда у него много денег». Сорок лет спустя Амшель начал соответствовать собственному описанию, так как его доля в семейной компании составляла почти 2 млн ф. ст. Но кому достанется его состояние? Лишенный сына, на которого он так долго рассчитывал, Амшель сравнивал достоинства двенадцати племянников, особенно тех, кто обосновался во Франкфурте (главным образом сыновей Карла, Майера Карла и Вильгельма Карла). В конце концов его долю в компании разделили таким образом, что четверть досталась Джеймсу, четверть Ансельму, четверть четырем сыновьям Натана и последняя четверть – трем сыновьям Карла.
У Соломона наследник, конечно, имелся; его дочь, которую он также хорошо обеспечил, жила в Париже; но, – может быть, из-за резких слов, которыми они обменялись в Вене в разгар революционного кризиса, – ему не хотелось делать Ансельма своим единственным наследником. Он включил в завещание сложные условия, по которым почти все его личное состояние переходило напрямую к его внукам. Сначала он как будто собирался оставить почти все свое состояние (1,75 млн ф. ст.) детям своей дочери Бетти (по 425 тысяч ф. ст. мальчикам и всего 50 тысяч ф. ст. Шарлотте, которой он уже подарил 50 тысяч ф. ст. после того, как она вышла замуж за Ната), оставив Ансельму и его сыновьям лишь три своих дома и всего 8 тысяч ф. ст. их замужней сестре Ханне Матильде. Даже парижский отель, как он говорил Ансельму, перейдет «тебе и твоим сыновьям… повторяю, тебе и твоим сыновьям. Я думал об этом и включил условие [по которому отель остается в их владении на протяжении] ста лет. Никакие зятья и дочери не имеют на него права». Отчасти это была своекорыстная стратегия, чтобы оказать максимальное посмертное влияние, примерно как поступил Майер Амшель в 1812 г.;
более того, мысль об исключении наследников по женской линии он унаследовал от своего отца. Но Соломон, в отличие от отца, решил, что его долю в семейной компании в конечном счете унаследует только один из его внуков. Такое распоряжение стало новым поворотом в семье, где до тех пор ко всем наследникам мужского пола относились более или менее одинаково. В последнем дополнении к своему завещанию, датированном 1853 г., он все же приписал, что оставляет выбор наследника за Ансельмом. При этом он особо выделил (как оказалось, безуспешно) своего старшего внука Натаниэля. В конечном счете все планы Соломона свелись к нулю; на практике его состояние досталось именно Ансельму, который впоследствии решал, который из сыновей станет его преемником. Бисмарк оказался прав и в том, что младшие Ротшильды высмеивали своих старых дядюшек. Особый ужас внушали им визиты к неизменно «грустному и суровому» дяде Карлу. Если в 1855 г., когда Соломон, Карл и Амшель скончались один за другим в течение всего девяти месяцев, кто-то из племянников и горевал, никаких записей об этом не сохранилось.
Череда смертей в семье Ротшильд последовала за резким потрясением в финансовых делах. Как было показано выше, партнеры не забыли о том, какие огромные суммы им пришлось списать, чтобы спасти Венский дом от краха. Особенную злопамятность проявили представители Лондонского дома; им казалось, будто подтвердились их худшие опасения, связанные со склонностью дядюшек к риску. К сожалению, компания была устроена так, что убытки того вида, какие понес Соломон, распространялись на всех; его личную долю в общем капитале фирмы не сократили пропорционально понесенным всеми убыткам. Наверное, этим объясняется, почему в послереволюционный период центробежные силы угрожали разорвать связи, которые ковал Майер Амшель почти за сорок лет до того, желая сплотить сыновей и внуков. Более всего лондонские партнеры стремились «освободиться» от обязательств перед четырьмя домами континентальной Европы, которые так дорого обошлись им после революции. Как выразился Нат в июле 1848 г., он и его братья хотели «прийти к некоторому соглашению, чтобы каждый дом мог находиться в независимом положении». Ничего удивительного, что перспектива «коммерческого и финансового конгресса» наполняла Шарлотту таким ужасом. Впервые идея конгресса стала известна в августе 1848 г.: «Дядя А. ослаблен и тоскует, потеряв жену, дядя Соломон – из-за потери денег, дядя Джеймс – из-за неустойчивого положения во Франции, мой отец [Карл] нервничает, мой муж, хотя и великолепен, упрям, когда настаивает на своем».
В январе 1849 г., когда Джеймс отправился навестить братьев и племянников во Франкфурт, Бетти всерьез ожидала, что конгресс «изменит основания наших домов и, по примеру Лондонского дома, дарует взаимную свободу от солидарности, несовместимой с политическими движениями…». Типичной для напряженных отношений между Парижем и Лондоном можно назвать ссору, которая произошла позже в том же году, когда Джеймс узнал, что Майер «приказал» одному из братьев Давидсон «не посылать золота во Францию», – он считал, что таким образом «англичане» утверждают свое превосходство, что, по его мнению, было невыносимым. В самом Париже шли постоянные трения между Натом и Джеймсом. Первый всегда проявлял гораздо больше осторожности, чем его дядя; к тому же из-за революции у него почти пропало желание и дальше заниматься делами. «Советую вам быть вдвойне осторожными в делах в целом», – увещевал он братьев в разгар кризиса.
«Ну, а я воспылал таким отвращением к бизнесу, что мне бы особенно хотелось больше не заниматься никакими сделками… Что же касается международной обстановки и революций, которые вспыхивали за минуту и когда их меньше всего ожидали, я считаю откровенным безумием бросаться по шею в горячую воду из желания заработать немного денег. Наши добрые дядюшки так нелепо любят дело ради самого дела… им невыносима мысль о том, что кто-нибудь другой проведет «их» операцию… они хватаются за все что угодно, если им кажется, что этого хочет кто-то другой. Я со своей стороны вполне уверен: нет никакого риска в том, что Бэринг предоставит ссуду [под испанскую ртуть], и если он предпочитает так поступать, будь что будет, будьте довольны и воспринимайте все легко».
Бетти понимала смысл подобных действий. Как она заметила, «нашему доброму дядюшке [Амшелю] невыносимо уменьшение нашего состояния, и в своем желании восстановить его в прежнем размере он недолго думая может снова погрузить нас в водоворот рискованных афер». Но Джеймс все больше досадовал на малодушие Ната. Шарлотта подозревала, что Джеймс будет очень рад, если племянник отойдет от дел, так как тогда у него появится повод шире привлечь к работе компании своих старших сыновей, Альфонса и Гюстава, которые впервые начали фигурировать в переписке в 1846 г.
Как выразилась Бетти, «прежние братские союзнические узы» на время казались «близкими к разрыву».
Семейный разлад возникал и по другим причинам. Еще до революции 1848 г. представители Франкфуртского дома жаловались на высокомерное отношение к ним со стороны Лондонского дома. Ансельм считал, что «очень неприятно быть самым скромным слугой, исполнять твой приказ, даже не зная из испанской переписки, как движутся дела. Весьма справедливо, что мы не ценим заботы и что с незапамятного времени [так!] другие дома оттесняют нас во второй ряд». Судя по письму, Ансельм считал, что он, будучи самым старшим представителем следующего поколения, станет преемником Амшеля во Франкфурте. Все изменил крах Венского дома, так как Ансельму поручили принять на себя обязанности отца в Австрии на постоянной основе. И Карлу хотелось, чтобы его преемником в Италии стал его старший сын Майер Карл. Однако бездетный Амшель еще больше хотел, чтобы Майер Карл после него возглавил Франкфуртский дом. В Неаполь он предлагал послать его младшего и не такого способного брата Адольфа. Как заметил Джеймс, такие споры шли не только между пожилыми братьями, но и между их сыновьями и племянниками; очевидно, всем им хотелось управлять Франкфуртским домом, поскольку он по-прежнему управлял филиалами в Вене и Неаполе: «У Ансельма разногласия с Майером Карлом. У Майера Карла разногласия с Адольфом». Хотя Шарлотта явно на стороне старшего брата, в ее дневнике содержатся подробности вражды, которую порождало такое соперничество: «Майер Карл… человек зрелый; он… человек светский и гражданин мира. Он в расцвете сил и находится на вершине своей… несравненной власти. Благодаря своим обаянию, живости и остроумию он, безусловно, заслуживает большей популярности, чем Ансельм. Более того, во Франкфурте он желанный гость, и его повсюду любят, гораздо больше, чем любили, любят и будут любить моего деверя. Сомневаюсь, что он обладает широтой и глубиной познаний, приобретенных Ансельмом; я не в том положении, чтобы оценивать его опыт и манеру вести дела или судить о здравости его суждений по важным вопросам; я не знаю, хорошо ли он пишет и говорит. Но… Ансельм в высшей степени снисходительно относится к моему брату, что совершенно неоправданно: можно обыскать не одно королевство и не найти второго такого же одаренного молодого человека. Может быть, он не обладает способностями, необходимыми для научной и исследовательской работы… Однако мне кажется, что как банкир и человек светский, как рафинированный и образованный представитель европейского общества (а он непринужденно себя чувствует в обществе людей всех национальностей и всех классов) он не имеет себе равных. Несправедливо и недостойно Ансельма относиться к нему с таким презрением».
Наконец, важно помнить, какую злость испытывали в Лондоне и Париже по отношению к Венскому дому после фиаско 1848 г. Временами Джеймс говорил так, словно он без всякого сожаления оборвал бы все связи с Веной. «Вена меня совершенно не интересует, – писал он в Лондон в декабре 1849 г. – В то время как там другие спекулируют против правительства, нашим родственникам в Вене не хватает на это ума… и, к сожалению, они никудышные дельцы. Они всегда считают, что ведут дела на благо государства».
Однако в конце концов в 1852 г. договор о сотрудничестве обновили, внеся в него довольно мало изменений по сравнению с договором 1844 г., и в следующие два десятилетия продолжали функционировать не менее успешно. Почему? Лучше всего выживание домов Ротшильдов как многонациональной компании объясняет жизненно важная роль, какую сыграл Джеймс в преодолении конфликта поколений и новом укреплении связей все более разобщенных ветвей семьи. Как заметила Шарлотта в 1849 г., когда она увидела дядю во Франкфурте, Джеймс вышел из кризиса 1848 г., не утратив жажды жизни и деловой хватки: «Редко доводится видеть такого проницательного в практических делах человека, столь светского и практичного, столь активного и неутомимого психически и физически. Когда я вспоминаю, что он вырос на Юденгассе и в детстве и юности был лишен преимуществ высокой культуры, он вызывает у меня несказанное изумление и восхищение. Он умеет веселиться и получать от всего удовольствие. Каждый день он пишет по два или три письма и диктует не меньше шести, читает все французские, немецкие и английские газеты, принимает ванну, в течение часа дремлет утром и на протяжении трех или четырех часов играет в вист».
И таким был распорядок дня Джеймса вне Парижа. Тот Джеймс, с которым познакомился молодой биржевой маклер Фейдо на улице Лаффита, казался такой же силой природы, каким он был в дни Гейне; более того, с возрастом Джеймс становился все более устрашающим.
Тем не менее, несмотря на всю его юношескую энергию, Джеймс был так же глубоко пропитан духом семьи, как и его отец. Еще до 1848 г. он тревожился, замечая признаки разлада между пятью домами. Разногласия относительно счетов, предупреждал он Лайонела в апреле 1847 г., ведут «к такому положению дел, что в конце каждый действует для себя, что порождает массу неприятностей». «Я принимаю близко к сердцу только доброе имя, счастье и единство семьи, – писал он, возражая на привычные увещевания Майера Амшеля, – а мы сохраняем единство именно в результате наших деловых операций. Если рассылать и получать счета каждый день, тогда все останется единым, по воле Всевышнего». К той же теме Джеймс возвращался со страстной настойчивостью летом 1850 г. Письмо такой важности заслуживает того, чтобы привести из него длинную цитату: «Легче что-то сломать, чем потом починить снова. У нас достаточно детей, чтобы продолжать дело еще сто лет, поэтому мы не должны идти друг против друга… Мы не должны заблуждаться: тот день, когда [одна отдельная] компания прекратит свое существование – когда мы потеряем то единство и сотрудничество в делах, которые в глазах всего мира придают нам истинную силу, – в тот день остальные также прекратят свое существование, и каждый из нас пойдет своей дорогой… тогда добрый старый Амшель скажет: «У меня 2 миллиона фунтов в деле, [но сейчас] я их забираю», и как мы сможем ему помешать? Как только больше не будет большинства [в принятии решений], он может соединиться с каким-нибудь Гольдшмидтом и сказать: «Я буду вкладывать деньги куда захочу», – а нам останется лишь укорять себя. Кроме того, я верю, милый Лайонел, что мы с тобой, у кого только и есть влияние во Франкфурте, должны стремиться к тому, чтобы восстановить мир между всеми [партнерами]… Что случится, если мы не будем осторожны? Вместо того чтобы передать капитал, который приближается к 3 миллионам фунтов, нашим детям, он попадет в руки посторонних, чужаков… Я спрашиваю тебя, не сошли ли мы с ума? Ты скажешь, что я старею и лишь хочу увеличить проценты по моему капиталу. Но, во-первых, все наши средства, хвала небесам, гораздо надежнее, чем когда мы заключали последнее соглашение о сотрудничестве, и, во-вторых, как я говорил тебе в тот день, когда приехал сюда, ты найдешь во мне верного дядю, который сделает все, что в его силах, чтобы прийти к необходимому компромиссу. Поэтому я считаю, что мы должны придерживаться таких доводов и сделать все возможное – пойти на любые жертвы с обеих сторон, – чтобы сохранять единство, которое, благодарение Всевышнему, хранило нас от всех последних несчастий, и каждый из нас должен подумать, что он может сделать для достижения этой цели».
О том же самом Джеймс твердил на протяжении 1850 и 1851 гг. «Уверяю тебя, – писал он Шарлотте, жене Лайонела, которую считал своей союзницей, – что семья – это все: семья – единственный источник счастья, которым мы, с Божьей помощью, обладаем, это наша привязанность [друг к другу], это наше единство».
Поэтому договор о сотрудничестве 1852 г. следует рассматривать в свете стремления Джеймса к единству – не ослабления связей между домами, но сохранения их путем компромисса, в соответствии с которым английские партнеры отказались от требования полной независимости в обмен на более высокие ставки доходности по их капиталу. Уже в 1850 г. Джеймс очертил условия такого компромисса; выражаясь словами Ната, он предложил, «чтобы подняли ставку доходности по капиталу для нас», естественно, при том условии, что Лондонский дом оказывался рентабельнее остальных. Конечно, свою роль сыграло и процитированное выше письмо Джеймса к Лайонелу;
наконец, в 1852 г. партнеры пришли к соглашению. Британские партнеры получали целый ряд «подсластителей»: им не только позволили изъять 260 тысяч 250 ф. ст. из их доли в капитале компании, но и процентная ставка по их доле (теперь составлявшей 20 % от общей суммы) возросла до 3,5 %, по сравнению с 3 % Джеймса, 2,625 % Карла и 2,5 % Амшеля и Соломона. Вдобавок были ослаблены правила, предусматривавшие ранее совместное ведение дел: отныне даже большинством голосов нельзя было заставить одного из партнеров куда-либо поехать против его желания, а инвестиции в недвижимое имущество больше не должны были финансироваться из коллективных фондов. Взамен на эти уступки английские партнеры согласились на новую систему сотрудничества. В параграфе 12 договора утверждалось, что «для сохранения открытого и братского сотрудничества и продвижения общих, взаимных деловых интересов» партнеры обязаны держать друг друга в курсе любых операций на сумму, превышающую 10 млн гульденов (около 830 тысяч ф. ст.), и предлагать участие в размере до 10 % на взаимовыгодной основе. В остальном условия всех предыдущих договоров, которых не коснулись изменения, предусмотренные последним договором, оставались в силе, в том числе, например, порядок общего ведения бухгалтерских книг. Несомненно, новый договор свидетельствует о некоторой децентрализации. Но, учитывая, что альтернативой (которая всерьез обсуждалась весь следующий год) была полная ликвидация коллективного предприятия, договор 1852 г. можно считать победой Джеймса.
В договоре 1852 г. не определялся порядок наследования во Франкфурте (кроме того, что из списка наследников вычеркнули Адольфа): отныне правом подписи от имени Франкфуртского дома обладали Ансельм, Майер Карл и Вильгельм Карл. Кроме того, договор наделял Альфонса и Гюстава правом подписи от имени Парижского дома. Только после смерти братьев Джеймса в 1855 г. возникла новая структура компании (см. табл. 1 а). Несмотря на условия его завещания, вся доля Соломона в коллективном капитале перешла к Ансельму (по неясным причинам Джеймс пытался оспорить завещание в интересах своей жены, правда, без особого энтузиазма). Долю Карла разделили поровну между его сыновьями после вычета 1/7части, которая перешла к его дочери Шарлотте. Наконец, что имело решающее значение, долю Амшеля разделили таким образом, что Джеймсу и Ансельму досталось по 1/4 – столько же, сколько и сыновьям Натана и сыновьям Карла. В результате Ансельм, Джеймс и английские партнеры получили почти равную власть, влияние же сыновей Карла сократилось. Их влияние еще больше сократилось после решения поставить Адольфа во главе Неаполитанского дома, а Франкфуртский дом оставить Майеру Карлу и его набожному брату Вильгельму Карлу.
Таблица 1 а
Личные доли в совместном капитале Ротшильдов, 1852 и 1855 годы
Примечание. Цифры за 1855 г. приблизительны (в отсутствие цифр Франкфуртского, Венского и Парижского домов) и выведены на основании цифр для Неаполя и Лондона. В 1852–1855 гг. капитал Неаполитанского дома вырос на 13,5 %, капитал Лондонского дома – на 22,8 %; я применил средние цифры (18 %).
Источники: CPHDCM, 637/1/7/115—120, Societäts-Übereinkunft, 31 октября 1852 г., между Амшелем, Соломоном, Карлом, Джеймсом, Лайонелом, Энтони, Натом и Майером; AN 132 AQ 3/1, без даты, около декабря 1855 г., где перераспределены доли Амшеля и Карла.
На практике данный компромисс выразился и в том, что после 1852 г. Джеймс стал гораздо почтительнее относиться к воле своих племянников, чем раньше. Нью-Корт больше не получал приказаний от Джеймса, что подтверждает значительное сокращение переписки между Лондоном и Парижем после 1848 г. Джеймс все чаще ограничивался лишь приписками к письмам Ната и часто заключал свои предложения касательно операций – как если бы напоминал себе, что больше не является первым среди равных, – красноречивой фразой: «Милые племянники, поступайте, как сочтете нужным». Несомненно, Лайонелу это было приятно. Однако компромисс 1852 г. означал, что система сотрудничества между пятью домами, существовавшая до 1848 г., по сути возобновилась при весьма скромной степени децентрализации. Отчеты Парижского и Лондонского домов раскрывают некоторую степень взаимозависимости, меньшую, чем в 1820-е гг., однако еще весьма значительную. Приведу всего один пример: 17,4 % активов Парижского дома в декабре 1851 г. составляли деньги, которые были должны ему другие дома Ротшильдов, главным образом Лондонский.
Более того, предположение лондонских партнеров, что их дом будет более рентабельным, чем другие, оказалось самонадеянным. Хотя в делах Неаполитанского и Франкфуртского домов наблюдался застой (по причинам, которые по большей части не зависели от Адольфа и Майера Карла), после 1852 г. больше всех преуспевал Джеймс. Он так успешно преумножил прибыль от континентальных железных дорог, что к концу его жизни капитал Парижского дома значительно превосходил капитал партнеров. И Ансельм неожиданно проявил недюжинные таланты, восстанавливая жизнеспособность пошатнувшегося Венского дома. Лондонские партнеры поняли, что и им небесполезно участвовать в операциях континентальных домов. Таким образом, новая система знаменовала собой новую эпоху равенства в статусе между Лондонским и Парижским домами. Венский дом возродился к жизни, а влияние Франкфуртского и Неаполитанского домов сократилось.
Как и в прошлом, Ротшильды поддерживали целостность семейной компании не только посредством договоров о сотрудничестве и завещаний. Решающую роль по-прежнему играла эндогамия. В период 1848–1877 гг. внутри семьи заключили не менее девяти браков, конечной целью которых было укрепление связей между различными ее ветвями. В 1849 г. третий сын Карла, Вильгельм Карл, женился на Ханне Матильде, второй дочери своего кузена Ансельма; год спустя его брат Адольф женился на сестре Ханны Матильды, Юлии; а в 1857 г. старший сын Джеймса Альфонс женился на Леоноре, дочери своего кузена Лайонела. Свадьба состоялась в Ганнерсбери. Перечислять здесь остальные браки утомительно[3]. Если даже члены семьи вступали в браки не с другими Ротшильдами, они женились и выходили замуж в своем кругу еврейской «родни»[4]. В 1850 г. Майер женился на Юлиане Коэн, победив соперника, Джозефа Монтефиоре, а его племянник Гюстав в 1859 г. женился на Сесиль Анспах. Если бы Вильгельм Карл не женился на девушке из семьи Ротшильд, он женился бы на девице Шнаппер, родственнице по линии его бабушки Гутле.
Устройство таких брачных союзов было, на протяжении жизни почти двух поколений, главным занятием женщин из семьи Ротшильд. Шарлотта не делала из этого секрета. Как она с радостью писала, узнав о помолвке своего брата Вильгельма Карла с Ханной Матильдой: «Мои добрые родители наверняка обрадуются, что он не выбрал девушку со стороны. Для нас, евреев, и особенно для нас, Ротшильдов, лучше не вступать в контакт с другими семьями, так как это всегда ведет к неприятностям и стоит денег». Предположение о том, что набожный жених или невеста-музыкантша сделали спонтанный выбор, в данном случае нелепо. Кузина Шарлотты Бетти рассматривала этот брак совсем в другом свете, сообщая сыну, что «бедная Матильда с большим сожалением согласилась выйти за Вилли». Теперь она «с поистине ангельской кротостью готовилась принести в жертву самые дорогие иллюзии своего юного сердца. Необходимо сказать, что перспектива стать спутницей Вилли на всю жизнь вряд ли соблазнит молодую женщину, получившую такое воспитание и одаренную столь изысканным умом». Оставалось решить, на ком женятся сыновья Бетти, Альфонс и Гюстав. Похоже, что Ханна Матильда отдала свое сердце последнему, в то время как ее сестра Юлия надеялась выйти за Альфонса. Но, немного подразнив сына на эту тему, Бетти сообщала: «Папа, будучи человеком откровенным и честным… заговорил о женитьбе, не ходя вокруг да около. Он выразил сожаление бедной матери… и вывел ее из заблуждения, что желание успеха способно подсказать неверное решение, и он просил ее в ее же интересах и ради счастья ее дочери поискать ей другого жениха».
Шарлотту новость обрадовала: она планировала такой же двойной брак между сыновьями Бетти и своими дочерьми Леонорой и Эвелиной. В своем дневнике она хладнокровно взвешивала сравнительные достоинства потенциальных зятьев:
«Гюстав – превосходный молодой человек. У него доброе и самое горячее сердце; он глубоко предан своим родителям, братьям, сестрам и родственникам. У него хорошо развито чувство долга, а его послушание может служить примером всем молодым людям его поколения. Талантлив он или нет, при всем моем желании сказать не могу. Он получил все преимущества и выгоды хорошего образования, но, как он сам уверяет, он глуп, легко пугается и не способен связать десяти слов в обществе незнакомцев. Говорят, что он приобрел значительные навыки в математике, но в данном вопросе я невежественна и не могу о нем судить.
Его брат Альфонс сочетает в себе необычайную энергию и жизнеспособность нашего дядюшки [Джеймса] и способность Бетти к языкам. Он много читает, умеет слушать, наблюдателен; он запоминает все, что узнает. Он без труда может беседовать на злободневные темы, без педантизма, но всегда по делу, с умом и занятно, говоря обо всем самым приятным образом. На его мнение нельзя положиться, поскольку он никогда не выражает никаких мнений; более того, никаких мнений у него нет; но слушать его одно удовольствие, потому что он хладнокровно рассуждает самым занимательным и живым тоном.
Г-жа Дизраэли считает Гюстава красивым; не уверена, что я с ней согласна. Только он один из потомков Джеймса может называться миловидным – у него большие, мягкие, зеленовато-голубые глаза. В детстве у него, как и у всех Ротшильдов, глаза были слабыми, но сейчас от детских болезней не осталось и следа, если не считать своеобразного взгляда, который можно назвать даже томным. У него красиво очерченные брови; лоб высокий и чистый; у него густые темно-русые шелковистые волосы; нос у него не восточный; у него большой рот, который, однако, нельзя похвалить из-за его выражения, в лучшем случае добродушного, которое не свидетельствует ни о понимании, ни о глубине чувства. Гюстав строен, с хорошей выправкой, а его манеры достойны высшего общества. Я хотела бы видеть его профиль у алтаря».
Она добилась лишь половины успеха: девять лет спустя она увидела у алтаря профиль Альфонса рядом со своей дочерью Леонорой. Более того, к тому времени она пересмотрела свое мнение о женихе. Теперь он казался ей «человеком, который лет десять или пятнадцать катался вокруг света, – он совершенно пресыщен, не умеет ни восхищаться, ни любить, – и тем не менее требует от своей невесты полной преданности, рабской преданности». Тем не менее, заключала она, «так лучше – мужчина, чьи страсти улеглись, чьи чувства утратили всю свежесть, всю глубину, скорее окажется надежным мужем, и жена, возможно, обретет счастье в исполнении супружеского долга. Ее разочарование будет горьким, но недолгим». Во всяком случае, ее дочь добилась «большой значимости и определенного положения в мире; и ей не захочется спускаться с того места, которое кажется ей троном Р., чтобы стать невестой человека более скромного»[5]. Несомненно, такие чувства основывались на личном опыте Шарлотты и позволяют многое понять в таких внутрисемейных браках по расчету.
Не следует, однако, преувеличивать степень, до какой родительский выбор был решающим. То, что Шарлотте не удалось женить на своей дочери брата Альфонса, предполагает, что родители уже не в той степени могли навязывать свою волю детям, как раньше. Дочери Ансельма Юлии также удалось отклонить ухаживания кузена Вильгельма Карла, а также более дальнего родственника Натаниэля Монтефиоре. Вместе с тем ее окончательный «выбор» Адольфа был предопределен ее отцом и будущим свекром, которые несколько месяцев обсуждали и составляли брачный контракт; и хотя предметом таких переговоров, в числе прочего, служили суммы, которые предназначались лично будущей новобрачной, чтобы предоставить ей некоторую финансовую независимость, не следует ошибочно считать такие меры неким зачаточным феминизмом[6]. Существовали пределы, в которых Ротшильды готовы были влиять на дочерей, что стало очевидно, когда старый Амшель вскоре после смерти жены провозгласил, что хочет жениться во второй раз не на ком ином, как на своей внучатой племяннице Юлии, у которой было много женихов (тогда ей не было и двадцати лет). Другие члены семьи – поддержанные его врачами – сомкнули ряды и дружно воспротивились его замыслу. Правда, неизвестно, что больше заботило родственников – опасения за его здоровье или счастье молодой дамы: так, Джеймс беспокоился, что, если предложение Амшеля не отвергнут сразу и резко, он может изъять свой капитал из компании и жениться на посторонней.
Ортодоксы и реформаторы
Как подчеркивала Шарлотта, эндогамия по-прежнему отчасти была связана с религией Ротшильдов. В семье по-прежнему считалось, что сыновья и дочери не должны вступать в брак с иноверцами (даже если они в социальном отношении настолько выше их единоверцев, что тоже не могут жениться или выходить замуж за пределами семьи). Степень религиозности Ротшильдов в тот период нельзя недооценивать: наоборот, она стала выше, чем была в 1820-е – 1830-е гг., что стало еще одним важным источником семейного единства после 1848 г. Джеймс по-прежнему был наименее строг в своем отношении к ритуалам. «Желаю вам хорошего Шаббата, – писал он племянникам и сыну в 1847 г. – Надеюсь, вы хорошо проведете время и хорошо поохотитесь. Хорошо ли вы едите, пьете и спите, как того желает ваш любящий дядюшка и отец?» Как подтверждает само существование такого письма, он не видел ничего дурного в том, чтобы в Шаббат сидеть за письменным столом. Кроме того, они с Карлом не слишком регулярно посещали синагогу (чего нельзя сказать об их женах).
Вместе с тем Джеймс оставался таким же убежденным поборником иудаизма в семье, каким был в дни отступничества Ханны Майер. Хотя он чуть не забыл, на какой день приходится праздник Пасхи в 1850 г., тем не менее он готов был отменить деловую поездку в Лондон, чтобы читать пасхальные молитвы. В 1860 г. он радовался, получив новую книгу франкфуртского раввина Леопольда Штайна, хотя неизвестно, какое пожертвование он послал Штайну. Его жена Бетти тоже не была чрезмерно религиозной, но и она, как ее муж, считала, что соблюдение религиозных обрядов важно с общественной, если не с духовной, точки зрения. Узнав, что ее сын Альфонс посетил синагогу в Нью-Йорке, она написала ему, что «не может нарадоваться», добавив: «Как хорошо, сынок, не только из религиозного чувства, но и из патриотизма, который в нашем высоком положении служит стимулом для тех, кто может забыть о нем, и поощрением для тех, кто остается твердым приверженцем веры. Таким образом, ты примиряешь тех, кто, возможно, обвиняет нас, пусть даже они придерживаются таких же взглядов, как и мы, и заботишься о том, чтобы тебя высоко ценили те, кто придерживается других убеждений».
Вместе с тем она была неподдельно удивлена, узнав, что Альфонс пошел в синагогу по собственной воле.
Единственным ортодоксом в младшем поколении оставался Вильгельм Карл. Как его дядя Амшель, он поддерживал кампанию, направленную против реформаторских тенденций франкфуртской общины. Он высказался за создание новой религиозной общины для ортодоксальных иудеев, пожертвовав львиную долю средств на строительство новой синагоги на Шютценштрассе. Вместе с тем он был против откровенного раскола, за который выступал новый раввин общины, Самсон Рафаэль Хирш, – он хотел, чтобы его последователи совершенно отделились от основной франкфуртской общины. Хотя Вильгельм Карл был ортодоксом, он, подобно многим Ротшильдам, считал, что разнообразие ритуалов не должно подрывать единства еврейской общины.
Его английские кузены также продолжали считать себя «добрыми иудеями»; они соблюдали религиозные праздники и избегали работать в Шаббат. Когда Энтони приезжал в Париж, Джеймс дразнил его из-за того, что тот повсюду возит с собой молитвенные книги. Набожность Энтони подтвердилась, когда он, как положено, постился на Йом-Кипур в 1849 г., несмотря на страхи (не подтвердившиеся), что это нежелательно с медицинской точки зрения, поскольку тогда в Париже свирепствовала холера. Характерно, что им с Лайонелом пришлось привезти Нату мацу, когда тот находился в Париже во время еврейской Пасхи. Даже будучи в отпуске в Брайтоне, Лайонел и его семья праздновали Йом-Кипур, постясь и молясь в Судный день. Впрочем, четверо лондонских братьев не были ортодоксами в том же смысле, в каком был Вильгельм Карл. В 1851 г. Дизраэли, не подумав, послал Шарлотте и Лайонелу большой кусок оленины, подаренный ему герцогом Портлендом: «Я не знал, что с этим делать… После того как высокопоставленные гости разошлись, мне… в голову пришла удачная мысль послать мясо мадам Ротшильд (поскольку мы так часто ужинали у них, а они у нас – ни разу)… мне и в голову не пришло, что это нечистое мясо, что, к сожалению, оказалось правдой. Однако, поскольку я упомянул дарителя, а лордов они любят… думаю, они это проглотят»[7].
Судя по всему, Дизраэли оказался прав, хотя едва ли Шарлотта и Лайонел съели оленину из любви к аристократии; просто семья Лайонела, как и семья Джеймса, не строго придерживалась кашрута. Более того, Майер так любил оленину, что защищал охоту на оленей в политической речи в Фолкстоне в 1866 г.![8]
В более общих религиозных вопросах английские братья склонялись к реформизму, распространенному в Англии. Когда в 1853 г. была предпринята попытка лишить прихожан склонной к реформизму синагоги западного Лондона мест в совете директоров, потому что они поссорились с консервативным главным раввином, Лайонел высказался против того, что он назвал «папизмом». Он заявил, что «питает глубокое уважение к духовным властям… но не намерен терпеть их руководство, словно руководство католического священника. Они, возможно и несомненно, очень ученые люди, но они не имеют права спрашивать у него, празднует ли он тот или иной праздник один день или два дня» – в этом проявлялось важное отличие реформаторов от ортодоксов. Возможно, именно его взглядами объясняется тот факт, что годом ранее реформаторская община во Франкфурте обратилась к Лайонелу за помощью в своей борьбе против главенствующей ортодоксальной общины.
Жены оказывались более склонными к реформам. Наверное, это объясняется тем, что традиционная служба в синагоге была мужским делом: есть доказательства, что женщины из семьи Ротшильд почти или совсем не знали древнееврейского языка. Например, жена Энтони Луиза считала, что необходимо модернизировать иудейские формы богослужения именно потому, что службы в синагоге не выдерживают сравнения с церковными службами. «Жаль, что нельзя пойти в церковь и послушать хорошую проповедь!» – воскликнула она в 1847 г., раздосадованная тем, что не понимала языка, на котором велись богослужения. Впрочем, она вовсе не стремилась к отступничеству. Скорее, она считала, что ее детей следует «лучше учить, чтобы они могли присоединяться к своим братьям на публичной службе». Поэтому ее дочерей Констанс и Энни воспитывали в сочетании иудаизма и англиканства. По субботам после короткой домашней службы она давала дочерям уроки Библии. Остаток дня она проводила за чтением иудейской и неиудейской религиозной литературы, в то время как ее дочери изучали такие предметы, как, например, «Историю и литературу израэлитов». Традиции праздника Йом-Кипур соблюдались неукоснительно, как записала Констанс в своем дневнике в 1861 г. Однако субботние «проповеди», которые ее мать опубликовала в 1857 г., с главами, посвященными «Правдивости», «Миру в доме» и «Благотворительности», содержали много такого, что вполне могло появиться в англиканском сборнике проповедей того времени: «Господи, Ты наполняешь меня счастьем, Ты удостоил меня своим благословением, намного больше, чем тысячи Твоих созданий, и я не знаю, как достаточно отблагодарить Тебя. Могу лишь молить Тебя сделать меня милосердной и чуткой к тем, кто страдает и находится в нужде, не дать мне быть эгоистичной и думать лишь о своих удовольствиях. Помести в сердце мое, о, Боже, желание и склонность накормить голодных, одеть раздетых и утешить страждущих, пока есть у меня на то силы и средства, чтобы я таким образом стала не такой незаслуживающей всей Твоей щедрой доброты ко мне и не такой недостойной Твоих милостей и милостивой защиты, Господи! Аминь».
Нет ничего удивительного в том, что дочери Луизы, воспитанные в таком духе, предпочитали синагоге Вестминстерское аббатство. Что еще более необычно, Шарлотта, которая выросла в гораздо более ортодоксальной атмосфере во Франкфурте, скорее всего, испытывала те же склонности. Письма к ее сыну Лео показывают, что она часто посещала нееврейские церковные службы и учреждения. Она не видела причин, по которым не могла не принимать участия в делах англиканской церкви в качестве землевладелицы. В 1866 г. она присутствовала на проповеди епископа Оксфордского на освящении церкви в Актоне (возле Ганнерсбери), признавшись, что проповедь ее «буквально заворожила», хотя на нее произвела гораздо меньше впечатления проповедь епископа Лондонского по случаю освящения церкви в Илинге. В последнем она была не одинока: жена Майера Юлиана проявляла столь пристальный интерес к делам одного прихода неподалеку от поместья Ментмор, что вынудила приходского священника подать в отставку[9]. Кроме того, Шарлотту привлекал модный мир англокатоликов; она посетила (на протяжении всего одного года) католический базар, освящение Дома сестер-назаретанок архиепископом Мэннингом, службу в часовне кармелиток в Кенсингтоне и еще одну – в Доме сестер милосердия. В каждом случае ее приглашали приятельницы-католички: леди Лотиан и леди Линдхерст.
Шарлотта постоянно сравнивала то, что она видела, с аналогичными иудейскими мероприятиями, и, хотя сравнения не всегда оказывались неблагоприятными по отношению к ее единоверцам, она часто относилась к ним довольно критически. Так, посетив награждение лучших выпускников в «Бесплатной еврейской школе», она была «болезненно поражена контрастом между теми, кто награждал еврейских детей, и прелатами, меценатами, друзьями и гостями, которые присутствовали на сходном мероприятии в [католической] благотворительной организации… Доктор Адлер [возможно, сын главного раввина Германн, первосвященник Бэйсуотерской синагоги], произнеся несколько слов, поспешил прочь, как будто в здании свирепствовала чума, а м-р Грин [раввин А. Л. Грин из Центральной синагоги, также ведавший социальным обеспечением школы] сбежал через боковую дверь, не сказав никому ни слова… Не было ни единого гостя, ни мужчины, ни женщины; большой зал был заставлен пустыми стульями, и мне было так неловко занимать обширное пространство, что я вынуждена была удалиться в угол рядом с классом пения… Что бы ни говорили о коленопреклоненных и показательно-пышных церемониях католиков, их дела, их добрые дела благородны и возвышенны, а среди нас в самом деле не хватает сердечности».
В свете этого не кажется удивительным, что к Ротшильдам за финансовой помощью обращались и христианские учреждения. Их просьбы часто не оставались без ответа: так, в 1871 г. один католический священник убедил Шарлотту пожертвовать 50 ф. ст. его школе в Брентфорде.
Судя по всему, Ротшильды проявляли свою религиозность в основном через благотворительность. Традиционные формы филантропии среди мужчин оказались особенно долговечными. Ансельм в Вене начинал каждый рабочий день в 9.30 утра с того, что прочитывал все прошения, лично определяя, какие суммы выделить каждому из просителей; и даже когда он ходил на ежедневную прогулку в зоопарк Шенбрунна, его сопровождал банковский клерк, который раздавал монеты встречным нищим. Во Франкфурте, хотя «секретарем по делам нищих» у Вильгельма Карла служил Якоб Розенхайм, все решения по-прежнему принимал Вильгельм Карл лично. По воспоминаниям сына Розенхайма, «каждый вечер, иногда даже в восемь или девять часов, отец шел к барону в его кабинет на Фаргассе, а иногда и ездил в Грюнебург, чтобы лично представить ему список петиций, тщательно составленный моей матерью, – в среднем их бывало от 20 до 30, – пришедших со всего еврейского мира… личные просьбы о помощи, письма от самых уважаемых раввинов во всех странах, еврейских школ и благотворительных учреждений на Востоке и Западе. В каждом отдельном случае барон лично решал, какая сумма кажется ему подходящей. Время от времени он также с удовлетворением прочитывал благодарственные письма. Прежде чем представить ту или иную просьбу барону, нужно было проверить сведения о каждом просителе у того или иного надежного раввина, которого знал барон; такие доверенные лица имелись у него… во всех уголках мира. Все полученные сведения регистрировались и заносились дословно в особую книгу».
Педантичность в каждом случае производит большое впечатление. Однако наступил момент, когда из-за количества просьб о помощи больше невозможно было распоряжаться ими по-старому, особенно после того, как начало расти количество бедных еврейских иммигрантов из Восточной Европы. Странно было бы ожидать, что человек вроде Лайонела, который оперировал миллионами, лично будет распределять взносы по сотне фунтов вроде тех, что он пожертвовал в 1850 г. «в фонд сооружения домов призрения для неимущих иностранцев»; или примерно такую же сумму, которую его дядя Амшель просил его пожертвовать на школу для еврейских девочек во Франкфурте два года спустя. Поэтому большую часть такой работы приходилось делегировать. В Лондоне в качестве «раздающего милостыню» вызвался служить Ашер, врач из Шотландии, который после 1866 г. служил секретарем Большой синагоги. По сведениям из одного источника, он стал доверенным лицом Лайонела, практически «управляющим благотворительным отделом» в Нью-Корте. И Фейдо упоминает о существовании в Париже «особого отдела… несколько сотрудников которого были заняты исключительно приемом просьб о помощи, их изучением и сбором сведений об истинном положении просителей». Благотворительность превращалась в неприятную обязанность, почти неотличимую от более однообразных аспектов банковского дела. После 1859 г. некоторая часть такой работы передавалась новому совету попечителей по оказанию помощи еврейским беднякам, по крайней мере, координировалась им. Так, в 1868 г. некий Эмануэль Сперлинг, отец четверых детей и «человек весьма достойный, судя по рекомендации», изъявил желание «открыть лавку, с какой целью он получил небольшое вспомоществование»; Софи Бендхайм, дочери дальнего родственника семьи Давидсон, просила деньги на приданое дочери. Впрочем, такая деятельность никогда не подменяла филантропические дела семьи и компании.
В силу своего положения женщины из семьи Ротшильд занимались благотворительностью более активно; более того, филантропия до некоторой степени стала их работой, к которой они подходили столь же скрупулезно, как их мужья – к работе в банке. Со времен Натана одним из любимых благотворительных учреждений стала для Ротшильдов «Бесплатная еврейская школа»; в 1850-е – 1860-е гг. Шарлотта и Луиза начали помогать ей не только деньгами, но и личным участием. Кстати, Энтони, муж Луизы, в 1847 г. стал президентом попечительского совета. В 1848 г., впервые посетив школу, Луиза нашла ее «превосходным учреждением», которое дает «бесплатное образование» примерно «девятистам бедным детям, взятым из самых низших классов». Правда, качество образования оказалось не на высоте. Шарлотта не питала надежд на успех «маленьких учеников с Белл-Лейн», которых она описала сыну как «неописуемо бедных, грязных – и неотесанных». «Приходишь в уныние, когда пытаешься усовершенствовать этих кавказских[10] арабов, – писала она в 1865 г., – без всякой надежды увидеть у них истинный прогресс». Ее еженедельные посещения школы на Белл-Лейн были «далеко не приятными», поскольку «низшие классы нашей общины невообразимо грязны… и в плохую погоду ходят в обносках». С другой стороны, она находила «невозможным… общаться с бедными, грязными маленькими детьми и не интересоваться… их успехами и общим исправлением нравов». В 1870-е гг. ее усилиями – в том числе она помогла Мэтью Арнольду организовать инспекцию – и усилиями ее зятя Энтони удалось преобразить школу. Количество учеников утроилось, ежегодный бюджет вырос в 20 раз, а число учителей возросло в 25 раз.
В число образовательных учреждений, которыми занимались женщины из семьи Ротшильд, входили Еврейский колледж, основанный в 1855 г., субботние школы Ассоциации по распространению религиозных знаний, а также окружные еврейские школы, организованные в южном Лондоне Юлианой, женой Майера, в 1867 г. Кроме того, как и в прошлом, кое-что делалось для помощи больным. Вдобавок к тому, что она была членом Благотворительного еврейского женского общества взаимопомощи и Женской благотворительной организации, Луиза учредила Еврейский дом для выздоравливающих, еду для которого готовили на специальной кухне на Артиллери-Лейн, – средства для кухни предоставляла Шарлотта. Вдобавок Шарлотта учредила Дом для пожилых неизлечимых больных, реорганизовала Лондонский благотворительный родильный дом и была президентом Благотворительного женского общества взаимопомощи и Швейной гильдии родильного дома Ист-Энда. Кроме того, существовали основанные Ротшильдами дневные ясли для еврейских младенцев в лондонском Уайтчепеле и Дом для евреев-глухонемых на Уолмер-Роуд в районе Ноттинг-Хилл. Наконец, Шарлотта изъявила желание принять участие в новом попечительском совете. Так, в 1861 г. она передала раввину Грину средства на покупку десяти швейных машин, которые можно было сдавать в аренду или продавать бедным женщинам-иммигранткам, желающим зарабатывать на жизнь шитьем. Позже она жертвовала по 100–200 ф. ст. в год основанной Грином «Мастерской для девочек».
В своей речи на ее поминальной службе в 1884 г. Германн Адлер вспоминал, что главной темой изданных Шарлоттой «Молитв и медитаций» и «Обращений к детям» (первоначально составленных для «Бесплатной школы для девочек») было, «что те, кто страдает и нуждается в помощи, должны быть ближе к нам и нашему сочувствию… что богатые должны встречаться с бедными, жертвуя не только золото, но и время, которое является жизнью». Этому она посвящала свою жизнь. Он передал собравшимся ее слова, произнесенные на смертном одре: «Помните о бедных…» При этом она в первую очередь имела в виду бедняков евреев. Однако Адлер не упомянул о том различии, какое Шарлотта в течение всей ее сознательной жизни делала между благотворительными «дарами» и пожертвованиями строго религиозного характера. В 1864 г. у нее состоялся важный разговор с раввином Грином, когда он «просил новый свиток Торы для своей синагоги. Он приводил в пример религиозных людей прошлого, наделенных большой щедростью, и людей суеверных, которые, хотя не были ни очень богатыми, ни либеральными, приносили в храм дары из чувства благоговения и ужаса; но это суеверие уничтожила цивилизация, и религиозные евреи перестали проявлять щедрость – в то время как щедрые израэлиты позволяют своему богатству утекать по светским каналам… По-моему, он прав… я скорее готова дать двадцать фунтов на школу, чем потратить их на сефер…».
Иными словами, искренняя забота о материальных нуждах еврейской общины иногда сопровождалась критическим отношением к иудаизму как организованной форме вероисповедания. Стоит также упомянуть, что с ростом иммиграции из стран Восточной Европы в рядах еврейской элиты появились первые признаки беспокойства. В 1856 г. Шарлотта организовала «Любительский концерт в помощь Фонду кассы взаимопомощи еврейской эмиграции», на котором выступали ее дети, Эвелина и Альфред, а Луиза была членом комитета общества. Нетрудно догадаться, какой была цель этой организации.
Как будет показано далее, чем больше бедных евреев приезжали в Англию из стран Восточной и Центральной Европы, тем больше члены еврейской элиты хотели, чтобы они эмигрировали в другие места.
Наверное, самую разительную перемену в отношении Ротшильдов к благотворительности в тот период можно проследить у Джеймса. Возможно, его отношение стало ответом на события 1840-х гг., когда выяснились две вещи: размер антиеврейских настроений во французском обществе в целом и размер его собственной личной непопулярности среди парижских бедняков. До 1848 г. Джеймс из всех пятерых сыновей Майера Амшеля меньше всех принимал публичное участие в жизни еврейской общины. Хотя он заступался за евреев Дамаска в ходе дебатов с Тьером в 1840 г., для парижских евреев он делал сравнительно мало. Все изменилось после революции. В 1850 г. Джеймс сообщил Парижской консистории, что хочет создать еврейскую больницу по адресу: улица Пикпюс, 76. Новая больница должна была заменить несостоятельный «Дом призрения для бедных израэлитов Парижа», основанный в 1841 г. Двумя годами позже, 20 декабря 1852 г., больница – просторное новое здание, построенное по проекту Жана-Александра Тьерри – была официально открыта, после чего открытие «Юниверс Израэлит» описывали как «одну из величайших [церемоний], какие происходили в иудейской среде». На открытии присутствовали министр общественных работ, директор департамента религии и префект округа Сена. Примерно в то же время Джеймс сделал значительный взнос в новую Римско-византийскую синагогу, построенную Тьерри для Парижской консистории на улице Нотр-Дам-де-Назарет. Кроме того, он внес значительные суммы на постройку двух приютов на улице Розье и улице Лямблярди (последний позже назвали в честь Соломона и Каролины).
Наряду с такими благотворительными делами Ротшильды все больше принимали участие в жизни французской еврейской общины. В 1850 г. Альфонс стал членом Центральной консистории; двумя годами позже Гюстава выбрали в Парижскую консисторию, а в 1856 г. он стал ее президентом. После 1858 г. консистория размещала свои средства в банке братьев Ротшильд. Похоже, что неловкое положение Джеймса в качестве политического «аутсайдера» при Наполеоне III придало ему уверенности и позволило стать светским лидером еврейской общины, то есть принять роль, которую в других местах уже играли его братья и племянники. Однако он заботился и о том, чтобы распределять часть денег вне зависимости от веры. Так, его усилиями на улице Риволи открылась суповая кухня, которая работала почти бесперебойно.
Наверное, ничто лучше не иллюстрирует степень участия Ротшильдов в делах своих бедных собратьев, чем количество и размер пожертвований, которые члены семьи внесли на новую больницу в Иерусалиме, учрежденную в 1850-е гг. Альбертом Коном. Имена не менее 11 Ротшильдов появляются в тогдашнем списке благотворителей самой больницы и связанных с ней учреждений. Так, Шарлотта учредила неподалеку от больницы «промышленную школу», в адрес которой ежегодно посылала чек; Ансельм основал небольшой банк; Бетти посылала одежду для беременных, а также заплатила всего 122 850 пиастров на «добровольные взносы». В списке жертвователей можно найти представителей всех пяти ветвей семьи, что напоминает: хотя большая часть благотворительной работы велась на национальном – или скорее городском – уровне, Ротшильды продолжали чувствовать свою ответственность по отношению к еврейской общине в более широком, «всемирном» масштабе[11].
Позиция Лайонела
Ни одна история семьи Ротшильд не будет полной без обсуждения решающей роли Лайонела, который добился для иудеев права быть членами парламента и входить в палату общин. Однако важно не рассматривать данный конкретный вопрос в отрыве от общей целенаправленной кампании вигов. Главным препятствием, из-за которого евреи не могли попасть в парламент, занять места в палате общин, стал текст присяги, в котором содержались слова о верности «истинной христианской вере». Впрочем, присяга была лишь одним из многих барьеров, с которыми сталкивались представители семьи Ротшильд в 1840-е – 1850-е гг.[12] Такую же важную роль для них играли препятствия к зачислению в Оксфорд и учебе в Кембридже.
Вдобавок существовали общественные учреждения, куда евреев раньше никогда не принимали, хотя официально и не отказывали им в приеме; попасть туда оказалось столь же важно, сколь и устранить официальные юридические преграды. Учитывая структуру политики Великобритании в XIX в., место в палате общин само по себе обладало лишь ограниченной ценностью. Не менее важной была работа в местных органах власти, которая иногда служила необходимой предпосылкой для избрания в парламент. Более того, с социальной точки зрения местные органы власти отличались в зависимости от округа – городского или сельского. Дело в том, что многие самые важные политические решения принимались не в Вестминстере, а «в деревне» – в закрытых кругах, в которые входили владельцы аристократических загородных усадеб, где политическая элита проводила большую часть года. Даже в городах парламент был совсем не единственным политическим форумом: член парламента, который не являлся одновременно членом одного или нескольких лондонских клубов, сосредоточенных вокруг Пикадилли и Пэлл-Мэлл, не мог вести полномасштабную политическую жизнь. Помимо всего прочего, допуск в палату общин не открывал для евреев автоматически двери палаты лордов.
Зачем Ротшильды так упорно стремились попасть в британские правящие круги? Чисто практического объяснения (они хотели усилить свое политическое влияние, чтобы максимизировать рычаг давления на правительство) будет недостаточно. Конечно, к тому времени в палате общин уже заседали представители многих нееврейских семей лондонского Сити (особенно следует отметить Бэрингов). Но к 1840-м гг. Ротшильды прочно утвердились в Сити в положении превосходящего других частного банка. Несмотря на то что после смерти Натана отношения с Английским Банком приближались к точке замерзания, не было оснований сомневаться, что в те редкие случаи, когда правительству Великобритании требовалось занять деньги, оно обратится к Ротшильдам. Более того, получив доступ в палату общин, Ротшильды, по всей видимости, почти не пользовались ее возможностями – по крайней мере, как места для дебатов. Гораздо более убедительным кажется довод, что Лайонел, на которого оказывала большое влияние его мать, принципиально стремился добиться для евреев привилегий, в которых им до тех пор отказывали. Родственники в континентальной Европе не уставали поощрять Лайонела в его попытках закрепиться в парламенте. Так, Джеймс считал, что племянник ведет символическую битву от имени всех евреев. Он сравнивал его достижения с тем, чего 40 лет назад добивался Майер Амшель во Франкфурте. Конечно, не следует заблуждаться по поводу природы либерализма Лайонела, хотя в то время большинство политиков (включая лорда Джона Рассела) склонны были навесить на него ярлык вига (то есть либерала). Не только «еврейский вопрос» развел Лайонела и его братьев с партией тори, но и куда более важное громкое дело 1840-х гг., вопрос о свободной торговле, который стали идентифицировать с либералами в свете бунта тори против Пиля в 1846 г.
И вот один из больших парадоксов 1848 г.: в то время, когда либералы на континенте поносили Ротшильдов как столпов реакции, в Великобритании они играли ведущую роль в исконной либеральной кампании за равенство перед законом. В конце концов еврейская эмансипация стала одним из достижений франкфуртского парламента, хотя в самом Франкфурте в 1852 г. многие ее положения отменили. Это вынуждена была признать даже Бетти, сторонница Орлеанского дома и противница революции: «Мы, евреи, не должны… жаловаться на это великое движение и перемещение интересов.
Эмансипация повсюду сбила оковы Средних веков и вернула париям фанатизма и нетерпимости права человечности и равенства. С этим мы должны себя поздравить…»
Однако и здесь не обойтись без оговорок. Во-первых, некоторые элементы революционного движения были откровенно антиеврейскими; более того, насилие против евреев стало одним из явлений, из-за которых революционные события 1848–1849 гг. вызывали у Ротшильдов самое большое отвращение. Во-вторых, в некотором смысле главным являлся вопрос о статусе Ротшильдов внутри британской еврейской общины. Несомненно, мощным стимулом служило соперничество с другими представителями еврейской элиты – особенно Давидом Соломонсом. В действительности для большинства бедных евреев в Великобритании (и еще более того в континентальной Европе) мысль о представительстве в парламенте была столь же далека, сколь и мысль об обучении в Кембридже. Несмотря на всю риторику коллективной борьбы за права евреев, Ротшильды до определенной степени преследовали собственные интересы – точнее, их собственные притязания стать «королевской семьей» среди представителей иудейской веры.
В свете последующих событий удивительно, что в 1839 г. газета «Альгемайне цайтунг дес юдентумс» повела ожесточенную кампанию против Ротшильдов, обвинив их в откровенном вреде делу еврейской эмансипации: «К нашему ужасу, нам стало известно, что отвращение к евреям в Германии, которое почти полностью исчезло ко времени освободительных войн, возросло вместе с возвышением Дома Ротшильдов; богатство последних и… их партнеров нанесло ущерб делу евреев, так что, когда первые растут, последние падают все ниже… Мы должны резко разграничить еврейское дело и весь Дом Ротшильдов и их спутников».
Однако в то время действительно казалось, что семья отстранилась от более широких интересов европейских евреев. В 1835 г. не кто-то из Ротшильдов, а один из их конкурентов, Давид Соломонс из «Лондонского и Вестминстерского банка», одержал первую победу за предоставление английским евреям политических прав, когда его избрали шерифом лондонского Сити. В процессе он и его сторонники-виги добились принятия закона, который отменял требование для избранного шерифа подписывать декларацию со словами об «истинной христианской вере». Не кто-то из Ротшильдов, но Фрэнсис Генри Голдсмид стал первым евреем-адвокатом. Не кого-то из Ротшильдов, а их свойственника Мозеса Монтефиоре первым из английских евреев возвели в рыцарское достоинство, а потом сделали баронетом, чем, по выражению Джеймса, «подняли престиж евреев в Англии». Не кто-то из Ротшильдов, а Исаак Лайон Голдсмид возглавил «Еврейскую ассоциацию за обретение гражданских прав и привилегий».
Ротшильды вновь обратились к вопросу о еврейской эмансипации после «дамасского дела» 1840 г. Прецедент позволил им воспользоваться своим влиянием, чтобы улучшить положение евреев в менее терпимых государствах континентальной Европы в 1840-е гг. В 1842 г. Джеймс поехал к Гизо «в связи с польскими евреями», а Ансельм стремился организовать кампанию в прессе против новых антиеврейских мер, предложенных в Пруссии. В 1844 г. «отвратительные» новые меры, предложенные Николаем I для сокращения «черты оседлости» в России и по приведению еврейских школ под строгий государственный контроль, заставили Лайонела перед визитом царя в Лондон искать бесед с лордом Абердином и Пилем. Перед тем как Монтефиоре собрался в Россию, чтобы протестовать против государственной политики по отношению к евреям, Лайонел снова повидался с Пилем и попросил для своего родственника рекомендательные письма к графу Нессельроде. Ротшильды действовали примерно так же, как во время политического кризиса в Риме в 1848–1849 гг., когда они стремились добиться от папы уступок по отношению к римским евреям.
Тем не менее в Англии, которую едва ли можно назвать страной религиозной нетерпимости, велась и в конечном счете была выиграна самая известная кампания за права евреев. Положение евреев в Великобритании в то время было во многом аномальным, отражавшим относительную малочисленность еврейской общины по центральноевропейским меркам. В 1828 г. все еврейское население Британских островов составляло 27 тысяч человек; через 32 года (после нескольких десятилетий беспрецедентного демографического роста в стране в целом) евреев в Великобритании по-прежнему проживало всего 40 тысяч – около 0,2 % населения. При этом больше половины английских евреев проживали в Лондоне. По континентальным меркам и по сравнению с народным отношением к католикам (особенно к католикам-ирландцам) враждебность по отношению к евреям казалась приглушенной. Однако в сводах законов еще оставались, пусть только на бумаге, некоторые дискриминационные меры, например запрет владеть земельной собственностью и обеспечивать школы. Что еще важнее, кандидаты на многие важные посты, в том числе и на места в парламенте, должны были приносить присягу, в тексте которой содержалась клятва верности христианской вере. Главной целью политической деятельности Ротшильдов стала отмена этой клятвы.
Под влиянием своей жены Ханны Натан в 1829–1830 гг., после успешного прохождения законопроекта об эмансипации католиков, поднял вопрос о предоставлении евреям политических прав. Скорее всего, в тот же период времени Ротшильды разочаровались в тори: вскоре стало ясно, что виги куда охотнее поддержат подобный законопроект для евреев. Переход на другую сторону продолжился после смерти Натана и вылился в ряд законопроектов об эмансипации, предложенных Робертом Грантом. Впрочем, на фоне сильной оппозиции со стороны тори палата общин отвергла все предложенные законопроекты. Судя по записям, которым до недавнего времени не уделяли достаточно внимания, Нат играл вспомогательную роль в безуспешной кампании 1841 г., целью которой было разрешение евреям, избранным в муниципальные органы власти, приносить ту же присягу с поправками, какую сумел провести Соломонс, став шерифом лондонского Сити. Сильное противодействие тори в палате лордов, которое не ускользнуло от внимания Ротшильдов, не способствовало улучшению их отношений с этой партией. В 1841 г., после победы консерваторов на выборах, старый друг Ротшильдов Херрис предупреждал нового канцлера казначейства (министра финансов) Генри Голберна, что он может столкнуться с противодействием со стороны «евреев и брокеров» в Сити: «Неплохо иметь в виду, что упомянутые господа, возможно, не будут относиться к вам так благожелательно, как в прежние времена. Судя по той роли, какую сыграли Джонс Ллойд, Сэм Герни и Ротшильды и т. д. на выборах в Сити, они испытывают недобрые чувства по отношению к консервативной партии. Но они не позволят своим чувствам вставать на пути их собственных интересов, хотя они не простят отклонения законопроекта о наделении евреев правом входить в муниципальные советы, а ведь эти Левиафаны денежного рынка обладают большей властью, чтобы провести или заблокировать ту или иную финансовую меру, чем любые другие персоны, даже обладающие более солидными капиталами, чем они сами».
Письмо от одного активиста подтверждает, что Майер участвовал в регистрации избирателей в Сити со стороны либералов[13]. Позже, когда Пиль просил Веллингтона оказать поддержку его правительству, герцог был настроен так же пессимистично. «Ротшильды, – предупреждал он Пиля, – преследуют собственные политические цели, особенно старуха [Ханна] и Лайонел. Они давно поддерживают просьбы евреев о том, чтобы им даровали политические привилегии». Хотя он теперь был «больше тори, чем когда жил в Лондоне», Нат подчеркивал, что окажет поддержку Пилю лишь на определенных условиях: «Насколько я понимаю, он будет либерален по отношению к нам, бедным евреям, и, если освободит нас, он получит мою поддержку». Для Ната только еврейский вопрос разделял Ротшильдов и консерваторов. Как он наполовину в шутку писал в 1842 г., «ты должен понимать, что, хотя в Англии я последовательный виг, здесь я ультраконсерватор… думаю, ты бы также согласился с последним ходом мыслей, если бы не крошечный кусочек, удаленный с одной части тела, каковой Билли [Энтони] придает особенно большое значение, и который не дал нам пользоваться теми же правами и привилегиями, что и другим, не попавшим в такое же затруднительное положение».
Хотя со стороны Энтони больше производил впечатление либерала, он радовался трудностям, с какими Пиль столкнулся в палате общин, считая – как оказалось, верно, – что эти трудности сделают его «чуточку либеральнее, и я считаю, что сэр Роберт, если он того пожелает, сделает что-то для бедных евреев». Ну а на дополнительных выборах в Сити в октябре 1843 г. Лайонел, не колеблясь, оказал свою поддержку кандидату от либералов Джеймсу Паттисону, призывая евреев-избирателей нарушить Шаббат, чтобы проголосовать. Эти голоса сыграли решающую роль, так как Паттисон обошел своего противника-тори с небольшим перевесом. Кстати, противником был не кто иной, как один из старых конкурентов Ротшильдов Томас Бэринг.
Однако Лайонел не решался последовать примеру Давида Соломонса и напрямую принять участие в политической деятельности. Скорее всего, повод для такой нерешительности был чисто практический: политика отнимала много времени, которого почти не было у старшего партнера такого крупного банка, как «Н. М. Ротшильд и сыновья». Возможно, Лайонел разделял мнение Джеймса, которое тот выразил еще в 1816 г.: «…как только коммерсант начинает играть слишком большую роль в государственных делах, ему трудно продолжать свое банковское дело». С другой стороны, на него оказывали сильное давление родственники, в том числе Джеймс, которые призывали его повысить политический престиж семьи в Англии. Представления Джеймса о политической деятельности по-прежнему коренились в воспоминаниях о собственном опыте в 1820-е гг., когда он и его старшие братья энергично копили титулы и награды, заискивая перед монархами различных государств, с которыми они вели дела. Он хотел поощрить племянников поступать так же в Англии в 1838 г., написав Лайонелу, что у него «состоялся долгий разговор с королем Бельгии, и тот обещал нам, что напишет королеве Англии и добьется для вас приглашений на все балы… Король наградил четырех братьев орденами… и если вы, мои милые племянники, заядлые сторонники таких лент, я позабочусь о том, чтобы в следующий раз вы их получили, по воле Божьей, [хотя] в Англии их не носят».
Не такой старомодной оказалась надежда Ансельма, что «через год или два я смогу поздравить одного из вас с избранием в парламент и восхищаться вашими яркими речами». В 1841 г., когда Исаак Лайон Голдсмид стал первым евреем-баронетом, Энтони писал из Парижа, что ему «куда больше понравился бы сэр Лайонел де Р., и ему стоит попытаться». И позже, в 1843 г., когда Соломона сделали «почетным гражданином» Вены, Энтони красноречиво намекал, что «это произведет эффект и в старушке Англии».
Давление усилилось в 1845 г., когда Давид Соломонс одержал еще одну важную победу. Выиграв в острой конкурентной борьбе выборы на должность олдермена от округа Портсокен, Соломонс вынужден был принести присягу со словами «в истинно христианской вере»; когда он отказался произносить эти слова, суд олдерменов объявил его избрание аннулированным. Соломонс пожаловался Пилю, который – как и предсказывал Энтони – проявил больше сочувствия и приказал лорду-канцлеру, Линдхерсту, внести законопроект, в котором в муниципальных органах власти устранялись все оставшиеся ограничения, касавшиеся евреев. Закон вступил в силу 31 июля 1845 г.[14] На самом деле Лайонел сыграл роль в продвижении этого закона, став одним из пятерых участников делегации, которую Совет представителей британских евреев отправил к Пилю, чтобы лоббировать его принятие. Но вся слава досталась Соломонсу, что раздражало ревнивых родственников Лайонела. «Буду рад видеть [тебя] лорд-мэром Лондона и членом парламента от города, – писал Лайонелу брат Нат. – Ты должен собрать голоса и стать управляющим Ост-И[ндской компании], мой милый Лайонел». Годом спустя он пел ту же песню: «Наши старомодные французы… дружно уверяют, что скоро ты окажешься в палате общин, так что готовься». Когда вскоре после своего триумфа Соломонс посетил Париж, отношение Ханны было ледяным: «Мы, конечно, позволим ему, – писала она Шарлотте, – насладиться успехом [доброго дела], но сами должны всецело принять участие в том, на что мы искренне надеемся и что, как мы считаем, может окончиться хорошо для общины, к которой мы принадлежим, в чем, как я не сомневаюсь, получат должное признание личные заслуги и усилия»[15]. Пожалованный в 1846 г. Мозесу Монтефиоре титул баронета позволил Энтони надеяться, что, «может быть, когда виги придут к власти… они поймут, что обязаны что-то дать вашей чести». Стоило правительству Пиля пасть, как Нат начал побуждать брата «встать и официально заявить, что ты будешь баллотироваться от Сити», предложив, чтобы он «нанял какого-нибудь умного малого, который бы по вечерам читал с тобой на протяжении часа… чтобы ты чувствовал себя непринужденнее в различных вопросах политической экономии».
Не только близкие родственники призывали Лайонела к большей политической активности. В 1841 г. политический помощник ирландского лидера Дэниел О’Коннел пригласил его «как одного из самых влиятельных представителей вашей почтенной нации» посетить публичное собрание («В Эксетер-Холле, в таверне «Якорь»), на котором он предлагал обсудить «политическое положение евреев». Через два года ему предложили помощь в том случае, если он сам захочет участвовать в дополнительных выборах в лондонском Сити.
И все же Лайонел по-прежнему колебался. В то время как другие, не тратя времени даром, ринулись в пролом, сделанный Соломонсом, – среди них его брат Майер, который в феврале стал верховным шерифом Бакингемшира[16], – Лайонел бездействовал. Даже когда новый премьер-министр, лорд Джон Рассел, предложил ему титул баронета, он упрямо отказался его принять – к ужасу его родни[17]. Причины, которые он привел для своего отказа, свидетельствуют о том, что Лайонел был человеком обидчивым и щепетильным: он не хотел принимать почести, которые уже были до него дарованы двум другим евреям, и не хотел довольствоваться меньшим, чем титул пэра. По словам принца Альберта, он говорил: «Разве вы не можете предложить мне ничего повыше?» Такая прямота была достойна его отца, но его мать Ханна вспылила: «Я не считаю, что, отказавшись, ты поступил в соответствии с хорошим вкусом, поскольку твой маленький друг [возможно, Рассел] замечает: чего же более [она] может даровать? Титул пэра невозможно получить в настоящее время, не принеся присяги, чего, как я догадываюсь, ты не сделаешь. Личное представление со стороны верховного лица следует высоко ценить; возможно, оно приведет к другим преимуществам, отказ же от него породит гнев, – кроме того, приняв его, ты не расстанешься с надеждами на твой первоначальный титул. Можно нарисовать красивый герб. По-моему, наделение титулом двух предыдущих господ не имеет к тебе никакого отношения – и определенно не умаляет твоих заслуг… Таково мое мнение, прости за прямоту».
Его братья очень расстроились – они охотно приняли бы титул. Как писал Нат, «на твоем месте я стал бы английским баронетом, это лучше, чем быть немецким бароном… Старина Билли считает, что «сэр Энтони» звучит очень хорошо, и если ты не хочешь титул для себя, мог бы получить его для него… У всех нас очень красивые имена, а сэр Майер Ментмор звучало бы даже романтично».
Свое слово сказал и Джеймс: «Желаю тебе, мой милый Лайонел, удачи, раз ваша милая королева, хвала Господу, питает к тебе такое расположение. Прошу, будь очень осторожен, чтобы ваш принц Альберт не стал тебя ревновать. И все же я призываю тебя принять титул, так как никогда нельзя отказываться [от такой чести], и такую возможность тоже упускать нельзя. Министра можно без труда заменить. Прежде я мог бы стать здесь всем, в то время как сейчас это практически невозможно».
Лайонел не поддавался на уговоры. В конце концов выход из тупика был найден: титул принял Энтони[18]. Даже его капитуляция в конечном счете – когда он согласился баллотироваться от либералов на общих выборах 1847 г. – последовала после периода «раздумья».
Решение Лайонела баллотироваться в парламент – 29 июня 1847 г. его кандидатура была одобрена Лондонской регистрационной ассоциацией Либеральной партии – стало переломным моментом в истории Ротшильдов. В результате его решения фамилии Ротшильд суждено было стать неразрывно связанной с кампанией за политические права евреев; почти все следующее десятилетие Лайонел посвятил череде суровых избирательных и парламентских сражений. Почему так поступил человек, который ранее проявлял самую большую нерешительность, когда мог бы без труда уступить поле битвы Соломонсу или, если уж на то пошло, Майеру, который одновременно с ним выставил свою кандидатуру (вопреки желанию старшего брата) в Хите? Очевидный ответ заключается в том, что давление семьи в конечном счете оказалось непреодолимым. Второй вариант – его уговорили баллотироваться не его родственники, а лорд Джон Рассел, который и сам был членом парламента от лондонского Сити и который, возможно, надеялся заручиться голосами евреев для себя. Третий вариант – возможно, Лайонел не надеялся победить; то, что окончилось как громкое дело, должно было стать символическим жестом. По крайней мере, один его современник считал, что он обязательно проиграет и что виги призвали его под свои знамена просто для того, чтобы «оплатить все свои расходы». Стоит отметить, что ни одного из других кандидатов-евреев не выбрали: голосование шло с минимальным разрывом, и у вигов и радикалов в палате общин было бы большинство всего в один голос, если бы не раскол в стане тори.
Уверенности в победе мешала сложная избирательная политика в лондонском Сити Викторианской эпохи. Избирательный округ, протянувшийся до квартала Тауэр-Хамлетс, был большим (в 1847 г. там было зарегистрировано около 50 тысяч избирателей), и от него должны были избрать четырех членов парламента. Баллотировались девять кандидатов – четыре либерала, один сторонник Пиля, три протекциониста и один независимый, – и борьба велась жестко. На протяжении месяца провели около 12 митингов. С первого взгляда платформа Лайонела ничего примечательного собой не представляла: вдобавок к очевидному вопросу «свободы совести» он объявил себя сторонником свободной торговли. Судя по всему, он не последовал совету Ната «пойти чуть дальше, чем милорд Джон» и «быть насколько возможно либеральнее». Более того, некоторые его положения могли даже сыграть против него: так, он высказывался за понижение пошлин на табак и чай и введение налога на собственность. Подобные взгляды пользовались популярностью среди бедняков, не имевших права представительства в парламенте, однако с ними едва ли можно было рассчитывать победить у представителей имущих классов. Несмотря на недвусмысленное предложение поддержки со стороны католиков, высказанное предприимчивым священником по фамилии Лаук, которое Лайонел, судя по всему, принял, – он объявил себя противником увеличения субсидии католическому колледжу в Мейнуте (прикрывшись более общим принципом несогласия с государственной помощью учебным заведениям, относящимся к той или иной религиозной конфессии). Вопреки представлениям некоторых современных историков, голоса евреев были не так важны: немногие евреи прошли избирательный ценз и были зарегистрированы в качестве избирателей. Хотя Лайонел получил предложение о поддержке по крайней мере от одного еврея-консерватора и мать уверяла его, что «евреи… поднимутся в полном составе, нарядятся и проголосуют за тебя», в парламент прошел сторонник Пиля Мастерман, несмотря на то что он объявил себя противником эмансипации.
Вместе с тем у Лайонела было два преимущества. В Лондоне пресса играла куда более важную роль, чем в других частях страны, и он стремительно наладил контакты с газетчиками. Конечно, еврейская пресса тогда находилась в зачаточном состоянии. В 1841 г. Лайонел в числе прочих вложил средства в газету Джейкоба Франклина «Голос Иакова», хотя вскоре ее вытеснила газета «Джуиш кроникл». Но у Лайонела имелся куда более влиятельный сторонник в лице Джона Тадеуса Делана, 29-летнего редактора «Таймс», который помог ему составить избирательную речь. Делан, со своей стороны, считал, что обеспечил Лайонелу победу: после объявления результатов он застал Шарлотту «в состоянии почти безумной радости» и был «осыпан благодарностями» со стороны Ната и Энтони. Поддержку оказал и журнал «Экономист». С другой стороны, за противников эмансипации выступал не менее влиятельный журналист. Историк Дж. Э. Фроуд вспоминал, как Томас Карлейль заметил, когда они стояли перед домом Ротшильдов на Пикадилли (Пикадилли, 148): «Не хочу сказать, что желаю возвращения короля Иоанна, но, если вы меня спросите, какой способ обращения с этими людьми был бы ближе к воле Всевышнего – строить им такие дворцы или выкручивать им руки, – я высказываюсь за выкручивание рук… «Послушайте, сэр, государство требует несколько миллионов из тех, которые вы нажили своими финансовыми махинациями. Ах, не дадите? Что ж, отлично. – И говоривший повернул запястье. – А теперь?» – И еще нажать, пока не отдадут миллионы».
Хотя такое кажется невероятным, Карлейль утверждал, что Лайонел предлагал ему щедрое вознаграждение, если тот напишет памфлет за отмену ограничений в правах. Карлейль якобы ответил, «что это невозможно… Кроме того, я заметил, что не могу понять, зачем ему и его друзьям, которым полагается ждать прихода Мессии, места в нееврейском законодательном собрании». Те же взгляды он выражал в письме к члену парламента Монктону Милнсу: «Еврей – уже плохо, но что такое мнимый еврей, еврей-шарлатан? И как может настоящий еврей… стать сенатором или даже гражданином любой страны, кроме его собственной несчастной Палестины, куда должны устремляться все его помыслы, шаги и усилия?»[19] Отношение Карлейля резко контрастирует с отношением Теккерея, который после личного знакомства с Ротшильдами полностью пересмотрел свои взгляды[20].
Как следует из его якобы «подхода» к Карлейлю, вторым и, наверное, более важным преимуществом Лайонела были деньги. По мнению лорда Грея, военного министра в кабинете вигов, он «не делал тайны из своего желания победить на выборах с помощью денег». Последующие письма Ната из Парижа предполагают, что брат действительно «предоставил» «крупные суммы». В конце концов, деньги вполне могли сыграть решающую роль. Лайонел прошел третьим, набрав 6792 голоса (его опередили Рассел, набравший 7137 голосов, и Паттисон, набравший 7030 голосов; Мастерман набрал 6772 голоса, опередив еще одного либерала, Ларпента, всего на три голоса). Лаук, его помощник-католик, считал, что именно он обеспечил победу Лайонелу; и его мотивы для поддержки Ротшильда были откровенно корыстными[21].
Для других членов семьи одержанная победа стала достижением, о каком они давно мечтали. Как писал Нат, победа Лайонела на выборах стала «одним из величайших триумфов семьи, а также величайшим преимуществом для бедных евреев в Германии и во всем мире». Его жена назвала избрание Лайонела «зарей новой эры для еврейского народа, который получил такого выдающегося защитника, как ты». «Проделана брешь, – ликовала Бетти, – обрушивается барьер инсинуаций, предубеждения и нетерпимости». Поздравление прислал даже Меттерних (который, возможно, не усмотрел в избрании Лайонела победы того либерализма, который менее чем через год приведет его в английскую ссылку). Однако в эйфории все как будто забыли: для того чтобы Лайонел мог занять свое место в палате общин, ему придется принести присягу, в которую входила так называемая «Клятва отречения», когда новый член парламента отвергает свои обязательства в лояльности по отношению к давно не существующей династии Стюартов. Клятва заканчивалась словами: «…пребывая в христианской вере». Оставалось надеяться, что законопроект, исключавший данную клятву из текста присяги, все же примут. В прошлом Рассел уже передавал законопроект на рассмотрение, но его не приняли. Итак, победа Лайонела могла считаться полной только после того, как за отмену «Клятвы отречения» проголосует большинство в обеих палатах парламента.
Дизраэли
Вопрос, поднятый избранием Лайонела, разделил британскую политическую элиту самым странным и часто непредсказуемым образом. Вполне следовало ожидать, что предложенный Расселом законопроект об устранении неравенства в парламенте вызовет поддержку не только со стороны его однопартийцев в палате, но и обеих фракций расколовшихся тори. В декабре 1847 г., когда он внес законопроект на рассмотрение, закоренелый пилит Гладстон и лидеры протекционистов лорд Джордж Бентинк и Дизраэли высказались за. Из них больше всех в прохождении законопроекта был заинтересован Дизраэли, хотя его мотивация и поведение оказались сложнее, чем можно себе представить.
К тому времени Дизраэли был знаком с Ротшильдами около десяти лет. Самые первые его встречи в обществе с членами этой семьи происходили в 1838 г., и знакомство стало настолько прочным, что гарантировало Дизраэли теплый прием, когда в 1842 г. он посетил Париж. К 1844–1845 гг. он и его жена Мэри Энн часто ужинали с Ротшильдами: в мае 1844 г., дважды в июне 1845 г. и позже тем же летом в Брайтоне. В 1846 г. Лайонел дал Дизраэли ценные советы в связи с акциями французских железных дорог, а позже помог выпутаться из долгов (которые к тому времени превышали 5 тысяч ф. ст.). Однако их дружба не сводилась лишь к тому, что Дизраэли ценил их деньги, а Ротшильды – его остроумие. Тот период оказался особенно плодотворным для Дизраэли-романиста: в 1844 г. вышел «Конингсби, или Новое поколение», в 1845-м – «Сибилла, или Две нации», а в 1847-м – «Танкред, или Новый крестовый поход». Широко известно, что знакомство с Ротшильдами внесло большой вклад в его труды, однако этот вклад до сих пор остается недооцененным.
Дизраэли крестили главным образом потому, что его отец Айзек поссорился со своей синагогой. И хотя сам он считал себя представителем сельской знати, его всю жизнь привлекал иудаизм. Враги пытались воспользоваться его происхождением для своих нападок, но Дизраэли отважно превращал в достоинство то, что другие считали недостатком. Так, в своих романах 1840-х гг. он пытался примирить то, что считал своим «расовым» еврейским происхождением, и свою христианскую веру, приводя в качестве главного довода то, что взял лучшее из обоих миров. Бесспорно, знакомство с Ротшильдами оказало существенное влияние на его отношение к иудаизму. Лайонел и Шарлотта были, конечно, людьми привлекательными: он богат и влиятелен, она умна и красива; однако больше всего Дизраэли – а также его жену – привлекало их еврейское происхождение. Кроме того, бездетных Дизраэли вдвойне привлекало то, что у Лайонела и Шарлотты было пятеро детей. Приглашая их в Гровнор-Гейт посмотреть парад в Гайд-парке в июне 1845 г., Дизраэли называл их «прекрасными детьми».
Через три месяца к Шарлотте неожиданно приехала истеричная Мэри Энн; она бросилась в объятия Шарлотты. После вступительных слов о том, что они с Дизраэли совершенно истощены («я все время так занята, вычитывая корректуры, издатели так утомительны… бедный Дизи просиживает ночи напролет и пишет») и потому собираются уехать в Париж, Мэри Энн ошеломила Шарлотту, объявив, что она хочет сделать ее шестилетнюю дочь Эвелину своей единственной наследницей:
«Миссис Дизраэли испустила глубокий вздох и сказала: «Это прощальный визит, возможно, мы с вами больше никогда не увидимся – жизнь полна неожиданностей. Мы с Дизи можем взлететь на воздух на железной дороге или на пароходе; в целом свете нет ни одного человека, который меня любит, и помимо моего обожаемого мужа я больше никого на свете не люблю, но я люблю вашу славную расу…»
…Я пыталась успокоить и утихомирить мою гостью – [пишет Шарлотта], – которая, перечислив мне свое движимое и недвижимое имущество, достала из кармана бумагу со словами: «Вот мое завещание, и вы должны его прочесть, покажите его милому барону и позаботьтесь о нем ради меня».
Когда Шарлотта мягко сказала гостье, что «не может взять на себя такую большую ответственность», Мэри Энн развернула бумагу и прочла вслух: «В случае, если мой любимый муж скончается раньше меня, я оставляю и завещаю Эвелине де Ротшильд все свое личное имущество»… «Я люблю евреев, – [продолжала она] – я привязалась к вашим детям, а она моя любимица, поэтому она будет, она должна носить бабочку [одно из украшений Мэри Энн]».
Завещание вернули на следующее утро после «сцены, причем весьма некрасивой», предположительно между Дизраэли и его женой. Однако интерес этой пары к семье Ротшильд как будто не угас. В 1845 г., когда родился Лео, Дизраэли в письме из Парижа выразил надежду, «что он окажется достойным своей чистой и священной расы и своих красивых братьев и сестер». «Боже мой, – воскликнула Мэри Энн, увидев ребенка, – такой красивый малыш может в будущем стать Мессией, кого мы все ожидаем, – кто знает? А вы станете самой благодатной из женщин».
В отношении Дизраэли к Шарлотте всегда присутствовал оттенок обманутых ожиданий, а также ревнивой досады на свою жену, Мэри Энн. Своего влечения Дизраэли не отрицал. «В многочисленных битвах моей жизни, – писал он ей в марте 1867 г., – сочувствие тех, кого мы любим, – бальзам, а я никого не люблю так, как вас». Есть основания полагать, что здесь Дизраэли не просто преувеличивал. В одном случае, когда Шарлотта заехала к Дизраэли, очевидно, произошла сцена с участием Мэри Энн; Дизраэли поспешил извиниться:
«Думаю… хотя я глубоко сожалею о неудобстве, которое вам причинили, что в целом даже лучше, что вы не встретились вчера, ибо из-за продолжительной нехватки сна и других причин она находилась в состоянии большого возбуждения, поэтому я сам никогда не вижусь с ней по вечерам.
Она… шлет вам свою любовь… Я бы тоже послал вам свою любовь, если бы не отдал вам ее уже давно».
Самым странным во всем была демонстративная привязанность Мэри Энн к Шарлотте – может быть, так она компенсировала ревность, какую, скорее всего, к ней испытывала. В 1869 г., когда миссис Дизраэли заболела, Дизраэли писал Шарлотте: «…она прошептала, чтобы я написал вам». Ротшильды в ответ прислали больной деликатесы с кухни своего дома на Пикадилли. Правда, после смерти Мэри Энн настала очередь Шарлотты ревновать, так как Дизраэли проводил все больше времени «у ног леди Б[рэдфорд]». В ответ она послала ему «шесть больших корзин английской клубники, 200 больших пучков парижской спаржи и самую большую и вкусную фуа-гра из Страсбурга», не слишком тонкий намек на то, что ее средства всегда превосходят средства «богатой старой дамы».
Но, наверное, самой необычайной стороной их отношений служит религиозная двусмысленность. По воспоминаниям Шарлотты, отношение Дизраэли к собственным еврейским корням всегда было двояким. «Никогда не забуду, – писала она в 1866 г., – какое неподдельное изумление появилось на лице м-ра Дизраэли, когда я отважилась объявить, что среди многочисленных Монтефиоре, Мокатта и Линдо леди [Луиза] де Р[отшильд] обладает величайшей и приятнейшей честью быть его кузиной; но одному небу известно, кем предпочитает быть м-р Дизраэли, хотя в Лондоне у него полно родственников, чье существование он всецело игнорирует». Тем не менее они находили немало общего, когда обсуждали религиозные вопросы. В 1863 г. Дизраэли послал Шарлотте экземпляр недавно вышедшего и в высшей степени спорного труда Эрнеста Ренана «Жизнь Иисуса». Она нашла попытку Ренана демифологизировать Христа «восхитительной», хотя вынуждена была оговориться по поводу изображения его иудейского прошлого: «Книга читается как красивые стихи, написанные пылким поэтом, которому хочется раскрыть правду, раскрыть ее с нежностью, с почтением и подлинным рвением. Для просвещенных евреев не будет… ничего нового в восприятии книги и ее главной фигуры… великого основателя христианства, религии, которая восемнадцать веков правит миром; но многие наши единоверцы испытают сильную боль, поскольку Ренан изобразил их мазками столь резкими и столь отвратительными. Когда предрассудки, как считается, ослабевают, вдвойне неприятно видеть, как давно преследуемую нацию выставляют на поругание хладнокровных читателей и серьезных мыслителей, изображая их неисправимо алчными, холодными, коварными – и даже упрямыми, жестокосердными и ограниченными. Большому писателю, очевидно… искреннему и справедливому в передаче своих мнений, чье суждение столь справедливо, чьи чувства кажутся такими чистыми и благородными, не следует опускаться до того, чтобы подчеркивать ослепительный блеск своей великой картины, рисуя столь глубокие тени – как будто он счел необходимым оклеветать евреев, чтобы оправдаться перед религиозным миром за те вольности, какие он допустил с величайшей и высочайшей из всех тем человеческого интереса».
Через десять лет Дизраэли поблагодарил ее за то, что Шарлотта послала ему экземпляр своих «Речей». «Я прочел ваш томик с сочувствием и восхищением, – писал он, – и налет нежности, которым пронизаны «Речи», и их благоговейные и возвышенные чувства должны тронуть сердца представителей любой веры. Вчера вечером (в священный вечер Шаббата) я имел удовольствие зачесть одну речь вслух. Ее набожность и красноречие глубоко тронули моих слушателей…»
Романы Дизраэли любопытно рассматривать в свете его отношений с Ротшильдами. Сидония, персонаж «Конингсби», по мнению лорда Блейка, стал чем-то средним между Лайонелом и самим Дизраэли. Точнее, он обладает биографией, профессией, религией, темпераментом и, возможно, даже внешностью Лайонела («бледный, с большим лбом и темными глазами, в которых светится большой ум»), хотя его политические и философские взгляды свойственны Дизраэли. Так, читателям сообщают, что его отец «решил эмигрировать в Англию, с которой он, с течением времени, наладил прочные торговые связи. Он прибыл к нам после Парижского мира со своим огромным капиталом. Он все поставил на заем Ватерлоо; и это событие сделало его одним из богатейших капиталистов Европы». После войны Сидония и его братья ссужали деньги европейским государствам – «сколько-то хотела Франция; Австрия хотела больше;
Пруссия немного; Россия несколько миллионов», и он «стал господином и повелителем мирового денежного рынка». Младший Сидония также обладает всеми необходимыми навыками банкира: он получил хорошее математическое образование и «свободно говорил на основных европейских языках». Его навыки оттачивались во время поездок в Германию, Париж и Неаполь. Он ужасающе бесстрастен – это качество описано необычайно подробно (например, «он бежал от чувствительности и часто находил прибежище в сарказме»). Автор даже сообщает, что «его преданность охоте, рыбалке и прочим видам спорта «на природе»… служила предохранительным клапаном для его энергии». Кроме того, читателям представляют подробное описание дома, которым может быть только один из парижских отелей Ротшильдов. Как ни странно, Сидония становится и соперником главного героя в любви: герой несправедливо подозревает свою возлюбленную Эдит в том, что она – объект желаний Сидонии, хотя оказывается, что бессердечный Сидония сам стал объектом неразделенной любви другой.
В таком контексте самые любопытные куски в «Конингсби» те, где речь идет о религии Сидонии. Почти с самого начала читателям сообщают, что он «той веры, которую исповедовали апостолы до того, как последовали за Христом», а позже – что он «так же тверд в своей приверженности законам великого Законодателя, как будто трубы еще звучат на Синае… он гордится своим происхождением и уверен в будущем своего рода». В одном важном отношении Сидония больше Дизраэли, чем Лайонел, так как говорится, что он потомок испанских марранов – евреев-сефардов, которые внешне перешли в католицизм, но тайно остались иудеями. Действительно, Дизраэли любил рассуждать о том, что и его предки были сефардами. Но почти все остальные внешние черты «списаны» с Ротшильда. Так, в молодости для Сидонии «…были закрыты университеты и школы… получившие первые сведения об античной философии благодаря учености и предприимчивости его предков». Вдобавок «его вера не давала ему заниматься профессиями, доступными для гражданина». Однако «никакие мирские соображения не способны побудить его испортить чистоту расы, которой он гордится», женившись на нееврейке. И только после того, как подробно излагаются взгляды Сидонии на его «расу», Дизраэли одерживает верх над Лайонелом: «Евреи – несмешанная раса… Несмешанная раса наивысшей организации, аристократия Природы… В своих всесторонних путешествиях Сидония посетил и изучил еврейские общины всего мира. Он нашел в целом, что низшие классы испорчены; высшие погрязли в алчности; но он чувствовал, что умственное развитие не ухудшилось. Это давало ему надежду. Он был убежден, что организация переживет преследования. Когда он размышлял о том, что они вынесли, приходилось лишь удивляться тому, что раса не исчезла… Несмотря на века, десятки веков деградации, еврейский ум оказывает глубокое влияние на европейские дела. Я говорю не об их законах, которым вы до сих пор подчиняетесь; не об их литературе, которой насыщены ваши мысли, но о живом еврейском интеллекте».
И все же даже здесь различимо влияние Ротшильда. Когда Дизраэли хочет проиллюстрировать свою мысль о степени еврейского влияния, он с необычайной прямотой приводит пример из недавней истории Ротшильдов. Его Сидония говорит:
«Я только что сказал, что завтра еду в город, потому что положил… за правило вмешиваться, когда на ковре государственные дела. В других случаях я никогда не вмешиваюсь. Я читаю о мире и войне в газетах, но никогда не тревожусь, кроме тех случаев, когда мне сообщают, что монархам нужно больше денег…
Несколько лет назад к нам обратилась Россия. Конечно, между двором в Санкт-Петербурге и моей семьей не было дружбы. В целом связи поддерживались через голландских родственников; и царь не соглашался пойти нам навстречу в ответ на наши просьбы заступиться за польских евреев, многочисленных, но самых страдающих и деградировавших из всех племен. Однако обстоятельства привели к некоторому приближению… к Романовым. Я решил лично поехать в Санкт-Петербург. По прибытии у меня состоялась беседа с российским министром финансов графом Канкриным; я узрел перед собой сына литовского еврея. Заем был связан с испанскими делами; я решил компенсировать Испанию из России. Немедленно по прибытии мне дал аудиенцию испанский министр сеньор Мендисабель [так!]; я узрел такого же, как я сам, сына нового христианина, арагонского еврея. После того, что стало известно в Мадриде, я отправился прямиком в Париж, чтобы побеседовать с президентом Французского совета; я узрел сына французского еврея [предположительно Сульта].
…Так что, мой дорогой Конингсби, вы видите, что миром управляют совсем другие персонажи, а не те, кого воображают те, кто не находится за сценой».
Оставив в стороне фантазию Дизраэли, что выдающиеся фигуры сами являются евреями, видно, что на такие мысли его явно вдохновляли Ротшильды.
Есть даже явная и очень злободневная аллюзия на то, что евреи в политическом смысле «выстроены теми же рядами, что и уравнители, и латитудинарии, и скорее готовы поддерживать политику, которая может даже подвергать опасности их жизнь и собственность, чем кротко существовать при такой системе, которая хочет их принизить. Тори в решающий миг проигрывают важные выборы; евреи выходят вперед и голосуют против них… И все же евреи, Конингсби, по сути своей – тори. Торизм, более того, всего лишь скопирован из могущественного прототипа, скроившего Европу». Легко понять, почему Ханне понравилась эта книга. Как она писала Шарлотте, «размышляя о хороших качествах расы Сидонии, приводя много доводов в пользу их эмансипации, он с умом ввел много знакомых нам обстоятельств и весьма тонко нарисовал персонажа… Я написала ему и выразила восхищение плодом его духовного труда».
Если «Конингсби» можно считать зашифрованным посвящением Лайонелу, то «Танкред» – посвящение его жене. Сцена в Лондоне снова поставлена с многочисленными ссылками на Ротшильдов. Мы наносим визит на «Цехинный двор», а также в пышно убранный дом Сидонии. В разговорах присутствуют намеки на попытки Сидонии приобрести французскую железную дорогу, которую называют «Грейт Нозерн». Сидония снова выступает рупором самого Дизраэли, который пытался переопределить христианство как по сути вариант или результат развития иудаизма: «Я верю [заявляет Сидония], что Господь говорил с Моисеем на горе Синай, а вы верите, что его распяли в образе Иисуса на горе Голгофа. Оба они, по крайней мере в плотском смысле, были детьми Израиля: они говорили на иврите с иудеями. Пророки были только евреями; апостолы были только евреями. Азиатские церкви, которые исчезли, были основаны урожденным евреем; и римская церковь, которая говорит, что будет длиться вечно, и которая обратила этот остров в веру Моисея и Христа… тоже была основана урожденным евреем».
Однако самые смелые заявления в этом смысле делает персонаж по имени Ева. Конечно, будучи сирийско-еврейской принцессой, она внешне мало похожа на Шарлотту; однако описание ее лица намекает на то, что в некотором смысле Шарлотта послужила Дизраэли образцом. Исключать этого нельзя, хотя внешне Шарлотта совершенно не похожа на Еву. Например, она, как все Ротшильды, питает отвращение к смешанному браку и переходу в другую веру. «Евреи никогда не смешивались со своими завоевателями!» – восклицает она, и позже: «Нет; я никогда не стану христианкой!» Точно так же любимая тема Дизраэли – общие истоки иудаизма и христианства – нашла отголоски в ее сочинениях. «Вы из тех франков, которые обожествляют еврейку, – спрашивает Ева, когда впервые встречается с Танкредом (в оазисе на Святой земле), – или из тех, других, что поносят ее?» Иисус, напоминает она, «был великим человеком, но он был евреем; а его вы обожествляете». Поэтому: «Половина христианского мира обожествляет еврейку, а вторая половина – еврея». Еще в одном пассаже, навеянном Ротшильдами, Ева спрашивает Танкреда:
«– Какой величайший город в Европе?
– Несомненно, столица моей страны, Лондон.
– Сколь богат должен быть там самый почтенный человек! Скажи, он христианин?
– Я думаю, он принадлежит к твоей расе и вере.
– А в Париже? Кто самый богатый человек в Париже?
– Думаю, брат самого богатого человека в Лондоне.
– О Вене мне все известно, – сказала она улыбаясь. – Цезарь делает моих соотечественников баронами империи, и по праву, ибо без их поддержки она за неделю развалится на части».
Однако Дизраэли забывает о Шарлотте в своем спорном (а для современников вопиющем) доводе, что, «став и жертвой, и тем, кто приносит жертву» при распятии Христа, евреи «исполнили благое намерение» Бога и «спасли человеческую расу». Вряд ли она согласилась бы с его доводом (в «Сибилле»), согласно которому «христианство – дополненный иудаизм, или это ничто… Иудаизм неполон без христианства»[22].
Судя по доводам, приведенным в его произведениях, понятно, как отнесся Дизраэли к законопроекту Рассела. Он готов был поддержать законопроект, но на условиях тори; за две недели до первых слушаний он сказал Лайонелу, Энтони и их женам, что «мы должны просить права и привилегии не ценой уступок и свободы совести». Это привело в замешательство сидевших за столом либералов. Луиза описала, как Дизраэли говорил «в своем странном, танкредианском ключе» и «гадала, хватит ли ему мужества так же выступать в парламенте». Мужества ему хватило; и вначале Шарлотта была полна воодушевления. «Невозможно было, – писала она Делану в марте 1848 г., – выразиться с большим умом… силой, остроумием или оригинальностью, чем наш друг Дизраэли».
Парламент и пэры
Для Дизраэли трудность заключалась в том, что то, что хорошо расходилось как литература, оказывалось почти гибельным в практической политике. Меньше чем за год до того они с лидером протекционистов Бентинком разделили свою партию и свергли Пиля с поста главы партии тори; однако, поддерживая законопроект Рассела, они рисковали еще одним расколом между передне- и заднескамеечниками. Ни один из них, похоже, не подозревал, в какие неприятности они ввязываются. Особенную беззаботность проявлял Бентинк. В сентябре 1847 г. он писал Крокеру: «По-моему, я всегда голосовал в пользу евреев. Говорю «по-моему», потому что я никогда не мог заставить себя как следует подумать о данном вопросе с той или другой точки зрения и едва ли понимаю, как я мог бы голосовать, если бы рассматривал данный вопрос в отрыве от вопроса римско-католической веры, который я всегда считал вопросом большой национальной значимости… На еврейский же вопрос я всегда смотрел как на дело личное, как смотрел бы на большое личное имущество или билль о разводах… Для протекционистской партии этот вопрос должен оставаться открытым, подобно вопросам, связанным с католиками. Возможно, я решу, как голосовать, накануне голосования, сохраняя собственную последовательную позицию в пользу евреев, но не оскорбляя большинство членов партии, которые, как я понимаю, проголосуют против. Дизраэли, конечно, всей душой поддержит евреев, во-первых, из наследственной предрасположенности к ним, и во-вторых, из-за того, что он и Ротшильды – большие союзники… Все Ротшильды высоко ценятся в личном плане, и лондонский Сити избрал Лайонела Ротшильда одним из своих представителей, это такое выражение общественного мнения, что я не думаю, что партия… окажет себе большую услугу, заняв позицию против евреев»[23].
Что касается Дизраэли, 16 ноября он уверенно говорил Бентинку и Джону Маннерсу, что «гибель не столь неминуема… и битва не состоится до следующего года»[24].
Оба они, как оказалось, проявили излишний оптимизм. На самом деле во время голосования их поддержали всего два протекциониста (Милнс Гаскелл и – возможно, из противоречивых побуждений – Томас Бэринг). Не менее 138 членов палаты, возглавляемых такими твердолобыми консерваторами, как сэр Роберт Инглис, проголосовали против, подтолкнув партию к новым беспорядкам. «Должен ли я… аплодировать Дизраэли, когда он объявляет, что нет никакой разницы между теми, кто распял Христа, и теми, кто стоит на коленях перед распятым Христом?» – осведомлялся Огастес Стаффорд. Бентинк подал в отставку, предоставив руководство тем, кого он назвал «партией «Ни папства, ни евреев», в руки лорда Стэнли. Вполне понятно, что впоследствии Дизраэли стремился приглушить свои взгляды, когда вопрос обсуждался в палате общин: примечательно, что человек, которого и в то время, и позже в целом считали «бессовестным» (по выражению Диккенса), не стал совсем отказываться от своей поддержки эмансипации. Частые нападки на его поведение – особенно со стороны Шарлотты и Луизы – были несправедливыми; Дизраэли продолжал голосовать и время от времени выступать с тех же позиций, какие он занял в 1847 г. Конечно, жестокость могла объясняться тем, что его финансовая зависимость от Лайонела в тот период препятствовала полной смене курса; именно это подозревала Шарлотта. В мае 1848 г. у нее произошла еще одна неприятная сцена с Мэри Энн, которая утверждала, будто Лайонел нарочно не отвечает на письма Дизраэли. В частности, обнаружилось, что «ее муж по-прежнему в большом долгу, и его преследуют кредиторы, и он умолял моего мужа о помощи и поддержке». После еще одной стычки между двумя женщинами Лайонел решил ссудить Дизраэли еще 1 тысячу ф. ст.[25]
Лагерь сторонников Пиля тоже раскололся. В декабре 1847 г., когда Рассел представил свой законопроект, в его пользу высказался суровый представитель «высокой церкви» Гладстон, протеже Пиля, который ранее считался противником еврейской эмансипации. Хотя он находил решение «болезненным» (и признавался в своем дневнике, что, возможно, из-за этого вынужден будет покинуть парламент), логика Гладстона была типичной: после того, как в палату общин допустили католиков, квакеров, «моравских братьев», сепаратистов и унитариев, после того, как евреев стали принимать в муниципальные органы власти, было бы непоследовательно по-прежнему запрещать еврею становиться членом парламента. Сам Пиль высказывался за законопроект в феврале 1848 г., в ходе последующих дебатов; к нему примкнули еще 9 сторонников. Но их коллега Голберн – бывший канцлер казначейства (министр финансов) в правительстве Пиля – высказался против, усмотрев в выборах неподходящего кандидата революционный вызов парламенту; еще 40 пилитов проголосовали так же, как Голберн. На втором чтении пилиты снова раскололись: 29 проголосовали за и 43 против. Однако тори и оппозиции пилитов оказалось недостаточно для того, чтобы законопроект Рассела не был принят; вначале, еще до первого чтения, его одобрили большинством в 67 голосов; во втором чтении его одобрили большинством в 73 голоса; в третьем чтении – большинством в 61 голос.
Недоставало поддержки в палате лордов. Несколько вигов выразили свою поддержку после сравнительно мягкого убеждения. Однако у Ротшильдов, в отличие от таких банков, как банк Куттса, было сравнительно мало должников-аристократов – редким исключением служила леди Эйлсбери, – поэтому их влияние в данном вопросе было ограниченным. Они могли рассчитывать на таких вельмож из числа вигов, как герцог Девоншир и маркиз Лансдаун; кроме того, в начале 1848 г. им удалось переманить на свою сторону маркиза Лондондерри. Однако на приеме у герцога Бедфорда граф Орфорд признался Ханне, что он против (хотя и заверил ее, что в конце концов Лайонел «выиграет»). Еще одним оппонентом стал лорд Эшли, будущий граф Шафтсбери, благодаря которому были приняты некоторые самые важные социальные законопроекты того времени. Как и ожидалось, особенно ожесточенное сопротивление оказывали епископы.
В мае 1848 г., при обсуждении законопроекта Рассела, ему противостояли Уилберфорс, епископ Оксфордский, к которому присоединились архиепископы Кентерберийский и Арманский, а также 16 епископов. За голосовали только архиепископ Йоркский и четверо епископов, поддерживавших вигов. Лайонел, Энтони, Майер, Ханна и ее сестра Юдит Монтефиоре наблюдали за происходящим с галереи. Законопроект был отклонен большинством в 35 голосов.
В дневнике Шарлотты содержится яркий отчет о влиянии дебатов и их результата на семью. Они с Луизой еще ждали возвращения мужей из Вестминстера, когда в 3.30 ночи «мужчины вошли в комнату, Лайонел с улыбкой на лице – в нем всегда хватало твердости и самообладания, – Энтони и Майер пунцовые… они сказали, что речи были скандальными, и мне посоветовали не читать из них ни слова. Я легла спать в 5 и проснулась около 6; мне приснилось, что огромный вампир жадно сосет мою кровь… Очевидно, когда объявили результаты голосования, последовали громкие, восторженные, одобрительные крики… во всей палате… Мы не заслуживаем столько ненависти! Всю пятницу я… рыдала от перевозбуждения».
Некоторое представление о том, какого рода возражения против эмансипации выдвигали представители знати, можно найти в письмах дяди королевы, герцога Камберленда, который стал королем Ганновера. Отчасти он разделял точку зрения епископов, что «мысль о допуске… лиц, которые отрицают существование Спасителя» – «ужасна». Но отчасти его опасения были социальными по своей природе. Он предсказывал, что «постепенно все богатства страны перейдут в руки евреев, дельцов и коленкорщиков», и, говоря о больших амбициях евреев, приводил в пример приемы Амшеля во Франкфурте. Он знал, о чем говорил, так как всего за несколько лет до того ужинал в доме у Ханны. В тот период подобные проявления двуличного снобизма почти не отличались от грубых карикатур на данную тему. На карикатуре «Одно из преимуществ еврейской эмансипации» изображался старый тряпичник, который приносит домой жене молочного поросенка и восклицает: «Смотри, дорогая, что я тебе принес! Благодаря барону Ротшильду и де Пилю» (см. ил. 1.2).
В результате Лайонел решил прибегнуть к методу, которым весьма успешно пользовалось старшее поколение Ротшильдов (в гораздо менее возвышенных целях) в 1820-е – 1830-е гг. 23 декабря 1846 г. Нат писал брату вполне недвусмысленно: «С большим сожалением вынужден заметить, что ты, чтобы заручиться некоторыми голосами в палате лордов, считаешь необходимым прибегать к определенным средствам, не особенно похвальным. Не скрою, я предпочел бы, чтобы все было наоборот, после недавнего процесса о коррупции, который мы здесь наблюдали, не хочется принимать участия в делах подобного сорта. Однако ближе к делу, в этом случае наш достойный дядюшка и твой скромный слуга придерживаются того мнения, что нам не стоит проявлять излишнюю щепетильность, и если нужно добиться успеха, мы не должны бояться жертв… Мы не можем добыть требуемую сумму, ты наверняка лучше нас знаешь, насколько она нужна; надеюсь, как ты говоришь, достаточно будет половины требуемой суммы, во всяком случае, наш добрый дядюшка уполномочил меня написать, что он возьмет на себя уговорить всю семью, убедить их: все, что ты делаешь, к лучшему и ты можешь списать сумму на счет Дома, – конечно, ты не должен давать нужную сумму, пока билль не пройдет палату лордов, и ты не должен торговаться и заботиться о том, кто ее получит… Мы считаем, что тебе следует передать крупную сумму в руки известного лица после прохождения билля и забыть о ней; я бы не стал давать деньги ни в поддержку петиции, ни на любую другую цель, которая не касается нас лично – нам остается лишь передать деньги удачливому мошеннику в том случае, если дело будет выиграно; по-моему, тебе следует проявлять особую осторожность в таком деле; поэтому я не понимаю, как можно предложить подписку твоим друзьям… по какой просьбе? И что, по твоему мнению, они дадут? Если какую-нибудь мелочь, дело того не стоит, если же, с другой стороны, они отдадут деньги, не задавая лишних вопросов, конечно, я возьму их деньги, так как они выгадывают столько же, сколько и мы».
1.2. Неизвестный автор. Одно из преимуществ еврейской эмансипации
Короче говоря, Лайонел предлагал купить голоса в верхней палате парламента. Еще поразительнее его признание, что он хотел таким же способом заручиться поддержкой принца Альберта, который пользовался значительным влиянием в палате лордов. Конечно, Альберт, возможно, и без того ему сочувствовал. Лайонел поддерживал с ним связь с 1847 г., когда начал политическую карьеру. В 1848 г. Нат записал, как он «рад… что принц Альберт так благоприятно расположен к тебе и поддержит наши законопроекты». Но он, помимо того, советовал Лайонелу «время от времени наносить визит» Альберту и «немного его подмасливать». «Сейчас ты должен обработать партию при дворе, – писал он 14 февраля, – уговорить П. А. [принца Альберта] употребить его влияние, и тогда, возможно, [билль] пройдет». То, во что это вылилось на практике, является одним из самых интригующих, но до последнего времени не выявленных эпизодов в истории эмансипации.
К тому времени давние связи Ротшильдов с принцем Альбертом – в их качестве почтальонов для представителей европейской элиты – переросли в более серьезные финансовые операции. Так, в 1842 г. Джеймс положил на 100 тысяч франков акций Северной железной дороги на имя советника Альберта барона Стокмара. Через три года, когда Альберт планировал поездку в Кобург для обсуждения финансовых вопросов со своим братом, Стокмар передал ему просьбу Лайонела, «чтобы Дому Ротшильдов предоставили честь быть вашим банком в Германии для любых финансовых требований, которые могут возникнуть у вашего величества во время путешествия». В 1847 г. Ротшильды предоставили бедному баварскому родственнику Альберта, принцу Людвигу фон Эттинген-Валлерштайну, заем в 3 тысячи ф. ст., лично гарантированный Альбертом; через год, когда принц Эттинген обанкротился, оставив в качестве обеспечения только коллекцию непродаваемых картин, Альберт стал должником Ротшильдов. Видимо, этим объясняется, почему Нат ожидал, что его брат «даст нужную сумму», чтобы заручиться поддержкой Альберта, хотя он и его дядя по финансовым соображениям были резко против того, чтобы производить какие-либо выплаты после начала революции в Париже. В мае Альберт вызвал Энтони во дворец, чтобы «попросить заем для его брата, герцога Кобленца [наверное, Кобурга] и [для себя?] в размере 13 или 12 тысяч ф. ст.» (позже сумму увеличили до 15 тысяч ф. ст.). Нат предельно ясно высказал свои возражения: «Ты спрашиваешь моего совета относительно займа в 15 [тысяч] фунтов П. А. [принцу Альберту]. По-моему, нет ни малейших оснований соглашаться, вы окажетесь с ним в том же положении, что находимся мы с Л. Ф. [Луи Филиппом]. Если я не ошибаюсь, дорогой брат, он уже должен вам 5 тысяч ф. ст., которые мы выплатили здесь баварскому министру [принцу Эттингену], не думаю, что ты можешь ссужать такую большую сумму, учитывая положение дел; по моему мнению, ты так и должен ему сказать – нет ни малейших оснований делать ему комплименты; я убежден, что судьба еврейского законопроекта ни в малейшей степени не зависит от того, дашь ты ему денег или нет – могу лишь повторить, что я решительно настроен против займа, и в нынешних обстоятельствах не думаю, что тебе следует на него соглашаться».
Неясно, прислушался ли Лайонел к совету брата. Известно, что всего через десять дней после письма Ната Альберт купил аренду на замок Балморал с 10 тысячами акров земли за 2 тысячи ф. ст.; но в королевском архиве нет указаний на участии в сделке Ротшильдов. С другой стороны, в январе 1849 г. Лайонел виделся с Альбертом и Стокмаром в Виндзоре. Можно предположить, что в июле 1850 г., всего через 11 дней после знаменитой попытки Лайонела занять свое место в парламенте после принесения измененной присяги на Ветхом Завете, он внес 50 тысяч ф. ст. на любимый, но хронически недофинансируемый проект Альберта – Всемирную выставку «промышленности всех стран». Три года спустя, очевидно в результате давления со стороны «двора», то есть Альберта и Стокмара, лорд Абердин отказался от противодействия эмансипации ради коалиции пилитов и вигов. И хотя мы располагаем лишь косвенными уликами, вполне вероятно, кое-что действительно было сделано для того, чтобы «уговорить… П. А. употребить его влияние».
Однако все усилия Лайонела в этом направлении оказывались недостаточными: наверное, нереалистично было воображать, будто сопротивление членов палаты лордов можно преодолеть, «позолотив ручку» «придворной партии». Как довольно язвительно выразился Рассел, «у вас такая ужасная привычка пересчитывать все на деньги, что вы, кажется, думаете, будто купить можно даже принципы. Теперь по всей стране против вашего законопроекта единодушно высказываются большая часть представителей «высокой церкви» и все члены «низкой церкви». Если сможете, берите один из их органов, чтобы вести борьбу, ибо они в оппозиции сознательно»[26]. Премьер-министр считал, что единственный способ для продвижения вперед – убеждение, а не подкуп. Хотя летом 1849 г. Рассел внес на рассмотрение еще один законопроект, который был одобрен палатой общин, палата лордов снова (как он и предсказывал) отклонила его 95 голосами против 25.
Наконец, Лайонел вынужден был «сложить с себя полномочия члена парламента», что вылилось в дополнительные выборы в Сити. О своем шаге он объявил в заявлении «К избирателям лондонского Сити», опубликованном в «Таймс»: «Теперь полемика ведется между палатой лордов и вами. Они цепляются за… остатки религиозной нетерпимости; вы желаете устранить их… Считаю, что вы готовы выдержать большую конституционную битву, которая вас ждет». Его более радикальные друзья, особенно члены парламента Дж. Эйбел Смит и Джон Ройбак, на самом деле побуждали его прибегнуть к дополнительным выборам еще за год до того, когда отклонили первый билль Рассела. Поэтому сам по себе его шаг не был чем-то неожиданным. Но резкость Лайонела спровоцировала настоящий «шквал» критики, описанный Шарлоттой.
Чтобы понять, почему так произошло, важно помнить более широкий европейский контекст, в котором происходили те события. 1 января 1848 г. Альфонс в письме Лайонелу выражал надежду, что в новом году произойдет «победа религиозного равенства над [прогнившими?] предрассудками и нетерпимостью». Однако новый год принес нечто большее. И хотя революция 1848 г. и принесла евреям в некоторых европейских странах равенство перед законом (пусть лишь на время), ее общее действие на кампанию в защиту эмансипации в Великобритании было скорее негативным. Как отмечено в письмах, приходивших из Парижа, Франкфурта и Вены, революция усугубила отдельные, но тревожные вспышки антиеврейских народных выступлений, например в некоторых сельских областях Германии и в Венгрии. Однако нельзя забывать, что многие радикальные либералы, которые считали себя вождями революции, сами были евреями – отсюда мнение Майера Карла, что «антисемитизм провоцируют сами евреи». Поэтому отождествление вопроса об эмансипации с революцией в континентальной Европе было вдвойне губительным. В своем обращении Лайонел намекал многим своим сторонникам из числа тори и вигов, что и Ротшильды связывают свою судьбу с радикализмом – даже чартизмом – в тот самый миг, когда радикалы поносили Ротшильдов за то, что те финансируют поражение венгерской революции!
Какие бы опасения он ни пробуждал среди своих сторонников, уловка Лайонела сработала как предвыборная уступка. Он победил своего соперника-тори, лорда Джона Маннерса, которого, похоже, убедили выступить в роли чисто символической фигуры[27], – набрав 6017 голосов против 2814 у Маннерса. Однако, соединив свою судьбу с радикалами, Лайонел теперь не имел другого выхода, кроме следования их очередному тактическому совету: явиться в палату общин и заявить о своих правах на место в палате. По сути, ему надлежало следовать примеру католика О’Доннела и квакера Писа. Лайонелу предстояло сделать самый противоречивый шаг из всех, что он предпринимал до тех пор. Пиль специально предупреждал его, чтобы он так не делал. Не приходится удивляться тому, что он колебался, потратив целый год на попытки убедить Рассела представить еще один законопроект. Но на переполненном и шумном митинге либералов Сити в «Лондонской Таверне» 25 июля 1850 г. он публично осудил правительство за то, что ему не удалось «обеспечить меры реформы и совершенствования» и «способствовать делу гражданской и религиозной свободы». На следующий день в 12.20, следуя единогласно принятой на митинге резолюции, он появился в шумной палате общин и, в ответ на вопрос клерка, хочет ли он принести протестантскую или католическую присягу, ответил: «Я желаю присягнуть на Ветхом Завете». Когда твердокаменный тори сэр Роберт Инглис встал, собираясь возразить, спикер посоветовал Лайонелу удалиться, за чем последовали дебаты, главным образом связанные с процедурными вопросами. После выходных было решено прямо спросить Лайонела, почему он желает присягнуть на Ветхом Завете, на что он ответил: «Потому что это та форма присяги, которую я считаю самой подходящей для моей совести». Его снова попросили удалиться, и после бурных дебатов 113 голосами против 59 решено было разрешить ему поступить так, как он просит[28]. На следующий день, 30 июля, Лайонел пришел снова, и ему предложили принести присягу на Ветхом Завете. Были произнесены соответствующие клятвы, но, когда клерк дошел до слов «христианской веры», «барон замолчал и через одну-две секунды сказал: «Я опускаю эти слова как не подобающие моей вере». Затем он надел шляпу на голову, поцеловал Ветхий Завет и добавил: «Помоги мне, Боже». За этим поступком последовали бурные крики со стороны либералов палаты. Кроме того, он взял перо, с целью, как мы полагаем, подписать свое имя в списке членов палаты; но сэр Ф[редерик] Тесигер встал, и последовало бурное волнение со всех сторон, в разгар чего спикер заявил, что достопочт. член парламента должен удалиться. (Громкие крики: «Нет, нет», «Займите свое место», «Сядьте» и «К порядку!».) Барон, однако, удалился».
Хотя его решение казалось удручающим, возможно, оно было мудрым. После того как его удовлетворили, последовало еще одно поражение. 5 августа, когда возобновились дебаты, правительство приняло резолюцию, по которой Лайонел не имел права занимать места в палате общин до тех пор, пока не произнесет «Клятву отречения» полностью. Прошел еще целый год, прежде чем правительство приняло законопроект, по которому в тексте были предусмотрены требуемые поправки[29]. Но когда Давид Соломонс пожелал воспользоваться своим правом победы на дополнительных выборах в Гринвиче, он не добился успеха и проявил себя гораздо менее достойно. Соломонс занял свое место, не произнеся текста трех клятв полностью. Спикер приказал Соломонсу удалиться, однако он отказался. Более того, когда все депутаты проголосовали за то, чтобы он удалился, он по-прежнему отказывался и, более того, взял слово и высказался против. Он покинул палату лишь после того, как спикер попросил парламентского пристава вывести его. Общий итог оказался неутешительным: как подтвердило последующее голосование, ни Соломонс, ни Лайонел не имели права занять свои места до тех пор, пока не произнесут «Клятву отречения». Единственным достижением Соломонса можно считать акт от июня 1852 г., отменявший устаревшие штрафы, которые могли теоретически наложить на него за противоправные действия после успешного судебного преследования против него. Казалось, избиратели вынесли свой вердикт по отношению к его тактике, когда он потерпел сокрушительное поражение на всеобщих выборах 1852 г. Лайонел же, наоборот, снова одержал победу и снова принялся выжидать. Его тактика оправдала себя: вскоре стало очевидно, что мнения по поводу эмансипации в палате общин разделились. В палате же лордов этот вопрос не подлежал обсуждению. Однако Лайонел не сидел сложа руки. Фактически он стал членом парламента без места; не имея права присутствовать на заседаниях, он тем не менее лоббировал в нижней палате вопросы, имевшие отношение к евреям (например, государственное финансирование еврейских школ в 1851–1852 гг. или освобождение раввинских разводов от юрисдикции гражданского суда по бракоразводным делам в 1857 г.). Но с юридической точки зрения его положение можно было считать безвыходным. Еще один законопроект не прошел в палате лордов; в 1855 г. старый враг Ротшильдов Томас Данком даже предпринял изобретательную попытку инициировать еще одни дополнительные выборы от Сити на том основании, что, финансируя государственный заем после начала Крымской войны, Лайонел «заключил договор с государственной службой».
«Подлинный триумф»
Борьба возобновилась после выборов 1857 г., когда Лайонел снова стал депутатом от Сити, на сей раз опередив Рассела, который поссорился с фракцией либералов. Опираясь на поддержку подавляющего большинства, Палмерстон заявил, что «вследствие избрания барона Лайонела де Ротшильда депутатом от лондонского Сити парламент в самом начале сессии получил возможность снова обдумать вопрос о допуске евреев, и такое предложение будет иметь наилучшие шансы на успех, если будет внесено правительством». Как и следовало ожидать, 15 мая представили очередной билль, который прошел в третьем чтении подавляющим большинством в 123 голоса. К радости сторонников Лайонела, свою позицию сменили многие видные тори, среди которых можно отметить сэра Джона Пакингтона, сэра Фицроя Келли и, самое главное, лорда Стэнли, сына графа Дерби, лидера партии. И в палате лордов ему выразил поддержку новый епископ Лондона; за законопроект проголосовали 139 членов верхней палаты парламента. Правда, к разочарованию Лайонела, они снова оказались в меньшинстве. Принять резолюцию единогласно не удалось; поэтому, когда правительство предложило внести новую поправку к законопроекту о внесении изменений в «Клятву отречения», Лайонел снова решил отказаться от своего места и участвовать в дополнительных выборах. Он вернулся, не встретив сопротивления, и тут же повел еще одну серьезную атаку на «тех, кто редко бывает среди людей, не знает народных чаяний и кто, более того, почти ничему не уделяет внимания, кроме собственного удовольствия и развлечений»[30].
Однако выходу из тупика способствовал не его призыв к «простому народу» и обличения пэров, а, как ни парадоксально, приход к власти консервативного правительства меньшинства. Теперь Дизраэли, ставший министром финансов и лидером партии в палате общин, по крайней мере получил возможность вернуть Ротшильдам долг, убедив сопротивлявшегося Дерби, что палата лордов должна пойти на уступку. Он сделал это, предоставив оппозиции свободу действий в палате общин. 27 апреля 1858 г. законопроект Рассела о поправке к «Клятве отречения» подвергли жестокой критике в палате лордов на этапе комитетских слушаний, а жизненно важный пятый пункт из нее исключили. Через две недели, по предложению Рассела, палата общин выразила свое «несогласие» с палатой лордов – большинством в 113 голосов. Что еще поразительнее, палата также приняла (при 55 голосах) предложение, выдвинутое независимым депутатом Данкомом, чтобы Лайонела назначили членом комитета палаты общин, созданного для объяснения «причин» такого разногласия. Затем Рассел предложил, чтобы эти причины были рассмотрены на совещании с верхней палатой. Согласие палаты лордов стало решающим поворотным пунктом. 31 мая граф Лукан предложил то, что казалось верным решением: чтобы палате общин позволили изменить свою «Клятву отречения» путем резолюции, при условии, если вначале данное изменение будет введено в действие актом парламента. Это позволило палате лордов изложить свои «резоны» для несогласия с палатой общин, и Дерби – хотя и «мрачно и нехотя» – 1 июля объявил о своей поддержке. 23 июля компромисс получил статус закона в форме двух актов. В одном три клятвы – верности, верховенства и отречения – сливались воедино для всех учреждений, которые до того времени их требовали; в другом евреям позволялось опускать слова о «христианской вере», если орган, в который они хотят войти, на то согласится. 26 июля, в понедельник, Лайонел снова появился в палате общин. В последний раз он обязан был удалиться, когда члены палаты обсуждали две резолюции, по которым ему разрешалось произнести укороченный текст присяги. По сути, тогда «твердолобые» вроде Семьюэла Уоррена и Спенсера Уолпола получили последнюю возможность высказать свои возражения против «вторжения богохульника». После того как важнейшая резолюция была принята большинством в 32 голоса, Лайонел наконец принес присягу как член парламента – на Ветхом Завете и с укороченным текстом. Учитывая те средства, к которым он прибегал ранее, довольно любопытно, что первым законопроектом, по которому он голосовал сразу после того, как занял свое место на передней скамье оппозиции, стал законопроект о сохранении в силе акта о предотвращении коррупции.
Допуск Лайонела в парламент стал, как писал Джеймс, «подлинным триумфом для семьи». На всеобщих выборах, которые проводились на следующий год, к Лайонелу в палате общин присоединился его брат Майер (вместе с Давидом Соломонсом), а в 1865 г. в палату общин прошел его сын Натти. Как с радостью отмечала Шарлотта, при почти равном распределении голосов (как в июле 1864 г.) правительство Палмерстона могли «спасти евреи». Кроме того, допуск Лайонела в парламент получил широкий резонанс в еврейской общине в целом: Совет представителей британских евреев издал резолюцию, в которой выражал свои «искреннейшие радость… уважение и благодарность». Начиная с того времени в годовщину допуска Лайонела в палату общин в «Бесплатной еврейской школе» раздавали призы – хотя Лайонел намеренно подчеркивал свою веротерпимость. Так, он выделил школе лондонского Сити «самую ценную [открытую] стипендию в честь занятия им своего места в парламенте».
Политическое значение его триумфа редко понимается правильно. Лайонел одержал победу как либерал; и за время долгой кампании он укрепил политические и социальные связи с маленькой, но влиятельной группой членов парламента от Либеральной партии. Судя по записям в его дневнике, в период с 1856 по 1864 г. Гладстон четыре раза ужинал у него или у его брата Майера; он вел переписку или встречался с членами семьи по крайней мере в четырех случаях.
Другие либералы, чьи имена встречаются в письмах Шарлотты в 1860-е гг., были частыми гостями в доме 148 по Пикадилли. Среди них Чарлз Вильерс, член парламента от Вулвергемптона (в 1859–1866 гг. он был президентом комитета по закону о бедных), и Роберт Лоу, канцлер казначейства в первом кабинете Гладстона[31]. Однако определенное значение имело и то, что, внеся свое имя в список депутатов и засвидетельствовав свое почтение спикеру, Лайонел первым делом пожал руку Дизраэли – вполне возможно, что вклад последнего на финальном этапе битвы оказался решающим. Отношения Дизраэли и Ротшильдов неуклонно улучшались с начала 1850-х гг.;
более того, в решающие недели в 1858 г. Лайонел тесно общался с Дизраэли. В январе Дизраэли присутствовал на званом ужине в Ганнерсбери (вместе с кардиналом Уайзменом и главой Орлеанского дома в изгнании). В мае слышали, как Дизраэли заметил после того, как правительство чудом избежало поражения по поводу политики в Индии: «Что говорит об этом барон? Он почти все знает!» Два месяца спустя, 15 июля, Лайонел отправился к канцлеру казначейства в его кабинет, «так как мы не виделись с ним с тех пор, как наш билль был в палате общин». Он застал Дизраэли «в превосходном настроении, он говорил, что все идет настолько хорошо, насколько это возможно… Я выразил надежду… что в следующий понедельник наш билль пройдет. Им удастся немедленно добиться согласия королевы. Я не мог добиться от него [неразборчиво], так как он сказал, что это зависит от других, если не подождет до [комиссии] в конце сессии для всех законопроектов или если удастся создать специальную комиссию, чтобы я мог занять место до того, как сессия закончится. Думаю, у меня все получится… Дизи повторил сегодня, что нам необычайно повезло в том, что мы [неразборчиво] этим расколом в нашу пользу, а не против нас во втором чтении законопроекта – он сделал для нас все что мог…».
В ответ на это Лайонел спросил Дизраэли, «согласится ли тот поужинать вместе с Джонни [Расселом] и компанией», но Дизраэли, «будучи человеком благоразумным… отказался, заявив, что его присутствие как министра испортит вечер. И все же я рад, что пригласил его на ужин; теперь он не сможет сказать, что мы им каким-либо способом пренебрегаем. Я сказал, что мы очень ждем королевского согласия на законопроект, чтобы я мог занять свое место в этом году, но ты знаешь, какой он притворщик. Он сказал все, что полагается в таких случаях, ничего не обещая… Миссис Дизи ужинала у Майера и снова завела старую песню, говоря, сколько всего Дизи для нас сделал и как он когда-то злился, потому что мы в это не верили».
Оттенок скепсиса в отчетах Лайонела об этих встречах не следует истолковывать так, что Дизраэли в 1858 г. не делал всего, что в его силах. Наоборот, возможно, именно его влиянием объясняется неохотная капитуляция Дерби. То, что сразу после допуска Лайонела в парламент отношения Дизраэли и Ротшильдов улучшились, подтверждает, что у Ротшильдов больше не было оснований сомневаться в добросовестности Дизраэли. Несмотря на жесткие политические ограничения, при которых он вынужден был работать, создатель Сидонии и Евы не подвел свою «расу».
Кембридж
Поучительно сравнить шедшую в тот период открытую битву за допуск евреев в парламент с остроумной уловкой, позволившей их детям учиться в Кембридже. И здесь Ротшильды сыграли роль первопроходцев. Более того, возможно, именно из-за успешного обхода бытовавших в Кембридже религиозных ограничений их так застигла врасплох непримиримость палаты лордов. Сравнение их тактики в двух случаях многое объясняет.
Следует подчеркнуть, что у Ротшильдов не было никакой необходимости поступать в Кембридж, тем более в Оксфорд, как не было у них необходимости в том, чтобы заседать в палате общин. Образование детей Ротшильдов почти весь XIX в. оставалось гораздо более космополитичным, чем могли бы им предоставить старинные английские привилегированные школы и университеты. Поэтому семья по-прежнему в основном полагалась на частных репетиторов. Кроме того, детей посылали за границу, где они получали значительную часть образования. Главным образом, родители стремились к тому, чтобы дети, по семейной традиции, были полиглотами. Что касается собственно банковского дела, единственным способом ему научиться была работа в банке; Кембридж, напротив, способен был лишь отвлечь молодых людей от семейного бизнеса. Более того, как и ранее, в 1820— 1830-е гг., Ротшильды по-прежнему придавали большое значение образованию дочерей – в отличие от частных школ и университетов, которые, разумеется, оставались по преимуществу мужскими учебными заведениями вплоть до конца XX в. Дочь Энтони Констанс и сына Лайонела Натти обучали немецкому языку с более или менее одинаковым рвением. Особенно пылкой сторонницей формального образования для своих дочерей и племянниц была Шарлотта. Трудность состояла в том, что положение евреев в Кембридже оставалось «серой зоной»: до 1856 г. они официально не имели права получать диплом. Тем не менее учиться в университете они могли – но только если выражали желание выполнить необходимое условие и посещать церковь: последнее было обязательным для студентов всех колледжей.
Любопытно, что здесь – в отличие от истории с «Клятвой отречения» – Ротшильды в принципе были готовы исполнять христианские обязанности, при условии, что их посещение церкви будет сведено к минимуму и останется пассивным. Как мы помним, именно на таком условии Майер посещал Тринити-колледж в 1830-е гг.; а когда Артур Коэн, его кузен с материнской стороны, решил осенью 1849 г., сразу после победы Лайонела на дополнительных выборах над Маннерсом, изучать математику в Кембридже – он думал, что ради него сделают такое же исключение. Через Дж. Абеля Смита, одного из наиболее активных политических сторонников Лайонела, Майер пытался убедить главу Колледжа Христа в Кембридже изменить правила посещения церкви ради Коэна, заявляя, что (по словам Картмелла) «если я принимаю мистера Коэна, никому, кроме меня, не нужно знать, какие у него религиозные убеждения». Кроме того, Майер сказал Картмеллу, что «мистер Коэн готов посещать богослужения в часовне колледжа». Однако его доводы не убедили Картмелла. Скрывать веру Коэна, заявил он, «недобросовестно по отношению к обществу», в то время как «мне было бы отвратительно и противно моим убеждениям требовать от мистера Коэна внешнего послушания тому виду культа, в основу и дух которого он не верит и которые всецело отрицает».
Его слова послужили для Майера намеком на то, что возможен прецедент «для сознательного лишения представителей одной религиозной общины преимуществ образования в Кембриджском университете». Поэтому они с Мозесом Монтефиоре обратились ни к кому иному, как к принцу Альберту, который тогда был канцлером университета, с просьбой представить дело Коэна главе колледжа Магдалины, который одновременно был деканом Виндзора. Влияние принца-консорта привело к успеху там, где в 1830-е гг. Ротшильды потерпели поражение: Майер вынужден был покинуть колледж именно из-за вопроса о посещении церкви. В надлежащий срок Коэна приняли в университет после беседы с деканом, который, как писал Коэн, «сообщил мне, что по средам и пятницам служба продолжается всего 10 минут, и… посоветовал мне посещать церковь в эти дни, а не в другие, и в то же время передал мне, что я не обязан присутствовать на воскресной службе и причащаться».
Такие же условия пришлось обсуждать в Тринити-колледже, когда подросло следующее поколение Ротшильдов-мужчин, начиная с Натти в 1859 г. К тому времени были приняты акты 1854 и 1856 гг., по которым евреи смогли получать дипломы (кроме диплома по теологии). Но проблема религиозных обязанностей на уровне колледжа сохранялась. Хотя наставник Натти Джозеф Лайтфут (в 1861 г. он стал профессором богословия в Кембридже) «обещал сделать все возможное», глава колледжа Уильям Вьюэлл оставался «камнем преткновения на пути реформ». В 1862 г., как писал Натти родителям, «преподаватели Тринити-колледжа… вызвали большое недовольство, пригрозив лишить права покидать колледж после определенного часа всех, кто отказывается причащаться в церкви; в результате этого нового правила очень многих сегодня не было в церкви; они попадут в неприятности за то, что нарушили важное правило колледжа». Натти, конечно, понимал, что реформами 1850-х гг. достигнуто очень мало. «Чтобы здесь вступили в действие реформы, – жаловался он, – нужно будет выждать некоторое время, так как, пока англиканская церковь считает университеты чем-то вроде семинарий или частью самой церкви, невозможно сделать больше… И все же нужно покончить с необходимостью принимать приказы после семи лет полной непринужденности… Человеку сознательному очень трудно… лишиться своих прав из-за того, что он во всеуслышание объявит, что не является прихожанином англиканской церкви. Не могу понять, почему таким… учреждением, которое становится ступенью к продвижению по службе в юриспруденции, политике, а также богословии, должны управлять священники, как будто это семинария иезуитов или школа талмудистов…»