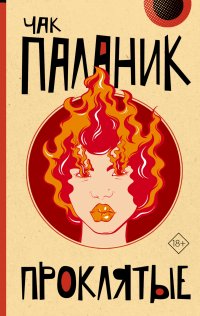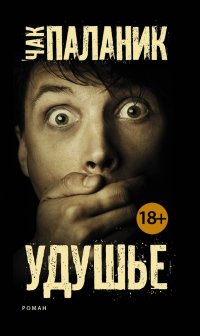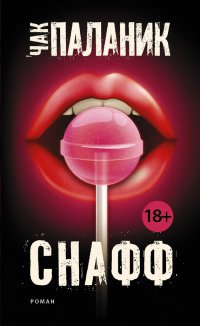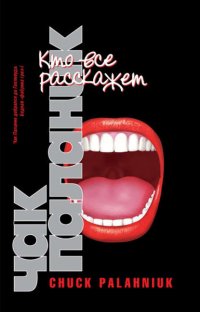
Читать онлайн Кто все расскажет бесплатно
- Все книги автора: Чак Паланик
Печатается с разрешения автора и литературных агентств Donadio & Olson, Inc. Literary Representatives и Andrew Nurnberg.; © Chuck Palahniuk, 2010
© Перевод. Ю. Антонова, 2012
Школа перевода В. Баканова, 2012
© Издание на русском языке AST Publishers, 2012
Посвящается ТК
Парень встречает девушку.
Добивается девушки.
Убивает девушку?
Акт I, сцена первая
Первая сцена первого акта начинается так: Ночь. Лилиан Хеллман, спотыкаясь, продирается сквозь колючие кусты какого-нибудь немецкого schwarzwald, причём на каждой груди у неё висит по еврейскому младенцу, а на спине – ещё орава детишек. Лили с трудом прокладывает себе путь через ежевичные заросли. Сучки цепляют расшитую золотом ночную рубашку от «Кристобаля Баленсиаги», чёрный бархат мнут бесчисленные пальчики нежных херувимчиков, которых она хочет спасти от раскалённых печей нацистского лагеря смерти. К мускулистым бёдрам Лилиан привязано ещё несколько невинных младенцев – беспомощных малышей еврейского, цыганского и гомосексуального происхождения. Листва разлетается в клочья от выстрелов нацистских гестаповцев. Пахнет порохом и еловыми иглами, но сильнее всего – «Шанель № 5». Ручные гранаты и пули неустанно свистят над безупречно завитым шиньоном от «Хэтти Карнеги», так близко, что серьги-подвески Картье взрываются радужной россыпью бесценных бриллиантов. Изумрудные и рубиновые осколки бросают отсветы на безукоризненные бледные щёки мисс Хеллман…
Наплывом – следующий кадр.
Интерьер великолепного особняка на Саттон-плейс, принадлежащего, например, Билли Бёрк и украшенного самим Билли Хейнсом. Торжественно разодетые гости сидят за длинным столом в озарённой свечами комнате. Ливрейные лакеи выстроились вдоль обшитых деревом стен. Место во главе огромного стола занимает сама мисс Хеллман, она как раз описывает отчаянную сцену побега, свидетелями которой мы только что стали.
Медленная панорамная съёмка: тиснёные таблички с именами гостей напоминают страницу из списка «Кто есть кто». За столом собралась добрая половина исторических личностей двадцатого века: румынский принц Николай, Пабло Пикассо, госсекретарь Корделл Халл и режиссёр, композитор, продюсер Джозеф фон Штернберг. Цепочка из знаменитостей протянулась от Самуэля Беккета до Джина Отри и Марджори Мэйн, а от них – пожалуй, за край горизонта.
Лилиан делает паузу, чтобы как следует затянуться сигаретой. Выдохнув струйку дыма над головами Адольфа Цукора и Полы Негри, она произносит:
– В эту душераздирающую минуту я так жалела, что не ответила Франклину Делано Рузвельту: «Нет уж, спасибо. – И, стряхнув сигаретный пепел на тарелочку с хлебом, покачав головой, прибавляет: – Секретные миссии – не для меня».
Пока лакеи подливают гостям вина и убирают десертные блюдца, руки Лилиан плавно порхают в воздухе, сигарета вычерчивает замысловатые дымные каракули, ногти впиваются в незримые виноградные лозы, ища опоры на склонах отвесных скал, высокие каблуки месят грязь на пути к свободе, а силы всё не убывают под бременем беспомощных крошек – детей евреев и гомосексуалистов. Все взоры за длинным столом прикованы к Лили. Под расстеленными на коленях камчатными салфетками на каждой руке скрещены пальцы. Из каждого рта к небесам возносится молчаливая молитва: хоть бы мисс Хеллман подавилась тушёным цыплёнком по-демидовски, рухнула на ковёр столовой и с корчами задохнулась…
Ладно, почти все взоры. Исключение – пара фиалковых глаз… и пара карих очей… и конечно, мой собственный настороженный взгляд.
Возможность умереть раньше Лилиан Хеллман стала навязчивой фобией целого поколения. Скончаться – и неизбежно пойти на корм ненасытной Лили. Так, чтобы вся твоя жизнь и доброе имя тут же скукожились до размеров голема, франкенштейновского чудовища, которого оживит и заставить плясать под свою дудку мисс Хеллман.
С первых же слов её речи напоминают фоновый шум к сериалу «Тарзан» – невразумительный щебет тропических птиц, вопли обезьян-ревунов и Джонни Вайсмюллера. Гав, ряв, скрип… Эмералд Кунард. Гав, уууу, скрип… Сесил Битон.
Возможно, болтовня Лили представляет собой редкую разновидность синдрома Туретта[1], при котором человек начинает сорить именами. Или бессвязный лепет осиротевшего рекламного агента, вскормленного стаей волков и учившегося читать по колонкам Уолтера Уинчелла[2].
Во всяком случае, это маниакальное бормотание – настоящая патология.
Ко-ко-ко, хрю, гав… Джин Негулеско.
Лили с лёгкостью переплавляет чистейшее золото чужих непридуманных жизней на собственные звонкие медяки.
Только чур, уговор: это НЕ Я вам сказала.
Сидя в опасной близости от летающих в воздухе героических локтей, моя мисс Кэти пристально смотрит сквозь клубы сигаретного дыма. Кэтрин Кентон, актриса с неподражаемой статью. Её фиалковые глаза много лет приучались не вступать в прямой контакт ни с чем, кроме объектива камеры. Никогда не встречать напрямую взгляд незнакомца, а вместо этого сосредоточиваться на губах или мочке уха. И вот, несмотря на годы тренировок, моя мисс Кэти, подрагивая ресницами, пялится через весь стол. Длинные пальцы прославленной белой руки поигрывают золотисто-каштановой прядью её парика. Другая, увенчанная перстнями рука теребит шесть жемчужных ниток, прикрывающих дряблую кожу на шее.
В следующее мгновение, в то время как лакеи расставляют чаши для омовения пальцев, Лилиан начинает вертеться в кресле, вскинув на плечо невидимую снайперскую винтовку, и стреляет, стреляет до последнего патрона. Она до сих пор обвешана детьми евреев и коммунистов. Сиротки болтаются на ней тяжёлым грузом. Когда винтовка раскаляется добела, мисс Хеллман издаёт гортанный боевой клич и бросает дымящееся оружие в штурмовиков.
Рррр, гав, скрип… Петер Лорре. Хрю, гав, скрип… Аверелл Гарриман.
Что может быть хуже смерти? Только вечность на поводке у Лили Хеллман, в виде ручного зомби, которого оживляют на торжественных ужинах или во время очередного радиоинтервью. Между тем рассказчица успевает взвалить на себя ещё одну партию малышей, невидимых цыганят, и подбросить их так высоко, чуть не к самой люстре, будто надумала катапультировать живой груз за покрытую снегом вершину Маттерхорна, на безопасную землю Швейцарии.
Хррр, ууу, скрип… Сара Бернар.
Теперь уже Лилиан Хеллман обеими руками сжимает невидимую шею Адольфа Гитлера: только что она, притворившись немецкой актрисой и танцовщицей Лени Рифеншталь, с купленными на чёрном рынке блоками сигарет «Лаки Страйк» и «Парламент» в руках, пробралась в подземный берлинский бункер – и теперь душит спящего диктатора прямо в постели.
Иааа, гав, и-го-го… Бэзил Рэтбон.
Бросив воображаемого перепуганного до смерти Гитлера на середину обеденного стола, Лили клацает зубами, а её наманикюренные ногти тянутся выцарапать бессовестные нацистские глаза. Не разжимая стиснутых вокруг незримой шеи ладоней, она принимается колотить невидимой головой фюрера по столешнице, так что на скатерти подпрыгивают бокалы и позвякивает серебро.
Скрип, мяу, чирик… Уоллис Симпсон.
Ууу, иа, чив… Диана Вриланд.
За миг до убийства Гитлера Джордж Цукор поднимает глаза. Охлаждённая вода, благоухающая свежепорезанными лимонами, ещё капает с его пальцев в чашу. И Джордж произносит:
– Прошу тебя, Лилиан.
Бедняга Джордж говорит:
– Кончай уже, а?
Мисс Кэти отвечает взглядом один молодой человек, усаженный дальше солонок, позади многочисленных профессиональных нахлебников, наркоторговцев, месмеристов, ссыльных белогвардейцев и бедного Лоренца Харта, почти что за горизонтом, у самого края обеденного стола. Его карие очи напоминают цветом бокал рутбира, просвеченный насквозь ярким солнцем, какое бывает Четвёртого июля. Прямо-таки образчик чистопородного американца. Такое классическое, симметрично очерченное лицо, растянувшееся в довольной ухмылке, так и грезишь увидеть однажды у себя между бёдрами.
Рискованное занятие – любоваться звёздами у горизонта. Эльза Максвелл[3] сказала бы так: «Никогда не поймёшь, собирается ли эта блестящая точка взойти или сразу же закатиться».
Лилиан вдыхает наступившую тишину через кончик зажжённой сигареты, стряхивает пепел на тарелку для хлеба и произносит:
– Кстати, вы слышали? В это трудно поверить, – заявляет она, – однако Элеонора Рузвельт перецеловала все волосы на моём лобке…
Среди сигаретного дыма, лжи и Второй мировой войны ослепительный карий взгляд настоящего американца уставился через весь стол, поверх социальной лестницы, прямо в глубь знаменитых, прикрытых дрожащими ресницами фиалковых глаз моей работодательницы.
Акт I, сцена вторая
С вашего позволения, тут я сломаю четвёртую стену[4] и представлюсь: Хэйзи Куган.
По роду занятий – не то чтобы платная компаньонка или профессиональная домработница. Да, на склоне лет мне предстоит чистить те же сковородки с кастрюлями, что и в юности, – я с этим вполне смирилась, ведь все они принадлежат великолепной, прославленной киноактрисе, мисс Кэтрин Кентон, хотя она к ним и пальцем не прикасается.
Я варю для неё яйца всмятку. Начищаю до блеска линолеум в кухне. Без конца полировать золотые побрякушки, врученные в дар мисс Кэти (их много, и каждая что-нибудь значит), тоже входит в мои обязанности. Но разве я прислуга? Можно подумать, мясник может быть прислугой нежных ягнят!
Моя цель – приводить в порядок творческий хаос мисс Кэти. Дисциплинировать её характер, известный своими капризами. Я из тех людей, кого Лолли Парсонс[5] называет «суррогатным позвоночником».
Да, мне приходится пылесосить ковры мисс Кэти и забирать заказы у зеленщика, но моя подлинная роль – не дворецкий и уж точно не горничная. В некотором смысле кому-то может показаться, будто мисс Кэти – моя хозяйка, учитывая, что в обмен на затраченное время и труд она обеспечивает моё существование, или что я тяжело работаю, пока она отдыхает и процветает, однако неужели брюква или несушка – хозяева фермера?
Элегантная Кэтрин Кентон повелевает мной не более, чем пианино способно приказывать Игнацию Яну Подеревски – перефразируя Джозефа Лео Манкевича, который однажды перефразировал меня, я первой произнесла и сделала изумительно умные вещи, которые позже помогли прославиться другим. В некотором смысле мы с вами знакомы. Если вы видели Линду Дарнелл в «Падшем ангеле» в роли официантки придорожной закусочной, с карандашом за ухом, – считайте, что видели и меня. Эту манеру Дарнелл без спроса присвоила. Как и Барбара Лоуренс с её ослиным хохотом в «Оклахоме». Столько великих актрис не постеснялись украсть мои самые заметные жесты или привычки, что вы могли видеть меня в работах Элис Фей, Маргарет Дюмон и Риз Стивенс. Во многих картинах прошлого мелькали мои фрагменты – поднятая бровь, палец, нервно крутящий провод от телефонной трубки…
Забавно: Элеонор Пауэлл когда-то переняла мою фирменную манеру носить на одежде множество мелких бантов, – а я теперь щеголяю красными коленями уборщицы и распухшими руками посудомойки. И вовсе не той знаменитой походкой, за которую Дэррил Занук однажды сравнил меня с Клифтоном Уэббом в клетчатом килте. Мервин Лерой распускал слухи, будто бы я – тайное дитя любви Мари Дресслер от её постоянного партнёра по съёмкам – Уоллеса Берри.
В мои ежедневные обязанности входит размораживать холодильник мисс Кэти, а также утюжить её постельное бельё, однако я вовсе не нахожусь в положении прачки. Не стремлюсь сделать карьеру поварихи. И вообще, по призванию я не домашняя прислуга. Жизнь Кэтрин Кентон куда сильнее зависит от моей воли, нежели моя собственная жизнь – от её. Действительно, ежедневные требования и нужды мисс Кэти определяют мои действия, – но лишь в той мере, в какой ограниченные возможности гоночного автомобиля влияют на гонщика.
Я не просто женщина, что трудится на фабрике по производству восхитительной Кэтрин Кентон; я и есть фабрика. И, записывая эти слова, играю роль не кинооператора, а камеры, способной льстить, подчёркивать, искажать образ кокетливой мисс Кэти, который запечатлеется в памяти зрителей навсегда.
Я не колдунья. Я само колдовство.
Мисс Кэти тратит очень мало усилий на то, чтобы быть собой. Вся чёрная работа выполняется мною – в тандеме с армией постижёров[6], пластических хирургов и диетологов. С первых дней съемок мне приходилось расчёсывать и укладывать её зачастую белокурые, иногда чёрные, а время от времени рыжие волосы. Я забочусь о нежных обертонах её голоса, так чтобы каждая фраза звучала, словно часть сценария, созданного Торнтоном Уайлдером. У мисс Кэти давно не осталось ни единой прирождённой черты – за исключением почти сверхъестественного фиалкового оттенка глаз. Её высокий трон в ледяном пантеоне, рядом с престолами Греты Гарбо, Грейс Келли и Ланы Тёрнер, всей тяжестью держится на моих плечах.
И хотя задача хорошо вышколенной прислуги – максимально держаться в тени, ту же цель преследует и кукловод. Под моим руководством домашнее хозяйство мисс Кэти управляется словно само по себе, а её жизнь течёт сама по себе.
Нет, я не нахожусь на положении няньки, горничной или секретарши. То есть должность моя так не называется, однако я исполняю вышеназванные обязанности. Каждый вечер задёргиваю на окнах шторы. Выгуливаю собаку. Запираю двери. Отключаю телефон, чтобы указать внешнему миру на его подлинное место. Впрочем, в последнее время моя работа всё чаще заключается в том, чтобы уберечь мисс Кэти от неё самой.
Резкая смена кадра: Ночь. Перед нами роскошный будуар, принадлежащий Кэтрин Кентон. Только что закончился ужин. Мисс Кэти заперлась в примыкающей ванной комнате. За кадром слышно, как шумит хлещущая из крана вода.
Вопреки широко распространившимся сплетням, меня и мисс Кэти совершенно не связывает то, что Уолтер Уинчелл назвал бы «женской дружбой на кончиках пальцев». Мы не позволяем себе ничего такого, за что «Конфидентал» мог бы окрестить нас «малышками с нежным баритоном», или того, что Хэдда Хоппер описывает как «посасывание розовых складочек». Сейчас, например, моё дело – положить в эмалевое блюдце на прикроватном столике по одной таблетке нембутала и люминала. А ещё – наполнить винтажный бокал кусочками льда и по капле влить в него виски, заполнив оставшееся пустое место содовой.
Прикроватный столик представляет собой не что иное, как шаткую стопку сценариев, присланных Рут Гордон и Гарсоном Канином вкупе с настойчивыми просьбами вернуться на сцену. Тут вам и состряпанные на скорую руку бродвейские мюзиклы, основанные на переодевании актёров в шкуры динозавров или Эммы Гольдман, и полнометражные мультипликационные версии шекспировского «Макбета», где все герои выведены в образах звериных детёнышей. Голосовая озвучка. На пожелтевших покоробившихся страницах темнеют пятна от виски и сигаретного дыма. Бумага покрыта коричневыми кольцами от кофейных чашек мисс Кэти.
Каждый вечер, после любого торжества, которое приходится открывать моей мисс Кэти, мы повторяем один и тот же ритуал. Я расстёгиваю молнию на её платье. Включаю телевизор. Меняю канал. Меняю канал ещё раз. Вытряхиваю на атласное покрывало кровати содержимое вечерней сумочки – помаду «Элен Рубинштейн», ключи, банковские карточки, – чтобы переложить это всё в дневную сумочку. Вставляю в туфли специальные распорки для обуви. Прикалываю золотисто-каштановый парик на голову-манекен. А потом зажигаю свечи с ароматом ванили, расставленные вдоль каминной полки.
Между тем моя мисс Кэти нежится в ванне. Сквозь шум воды слышно, как она бубнит за дверью: «Гав, мууу, мяу… Уильям Рэндольф Херст. Рррр, скрип, чирик… Анита Лус».
Посередине атласного покрывала растянулся пекинес по кличке Донжуан. Вокруг лежат смятые обёртки, а рядом – половинки шоколадной коробки, изготовленной в виде сердца; на крышке приколоты розовые парчово-шёлковые розы, углы отделаны сборками кружева. Пышное красное покрывало, беспорядок на нём, вощёные чашки-обёртки, а в середине – растянувшаяся собака.
Из вечерней сумочки мисс Кэти выпадает зажигалка, сигаретная пачка «Пэлл Мэлл», коробочка для пилюль, покрытая рубинами и турмалином, – там туинал и дексамил. Гав, ко-ко, скрип… Нембутал.
Гррр, уи-уи, хрю… Секонал.
Мяу, чирик, муу… Демерол.
А следом, плавно порхая в воздухе, на кровать опускается тиснёная карточка с именем гостя, стоявшая этим вечером на столе. На белоснежной бумаге чёрными буквами жирным шрифтом написано: «Уэбстер Карлтон Уэстворд Третий».
Проходит отрезок времени, который Хэдда Хоппер окрестила бы «голливудским сроком хранения». На стоп-кадре мы видим, как маленькая карточка белеет посередине атласного покрывала рядом с неподвижной собакой.
По телевизору показывают мою мисс Кэти в роли испанской королевы Изабеллы, сбежавшей от монарших обязанностей в Альгамбре ради краткого отдыха на Майами-Бич, где она притворяется обыкновенной цирковой танцовщицей, чтобы завоевать сердце Христофора Колумба в исполнении Рамона Новарро. На экране эпизодически мелькает Люсиль Болл, позаимствованная у кинокомпании «Уорнер Бразерс», – она играет соперницу мисс Кэти, королеву Елизавету.
Вот вам и западная история, как выражается эта сволочь Уильям Уайлер.
Из ванной сквозь грохот потоков горячей воды доносится: «Гав, иа, хрю… Эдгар Гувер-младший». Я напрягаю слух, пытаясь разобрать, что там бормочет мисс Кэти. Края атласного покрывала, балдахина и штор окаймлены длинной бахромой. Всё подбито красным бархатом с разрезным ворсом. На обоях тиснёный орнамент. Бордовые стены с мягкой обивкой на пуговицах увешаны зеркалами эпохи Луи Четырнадцатого. Розовый камин высечен из оникса и кварца. В общем, здесь тихо и тесно, как внутри вагины Мэй Уэст.
Над кроватью на четырёх столбах высится балдахин. Все украшения залакированы и отполированы до того, что дерево кажется влажным. А на постели – обёртки от сладостей, пёс и карточка.
Уэбстер Карлтон Уэстворд Третий, чистопородный американец с искристыми карими глазами. Глазами цвета рутбира. А ведь сегодня за ужином он сидел так далеко от нас… Написанный от руки телефонный номер: судя по коду, его обладатель проживает на отшибе Мидтауна.
По телевизору показывают, как Джоан Кроуфорд въезжает в Мадрид через городские ворота. На ней прозрачное платье гаремного вида, в руках – корзина из ивовых прутьев, заполненная картофелем и кубинскими сигарами. Голые лицо и руки намазаны чёрной краской. Это намек: перед нами захваченная в плен рабыня. Похоже, она либо заражена сифилисом, либо втайне питается человечиной. Грязная добыча Нового Света. Чья-нибудь наложница. Вероятно, из племени ацтеков.
Вот Кроуфорд еле заметно поднимает нагое плечо; этот знак презрения она без спроса позаимствовала у меня.
Над каминной полкой висит портрет мисс Кэтрин, написанный Сальвадором Дали, а ниже – целый ворох из приглашений и серебряных рамок с лицами прежних или, как выразился бы Уолтер Уинчелл, «отбывших своё» мужей. На картине брови моей мисс Кэти удивлённо изогнуты, но густые ресницы опущены, ещё немного – и глаза от скуки закроются. Руки подняты к легендарным скулам, раздвинутые веером пальцы запущены в золотисто-каштановую причёску. Рот не то смеётся, не то зевает. Валиум против декседрина. Что-то среднее между Лилиан Гиш и Таллулой Бэнкхед. Портрет словно вырастает из вороха приглашений и фотографий, грядущих вечеринок и прошлых браков, из мерцающих свечек и полуистлевших сигарет в хрустальных пепельницах, над которыми замысловато вьются струйки белого дыма. Словно благовония над алтарём Кэтрин Кентон.
Я – его неизменная хранительница. То есть уже не служанка, а верховная жрица.
За отрезок времени, который Уинчелл назвал бы «нью-йоркской минутой», я отношу карточку к пылающему камину. Держу её над свечой, покуда не вспыхнет. Свободную руку сую в глубину зияющей пещеры из розового оникса и кварца, на ощупь нахожу в темноте и рывком открываю дымовую заслонку. Затем поворачиваю белую карточку в потоке воздуха, устремившегося в трубу, наблюдая, как пламя съедает имя и телефонный номер Уэбстера Карлтона Уэстворда Третьего. Пахнет ванилью. Хлопья пепла осыпаются в холодный очаг.
В телевизоре Престон Стерджес и Харпо Маркс изображают Тихо Браге с Коперником. Первый доказывает, что Земля вертится вокруг Солнца, второй настаивает на том, что в действительности весь мир вращается вокруг Риты Хейворт. Фильм «Армада любви», снял его Дэвид Зельцник на студии «Юниверсал» – в те времена, когда по радио через раз передавали песню «Очарована, обеспокоена, обескуражена» в исполнении Хелен О’Коннелл и оркестра Джимми Дорси.
Дверь ванной распахивается, и голос мисс Кэти произносит:
– Гав, тяв, ко-ко-ко… Максвелл Андерсон.
Волосы Кэтрин Кентон убраны в белый тюрбан из махрового полотенца. На лице – маска из пюре авокадо и маточного молочка. Туго затягивая пояс купального халата, моя мисс Кэти бросает взгляд на помаду, лежащую на постели. На зажигалку, ключи и кредитные карточки. На пустую вечернюю сумочку. Потом её взгляд обращается и ко мне, застывшей перед камином, где язычки свечей под портретом освещают шеренгу «отбывших», ворох из приглашений повеселиться и – разумеется – свежие цветы.
На алтаре каминной полки всегда стоит море цветов, которых могло бы хватить на медовый месяц или на похороны. Сегодня вечером это белые лилии, игольчатые белые хризантемы и веточки жёлтых орхидей, напоминающих облако ярких бабочек.
Небрежно отодвинув рукой помаду, ключи, сигаретную пачку, мисс Кэти садится на атласное покрывало посреди мятых обёрток и произносит:
– Ты ничего только что не сжигала?
Кэтрин Кентон принадлежит к тому поколению женщин, которые считали мужскую эрекцию самым честным из видов лести. В наши дни мне приходится ей объяснять, что затвердевание пениса – уже не столько комплимент, сколько результат медицинского прогресса. И вызывают его пересаженные обезьяньи гланды или новейшие чудодейственные пилюли.
Можно подумать, человеческий род, а мужчины в особенности, не мог обойтись без нового вида лжи.
Я спрашиваю: разве что-нибудь не на месте?
Её фиалковые глаза пристально смотрят на мои ладони. Поглаживая пекинеса Донжуана по длинной шёрстке, мисс Кэти сетует:
– Как я устала сама себе покупать цветы…
Мои ладони запачканы копотью от прикосновения к дымовой заслонке. Сгоревшая карточка успела покрыть их пятнами сажи. Я вытираю их о складки твидовой юбки. И говорю, что всего лишь избавилась от ненужного мусора. Спалила ничего не стоящий клочок бумаги.
В телевизоре Лео Дж. Кэрролл преклонил колено перед Бетти Грейбл, которая коронует его, величая императором Наполеоном Бонапартом. Роберт Янг играет Павла Четвёртого, римского папу. Барбаре Стэнвик досталась роль задумчиво пережёвывающей жвачку Жанны Д’Арк.
Моя мисс Кэти видит саму себя, только семь разводов («Рено-ваций», сказал бы Уинчелл) и три лицевых подтяжки тому назад, впивающуюся в губы Новарро. Уинчелл не преминул бы окрестить этого красавчика «уайлдмэном». Как Алана Кэмпбелла, мужа Дороти Паркер, которого Лилиан Хеллман обозвала «козлом, не лишённым изящности». Продолжая ласкать пекинеса длинными пальцами, мисс Кэти вслух вспоминает:
– У его слюны был вкус мокрых членов десяти тысяч одиноких дальнобойщиков.
На шатком столике из кипы сценариев дожидаются своей очереди барбитураты и двойной виски. Мисс Кэти вдруг прекращает почёсывать отчего-то потемневшую мордочку пса и резко отдёргивает руку. Полотенце падает у неё с головы, и седые мокрые волосы рассыпаются по плечам. Между корнями просвечивает розовая кожа. Зелёная маска из авокадо от изумления растрескивается.
Мисс Кэти глядит на свою ладонь: с пальцев у неё капает тёмно-красная жижа.
Акт I, сцена третья
Кэтрин Кентон жила как Гудини – великий мастер исчезновений. Она ускользала откуда угодно – из брачных уз, из психиатрических лечебниц, из плотных рамок студийных контрактов с Пандро С. Берманом… Моя мисс Кэти позволяла запереть себя лишь потому, что ей нравилось в последний момент улизнуть. Отказаться от невыгодного гастрольного тура в обществе Реда Скелтона. Увернуться от урагана «Хейзел». На третьем триместре прервать беременность от Хью Лонга. Всякий раз, когда между ней и опасностью оставалось одно мановение секундной стрелки, мисс Кэти успевала упорхнуть.
А теперь – медленным наплывом – кадр из прошлого. Вернёмся в тот год, когда по радио чуть ли не через раз крутили песню «(Сколько стоил) тот пёс на витрине?» в исполнении Патти Пейдж. Интерьер полуподвальной кухни в элегантном городском особняке Кэтрин Кентон. В глубине сцены располагаются в ряд: электрическая печь, холодильник, дверь в переулок, и в ней – запылённое окошко.
На первом плане – я, сижу на крашеном белом стуле, закинув скрещенные в лодыжках ноги на покрытый такой же краской стол, и держу в руках увесистую бумажную стопку. На сквозняке дрожит записка, приколотая скрепкой к титульному листу. Текст выполнен от руки, наклонными буквами: «Наслаждайся сейчас же, пока эти строки пахнут моими потными чреслами». И ниже: «Лилиан Хеллман».
Лили никогда ничего не подписывает – она раздаёт автографы.
На первой странице сценария американский физик Роберт Оппенгеймер ломает голову над наилучшим способом ускорения диффузии частиц. Наконец Лилиан гасит сигарету «Лаки Страйк», опрокидывает в рот бокал шотландского виски «Дьюарз» и локтем отталкивает Оппенгеймера от просторной доски, беспорядочно исписанной уравнениями. После чего, поплевав на стержень карандаша для бровей «Макс Фактор», под пристальным взглядом Альберта Эйнштейна изменяет скорость деления обогащённого урана. Хлопнув себя ладонью по лбу, Эйнштейн восклицает:
– Лили, meine Liebchen, du bist eine genious[7]!
Доносится острое тук-тук-тук по стеклу. Лучи восходящего солнца высвечивают за тусклым окошком зависший в воздухе силуэт. Какая-нибудь отбившаяся от стаи, замерзающая и голодная птичка.
А в сценарии Лилиан туго сворачивает номер «Нью Массез» и бьёт им, точно дубинкой, по лицу Кристиана Диора. Гарри Трумен созвал к себе лучших кутюрье мира: хочет создать узнаваемый бренд своего абсолютного оружия. Коко Шанель настаивает на блёстках. Систер Пэриш рисует бомбу, летящую по японскому небу, вслед за которой тянутся длинные нити стекляруса. Эльза Скиапарелли требует сшить простёганный атласный чехол. Кристобаль Баленсиага – наплечники. Мэйн Бохер высказывается в пользу твидового костюма. Диор осыпает конференц-зал образчиками шотландки. Размахивая импровизированной полицейской дубинкой, Лили восклицает:
– А если вдруг заест молнию?
– Лили, дорогая, – отвечает Диор, – это же чёртова атомная бомба!
Между тем острый клюв с невыносимым, зубодробительным скрежетом проводит длинную линию на стекле. Мгновение жуткой головной боли – и появляется вторая черта. Вместе с первой они образуют на окошке силуэт сердца. Потом острие со скрипом перемещается снова – и пронзает его стрелой.
А на бумаге Адриан предлагает покрыть атомную бомбу толстым слоем искусственных бриллиантов, дабы прибавить блеска союзнической победе. Эдит Хэд, постучав кулачком по столу в отеле «Уолд оф Астория», заявляет: дескать, если огненная смерть обрушится на Хирохито не в виде чего-нибудь связанного вручную, она сворачивает «Манхэттенский проект». Тем временем Юбер де Живанши совокупляется с Пьером Бальмейном.
Поднимаюсь и подхожу к двери. В проулке, зябко кутаясь в шубку на утреннем холоде, стоит моя мисс Кэти.
Я спрашиваю: разве она не должна была вернуться лишь несколько месяцев спустя?
Мисс Кэти отвечает:
– Я обнаружила кое-что получше трезвости… – И взмахивает левой ладонью, на указательном пальце которой вспыхивает большой бриллиант. – Это Пако Эспозито!
Так вот чем она вырезала своё сердце на кухонном окошке. Сердце, пронзённое стрелой Купидона. Ещё одно обручальное кольцо, купленное самой себе.
За спиной мисс Кэти стоит молодой человек, увешанный, словно рождественская ёлка, дамскими сумочками, чехлами с одеждой, чемоданами – всё марки «Луи Витон». Колени синих джинсов покрыты чёрными пятнами от моторного масла. Рукава хлопчатобумажной рубашки закатаны по локоть, на руках – татуировки. С левой стороны на груди вышито имя: Пако. К вони одеколона примешивается убойная вонь первосортного бензина.
Фиалковые глаза мисс Кэти пробегают по моему лицу из стороны в сторону, потом сверху вниз; обычно так она проглатывает переписанные перед самой съёмкой диалоги.
Кэтрин Кентон позволяла себя запирать в больницах лишь потому, что любила из них сбегать. В промежутках между картинами ей не хватало острых ощущений, какие давало преодоление крепко закрытых дверей, решёток на окнах, пилюль и смирительных рубашек. И вот она входит с мороза, изо рта – пар, на ногах – картонные тапочки. Не «Мадлен Вионне». Под шубкой из чернобурой лисицы надето платье из папиросной бумаги. Не «Вера Максвелл». Щёки раскраснелись от солнца. Растрепанные ветром золотисто-каштановые волосы лежат на плечах тяжёлыми волнами. Посиневшие пальцы вцепились в ручки хозяйственной сумки, которую Кэтрин торопится водрузить на обеденный стол.
В третьем акте сценария Хеллман управляет стратегическим бомбардировщиком «Энола Гей». Задевая верхушки японских сосен, головы панд и вершину Фудзи, самолёт направляется к Хиросиме. А дальше – разгул фантазии: размахивая мачете, Хеллман кастрирует громко визжащего Джека Уорнера и заживо снимает кожу с Луиса Б. Майера, пока тот ревёт белугой и истекает кровью. И вот уже её пальцы уверенно сжимают рычаг, открывающий двери бомбового отсека. Смертоносный груз напоминает платье невесты: всюду мелкий жемчуг и трепет белого кружева.
Тем временем мисс Кэти запускает руки в сумку и достаёт оттуда клок своей шубки, чтобы опустить его на сценарий Хеллман. Такое впечатление, что мех дрожит от испуга. Две пуговицы моргают и оказываются глазами. Мокрый мохнатый клок шерсти съёживается, а потом разражается громким «апчхи». При этом посередине между глазами-пуговицами мех раздвигается, показывая два ряда зубов-иголок. И розовый длинный язык. Перед нами щенок.
Руки звезды, особенно та, на которой блестит кольцо, иссечены и покрыты коростой заживающих ран, перепачканы высохшей кровью. Мисс Кэти, раздвинув пальцы, показывает мне тыльные стороны ладоней.
– В госпитале была колючая проволока, – сообщает она.
Шрамы выглядят столь же жутко, как те, которыми любит бравировать Хеллман, рассказывая о сражениях в добровольной антифашистской бригаде имени Авраама Линкольна. Впрочем, у Авы Гарднер после корриды с Эрнестом Хемингуэем были похуже. Или, например, у Гора Видала после ссоры с Труменом Капоте.
– Подобрала бродяжку, – произносит мисс Кэти.
Уточняю, кого она имеет в виду: парня или собаку?
– Это пекинес, – отвечает мисс Кэти. – Я окрестила его Донжуан.
Пако – новенький кандидат на роль «отбывшего». До него был сенатор, а до него – голубой хорист, а до него – сталелитейный магнат, а до него – актёр-неудачник, а до него – неопрятный папарацци, а до него – школьная любовь. Фотографии этих дворняжек выстроились в шеренгу на полке камина в её роскошном будуаре, этажом выше. «И не жили они долго и счастливо», – как сказал бы Уолтер Уинчелл.
Каждый из романов мисс Кэти – жест саморазрушения, то, что Хэдда Хоппер могла бы назвать «мужи-кири». Бывает: вместо того чтобы броситься грудью на меч, женщина кидается на самый неподходящий пенис.
Мужчины, которых она выбирает, напоминают не столько супругов, сколько соседей по киноафише. Каждый – всего лишь свидетель, способный лично подтвердить её участие в очередной безоглядной авантюре, вроде Фредерика Марча или Рэймонда Мэсси, любого из ведущих актёров, с кем бок о бок она могла сражаться в «Столетней войне». Сыграть Амелию Эрхарт, спрятанную среди запасов икры и шампанского в романтичной кабине Чарльза Линдберга во время его перелёта через Атлантику. Клеопатру, похищенную крестоносцами и отданную в жёны королю Генриху Восьмому.
Каждый свадебный снимок – не сувенир, а глубокий шрам. Напоминание об очередном сценарии в стиле хоррор, придуманном и пережитом самой Кэтрин Кентон.
Мисс Кэти сажает щенка на бумаги Хеллман, прямо туда, где описывается, как Лили вместе с Джоном Уэйном поднимают американский флаг над островом Иводзима. А потом, запустив оцарапанную руку в карман лисьей шубки, достаёт блокнотик, на каждой странице которого в самом верху отпечатано: «Больница и лечебно-исправительное учреждение «Уайт Маунтин»».
Мисс Кэти присвоила пачку рецептурных бланков.
Лизнув кончик карандаша для бровей «Эсте Лаудер», она пишет под заголовком несколько слов, потом запинается и поднимает глаза:
– Сколько «с» в слове дарвоцет?
Молодой человек, до сих пор обвешанный сумками, нетерпеливо бросает:
– Скоро уже мы будем в Голливуде?
Луэлла Парсонс определила бы город Лос-Анджелес как примерно три сотни квадратных миль и двенадцать миллионов человек, которые окружают Ирену Майер Сэлзник.
Камера берёт крупным планом Донжуана. Крошка пекинес сбрасывает прямо на генерала Дугласа Макартура горячую вонючую бомбочку собственного изготовления.
Акт I, сцена четвёртая
В карьере кинозвезды очень важно помочь остальным забыть о печалях и хлопотах. Обаяние, красота, бодрость духа призваны создавать видимость лёгкой и беззаботной жизни. «Вся беда в том, – обронила как-то актриса Глория Свенсон, – что, если не плакать на публике, публика может решить, будто вы вообще никогда не плачете».
Четвёртая сцена первого акта начинается с общего плана: Кэтрин Кентон с погребальной урной в руках. Декорации: тускло освещенный, затянутый паутиной интерьер подземной усыпальницы Кентонов, укрывшейся глубоко под каменными сводами собора Святого Патрика. Богато украшенная бронзовая дверь отворяется, впуская двух посетительниц. На дальней от нас стене тонет в сумраке длинная каменная полка с урнами из полированной бронзы, меди и никеля. На одной написано: «Казанова», на другой: «Милый друг», а ещё на одной – «Ромео».
Мисс Кэти на прощание обнимает сосуд с пеплом и поднимает его ко рту. Выпятив губы, оставляет помадный след поцелуя поверх гравировки «Донжуан» и помещает новую урну на запылённой полке, среди остальных.
Кэй Фрэнсис не появился. Хамфри Богарт не прислал соболезнований. Не сделали этого ни Дина Дурбин, ни Милдред Коулз. Где сейчас Джордж Бэнкрофт или Бонита Грэнвилл, или Фрэнк Морган? Ни один из них даже на цветы не стал раскошеливаться.
Камера показывает отдельные гравировки: «Золотко», «Сладкий», «Оливер «Ред» Дрейк, эск.» – «однополкане», как выразилась бы Хэдда Хоппер. Английская гончая Кэтрин Кентон, её чихуахуа и четвёртый муж – главный акционер и председатель правления «Международной сталелитейной мануфактуры». За урнами с надписями «Масюся» и «Лотарио», хранящими в себе останки карликового пуделя и миниатюрного пинчера, лежит закатившийся к стенке и притороченный к ней паутинными нитями оранжевый пузырёк валиума. Здесь же – бутылка бренди «Наполеон». Наклейка заплесневела и запылилась. И флакон люминала.
«Тормоза для души», – как сказала бы Луэлла Парсонс.
Подавшись вперёд, мисс Кэти сдувает пыль с пузырька. Марая чёрные перчатки, с усилием отвинчивает хитроумную крышку. Под холодными гулкими сводами перекатывание пилюль напоминает пулемётную очередь. Моя мисс Кэти вытряхивает пару штук на ладонь, запускает их в рот, приподняв чёрную вуаль, и тянется к старой бутылке.
Между полированными урнами лежит опрокинутая серебряная рамка для фото, рядом – тюбик помады «Элен Рубинштейн». Камера медленно движется, и вот уже перед нами духи «Мицуко», мутный хрустальный флакон в отпечатках пальцев, и пыльная коробка с пожелтевшими салфетками «Клинекс».
В сумерках смутно проступают контуры и этикетки бутылок: «Шато Лафит» урожая тысяча восемьсот пятьдесят первого года. «Пьер Юе Кальвадос», тысяча восемьсот шестьдесят пятый. Разлитый в тысяча девятьсот шестом коньяк «Круазет». «Кэмпбелл Боуден и Тейлор порт» урожая тысяча восемьсот двадцать пятого года.
Вдоль каменных стен выстроились ящики с шампанским: «Болленже», «Дом Периньон», «Моэ и Шандон». Здесь можно увидеть сосуды самых разных размеров: Иеровоамы, получившие название в честь библейского царя, сына Навата и Церуа, куда помещается четыре обычных бутылки; Навуходоносоры, названные так в честь вавилонского правителя, – эти вмещают в двадцать раз больше обычного; есть и гигантские двадцатичетырёхкратные Мельхиоры, носящие имя одного из волхвов, возвестивших миру о рождении Иисуса Христа.
На каждую пустую бутыль приходится по одной запечатанной. В промозглом полумраке высится гора некогда выпитых и давно позабытых бокалов со следами губ Конрада Нагеля, Алана Хейла, шимпанзе Читы и Билла Демареста.
Траурная вуаль вновь опускается на лицо, и мисс Кэти пьёт через чёрное кружево – отхлёбывает из сосудов по очереди, покрывая каждое блестящее горлышко новым слоем помады. Теперь у бутылок такие же красные рты, как и у неё самой.
Кстати, Сидни Гринстрит тоже мог бы сегодня явиться. А Грета Гарбо – прислать соболезнования.
Говоря словами Уолтера Уинчелла, нас попросту «назойливо покинули».
Разумеется, мы здесь вдвоём, я и мисс Кэти, – вот уже в который раз.
Смахнув с полки тёмный рис мышиных фекалий, отчего происходящее ещё сильнее напоминает какую-то дикую пародию на свадьбу, моя мисс Кэти поднимает серебряную рамку и ставит её на каменной полке. Внутри оказывается не памятный снимок, а зеркало. Оно отражает мрачные стены, кружево паутин и застывшую Кэтрин Кентон в траурной шляпке с вуалью. Пощипав за кончики пальцев, мисс Кэти стягивает с левой руки перчатку, а затем и кольцо с бриллиантом в шесть каратов – «Гарри Уинстон», огранка «маркиз».
– Думаю, эту минуту стоит сохранить в памяти, – произносит кинозвезда.
Поверхность зеркала исчерчена сетью шрамов. Стекло помогает не забывать страдания и обиды прошлого.
– Скажи, ты ведь ничего не путаешь? Ты точно звонила Кэри Гранту? – спрашивает мисс Кэти, отступив назад и застыв посередине полустёртого крестика, давным-давно нарисованного помадой на каменном полу.
В это мгновение царапины на поверхности зеркала аккуратно ложатся на лицо кинодивы. Именно в этом ракурсе и на таком расстоянии они превращаются в «мешки» под глазами, в морщины, которые покрывали его три, четыре, пять псов тому назад, пока их не исправила очередная подтяжка лица, инъекция сыворотки овечьего эмбриона, радикальная операция в одной из секретных швейцарских клиник, дорогостоящие кремы и мази. Чтобы напомнить мисс Кэти, как бы ей надлежало сегодня выглядеть, зеркало сохранило все оспины от угрей и печёночные пятна, которые она удаляет каждые несколько месяцев.
Вуаль поднимается, – и видны обязательные волоски и родинки; щёки и подбородок немедленно провисают.
Всё это боевые шрамы, полученные от каждого из «отбывших», от каждой бродячей собаки вроде Пако Эспозито или Ромео.
Лицо мисс Кэти принимает такое выражение, какое бывает, когда она не старается придавать ему никакого выражения. В эту минуту прославленные черты будят в памяти ночную рубашку Теды Бары, намотанную на мягкую вешалку в костюмном цехе «Монограмм Пикчерз» и обернутую тёмным целлофаном. Мускулы расслабляются и становятся дряблыми. Зрителей-то поблизости нет.
Между тем я берусь за дело – вычерчиваю бриллиантом очередные морщины, добавляю к памятному портрету новые печёночные пятна. Это вам не просто работа фотографа; мне нужно запечатлеть несчастье мисс Кэти прежде, чем пластические хирурги опять превратят её внешность в «чистую доску». Со скрипом скобля по стеклу, я отмечаю седые волосы. Подправляю топографию тайного лица знаменитости. Обвожу озабоченные морщины на лбу. Углубляю «гусиные лапки» у глаз, порождённые фальшивой улыбкой на публику, то есть, можно сказать, уродую отражение бриллиантом.
После долгих издевательств зеркало успело покоробиться, скособочиться и покрыться такими глубокими шрамами, что стоит ещё чуть-чуть надавить – и оно рассыплется на кривые осколки. Поэтому мне приходится рассчитывать силу нажима. Совсем недавно в мои обязанности входило вытирать лужи, которые Пако оставлял у комода, и я же носила пса на кастрацию в клинику. Каждый день очередной исторический опус – вроде «Саги о Гайавате», переписанной Артуром Миллером в виде сценария для Деборы Керр, или истории Роберта Фултона как средства передвижения Дэнни Кея, – лишался страницы, которую я вырывала, чтобы убрать ещё тёплую кучку фекалий.
Теперь я веду бриллиантом сверху вниз, повторяя дорожки слёз на щеках мисс Кэти.
Стекло отзывается душераздирающим скрипом, от которого начинает трещать голова.
Зеркало Дориана Грея.
За кадром звучит эхо чьих-то шагов, отбивающих ритм сердцебиения. Из коридора к двери приближаются кожаные мужские туфли. Каждый шаг раздаётся громче предыдущего. Это Ван Хефлин или Лоуренс Оливье, Рэндольф Скотт, а может быть, Сидни Луфт.
В паузе между двумя шагами, в тишине между двумя ударами сердца я опускаю зеркало на полку и возвращаю мисс Кэти кольцо с бриллиантом.
В дверях усыпальницы возникает мужской силуэт – высокий, стройный, с прямыми плечами. Свет из коридора падает на него со спины.
Уже оборачиваясь, мисс Кэти одной рукой тянется взять помаду. Всматривается в гостя.
– Это ты, «Граучо»[8]?
Из полутьмы появляется букет цветов: розовые розы, сорт «Нэнси Рейган», и жёлтые лилии с ярким, словно июльское солнце, ароматом.
– Я так сожалею о вашей потере… – доносится из-за букета, обхваченного молодыми мужскими руками. Кожа на них гладкая, чистая; ногти отполированы до блеска.
«Погребальный флирт», – шепнула бы в таком случае Хэдда Хоппер. «Жених на краю могилы», – согласилась бы Луэлла Парсонс. «Разрушитель гробниц», – поддакнул бы им обеим Уолтер Уинчелл.
На сцену выходит Уэбстер Карлтон Уэстворд Третий – тот самый молодой человек со званого ужина. Его имя и телефонный номер сгорели в камине вместе с карточкой.
Очи сияют, словно рутбир под солнечными лучами.
Я чуть заметно покачиваю головой. Не надо. Не повторяй ошибок. Не доверяйся новому истязателю.
Однако мисс Кэти уже накладывает на губы свежий слой алой краски. И выбрасывает тюбик. Тот с грохотом катится по полке между урнами с прахом прошлых привязанностей. Между пустыми бутылками, которые иногда называют «шеренгой павших солдат». Опустив на лицо чёрную сетку вуали, моя мисс Кэти протягивает руку в перчатке, чтобы взять один запылившийся, давно позабытый предмет. Поднимает его и шепчет свеженакрашенными губами:
– «Guten Essen»[9]. В переводе с французского, – прибавляет она, – «никогда не говори никогда».
Фиалковые глаза успела затянуть томная поволока: таблетки и бренди сделали своё дело. Мисс Кэти наконец поворачивается, чтобы принять цветы, в тот же самый миг опуская пыльную вещицу – свою диафрагму – в обвисшую щёлку кармана поношенного норкового манто.
Акт I, сцена пятая
Однажды проницательная Клэр Бут Льюс сказала о Кэтрин Кентон: «Когда она влюблена, её невозможно расстроить; зато когда не влюблена, её не развеселишь».
Действие следующей сцены разыгрывается в ванной комнате, смежной с будуаром мисс Кэти. Хозяйка дома сидит возле туалетного столика. Перед ней – три зеркала, показывающих сразу оба профиля и анфас. Розы «Нэнси Рейган» и жёлтые лилии, подношение Уэбстера Карлтона Уэстворда Третьего, отражаются в створках до бесконечности. Жидкий букетик превратился в пышную витрину флористки. В целый сад. И это вместо того, чтобы сгнить на полу усыпальницы.
К букету привязана карточка из тисненого пергамента: «Неразделенная любовь – бесполезная трата времени. Прошу тебя, позволь миру поделиться с тобой своей бесконечной любовью». Какая-то бессвязная тарабарщина, сворованная не то у Джона Мильтона, не то у Мохандаса Ганди.
Моя мисс Кэти смотрится в зеркало и разминает-пощипывает кожу, провисшую под линией подбородка.
– С виски покончено, – заявляет кинозвезда. – И с проклятыми шоколадками тоже.
Да, отравление шоколадом, кто бы мог подумать!.. Надо же было мисс Кэти забыть целую коробку на кровати, где Донжуан был просто обязан унюхать сладкое. А ведь и в одной конфетке более чем достаточно кофеина, чтобы собаку такого размера хватил сердечный приступ.
На пергаментной карточке подпись: «Уэбб». Мальчик Уэстворд; колумнист Чолли Никербокер сказал бы о нём: «вкрадчивая инфекция». Рядом с розами на полированном столике покоится выпуклая резинка диафрагмы, вся в пятнах от пыли.
Отклеивая накладные ресницы, мисс Кэти глядит на наше с ней отражение, приумноженное до размеров толпы, словно весь мир состоял исключительно из наших двойников, и произносит:
– Ты уверена, что никто больше не прислал соболезнований?
Я неумолимо повожу головой из стороны в сторону. Ни одна живая душа.
Мисс Кэти снимает золотисто-каштановый парик, отдаёт его мне и снова спрашивает:
– Даже сенатор?
Это её «отбывший», предшественник Пако, сенатор Фелпс Рассел Уорнер. Я ещё раз качаю головой. Нет. Ни Терренс Терри, гомик-танцор; ни Пако Эспозито, занятый в новом радиошоу под названием «Направляющий свет» в роли знойного латиноамериканца, танцора фламенко и одновременно специалиста по хирургии головного мозга. Ни один из «отбывших» не удосужился черкнуть хотя бы слово.
Протирая лицо ватными шариками с кольдкремом, мисс Кэти срывает эластичную шапочку, стягивающую ее волосы. Знаменитые пальцы впиваются в длинные пряди седых волос. Кэтрин Кентон быстро крутит головой, чтобы рассыпать их по плечам розовой атласной сорочки, оттягивает в сторону парочку истончившихся локонов и спрашивает:
– Думаешь, моя шевелюра выдержит ещё одно перекрашивание?
Первый симптом того, что Уолтер Уинчелл зовёт «увлечением с оглупением», – желание перекрасить волосы в ярко-рыжий, кошачий цвет.
«При любом недуге, – сказал как-то журналист Генри Луис Менкен, – оптимизм говорит о том, что дело больного – труба».
Мисс Кэти подхватывает ладонями грудь и так высоко ее поднимает, что шея едва не тонет в ложбинке. Потом косится на свои отражения в боковых зеркалах.
– Почему наш талантливый доктор Йозеф Менгеле из Мюнхена ничего не может поделать с этими руками? Они же как у старухи!
В лучшем случае наш юный Уэстворд принадлежит к той породе бездельников, которых Лолли Парсонс окрестила «мемуарастами». Улыбаясь и пританцовывая, они без мыла втираются в душу к очередной увядающей, одинокой знаменитости. Такие вечно до безобразия прилизаны и прекрасно умеют выслушать исповедь. Они потакают раздутому эго и ускоряют дряхление разума, а сами тем временем собирают сливки будущих расхожих цитат и анекдотов. У таких всегда наготове рукопись, только и ждущая публикации после смерти кинозвезды. Вот тогда каждый вечер, проведённый в тиши у камина с бокалом бренди в руке, окупится сторицей, каждая ночь принесёт плоды в виде скандальных признаний и заявлений. Могу поспорить, мистер Ясные Карие Очи – один из профессиональных искусителей, в любую минуту готовых раззвонить по свету о самых грязных подробностях частной жизни моей мисс Кэти.
Чует сердце: у него так и чешутся руки написать интимное разоблачение в жанре, который Уинчелл зовёт «жизнеобсиранием в произвольной форме». Наш красавчик Уэбстер – что-то вроде литературной сороки-воровки, падкой на самые яркие и самые тёмные переживания каждой встречной звезды.
Мисс Кэти выдавливает на палец жирную каплю вазелина и тщательно смазывает все зубы, от передних до коренных. Потом сально ухмыляется и спрашивает:
– Ложка есть?
– На кухне, – бросаю я.
Мы перестали хранить ложку в ванной с того самого года, когда по радио через раз крутили песню «Не отнимай у меня любовь» в исполнении Кристины, Дороти и Фили Магуайр.
Мисс Кэти задалась целью – усохнуть и превратиться в «загар да кости», по выражению Лолли Парсонс; в «мощи с накрашенными губами», по словам Хэдды Хоппер; в «красиво причёсанный скелет», как Эльза Максвелл величает Кэтрин Хепберн.
Мисс Кэти уходит на поиски пресловутой ложки, а мои руки спешат открыть коробку с морской солью. Раздавив между пальцами несколько жёстких крупинок, я крошу их между стеблями роз и покачиваю вазу по кругу, чтобы соль растворилась в воде. Потом выхватываю карточку из букета, складываю пергамент пополам и рву. Дважды. Потом ещё складываю и рву, так что предложения превращаются в слова, а слова – в отдельные буквы, которые уже можно скормить унитазу. Дёргаю за рычаг. Вода поднимается, подхватывает обрывки, крутит их и начинает уходить. Внезапно из глубины извергается уйма бумаги, забившая туалетное горло. Размокшие клочья писем, открыток и телеграмм лезут наружу неудержимым потоком.
В фаянсовой чаше клокочет водоворот выражений заботы и нежности, подписанных именами Эдны Фербер, Арти Шоу, Бесс Труман. «Если я в силах чем-то помочь…», «Звони мне в любое время…». Лоскуты сантиментов, кружась, поднимаются выше и выше, к самому краю, за которым ждёт катастрофа, готовятся выплеснуться из белой чаши на розовый мраморный пол. Проникновенные слова… Я порвала их на куски, а потом – на крохотные кусочки. За несколько дней уничтожила все соболезнования. И вот результат моих потаенных трудов вознамерился выйти на свет.
Из дамской комнаты, расположенной этажом ниже, по пустому особняку отчётливым эхом разносятся звуки, с которыми бефстроганов, груши «Королева Шарлотта», а также телятина «Орлов» извергаются из утробы мисс Кэти по зову серебряной ложки, прижатой к основанию языка, повинуясь необратимому рвотному рефлексу.
– Ну и пошли они… – выдыхает мисс Кэти в паузах между оглушительными всплесками; её звездный голос хрипит из-за нахлынувшей желчи и желудочной кислоты. – Им на меня плевать, – бурчит она, вызывая у себя новый спазм.
Вы, наверное, слышали печально известный совет, который Джуди Гарленд получила однажды от Бусби Беркелей: «Если кишечник ещё работает, значит, ты ешь недостаточно мало».
А на моем этаже растерзанные соболезнования норовят замарать собой мраморный пол ванной комнаты. Водоворот поднимается, угрожая страшными бедствиями. В самый последний, отчаянный миг я падаю на колени. Засовываю руку в бурлящую ледяную воду. Сначала по локоть, затем по плечо – туда, в глубину унитаза, сквозь плотные залежи мокрой бумаги. Разобщенные, изувеченные слова любви перемешались между собой и образовали засор. Голыми пальцами копаю тоннель в мягкой массе чужих сантиментов.
Мисс Кэти внизу изрыгает остатки десерта: печенье «Пьер Ротшильд», мороженое со сливками «Луиза Гримальди», сироп «Тётка Джемима», торт «Леди Балтимор». Непереваренная колбаса «Джимми Дин» покидает измученный организм с особенно громкими, булькающими криками.
Водопровод старинного особняка содрогается, трубы с грохотом проталкивают через себя новое бремя из растерзанных секретов и выблеванной изысканной пищи.
Спустя один «срок хранения в Голливуде» в чаше унитаза начинается отлив.
Обрывки любви и сочувствия, проявлений чужой доброты погружаются вниз, постепенно исчезая из виду. Я вновь дёргаю за рычаг, и последние клочки утешения устремляются в канализационную трубу. Туалет проглатывает их скопом – кружевные, тиснёные, выпуклые, надушенные. Холодные струи уносят все до единого слова сострадания Джинн Грейн, велеречивую писанину её королевского высочества принцессы Маргарет Роз, Джона Гилберта, Лайнуса Полинга и Кристиана Барнарда. Поток изъявлений дружбы от знаменитостей вроде Брукса Аткинсона, Джорджа Арлисса или Джилл Эсмонд стремительно завихряется и уходит, уходит прочь; уровень воды понижается, и вот уже не осталось ни имени, ни клочка записки. Всё смыто.
В дамской комнате этажом ниже моя мисс Кэти откашливается и сплёвывает, силясь избавиться от привкуса желчи. Слышится шум воды, спускаемой в унитаз, а следом – шипение дезодоранта для воздуха.
Проходит отрезок времени, равный «одной нью-йоркской секунде», а я продолжаю стоять. Потом шагаю к раковине и невозмутимо намыливаю мокрые руки, тщательно вычищая из-под ногтей каждую буковку чьей-нибудь «скорби» или «трагедии», которая могла там застрять. Прелестный букет из розовых роз и жёлтых лилий уже начинает никнуть и вянуть; ещё бы – вода-то отравлена солью.
Акт I, сцена шестая
Далее нас ожидает целая серия кадров, изображающих, как в особняк доставляют цветы. Молодые люди в кричащих широкополых шляпах и полированных туфлях один за другим нажимают кнопку звонка у парадной двери. У кого-то под мышкой зажата длинная коробка с розами, пышно перевязанная бархатной лентой. Другой, словно маленького ребёнка, держит прозрачный кулёк – опять же с розами, свободной рукой протягивая перо и блокнот-планшет с квитанцией на подпись. Охапки лилий напоминают белоснежные волны. А служба доставки не унимается. Звонок то и дело поёт, возвещая о том, что прибыли жёлтые гладиолусы и пурпурные стрелиции. Трепетные розоватые ветви кизила в полном цвету. Продрогшие тепличные орхидеи мясного оттенка. Камелии. Каждый пришедший старается вытянуть шею и заглянуть за моё плечо, мечтая хотя бы мельком увидеть прославленную Кэтрин Кентон.
С запозданием на секунду за кадром звучит вопрос мисс Кэти:
– Кто там?
Именно в то мгновение, когда дверь успела захлопнуться.
И я всякий раз отвечаю:
– Торговец щётками.
– Свидетели Иеговы.
– Девочки-скауты продают печенье.
Снова «дин-дон», и в кадре – очередной букет жимолости. Ну, или длинные розовые копья цветущего имбиря.
В кадре – я. Окликаю мисс Кэти, интересуюсь, уж не ждёт ли она сегодня визита.
– Нет! – кричит издалека она. И уже тише прибавляет: – Нет, никого конкретно.
В кухне, в фойе и столовой воздух буквально качается от густого запаха призрачных цветов. Искрится от сладкого и тяжёлого аромата жасмина. Мы словно в заколдованном саду. Вокруг царит сочное благоухание незримых гардений. В воздухе резко тянет эвкалиптом, ветви которого я несу прямо к чёрному выходу. Урны для мусора в переулке уже заполнены: оттуда торчит наружу тёмно-красная бугенвиллея и побеги сладко пахнущей вербы.
Короткие планы-детали сменяют друг друга: карточка из букета, за ней вторая, следом – ещё и ещё. На каждой из них стоит имя Уэбстера Карлтона Уэстворда Третьего. А потом – запечатанный бумажный конверт, на котором написано от руки: «Передать мисс Кэтрин». Камера отъезжает; в кадре – я. Держу этот самый конверт над паром, идущим из чайника на плите. Декорации кухни мало чем отличаются от тех, что мы видели целую пёсью жизнь тому назад, когда мисс Кэти нацарапала на дверном окошке своё пронзённое сердце. Правда, на холодильнике теперь установлен переносной телевизор. На экране мерцают кадры: больница, хирургическое отделение, операционная. Актёр берётся руками, затянутыми в резиновые перчатки, за край белой маски и стягивает её с лица. Это Пако Эспозито, наш «отбывший». Седьмой и пока что последний мистер Кэтрин Кентон. У него седеют виски. Над верхней губой – усы цвета «перец с солью».
Чайник сердито шипит на плите, над голубым пауком огня. Из носика валит пар и клубится вокруг уголков белого конверта. Бумага темнеет от сырости. Наконец наклеенный клапан отходит, и я двумя пальцами достаю письмо.
По телевизору показывают, как Пако склоняется над операционным столом, проводит скальпелем по неподвижному телу (пациента сыграл Стивен Бойд, ассистента – Хоуп Лэнг, анестезиолога – Сьюзи Паркер) и, задержав свой взгляд на дежурной сиделке (Натали Вуд), восклицает:
– В жизни не видел ничего хуже! Надо срочно извлечь этот мозг!
На следующем канале целый батальон танцоров носится по киносъёмочному павильону, изображая битву при Энтитеме в мюзикле о Гражданской войне (продюсер – Фрэнк Пауэлл, режиссёр – Дэвид Уорк Гриффит). Армию конфедератов возглавляет, подпрыгивая и делая пируэты, популярный танцор Терренс Терри. В роли Таллулы Бэнкхед занята душераздирающе юная Джоан Лесли. Х. Б. Уорнер играет Джефферсона Дэвиса. Композитор – Макс Штайнер.
Из переулка за дверью доносится мужской голос:
– Тук-тук.
Окно затуманено паром. В кухне жарко и влажно, точно в сауне в апартаментах отеля «Сады Аллаха». Мой взмокший лоб облеплен гладкими волосами. «Словно корова языком облизала», – как выразилась бы Луиза Брукс.
С наружной стороны на окошко падает тень чьей-то головы.
– Кэтрин? – доносится из-за потного стекла, на котором мисс Кэти однажды вырезала своё пронзённое сердце. Постучав костяшками пальцев по двери, пришедший добавляет: – Это срочно.
Письмо развёрнуто. «Моя дражайшая Кэтрин, истинная любовь НЕ в дали, протяни лишь руку». Я прикладываю бумагу к мокрому стеклу, и она прочно приклеивается каплями пара, как обои на стену. Из переулка просачиваются солнечные лучи. Письмо делается прозрачным и загорается белым светом. Выведенные от руки слова оказываются посередине сердца, будто в рамочке. Я отпираю засов, снимаю цепочку, поворачиваю ручку и открываю дверь.
На пороге стоит мужчина с трепещущим на ветру блокнотом. На страницах нацарапаны имена в окружении стрелок; похоже на схему футбольной игры. Кое-что можно разобрать: «Ив Арден… Марлен Дитрих… Сидни Блэкмор…». В другой руке у мужчины – бумажный пакет. За его спиной – урны для мусора, откуда на мостовую просыпался дождь из роз и гардений. Зловонные дождевые лужи в переулке стали последним ложем для гладиолусов. Пахнет жимолостью и гнилыми мясными объедками. Бледный жасмин валяется вперемешку с охапками розовых камелий и кроваво-алых пионов.
– Срочно, скорее, где леди Кэтрин? – торопит мужчина, размахивая блокнотом так, что страницы хлопают, будто армейские флаги.
На некоторых из них имена расходятся лучиками от большого прямоугольника в центре: Лена Хорн, потом Уильям Уэллман, потом Эстер Уильямс.
– К ужину ожидается двадцать четыре человека, – произносит мужчина, – и у нас тут возник вопрос по поводу их размещения.
Загадочные диаграммы оказываются схемами рассадки гостей. Прямоугольники – столами. Имена – списком приглашённых.
– Можешь передать её высочеству, – прибавляет вошедший, – что я нарочно купил её любимые сладости… «Иорданский миндаль».
– Её высочество в этот раз не съест ни крошки, – отвечаю я.
Мужчина, чьё лицо частенько мелькает по телевизору, – это Терренс Терри. В прошлом – мистер Кэтрин Кентон, в прошлом – танцор по найму в «Лэски Студиос», в прошлом – любовник Монтгомери Клифта, в прошлом – юный сожитель Уильяма Хайнса, в прошлом – сексуальный извращенец. Наш пятый «отбывший» теперь мучается из-за того, что не представляет себе, кого усадить напротив Селесты Холм во время званого ужина.
– Дело очень серьёзное, – бубнит он. – Нужно чтобы Кэтрин ответила: Джек Бьюкенен в самом деле на дух не переносит Мэй Уитти?
– Тебя должны были арестовать ещё на свадьбе с мисс Кэти, – произношу я. – Закон же не позволяет гомосексуалистам заключать браки.
– Только друг с другом, – уточняет он и заходит в кухню.
Закрываю дверь, поворачиваю ручку, надеваю цепочку, запираю засов.
– Пусть так, но нельзя жениться исключительно ради лишней строки в резюме. – С этими словами я достаю из ящика стола чистый лист и прикладываю его к влажному окну, поверх любовной записки.
– Её высочеству необязательно приходить, – клянчит Терренс Терри. – Пусть только ответит, кого мне пристроить рядом с Джейн Уайман.
Я принимаюсь обводить голубыми чернилами просвечивающие сквозь бумагу буквы.
– Леди Кэтрин могла бы сказать, – не отвязывается Терренс, – Джон Агар – правша или левша? И какого пола Рин Тин Тин?
Продолжая отчитывать его и одновременно копировать письмо-оригинал на бумагу, я предлагаю начать всё заново. Рисуем пустой обеденный стол. Помещаем Розмари Клуни напротив Лекс Баркер. Усаживаем Дези Арназ по левую руку от Хейзел Корт. «Толстяк» Арбакл всегда плюётся во время беседы; пускай напротив сидит Билли Дав – она подслеповата и ничего не заметит. Отпихнув локтем Терри, лезу в его блокнот и собственными чернилами начинаю рисовать стрелки, соединяя Джин Харлоу, Лона Чейни-старшего и Дугласа Фэрбенкса-младшего. Подобно Кнуту Рокне в преддверии футбольного матча, обвожу в кружок имена Гилды Грэй и Хэтти Макдэниэл, а Джун Хэвер вычёркиваю.
– Значит, она опять голодает? – любопытствует Терренс Терри, наблюдая за моей работой. – Влюбилась, что ли?
А сам, развернув бумажный пакет, вынимает полную горсть миндаля в глазури пастельных тонов – розоватого, зеленоватого, голубого – и запускает их в рот.
– Голодовки – это полбеды, – отвечаю я. – Она ещё и гимнастикой занялась.
Иными словами, тренеры подсоединяют электрические провода к жалким остаткам мускулов на её теле и пропускают по ним разряды, имитируя участие жертвы-клиентки в скачках с препятствиями под ударами непрерывной грозы. Для фигуры – недурно, а вот причёска страдает.
После каждого подобного издевательства мисс Кэти велит побрить себе ноги, отбелить зубы и отодвинуть кутикулы.
– А кто её новое увлечение? – интересуется Терренс Терри с набитым ртом. – Ты его знаешь?
В это мгновение сбоку от электрической плиты звонит настенный телефон. Я поднимаю трубку, спрашиваю:
– Алло?
И жду.
Кто-то жмёт кнопку звонка у парадного входа.
Мужской голос произносит:
– Скажите, мисс Кэтрин Кентон дома?
– А кто на проводе? – осведомляюсь я.
Дверной звонок поёт ещё раз.
Из трубки доносится:
– Это домработница, Хэйзи? Меня зовут Уэбб Уэстворд. Мы встречались несколько дней назад, в мавзолее.
– Простите, – бросаю я. – Боюсь, вы ошиблись номером. Это государственная резервация для криминально беспечных дам. И прошу вас больше сюда не звонить.
Разговор окончен, трубка повешена.
– А ты всё та же, – тянет пятый «отбывший». – Грудью стоишь на защите Её величества.
Обводя в воздухе линии, петли и точки просачивающихся слов: «Дражайшая Кэтрин, истинная любовь НЕ в дали, протяни лишь руку», моё перо составляет из них на чистом листе: «Заеду в субботу, в восемь. Нагрянем куда-нибудь пропустить по стаканчику?»
Потом чуть ниже: «Надень что-нибудь шикарное».
И подпись: «Уэбстер Карлтон Уэстворд Третий».
Все мы в той или иной мере существуем в её тени. Как ни крутись, как ни бейся, в некрологе напишут лишь: «пожизненная компаньонка кинозвезды Кэтрин Кентон» или «пятый супруг легендарной актрисы Кэтрин Кентон…».
Набив руку, я безупречно копирую оригинал, только в конце – тем же почерком, под тем же наклоном – вывожу другую дату. Вместо субботы – пятницу. Складываю новое послание пополам, прячу в конверт с надписью «Передать мисс Кэтрин», облизываю клейкую полоску на клапане. Такое ощущение, словно язык попал в рот Уэбстеру. Отчётливый привкус кофе «Максвелл Хаус», аромат тонких сигар «Типарилло» и одеколона «Бэй рум». Неповторимый состав слюны. Рецепт его поцелуев.
Терренс Терри опускает бумажный пакет с миндалём на стол, переводит взгляд на экран телевизора и спрашивает с набитым ртом: