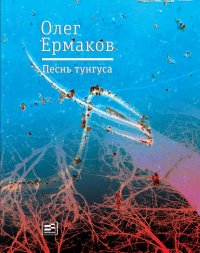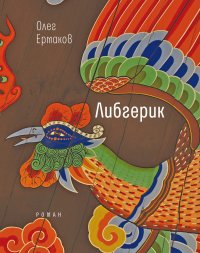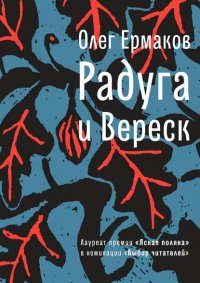
Читать онлайн Радуга и Вереск бесплатно
- Все книги автора: Олег Ермаков
И даже ошибки случаются, путешествуешь, например, И не знаешь, что ты уже на другой стороне.
Чеслав Милош
С этой надеждой бужу я родник вдохновенья.
Николай Гусовский. Песнь о зубре
О нимфы пермские, о гордые княгини…
Пауль Флеминг
– Да ты, пожалуй, боярин, и поляков называешь добрыми людьми.
М. Загоскин. Русские в 1612 году
– А особливо мне очень хочется посмотреть эту чудесную башню Веселуху, – прибавил Блюм.
Ф. А. фон Эттингер. Башня Веселуха
Информация от издательства
Ермаков, О. Н.
Радуга и Вереск: роман / Олег Николаевич Ермаков. – М.: Время, 2018. – (Самое время!)
ISBN 978-5-9691-1717-4
Этот город на востоке Речи Посполитой поляки называли замком. А русские – крепостью на западе своего царства. Здесь сходятся Восток и Запад. Весной 1632 года сюда приезжает молодой шляхтич Николаус Вржосек. А в феврале 2015 года – московский свадебный фотограф Павел Косточкин. Оба они с любопытством всматриваются в очертания замка-крепости. Что их ждет здесь? Обоих ждет любовь: одного – к внучке иконописца и травника, другого – к чужой невесте. И конечно, сражения и приключения на улочках Смоленска, в заснеженных полях и непролазных лесах. Две частные истории, переплетаясь, бросают яркие сполохи, высвечивающие уже историю не частную – историю страны. И легендарная летопись Радзивилла, созданная, скорее всего, в Смоленске и обретенная героями романа, дает возможность почувствовать дыхание еще более отдаленных времен, ведь недаром ее миниатюры называют окнами в мир Древней Руси. Ну а окнами в мир современности оказываются еще черно-белые фотографии Павла Косточкина[1]. Да и в них тоже проступают черты той незабвенной России.
© Олег Ермаков, 2018
© «Время», 2018
Часть первая
1. Предложение
«Я, Павел Косточкин, могу стать вашим свадебным фотографом, а также запечатлеть лучшие мгновения вашей жизни. Мой многолетний профессиональный опыт – гарантия качества, переплавляемого в ваши эмоции. Здесь вы можете просмотреть мои работы и при желании заказать:
а) креативную свадебную фотосъемку;
б) замечательную портретную историю;
в) интересный живой репортаж;
г) лав-стори фотосессию
При желании ваши фотографии могут превратиться в книгу, слайд-шоу, фотографию в раме и на холсте (натуральный лен).
В стоимость входит коррекция отснятого материала, детальная ретушь лучших фотографий. Оформленный DVD диск.
Стоимость: 3000 рублей в час.
Бонус: пять фотографий А4».
На это объявление однажды вечером и последовал звонок.
Паша пил пиво и смотрел закачанный фильм «Cocksucker Blues» о команде Мика Джаггера, фильм, вышедший еще в 1972 году, но запрещенный самими роллингами, застеснявшимися… Там был полный угар, во время турне по Штатам. И вот они устыдились и показали всем и режиссеру фигу. Но, как говорится, все тайное рано или поздно вылезет наружу. Фильм и выскочил в сеть, оказался в ней, как диковинная рыба… Роллинги и вправду похожи на каких-то океанских окуней с костистыми пастями. Заокеанских окуней. В семьдесят втором они были немного упитаннее, но и более колючие, посылали подальше всех подряд.
Паша не то чтобы любил их музыку, хотя некоторые вещи и вправду были хороши, блюзы, да и пресловутое «Удовлетворение» с какой-то отчаянной агрессией, но вот его родители от роллингов, как говорится, тащились, и сынок попросту впитал с молоком мамы этот рок-н-ролл. Хотя сейчас его больше интересовал автор фильма, Роберт Франк, всем известный фотограф из Штатов, прославившийся главным образом тем, что, как наш Прокудин-Горский, получил грант и проехал всю Америку, отсняв почти тридцать тысяч фото, из которых восемьдесят три и вошли в книгу. Да, о Прокудине-Горском: грант царя Николая Второго состоял главным образом в том, что фотографу было разрешено посещать различные места империи, в те времена фотографирование было занятием подозрительным. Хотя и вагон специальный ему выделили, маленький пароход, моторную лодку и автомобиль «Форд». И все-таки денежки мэтр тратил свои. Да вот такой книги, как Роберт Франк, не выпустил: «Русские»…
Спонтанные снимки Роберта Франка Паше нравились, в том числе и за «бессмысленный блюр, зерно, грязные экспозиции, пьяные горизонты и общую неуклюжесть», как писали критики тех времен. В них есть что-то от дзен. Пьяный блюз! Мгновенный бросок взгляда, да, глаза, как стрелы, молнии – впиваются, еще непонятно во что и зачем, и чуть позже происходит вспышка смысла, но часто такого смысла, который трудно высказать, перевести в слова. Говорят, его книга «Американцы» не всем понятна и сейчас. А это же хорошо, в этом залог живучести. Понятное перестает волновать.
То, что Керуак написал предисловие, вполне объяснимо, эти фотографии можно было бы взять иллюстрациями для его книги «На дороге». И даже иллюстрация для обложки готова: та фотография, где запечатлена белая полоса, уходящая по дороге в прореху пространства между домами. Правда, Косточкин так и не читал этот роман, о нем кто-то рассказывал, то ли Королек, то ли Вася Фуджи. Наверное, Вася, автостопщик.
А девочка, убегающая по улице, на которой стоит катафалк с открытой задней дверью? Одна эта фотография стоит целого рассказа.
Паше хотелось бы снять что-то в этом роде: убегающую невесту. Иногда лимузин, разукрашенный цветами, напоминает как раз катафалк. Ну по крайней мере однажды у него возникла именно такая ассоциация. Это была свадьба в Подмосковье, в Можайске. Жених – явный бандит с потухшими, какими-то мертвыми уже глазами. А невеста – хрупкая, живая, зеленоглазая девочка. Поначалу Паша онемел, увидев ее, вылитая старшеклассница, может здесь был какой-то подлог, неужели ей исполнилось восемнадцать? Девушка вся светилась, а Паше не хотелось бы, чтобы она шла под венец с этим быком, как та девица из девятнадцатого века, персонаж картины «Неравный брак», – как звали автора-то, художника? Нет, ей все было в кайф. Да уж, в воздухе стоял запах бешеных денег. После свадьбы они летели в Турцию или в Египет, жених предлагал фотографу сопровождать их, но Паша сослался на график и посоветовал нанять другого. Мертвые карие глаза жениха угнетающе действовали. Кто знает, вернешься ли из путешествия с таким-то мертвецом! Паша любил жизнь и ни разу не пробовал ее закончить каким-нибудь этаким способом, ну как Саня Муссолини, нажравшийся грибов и провалившийся под воду какого-то деревенского пруда, – он просто возомнил, что теперь может ходить по воде. Вода не выдержала.
Неизвестно, жив ли тот подмосковный бык и что стало с его зеленоглазой девочкой. Нет, будь Паша романистом типа Стива Кинга, он бы, естественно, поехал с ними. Это же классный материал, готовый фильм… то есть роман. Зеленоглазая девочка могла и влюбиться в него, свадебного фотографа.
Чем бы это обернулось?
Роберт Франк удивился бы: вон какие параллели разворачиваются в далекой России. Старик, знавший Керуака и прочих звезд прошлого века, жив и поныне, ему девяносто. И ему можно написать письмо! Прямо сейчас, из России.
Неужели?
Впрочем, живы и его герои, вот роллинги, – и еще какие живчики! Собирают стадионы, рубят свое «Удовлетворение». Когда в девяностых они прилетели в Москву, родители, конечно, поперлись на концерт, «Мосты в Вавилон», захватили и Пашку, тогда еще подростка. Он замерз, было холодно, над стадионом ползли тучи, ветер гнал ворон, разогреть публику пытались настоящие камикадзе – «Сплин», тогда еще не очень известные. Народ откупоривал пивные банки-бутылки и отмахивался от Васильева, но тот упорно пел, что выхода нет…
И тут через его песни наконец-то вывалились магические старикашки, «Лужники» заревели Вавилоном. Зрелище было космическое и комическое, Джаггер, спроецированный на экран, снял туфлю с ноги черной певицы и пососал ее палец. Она блаженно улыбалась. Пашку затошнило. Родители хлопали в ладоши и смеялись. Пашка не совсем понимал, чему тут радоваться. Вообще в ту пору ему нравилась одна настоящая рок-группа: Егорушкина «Гражданская оборона». А эти роллинги – старые пердуны, странная смесь гламура и блюза. Вот если бы выпустили дикого Летова на разогрев в «Лужниках» – вот это было бы да, взрыв мозга. Этот мост в Вавилон не выдержал бы, рухнул. Каждый из вас беспонтовый пирожок. Так Пашка потом друзьям и обрисовывал ситуацию: собрание беспонтовых пирожков. «А ты-то сам?» – попер Макс. «А я там был единственный белый солдат», – отвечал Пашка, вспоминая строчку из другой песни кумира. В общем, концерт он нес по кочкам, но на самом деле чувствовал, что была во всем том действе какая-то магическая сила, да. Возможно, тут сказывалось отношение родителей к роллингам. Все-таки они его заразили…
Ну а фильм Роберта Франка… – да, посреди фильма и раздался звонок.
– Алло? – Спокойный, пожалуй, и слегка унылый мужской голос. – Павел Косточкин, фотограф?
«Клиент».
– Я вас слушаю, – откликнулся Павел, останавливая фильм.
– Меня интересует свадебная съемка.
Павел покосился на толстый граненый стакан с пивом, дотронулся до него кончиками пальцев. Приятно, когда твою работу ценят.
На мониторе зависла картинка остановленного фильма, – в сущности, так и должна выглядеть работа фотографа – Роберта Франка. Сейчас это был момент перед выступлением, Джаггер в майке, с платком на шее, как с пионерским галстуком, поднял голову, сомкнув губы, и какой-то помощник, обрезанный на полголовы, начинал гримировать его, протирал ватой лоб, видны были только внимательное лицо этого гримера и его руки, а на переднем плане маячила голова еще какого-то деятеля, – кадр вполне в духе Франка.
Франку не приходилось заниматься свадебной съемкой. Что ж…
Он выслушал клиента и взялся за стакан, залпом осушил, щелкнул по «мыши» – и гример снова задвигал руками, а Джаггер – губами, с ним говорила та голова на переднем плане. Чем интересны фильмы, какие-то репортажи, истории, связанные со знаменитостями? Проблеском, иллюзией: вот и ты когда-нибудь сможешь.
Досмотрел фильм до конца. Короче, вы знаете, из какого… хм, хлама возникают… рождаются? появляются? происходят?.. стихи. Ну вот об этом весь фильм: гёрла с другом вгоняют иглу в вену, еще постоянно нюхают кокс, бухают, в самолете эрегированный член торчит, голые девицы скачут по салону, телевизор Кит с кем-то сбрасывают с балкона гостиничного номера. Полное раздолбайство, но концерты продолжаются до сих пор, и эти мумии живы, да еще заводят других – и не только таких же старичков. Обыкновенный парадокс. Черт его знает, как им это удается.
А Летова нет.
Роберт Франк жив, но успеха «Американцев» так и не смог повторить.
И Павел Косточкин жив, жив в своей Москве, в комнате тетки (а две другие занимают чужие люди, справа – маленькая девушка Лиля, слева – Артур; когда тетка умерла, родственники ее мужа слетелись на поминальный пир – делить трехкомнатную квартиру, хотя до этого едва с ними знались, и квартира была продана, только одну комнату и удалось отстоять). Да, он ушел от родителей на третьем курсе. Правда, и учебу тогда же бросил, какой из него педагог, к черту, и угодил в армию, служил под Самарой радистом, а все это время комната с портретом Янки и Летова и «балалайкой» «Панасоник» пусто ждала его. Из армии Пашка вернулся новым человеком. Там он подружился с одержимым фотографом Русланом Владимировым, тот и переформатировал аморфного Пашку. Первые уроки фотомастерства он получил в казарме. Первыми моделями были сослуживцы с торчащими ушами и угреватыми носами, прапорщик Левинсон, усач с накачанными бицепсами и угольными глазами. Ну и сам Руслан, сержант, невысокий, синеглазый, нос с горбинкой. Руслан был классный специалист, знавший все жилки и косточки радиостанции, а еще – светопись. Он-то и ввел Пашку в курс дела. Это был Пашкин настоящий курс молодого бойца. Как его зацепило? Просто увидел фотографию машины-радиостанции в поле на учениях, мачту с растяжками, черно-белую. Можно было подумать, что это времена покорения Дикого Запада. Машина стояла, как фургон, из которого выпрягли лошадей… Почему-то такая ассоциация возникла. Странно: обычная машина, поле, вечер. Но выглядело все каким-то преображенным. Как будто иное время вторглось в осточертевшие будни. А в чем фокус? Никаких таких ухищрений, подделок, никакого монтажа. Все как есть. А – другое пространство, другое время, иной дух всего. Хотя и тот же самый, повседневный.
В общем, в этот зазор Пашка и попал. Застрял в нем. Владимиров с фанатизмом принялся обучать его, считая это своим «дембельским аккордом» – так называлось какое-нибудь дело, ремонт оборудования или строительство, покраска полов или что-то еще, значительная работа перед увольнением, так сказать на память о себе. А Владимиров говорил Пашке, что он и есть его дембельский аккорд. Обучение продолжалось и после увольнения, дистанционное, в письмах. Руслан оставил ему свою старенькую камеру «Зенит 122», пленочную, с постоянно открывающейся задней крышкой, в затертом кожаном крепком футляре; на морозе пленку нельзя было перемотать; два первых и два последних кадра были с черной полосой, эту проблему Руслан устранил тем, что подклеил кусочек резины под катушку, но у Пашки она отлетела и процедура с подклейкой не получалась; еще у камеры чудил экспонометр, выдавал завышенные на два деления показания, так что полагаться надо было на интуицию, что у Руслана отлично выходило, у Пашки – хуже. Но все-таки фотоаппарат верно служил вместе с Пашкой и давал ему известную вольность, да, его все чаще просили не маршировать, как все, на плацу, например, а снимать марширующих или бегущих в противогазах солдат, старлей Сергеев увез его однажды в город фотографировать важное «мероприятие» – то, как он забирает из роддома красавицу жену с дочкой; через полгода Пашка фотографировал эту девочку, ползающую по ковру и забавляющуюся с лохматой собачкой, но, честно говоря, ему больше хотелось фотографировать зачаровывающие глаза офицерской жены, она с удовольствием позировала, – тогда он в полной мере распробовал вечный эротический вкус фотографии, точнее самого процесса фотографирования. Все женщины любят фотографироваться, и фотоаппарат создан для них. Если бы вовремя не влетел старлей Сергеев, кадыкастый, длиннорукий, как обезьяна, ефрейтор Косточкин потерял бы во время съемки… хм, невинность. Офицерская жена уже сомлела и вся была какая-то влажная, податливая, как сырая горячая глина, хотя Пашка до нее и не дотрагивался. И у самого него… уши пламенели… серебряные трубы пели…
Хотя какая, к черту, невинность в девятнадцать лет?
Косточкин ее потерял в тринадцать, пялясь на соседку утром в апреле. Она явно видела, что он наблюдает, и все выходила на балкон в коротеньком чем-то. Это была старшая сестра Макса, они жили наискосок этажом выше. И вот она развешивала какое-то белье, а скорее всего делала вид, строила из себя такую усердную прачку, забывшую впопыхах даже о нижнем белье. А к Пашке подступало что-то, то о чем он лишь догадывался, экстазы, как это называл Саня Муссолини, настоящий знаток и любитель классической музыки, это в нем как-то уживалось, «Коловрат» и Скрябин, Вагнер, ну как герой «Заводного апельсина» Кубрика, только это не подражание, а наследственное, говорил сам Саня, у него и отец и мать трудились в концертном зале Чайковского, отец – электриком, мать – уборщицей туалетов. У Скрябина и есть «Поэма экстаза». Когда Пашка первый раз ее послушал, финал, он понял, в чем дело. Правда, поэма ему так и не понравилась. Но да, что-то похожее он испытывал тогда, прячась среди коробок и белья на балконе и подсматривая за сестрой Макса. Это приходило к нему тринадцать раз, «экстазы», по числу лет. Позже такое никогда не повторилось, только в первый раз, тогда, солнечным безумным утром с чириканьем воробьев, дребезгом трамваев, и ведь было прохладно, может даже чуть подморозило ночью, и казалось, что льдинки и звенят вокруг, в воздухе, но черноволосая и темнолицая какая-то, синеглазая и худоватая сестра Макса порхала себе почти без одежки, и на него тринадцать раз накатывало, пока все не завершилось серебряными трубами.
Дзынь! – звякнуло горлышко бутылки о край стакана.
На самом деле Павлу Косточкину ни к чему было смотреть этот фильм. О Роберте Франке из него он не так много узнал. Ничего нового. Движущаяся фотография – это не фотография, а кино. Вот и все.
Лучше бы уже запустили в сети кино о Летове. Его вдова сняла.
Хотя и Летов уже не волнует Косточкина. Русский рок испустил дух. Англосаксы рулят, и ничего здесь не поделаешь. И вот он даже ленится пойти в кинотеатр на этот фильм «Здорово и вечно». Будут там гоготать и блевать. Почему-то у летовцев это принято. Ну в пятнадцать лет это еще куда ни шло, а если тебе уже вон сколько…
А сейчас он вообще завел африканцев, суггестивных ребят из Сахары, Мали, «Пустынных», сиречь «Tinariwen».
Туареги точно лучше русских папуасов, получивших в руки гитары, рок-то, как ни крути, оттуда и прикатился.
Под духоподъемные завывания «Пустынных» он и принялся соображать о звонке. Клиент, представившийся Вадимом, хотел справлять свадьбу не в Москве или Черногории, Болгарии, а на родине невесты, в Смоленске. Клиент был дотошный и предлагал Косточкину отправиться на рекогносцировку в Смоленск, стоимость трехдневной командировки войдет в гонорар.
В Смоленск так в Смоленск. Он снимал похороны в Костроме, клиент очень хороший гонорар посулил, и Косточкин не отказался, деньги ему всегда были нужны на аппаратуру, Никон Японский не дремлет и постоянно выпускает что-то новое, – это Руслан придумал так именовать известную корпорацию – будто какого-то святого или представителя церкви за рубежом.
Правду сказать, Косточкин предпочел бы – ну хотя бы Ригу или Вильнюс… Его знакомой фотографине Алисе вообще повезло поехать со свадьбой в Прагу. Еще одному парню удалось снимать «лав стори» в Берлине.
Ну, еще честнее сказать – ему вообще не хотелось снимать ни истории любви, ни тем паче свадьбы, а хотелось заниматься свободной фотографией, да куда денешься. Не Андреас Гурски, чай, с его почти пятимиллионнодолларовым «Рейном-2»… Черт, черт, подумал Косточкин, пять миллионов? Зрители стебутся над этим шедевром из зеленой травы, свинцовой воды, свинцового неба. Там только это и есть: асфальтовая дорога, дорога воды, трава и небо. Ну на самом деле… Пашка потер переносицу, пригубил еще пива… Щелкнул «мышью», поискал «Рейн-2», вот он. Разглядывал.
В это время снова зазвучали позывные «The Verve» Эшкрофта, «Bitter Sweet Symphony», сиречь горько-сладкая симфония, и он взял мобильный телефон. Звонила Маринка.
– Привет.
– Привет.
– Что делаешь?
– А ты?
– Раздумываю.
– О чем?
– О «Рейне».
– Хочется в Берлин?
– Не отказался бы. Но – поеду в провинцию. Заказан.
– Мм… Куда?
– В Смоленск. Ты там бывала? Нет? Я тоже. Наверняка очередной рассыпающийся город. – Он засмеялся, выслушав ее уточняющий вопрос. – Нет, рассыпающийся. Поехали? Клиент дает три дня рекогносцировки. Осмотр местности.
Маринка в Смоленск не хотела.
И Косточкин поехал один.
2. Часы на углу
В поезде он слушал «The Verve», читал «Digital Photo», последний выпуск, иногда отрывался от страниц и смотрел в окно на пасмурные унылые серые пейзажи и снова утыкался в журнальные листы… Вдруг поймал себя на мысли, что это все почему-то напоминает «Рейн-2» Гурски. Тягучий голос Ричарда Эшкрофта, чем-то похожий на голос Мика Джаггера – одна полоса, цвета морской волны, наверное. Леса и поля – белесо-зеленоватая. И «Digital Photo» – третья полоса, черно-белая, с радужными всплесками. Всплесков у Гурски нет. Но и тоски нет. А что-то вроде покоя. «Вечного покоя», хм. Так, что ли? Левитан? Или Шишкин-Саврасов? Еще «Вечный зов», какая-то советская сага. Павел Косточкин подумал, что не видел этот фильм, но – не одобряет. Достаточно одного названия.
Поезд увозил его все дальше, прямиком в вечную тоску какую-то.
Хотел бы он чудесным образом оказаться на родине этого Эшкрофта, явно нестабильного парня, то собирающего, то распускающего свою группу. Английская лихорадка. Три раза группа начинала и заканчивала свою одиссею в морях музыкальных. Косточкин сразу их полюбил. А лихорадка только добавляет перцу. Так и хочется крикнуть Эшкрофту: хватит уже дергаться, сочиняйте музыку и пишите песни вместе! Он собрал новую группу, но это не то.
…Попасть в Лондон и сфотографировать мосты, скверы, двухэтажные автобусы, Темзу, Ливерпуль, корабли, уходящие в туман – в сторону Франции.
Но поезд подъезжал к Смоленску. В окно Косточкин видел какие-то облезлые февральские склоны, голые мокрые деревья, монструозные строения возле дороги и деревянные одноэтажные дома поодаль, а весь город тонул в сумерках и тумане, – чем тебе не Лондон, а? Эшкрофт исполнял как раз «A northern soul» – «Северную душу». Это, мол, рассказ о Северной душе, которая хочет вернуться домой, о человеке, который возвращается по старому пути, повороты которого тебе не известны, Я хочу узнать, поймете ли вы меня, Человека, который родился в съемной комнате, Чья мать никогда не получала цветов, А отец его не одобрял?
Чисто-резкие звуки голоса, музыки были прозрачны. Северная душа. Но поезд приезжал не на север, а на запад.
Это запад русского пространства, ага.
Ну и каков он, думал Косточкин, без особого, впрочем, интереса, вяло. Ведь примерно ясно было, что его ждет. Пассажиры весело собирались, натягивали куртки, шапки, громко говорили. Это были, кажется, студенты. Косточкин закрывал журнал, снимал с полки сумку с вещами, наушники не вытаскивал, продолжая слушать тот же альбом «Северная душа». В первых альбомах всех групп есть то, что уходит потом, никакое мастерство это не заменит. Твое лицо такое бледное, Оно не видело света много дней, тогда, на холме…
Пел Эшкрофт.
Ты не нашла другого места, чтобы сказать: «Небеса мои, Я рада быть здесь…»
Косточкин кисло ухмыльнулся, проходя вместе с остальными к тамбуру. Сквозь музыку он слышал голоса, какие-то реплики, междометия, замирающий стук колес, вздохи поезда. Это была, в конечном итоге, какая-то композиция. Ну да, горько-сладкая симфония в Смоленске. Я никогда не изменюсь, Но я знаю, что-то есть, просто я не вижу, Я знаю, что-то есть, но я не вижу. Этот огонек между нами. Я знаю, он есть, но я его не вижу… My angel, my lover, my angel…
Он поселился в номере гостиницы на седьмом этаже, окно выходило на ров, от этого седьмой этаж казался десятым или пятнадцатым. Но это он понял утром, выглянув в окно. А вечером Косточкин сидел в номере, смотрел телевизор, в том числе и местный канал. Как обычно в подобных городах, и здесь появилось чувство «времени вспять». Местные часы явно отставали, правда трудно было установить, на сколько. Даже в речи и лицах ведущих и журналистов это сказывалось. Лица как часы. Где же острие времени? Для Смоленска – в Питере, в Москве. Но для самих москвичей – где-то еще. Россия – большая деревня. Косточкин мгновенно это понял, впервые поехав за границу, приземлившись в Барселоне. Хотя вроде бы с Москвой у барселонских улиц и много общего, а – что-то отсутствует. И это не только в Барселоне чувствуется, но и в заштатных городах, в том же Толедо. В Толедо была отличная фотогеничная погода: штормовое небо, сполохи солнца. Бегай и снимай «Вид Толедо перед грозой». Он и бегал, оставив Маринку в каком-то ресторанчике. Ее всегда утомляли эти фотосессии, да еще под дождем. Тут уж так: фотограф времени не замечает.
Настроение у Косточкина было под стать погоде – пасмурное, дурное. Свадьбы лучше справлять осенью. Так и поступали предки. Закрома полны, витамины бурлят в крови, можно отплясывать. А у клиента свадьба намечалась на восьмое марта. Его основательность раздражала: рекогносцировка с обязательным возвращением в Москву, чтобы впечатления отстоялись. Ведь на самом деле он мог бы заехать сюда просто за три дня до свадьбы, а так езди туда-сюда… Но – барин платит и обещает привезти сюда с комфортом и ветерком. Сразу после рекогносцировки Косточкину предстоит встретиться с ним и его невестой, обсудить места съемки.
Ладно, лучше не раздражаться, а расслабиться. Может, это все даже интересно?
Он позавтракал в ресторане, съел омлет, сыр с булочкой, напился крепкого кофе. Завтрак был вполне сносный. Неподалеку сидели женщина с дочкой, улыбались, переговариваясь, показывали крепкие белые зубы, сверкали глазами. Косточкин подумал, что мог бы снять двойной портрет, дочка отражалась в зрелой матери, мать – в девушке. Обнаженные они выглядели бы, наверное, не хуже. Косточкин на всякий случай слегка улыбнулся им, но они не обратили внимания, хотя заметили. Скорострельные мысли о сексе немного развлекли Косточкина.
Покончив с завтраком, он поднялся в номер, почистил зубы, причесал темно-русые, слегка волнистые волосы, глядя в забрызганное водой зеркало. Потеребил небольшой прыщик чуть ниже носа. Взял и сковырнул. Появилась кровь. Пришлось прикладывать бумажную салфетку, смоченную в одеколоне. Внезапно это действо показалось ему странным, что-то мгновенное мелькнуло, какая-то догадка – сразу обо всем, но ухватить ее не сумел, скользнула ящеркой в трещину.
Болячка подсохла, и он надел полупальто, кепку, которая не нравилась Маринке, да, якобы делала его похожим на какого-то дурацкого почтальона из итальянского почему-то фильма. Рассовал по карманам: мобильный, плейер с наушниками, портмоне, купленный в Барселоне, карту-схему Смоленска, повесил на плечо «шарманку» – сумку «Lowepro» с фотоаппаратом и всякими причиндалами и вышел.
В лифте подумал, что ящерка-то похожа на предчувствие.
Но уже на улице об этом забыл. Шел, прицельно озираясь, по смеси песка и крупитчатого снега. Да, дворники отсюда уже сбежали в свои солнечные аулы. Если вообще заглядывали. Но люди шли, как будто ничего не замечая, лица деловитые. Одеты как и москвичи.
По дороге проносились автомобили, раздолбанные маршрутные такси, явная примета Азии. В цивильном мире от них быстро отказались. Правда, Косточкин в настоящей Азии, той, что за Уралом и в иных пределах, не бывал. Но читал об этом. В Азию Косточкина совсем не тянуло. Азия сама прибывала каждый день в Москву. И если бы Косточкина попросили сделать клип, например, на есенинскую песенку, ну ту, что исполняет «Монгол Шуудан», где про дремотную золотую Азию, опочившую на куполах, то он пригласил бы на съемку сразу дворников, показал бы, как вихрятся осенние листья под их метлами.
И еще снял бы соседа по квартире, Артура, татарского менеджера на конфетной фабрике, курящего свой чилим и жгущего потом сахар, чтобы убить запах табака, – из щелей его комнаты всегда тянет этим жженым сахаром. Не самый плохой запах. От двери Лили разит косметикой «Орифлейм», которую она распространяет не только днем, но и ночами, возвращаясь зачастую под утро с увлеченными ценителями.
Ладно – вот самый западный город России. Ключ, щит, ворота.
Косточкин перешел дорогу, видя за деревьями кирпичную стену с башнями, и подумал, что, в общем, это очередная причуда клиента – отправить его на рекогносцировку. Косточкин вяло возражал, а клиент так же вяло, но твердо повторял, что любит во всем основательный подход. И разве не он платит? За поездку на рекогносцировку в город его невесты.
Алисе как-то пришлось снимать свадьбу заядлых туристов – в лесу. Чего только не бывает. Свадьба под водой. В воздухе – в свободном падении.
А на самом деле – был бы свет, а уж что вокруг, не так важно. Главное – лица, цветы там, какое-нибудь зеркало. И свет, свет. Алиса в погоне за светом действует, не мудрствуя, просто высветляет снимки. И клиентам нравится, особенно невестам.
А у меня, подумал Косточкин, немного другое мировоззрение. Скорее сумрачное. И хочется снимать в таком свинцовом духе Звягинцева. Свадьба в свинцовом свете? Это же оригинально.
У Звягинцева есть чувство пространства, как вкусно он показывает комнаты, дороги, склоны, иногда Косточкин ловил себя на мысли, что так бы и смотрел видовой фильм без сюжета. Хотя, наверное, это и надоело бы. Вот в «Елене» почему так все внушительно? Потому что всех ждет преступление. Это ожидание и наполняет смыслом внимательное движение камеры Кричмана. В его фильмах возникает ощущение… да, присутствия. Как будто нарочно дается это ощущение камеры, постороннего взгляда. Хотя обычно-то режиссеры добиваются растворения зрителя в происходящем. А у Звягинцева – чей-то взгляд. Сначала кажется, что это твой взгляд и есть. А потом вдруг становится понятно, что – какой-то иной.
Он приблизился к пруду перед крепостной стеной. Вода скрывалась под толстым слоем ноздреватого льда. Там-сям его пятнали какие-то кучки. Заметив прогуливающуюся неподалеку хозяйку с пего-белым боксером на поводке, Косточкин сообразил, что это такое. Хозяйка в красной куртке, перейдя по мосту через пруд, принялась вдруг проделывать у башни различные упражнения. Женщина энергично приседала, взмахивала руками, ногой, потом другой, а рядом сидел, высунув розовый язык, пес с вислыми ушами. Косточкин инстинктивно вынул камеру, мгновенно навел объектив на спортсменку и пса и сделал несколько кадров, впрочем, уже понимая, что ничего особенного не получится. Сейчас трудно удивить кого-то. Вот если бы эта женщина была без штанов или на поводке у нее сидел голый мужик, какой-нибудь местный художник а-ля… Кулик? Кажется, так звали того художника, что ходил голым на поводке в Германии, срал на выставке… или срал уже другой? Кто-то из них точно срал. Подростковым авангардизмом грешил и Летов.
А пес вдруг навострил уши, точнее – глаза вытаращил в сторону молодого мужчины в черном полупальто и темно-синей кепке, как у почтальона из итальянского фильма, с сумкой на боку, хотя тот и был далеко. Вслед за ним забеспокоилась и женщина, начала оглядываться. Но Косточкин уже ловко спрятал камеру. Эту науку он освоил.
Кто-то из мэтров, Капа или Брессон, говорил, что если снимок недостаточно хорош, значит, ты побоялся подойти ближе. Ну сейчас, в эпоху телезумов, объективов, пожирающих пространство, как баллистические ракеты, это звучит архаично. Лучше сказать, что ты был недостаточно ловок.
Иногда Косточкин чувствовал себя карманником.
За башней в туманную высь уходила мощная телевышка, и Косточкин тут же подумал, что снимки этих мэтров похожи на работы современных так же, как эта старая основательная башня на вышку. Он колебался, доставать ли снова камеру, чтобы запечатлеть эти две башни, можно было сделать вертикальный кадр. Но, в общем, банальное противопоставление нового и старого. И ни Роберта Капы, ни Картье-Брессона здесь не видно.
Косточкина охватила настоящая тоска, захотелось все тут же бросить и уехать в Москву, к жженому сахару татарского короля Артура. Но он только ссутулился, вобрал голову в плечи и пошел дальше. За стеной на высоких ледяных голых тополях граяли вороны, как в какой-нибудь сказке про древнерусского витязя, и Косточкин помыслил, увидев камень на склоне между оборвавшейся стеной и следующей башней: налево пойдешь – ничего не найдешь, направо – все потеряешь. И, внезапно приободрившись, пошел прямо через этот земляной вал. Благо и тропинка там была, даже асфальтированная. На камне было написано, что это историческое место.
Наверху его вновь заполонило чувство нелепости. «Ну и что здесь присматривать, а?» – даже проговорил он вслух. И эта фраза только добавила нелепости происходящему.
Но на самом деле ничего и не происходило. Приехал москвич… с фотографической миссией, как любят писать в заумных статьях о фотографических делах западные интеллектуалы, Зонтаг или Руйе. Миссия проста: глазеть. А в разговоре с клиентом и подружками именовать это занятие рекогносцировкой.
Можно было и не ездить. Посмотреть на «Ютубе» сюжеты, какие-то фотографии, да и ладно. И клиент ничего не заподозрил бы. И его желание исполнено, и деньги заработаны.
Тут Косточкин осознал в полной мере бессмысленность своего вояжа и прихоти клиента.
Ох-хо-хо. Он по-стариковски огляделся, щурясь. Возле башни был виден памятник. Какой-то полусидящий человек, местный герой. Или не местный. Почти в каждом городе даже сейчас можно обнаружить вселенского Ленина. Но на Ленина этот был не похож, даже издалека Косточкин видел его густую бронзовую шевелюру. Тут же мелькнула дурацкая мысль об Эшкрофте, Ленноне. Лучше бы они ставили памятники музыкантам. Эшкрофту рано, а Леннону в самый раз.
Косточкин был аполитичен.
Что дальше?
К памятнику он не стал спускаться, а перешел вал и оказался по ту сторону.
«Не реальности», – возразил он сам себе.
«А видимого пространства», – добавил он. И, ухмыляясь, продолжил свой познавательный путь.
…Что там было?
Все то же, в сущности. Косточкин как будто отчитывался перед друзьями и подружками в своем блоге, который он давно забросил, лень было вести, ждать каких-то откликов, да и самому лезть с комментариями к известным фотографам. Во всем этом была какая-то симуляция. А может, и нет. Но что-то противилось в Косточкине этой практике. Какое-то бесконечное ток-шоу, то есть – бла-бла-бла. Всемирная говорильня. Оригинально в ней не участвовать. Хотя, надо признать, благодаря всему этому можно многое узнать. Среди говорунов попадаются настоящие мастера того или иного дела, фотографы, издатели. Время от времени он размещал там фотографии без подписей, и все. На отклики не реагировал. Если отклик был Алисин, то просто звонил ей, чтобы немного поболтать. Обнаженность соцсетей тоже кажется странной, как ни крути. Какой-то «Дом» Собчак. И вот кстати, наверное, сейчас бы Собчак вымарала начисто из своей истории «Дом», ей ведь хочется изо всех сил стать политически весомой журналисткой. А оппоненты чуть что – бьют под дых, они это любят, и ниже. Так что соцсети – действительно сети, ловушка.
Косточкин обнаружил еще один валун с табличкой и чуть не рассмеялся. Да здесь всюду судьбоносные перекрестки!
Уже пройдя дальше, в парк, он подумал, что вообще-то как раз эти камни и можно будет как-то обыграть в будущей фотосессии: у одного валуна пускай невеста гадает, куда ей идти, и по одну сторону будет виден какой-то мужик, а по другую – сам жених. Ну а возле другого камня будет уже раздумывать жених… На самом деле действительно странно все это бывает – выбор того или иного человека. Почему, например, мама влюбилась в папу? Ну да, оба туристы, поют там у костра одни и те же песенки, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, но мало ли в одной только Москве этих туристов? Или их отношения с Мариной. Отношения, которые вот-вот должны чем-то разрешиться. Ну чем? Марине двадцать семь, и она хочет замуж, ее подруги или замужем, или разведены и мучаются в одиночку с киндер-сюрпризами. В основном – разведены. Но Марина верит, что у них с Косточкиным будет по-другому. Они поселятся в квартире ее бабушки напротив Белорусского вокзала, в старой крепкой сталинке, отец Марины, Георгий Максимович, сотрудник Газпрома, финансист, уже отделывает квартиру. Косточкин там бывал, и ему понравились огромные окна, вид на вокзал, хотя Маринка беспокоится насчет шума, но пластиковые окна, кондиционеры решат проблему, говорит отец. И намекает, что это вообще-то лишь начало, старт, а там видно будет, в Москве много пустующего жилья. А эту квартиру можно будет продать. Пожить немного – и продать. Ну короче, типа проверки.
Алиса просит пригласить ее на их свадьбу фотографом. Но Косточкин, пожалуй, сам попробует все снять, так сказать, изнутри. Интересный эксперимент. Для чего, недоумевает Алиса, ты же уйдешь фотографом в сферу ее папаши, нет? Георгий Максимович давно приглашает его, мол, свадебная фотография не очень серьезное дело. Но Косточкин отнекивается, не хочет до поры связывать себе… руки. Конечно, там будут другие деньги, а значит, и другие возможности, другие камеры. Все так.
Так что – не для своей ли свадьбы он высматривает натуру? Нет, подумал Косточкин, двигаясь уже по аллее старого парка, к чему забираться в эту провинцию. Провинция всюду одинакова. То же самое найдешь в пределах МКАД.
Старый ноздреватый снег под морщинистыми деревьями был загажен воронами. Правда сейчас, утром, воронье куда-то улетело. Но похоже, что здесь они любят тусоваться. Косточкин приблизился к памятнику, прочитал, что это памятник композитору, Михаилу Глинке. Вскоре включилась и запись, зазвучала усиленная громкоговорителем музыка. Как из консервной банки. Видимо, молодоженов придется фотографировать и здесь. Снег с вороньими кляксами, наверное, растает… Что ж, можно будет взять ракурс пониже, присесть, и если невеста будет в пышном платье, то сюжет выйдет неплохим: великий композитор дирижирует ее балом.
Смешно, конечно, будет, если в этот момент вдруг налетят бомбовозы-вороны, тут же подумал он, услыхав вороний галдеж. Повертел головой, увидел небольшую стаю, пролетавшую над крышами. Что ж, пускай жених, коли он платежеспособен, закажет стрелков с пугачами.
Недавно Косточкину попалась информация о том, что лондонская туристическая фирма всего лишь за сто пятьдесят тысяч долларов гарантирует свадьбе чистое небо с солнцем – правда, не в самом Лондоне, а во Франции. Наверное, иодид серебра бессилен против лондонского смога.
Отойдя подальше, он сфотографировал Глинку в сюртуке, запачканном воронами, – что-то в этом было.
Щелкнув, Косточкин хохотнул. Просто ему представилась горько-сладкая симфония Эшкрофта и сам певец вместо Михаила Ивановича – в малиновом пиджаке со стоячим воротничком и в такого же цвета брючках, в этом прикиде он снимался в клипе «Rather Be», что можно перевести как «Довольно быть» или «Лучше здесь». То есть быть или не быть? Кстати, несмотря на малиновый костюм, вид у Эшкрофта там вполне себе гамлетовский, он бродит среди сосен, окутанных туманом, то ли на берегу моря, то ли в каком-то замковом парке, с крестиком на груди, раскидывает руки, взывает как будто к небесам. «Потому что я бы предпочел быть здесь, чем где-нибудь еще. Неужели где-то лучше, чем здесь?»
И тут же послышались такты симфонии Эшкрофта. Звонила Алиса.
– Привет, Костя! Ты где?
Она звала его так, переиначивая фамилию. Эта кличка еще школьных времен. Но с Алисой он учился вместе не в школе, а в институте, откуда вовремя слинял в армию. Просто она как-то додумалась сама.
– В Смоленске, – ответил Косточкин, озираясь.
– Я так почему-то и подумала, – сказала Алиса хрипловато.
– Что я в Смоленске? – спросил Косточкин без особого удивления; за Алисой это водилось, она многое интуитивно угадывала в поворотах жизни Косточкина.
– Нет. Но что ты где-то не в Москве. Свадьба?
Он объяснил ей.
– Здорово, – откликнулась она. – Сразу врубаешься, что клиент при деньгах. А у меня затык, народ не желает жениться. Или фоткаться. Хотела с тобой пивка глотнуть где-нибудь, поскулить о судьбе. Да, видать, не судьба. – Она сипло рассмеялась.
Он представил ее узкие зеленоватые глаза, отчетливые скулы, восходящие струйки сигаретного дыма, верхняя часть лица у Алисы напоминала лицо Джона Траволты, ну то есть временами мелькало какое-то выражение, что-то сходное, неуловимое, тоскливое. Или, скорее, такая же верхняя часть лица была у Патрисии Каас.
– Не получится, – сказал он.
– Возьму и приеду в Смоленск! – выпалила она.
– Здесь пасмурно. Грязно. Галки какают.
– С зонтиком.
– Ну если только с зонтиком. – Он обошел лужу, привычно отметив отражение черного фонаря в ней. – Скоро буду и куда-нибудь сходим. Думаю, что вечером и уеду. Делать здесь нечего.
– Ловлю на слове, Костя!
Косточкин спрятал мобильный, поймал каменный взгляд Глинки, замершего с дирижерской палочкой, и оставил позади парк, обезображенный, конечно, каким-то помпезным кафе со скульптурами веселых коровок и разноцветных индюков, или павлинов, или пингвинов, барашков и поросят среди люминесцирующих изумрудом мертвых деревьев.
«Любит народ наш всякое говно», – тихо пропел он из старого Летова и направился дальше.
Вскоре Косточкин вышел на шумную узкую улицу. Транспорт всех марок и видов валил по ней вниз куда-то. Косточкин поднял голову и узрел над собой старые большие часы, нависающие на черном кронштейне. Наверное, как-то можно будет обыграть эти часы, решил он. Например, жених с цветами ждет под ними невесту. Внизу среди домов, над крышами маячили купола собора. Косточкину и удобно было шагать вниз. Он оглянулся на часы, нависающие над улицей на углу старого дома. Стрелки вроде бы показывали то же самое – московское – время. Но на самом деле все было не так, в Москве время шло быстрее, быстрее.
Этим часам лучше всего подошла бы тягучая расплавленная форма Дали.
Только вчера Косточкин приехал, а казалось, что бродит тут вечность.
3. Дом на горе
На соборном дворе он увидел другие часы, на колокольне. Часы стояли. К стене была прислонена металлическая лестница, поддерживаемая двумя мужчинами, а наверху у стрелок копошился еще один человек, на нем не было шапки, и ветер раздувал светлые волосы. Косточкин достал фотоаппарат, и к нему сразу подошел улыбающийся губастый парень в большой вязаной шапке, темно-синей куртке. Косточкин напрягся, угадав, что сейчас тот будет просить денег.
– Можно спросить? – протяжно проговорил парень, не переставая улыбаться.
Косточкин неохотно кивнул. Подашь нищему – противно, не подашь – то же.
– А это вы для газеты снимаете? Я понимаю.
– Нет, так.
– Для себя? На память? – подхватил парень еще радостнее. – Я понимаю!
Косточкин цепко всмотрелся в его лицо.
– Да, на память.
– Я понимаю! – воскликнул парень.
Косточкин немного растерялся, не зная, что делать дальше – оборвать разговор и уйти или что-то еще сказать. Парень стоял рядом и с улыбкой глядел на него. Его карие глаза выражали удовольствие от этого разговора. Косточкин повел глазами на женщину, входящую в собор, она с трудом открывала тяжелую дверь.
– А там, – сказал парень, – на память нельзя.
Косточкин быстро взглянул на него и спросил:
– И для газеты?
И парень затряс головой, брызжа смехом.
– Я понимаю! – крикнул он сквозь хохот.
На них посмотрели мужчины, поддерживающие лестницу.
– Ладно, мне пора, – все-таки решил сказать напоследок Косточкин, уже почти слыша в ответ веселое: «Я понимаю!» Но парень лишь закивал, махнул рукой, как бы приглашая его в собор. «И денег не попросил», – удивился Косточкин, направляясь к внушительному каменному крыльцу. Перед носом пролетели два пестрых голубя, Косточкин отшатнулся.
В соборе царил полумрак… – так бы надо было написать.
А в ушах все звучал голос того парня: «Я понимаю!»
Косточкин задирал голову, разглядывая иконостас, грубоватый, почти аляповатый. Темные картины. Ну то есть иконы. Он не был большим любителем этого сусального погребально-сумрачного мира. Хотя пространство храмов давало неплохую возможность показать игру света и тени. Он не знал, каковы предпочтения его клиентов. Может, они вообще кришнаиты или какие-нибудь родноверцы, а то и сатанисты. Алиса в родноверскую тусовку вхожа, прыгает через костер. Ну не прыгает, но любит с ними ездить в лес, снимать хороводы в косоворотках, всякую там бутафорию, бороды-венки-веники. Правда, один снимок ей и вправду удался: голая девка разжигает костер, сидит и дует изо всех сил. Символично, конечно. Только – какие страсти она раздувает? Ну, в любом случае это лучше, честнее, живее, чем рясы в иномарках с рассуждениями о простоте, бедности, праведности.
Да, подумал он, кажется, нынешний патриарх начинал здесь. Или не здесь?
В соборе горели свечи. Людей было очень мало. Внезапно Косточкин вспомнил парня в синей куртке, невольно обернулся и увидел его, стоящего у входной тяжкой двери и глядящего с улыбкой. «Я понимаю». Косточкин отвернулся.
Забраться бы туда, на верхотуру, под купола, где видны какие-то перила, и оттуда снимать свадьбу – маленьких жениха и невесту в белом. Один кадр, как они смотрят вверх. И достаточно. Если клиенты не буддийской веры, то можно предложить им такой вариант. Косточкин потянулся к сумке за фотоаппаратом, но вспомнил предостережение парня в синей куртке.
Он еще немного побродил по собору, безо всякого интереса разглядывая иконы с непонятными сюжетами, столкнулся с какой-то старой каргой, ковыляющей напролом в большом зеленом берете, мешковатом пальто, старуха метнула на него мутный взгляд, полный желчной злобы, – и Косточкин вовремя отпрянул к стене.
«Нет, – думал он, – сюда я не поведу молодых, да ну, к черту!»
У кришнаитов веселее, вспомнил он поход на яркое сборище вместе с Маринкой и ее подружкой Ленкой. Все-таки индусы – солнечные люди и религию придумали солнечную. У них много цветов, разноцветных одежд, бус, браслетов. Они поют, играют на всяких дудочках, хлопают в ладоши, смеются, кивают друг другу. В общем, такое ли большое значение имеет повод для этого? Вот для того, чтобы улыбаться друг другу?
В сумрачном соборе в Смоленске никто не улыбался. И все здесь нагоняло тоску. Так что впору было усомниться в предпочтениях, ну то есть в том, что Косточкину действительно по душе свинцовая камера Кричмана. Возможно, ему только хотелось быть приверженцем такого света. В противовес Алисе.
Нет, яркие краски и он любил. Зачем же наводить тоску на мир, передвигать в минус опцию графического редактора «насыщенность»? Ну или нагнетать мрак?
Косточкин направился к выходу. А возле тяжелой двери все стоял тот парень, но Косточкин прошел мимо, не взглянув на него. И все-таки почувствовал… Что почувствовал? Ну да, почувствовал его реплику, она как будто висела в воздухе: «Я понимаю».
Светловолосый мастер уже был внизу.
– С вас фото, – сказал он Косточкину, – ребята видели.
«Начинаются уездные страсти», – подумал Косточкин и привычно монотонно ответил, что вообще-то фотографировал часы.
– Так я не часовая скульптура, – ответил мастер, смахивая капли мартовской измороси с бровей и синё глядя на Косточкина.
Косточкину не хотелось продолжать спор, но он все-таки решил поставить мастера на место и заметил, что фотографировал его при исполнении служебных обязанностей, а не как частное лицо.
– Журналист? – тут же спросил мастер.
– Нет, я имею в виду вас, – сказал Косточкин.
– Слыхали? – спросил мастер, оборачиваясь к двум подручным.
Мужчины ухмылялись.
– Могу вот что ответить, – произнес мастер, – это для меня больше, чем служба.
Он с любопытством посмотрел на Косточкина. Тот еще колебался, не оставить ли просто визитку, где указан е-мейл, пусть этот мужичок напишет, и он ему вышлет файл, да и все. Но не утерпел и парировал:
– Для меня тоже.
А после этого оставлять визитку уже было бы нелогично, и, считая разговор оконченным, Косточкин направился прочь. Он увидел, что можно пройти куда-то дальше – мимо собора, к арке в белой стене, которой собор был обнесен. Сзади послышался топот. Косточкин, наверное, побледнел, себя он не видел. Побледнел, удивился: неужто прямо тут, на соборном дворе, средь бела дня начнется потасовка? Но мимо пробежал какой-то мальчишка с ранцем за спиной, распугал стайку голубей, нырнул в арку и, швырнув ранец на снег, оседлал его, оттолкнулся и тут же исчез. Значит, там склон горы. Подходя к арке, Косточкин уловил аромат свежего хлеба, повернул голову и увидел здесь же, на соборном дворе, небольшую пекарню.
Мелькнула мысль о ловком пиар-ходе. Как там они говорят: хлеб дай днесь. Нате. Да, кажется, там неподалеку от колокольни, возле сторожки ларек. Нате сразу, не отходя, как говорится, от кассы.
За аркой была большая смотровая площадка. Дорога круто уходила вниз. Только здесь стало ясно, что собор на горе. Косточкин лениво осматривался. Кажется, внизу сходились овраги. Все было застроено деревянными, и кирпичными, и обшитыми пластиком домами. Из некоторых труб шел настоящий дым, значит, газ, наверное, не ко всем домам подвели. Чернели уныло сады. Эту чашу какого-то древесно-кирпичного хаоса – склоны были застроены беспорядочно – окаймляла с одной стороны крепостная стена с башнями. А слева взгляд свободно уходил по долине, виден был мост над рекой, не скованной льдом. Днепр. Про крепость Косточкин читал небольшую справку, готовясь к поездке. Ее построил Годунов для защиты от поляков. То есть не Годунов, а его мастер… Косточкин запамятовал фамилию, даже скорее какую-то кличку мастера, строившего и крепость Белого города в Москве – по Бульварному кольцу. В справочнике так и пишут, что представление о крепости Белого города можно получить, обратившись к смоленской крепости.
Мальчишка вернулся к арке и еще раз съехал на бедном ранце по ледяной корке.
В оврагах брехали собаки.
Через ров напротив собора тускло краснели стены еще какой-то церкви. Ну возможно, здесь и можно будет пройтись невесте с женихом – над этой хаотичной чашей, по краю. При хорошем освещении фигуры должны выглядеть рельефно.
Внезапно Косточкин ощутил ток какого-то восходящего чувства. Вдруг ему стало необъяснимо хорошо. Может, мальчишка нагнал эту беспечную радость, что ли. Или это было чувство довольства. Вот, от того, что он житель какого-то неведомого Белого города. Ведь приятно знать, что тебя эта вся тщета провинциальная не касается. Эти диковинные дворы с деревянными и железными, бетонными заборами – не твои, и нет тебе дела до них, по большому счету. И остается только иронично удивляться прихоти клиента. На кой черт ему все это надо? В марте тут будет вообще грязь непролазная, замарают свои штиблеты и белоснежный шлейф. Или им этого и не хватает? Пресытились? Перчика захотелось? Родименькой грязнотцы?
Нет, вид этот был все-таки каким-то варварским, окончательно решил Косточкин. Приходить сюда не стоит.
Он повернулся и направился было назад, к арке, но приостановился, подумав о том парне в синей куртке, о часовом мастере, – и пошел в обратную сторону, вниз по склону, благо справа, возле чудовищной ограды в виде сплошных листов железа, выкрашенных в жуткий зеленый шизофренический цвет, оказались ступеньки и поручни.
Из проулка пахнуло чем-то съедобным. На столбе он увидел указатель, где-то здесь располагалась социальная столовая. Почувствовал легкий голод. От чашки кофе и бутерброда он не отказался бы. Но не в столовке для бедных? Хотя это и было бы прикольно, потом можно рассказывать друзьям.
И все же он не свернул туда ради друзей. Вообще оставалось еще пройтись вдоль того участка крепостной стены, что он увидел с холма, да и отчаливать домой. Косточкин надеялся вечером и уехать.
Спускаться дальше было довольно неудобно, ни ступенек, ни поручней. Того и гляди… – и Косточкин действительно не удержался и шлепнулся на задницу. Крепко ударился копчиком об лед. Встал, потирая ушибленное место, отрясая какие-то опилки, льдинки. Хорошо, хоть сумку сразу задрал вверх, это инстинкт фотографа. Лучше разбить жопу, чем объектив. Но – черт бы побрал местных дворников!.. Если они тут вообще водятся.
Опасаясь снова упасть на спуске, Косточкин повернул влево, на улочку, уходящую вбок, пошел вокруг горы, слегка еще морщась от боли. Здесь надо ходить в ботинках с шипами. Странно, что городские власти, мэр там и губернатор, не задумываются о туристах, в других краях это золотая жила.
Он покосился на забор, состоящий из какой-то немыслимой рванины: железные прутья, спинки от кроватей, проволока, фанера, металлические листы. Вот это дизайн!.. И по наитию он потянулся к застежке на сумке, вынул фотоаппарат. Эту смесь ржавчины, дерева надо будет потом показать ребятам. Навел объектив, как жерло пушки, – огонь! Тихий щелчок. А на самом-то деле эта пасть ненасытная сожрала вид целиком, кусок этого февральского пространства с деревьями, корявым железом, домом. И какая-то часть жизни самого Косточкина ушла туда. Он всегда чувствовал это, испытывая необъяснимый кайф. Как осьминог, он разбрасывал щупальца, кадр отсекал их, и они начинали какую-то свою жизнь. В каждом кадре и была сокрыта его жизнь тоже. Он щелкнул еще раз, вгоняя свою плоть в пространство на горе, и услышал то ли тихий оклик, то ли всхлип, обернулся. У колонки стояла женщина в затертом, ветхом зеленоватом пальтишке, в вязаной темной шапке, с бледным лицом. Она набирала воду и ничего не говорила, но когда Косточкин, спрятав фотоаппарат, поравнялся с ней, спросила:
– Что же вы это фотографируете?
Голос у нее был грудной, странно задушевный, но звучал в нем упрек.
– Что? – спросил он с деланным недоумением и начинающимся раздражением. Сколько уже у него было всяких стычек по этому поводу.
– Ну эту экзотику, – сказала она.
Он взглянул ей в глаза, то ли синеватые, то ли серые, и хмыкнул.
– Да не сказал бы.
– Что? – переспросила женщина, ставя под струю второе ведро.
– А что это такая экзотика, – ответил Косточкин, жестом указывая на остальные дома.
– Но вы туда посмотрите, – возразила она, кивая в другую сторону.
Косточкин посмотрел. Там стоял двухэтажный коттедж с башенками, железными флюгерами в виде чертей… нет, это были черные кошки с выгнутыми хвостами.
– И вон туда, – добавила она, указывая на другой коттедж.
Вообще коттеджей здесь было достаточно. Но и жалких деревянных домишек хватало.
– Я уже прям как буриданов осел, – решил немного блеснуть эрудицией Косточкин. – И то экзотика, и это экзотика.
Женщина покачала головой.
– Вы-то выбор свой сделали. И от голода не умрете.
«Вообще-то ослом я себя всегда и чувствовал, – подумал Косточкин, – всю жизнь, и занятие мое – ослиное». Его предположение о том, что женщина найдется с ответом, оказалось верным.
Косточкин хотел пройти дальше, не продолжая разговора, но вдруг повернулся к женщине, уже набравшей полные ведра воды и двинувшейся в том же направлении, что и он, – и сказал:
– Давайте помогу.
Женщина взглянула на него с легкой и недоверчивой улыбкой. У нее было увядшее лицо, и эта улыбка бросила мгновенные молодые блики, Косточкин сразу отметил, у него был наметанный взгляд. И уже пожалел, что предложил донести ведра, ведь если попросит потом разрешения сфотографировать ее, то это будет выглядеть, как уловка. То есть то, что помог ей. Но делать нечего.
– Я привычная, – возразила женщина.
– А для меня это экзотика, – тут же ввернул Косточкин.
– Хорошо, – откликнулась она и передала ему ведро.
Косточкин попросил и второе. И, перехватывая холодную мокрую дужку, прикоснулся к ее слабо теплой руке.
– Вы, наверное, приезжий? – спросила она.
– Угадали.
– Дайте и дальше отгадаю: из Ленинграда? Ох, из Санкт-Петербурга?
Косточкин удивленно покосился на нее.
– Нет.
– И не из Архангельска?
– А почему именно эти города? – спросил он. – Я из Москвы вообще-то.
Женщина тихо заулыбалась и ничего не ответила. Они шли мимо заборов, из-за которых бешено лаяли собаки.
– Как в деревне, да? – спросила она. – Или в средневековом городе. А так и есть.
– Что? – переспросил Косточкин.
– Наша гора – средневековая.
– Я бы сказал, примерно начало прошлого века.
– Почему?
– А вот как раз тогда нельзя было где ни попадя фотографировать. Прокудину-Горскому сам царь дал разрешение. Прокудин-Горский, фотограф. Он и ваш Смоленск снимал, кажется.
– Так вы по его стопам к нам?
– Можно и так сказать.
Женщина остановилась у калитки и поблагодарила его. Косточкин опустил ведра на ноздреватую снежную корку.
– Но сейчас-то фотографируют все без разрешений?
– Да, – согласился он, глядя на нее исподлобья и соображая, как бы попросить ее о снимке. – Но всеобщая, так сказать, настороженность – зашкаливает.
– Шпиономания в крови! – ответила она, и по ее лицу в морщинах вновь заскользили чудесные блики.
В этой женщине была какая-то странная стать. С той стороны калитки шумно дышал рослый кудлатый пес. Он не лаял, а только смотрел горящими глазами на Косточкина, и тому было не по себе. Двор за изгородью был довольно непригляден, захламлен какими-то деревянными коробками, ржавыми железками непонятного назначения, возле сарая из какого-то древнего темного кирпича высился остов «козла» без колес, под яблонями стоял линялый диван, обтянутый потрескавшимся черным дерматином или чем-то вроде этого. К стволу кривой раскидистой косматой яблони или груши был прислонен совершенно проржавевший велосипед со струпьями шин на колесах. Дальше стоял старый умывальник с тусклым зеркалом в пятнах. Крыша сарая просела, но еще держалась. А деревянный дом, хотя и в облупившейся голубой краске, производил впечатление крепкого и просторного. На веревке сохло белье. А на крыше круглилась телевизионная тарелка.
Женщина перехватила его изучающий взгляд и заметила, что этот реквизит нового времени не меняет сути. Хотя, наверное, для того, чтобы это уяснить вполне, надо все же немного обвыкнуться, пожить здесь, на горе.
– А часы как раз остановились на колокольне, – вдруг вспомнил Косточкин.
– Нет Времени в часах, как Бога – в храме, – проговорила женщина. Это было похоже на цитату. По крайней мере, звучало напевно. Или просто ее голос стал нечаянно певучим. – Время на горе не зависит от этой колокольни.
Косточкину не хотелось просто так уходить, он медлил, не зная, что сказать… И наконец решился.
– Вы не будете возражать, если… – с этими словами он полез в сумку.
Но женщина его прервала:
– Буду, – быстро проговорила она, почему-то озираясь по сторонам.
– Нет, я просто хотел…
– Это совершенно ни к чему! – резко и твердо заявила она.
Косточкин обмяк, убрал руку с сумки.
– Понимаю, что выгляжу для вас экзотично, но, знаете что, молодой человек…
– Меня зовут Павел Косточкин.
– …знаете, Павел Косточкин, советую вам фотографировать не всякую рухлядь вроде меня или этих заборов, а кое-что более интересное.
– Например? – тут же спросил он.
– Да вон же – стена, башни, Веселуха…
– Что это такое? – не понял он.
– Веселуха? – переспросила она, взглядывая на него удивленно. – Это башня. Тут у каждой башни свое имя, а то и несколько.
– И где эта Веселуха?
Женщина кивнула в сторону далекой крепостной стены.
– Самая последняя башня на том участке, напротив семинарии. Но не сейчас, – добавила она.
– Что? – не понял он.
– Фотографируйте. А пораньше утречком. Будет солнце, может повезет снять луч Веселухи. Он рассекает здесь все, – сказала она, обводя окрестности рукой.
– Ну вот, – проговорил Косточкин, – а я собирался вечером уехать, завершить миссию.
Она быстро взглянула на Косточкина.
– О, и какая же у вас миссия?
– Фотографическая, – сказал Косточкин, похлопав по сумке.
– Понятно.
– А мне не все, – сказал Косточкин. – Вот, к примеру, почему такое название? Веселуха?
Пес за изгородью вдруг как-то переменил дыхание, да, задышал чаще, жарче, внезапно побежал вдоль ограды. Женщина оглянулась. На дороге, опоясывающей гору посередине, появился автомобиль белого цвета, старая советская «Нива». Женщина побледнела и, нагнувшись, взяла ведро, другой рукой отперла калитку, забормотала:
– Ну, мне пора, всего хорошего.
Косточкин растерянно глядел на нее.
– Идите, идите, всего хорошего, – бросила она через плечо.
– Спасибо… До свидания, – проговорил он и двинулся по улице дальше.
Калитка хлопнула. Косточкин оглянулся, вспомнив о свирепом псе. Но калитка уже была закрыта. Женщина поднималась на крыльцо. А к ее дому подъезжал автомобиль. Косточкин отвернулся и зашагал себе вперед. Или назад. Кто знает. Автомобиль так и не обогнал его. Наверное, возле той калитки и остановился. Из любопытства Косточкин снова оглянулся, но уже ничего не увидел, кроме крыши с тарелкой. Не возвращаться же, чтобы посмотреть. Какое ему дело.
И он направился в сторону шумной дороги.
4. Смутный образ
Косточкин побывал на пешеходном мосту через Днепр, прошелся по набережной, судя по всему отстроенной только что. Набережная была многоуровневой, с затяжными спусками к реке. Эти бетонные спуски напоминали ходы лабиринта и выглядели диковинно безвкусно. Бетонные тумбы представлялись какими-то памятниками сталинских лет, пьедесталами без скульптур. Положение спасала только крепостная стена. Кирпичи были почерневшими, позеленевшими, замшелыми, вдоль стены шла шеренга фонарей, возможно вечером, когда они загорятся, все преобразится… Ну по крайней мере на мосту жениха и невесту точно можно сфотографировать. Мост всегда романтичен, соединение берегов, судеб, дорог. Они могут идти навстречу друг другу. А потом вместе. На заднем плане – собор на горе.
Косточкин заглянул под мост и на левом берегу увидел внушительную россыпь всякого мусора, бутылок, пакетов, стаканчиков. А на правом берегу топтались на бетонированной площадочке какие-то бабки, закутанные в платки или тряпки. Бомжи? Косточкин наблюдал за ними. Вскоре к ним спустилась троица парней. Похоже, они что-то купили у бабок и пошли вверх. Косточкин подошел ближе, стоял на пешеходном мосту и смотрел сверху, в проем между этим мостом и другим, автомобильным. Бабки торговали каким-то пойлом. Наверное, самогоном. Некоторые клиенты прямо возле них и выпивали, чем-то быстро закусывали и уходили, попыхивая сигаретами, а другие брали пластиковые бутылки, засовывали за пазуху. Косточкин навел объектив и снял эту торговую точку между мостами. Лед держался лишь у берегов. Вода в Днепре казалась угрожающе черной. Вряд ли этот снимок будет понятен без пояснительной подписи. «Рейн-2»? А вот «Днепр-1». Будет еще и «Днепр-2». А может, и нет. Косточкин собирался уехать.
Перейдя на другую сторону, он увидел слева рынок, а справа нашел «Макдональдс» и пообедал там. Съел большую порцию картофеля фри, салат «Цезарь» с курицей, морковью, соусом, зеленью, сыром, мороженое, два пирожка с вишней и выпил большой капучино. Что там трындят про эти заведения? Симпатичные молодые служащие, все вкусно, чисто, быстро, приятно. Салат, конечно, дороговат. Зато туалет блестит.
Косточкин вдруг поймал себя на мысли, что в «Макдональдсе» ему понравилось больше всего в этом городе. Даже не хотелось уходить. И он взял еще чашку кофе. Сидел, прихлебывал, щурясь, следил за ловкими девушками в оранжевых рубашках с короткими рукавами. Спросил у одной веснушчатой девушки, пробегавшей мимо, далеко ли отсюда до вокзала. Оказалось, близко. Можно, впрочем, и проехать. Девушка объяснила как. Внятно, с легкой улыбкой. Чувствуется выучка. В общем, эту девушку не отличишь от такой же работницы «Макдака» в Москве. Или в Испании. Только эта смолянка симпатичнее испанок. Русские девушки лучше всяких там испанок, француженок или толстых гонористых американок. А вот дуракам достались. Как ни крути, а большинство встречающихся мужчин похожи здесь на гопников, хотя пресловутые треники мелькают редко. Но гопник ведь может и в костюмчике, пошитом в ателье на Сэвил Роу в центральном Лондоне, щеголять. Уж не говоря о том, что ездить может на самой крутой тачке. Лица тех же испанцев интеллигентны почему-то в большинстве своем. Просто вот в метро едешь и смотришь. Маринке тоже так показалось. Как будто все там преподаватели колледжей да инженеры. В московском метро – бывшие колхозники, профессиональные боксеры, торговки и переодетые полицейские. Особенно поразительно это отличие в первые часы после приземления в Шереметьево. Даже еще и до выхода из аэропорта оторопь берет от насупленных серых лиц служащих, тех же таможенников. Россия – великая Угрюм-держава.
Косточкин, выйдя из заведения, собирался уже отправиться на вокзал, но замешкался… Его что-то беспокоило. Да, эта женщина в доме на горе. Все-таки жаль, что не удалось ее сфотографировать. Ну впрочем, мало ли людей ему попадалось с выразительными лицами, яркими глазами-судьбами. Ему нравилась фантазия Алисы о глазах-объективах: вот, мол, хорошо бы стать таким роботом, сколько лиц, забавных положений, люди – довольно странные существа, обидчивые, испуганные, агрессивные, размышляющие мучительно, на что-то решающиеся. «А влюбленные?!» – восклицала Алиса, и ее узкие глаза сыпали изумрудом.
Хотя неизвестно, по большому счету, на кой черт ему эти бесчисленные снимки, пейзажи, портреты. Платят-то ему не за это, а за счастливых «брачующихся». Но твоя обязанность – все, по возможности абсолютно все превращать в снимки, учил его Владимиров. Точка! Не спрашивай, что и зачем. Однажды тебе это станет ясно.
Прошло уже достаточно лет после армии, после первых снимков…
Хотя, что ж, свадебное фото кормит, а все остальные вольные снимки – это шлифовка, и она сказывается – на свадебных фото, круг замкнулся.
«Ладно, – подумал Косточкин, лениво озираясь неподалеку от “Макдональдса”, – я прибыл сюда не этот круг размыкать. Больше конкретики, камрад! Еще одно поучение великого Владимирова. Больше кнопок, листочков, как на подоконнике Йозефа Судека, ракушек там разных, очевидных штучек, – а в итоге получается нечто неочевидное и ускользающее, подлинно творческое. Образ!.. Так что, я и гоняюсь за образом? Ну вот там, на этой горе, и мелькнуло что-то, да? В лице этой женщины?»
Косточкин достал мобильный и посмотрел прогноз погоды на завтра в Смоленске. Пасмурно, никакого просвета. Так что луч, о котором толковала женщина, отменяется. Но, пожалуй, на эту башню… как ее?.. и стоит еще взглянуть.
«Ладно, – решил Косточкин. – Собирался ведь на три дня. Предоплату клиент уже внес. Задержусь еще на денек, посмотрю, что к чему».
Но после обеда он уже почувствовал себя уставшим и поэтому искать башню на местности не стал, а вернулся на маршрутном азиатском такси в центр, спросил о книжном магазине у соседа, мужчины средних лет в очках, тот что-то замычал и не смог толком объяснить, как пройти в библиотеку, но черненькая девушка с переднего сиденья обернулась и сказала, где ему лучше выйти. Он вышел и вскоре увидел главный ориентир – кинотеатр «Современник». Слева от кинотеатра и находился магазин «Кругозор». Перед кинотеатром на расчищенной от снега и льда площадке он заметил какие-то звезды, подошел ближе и смог прочесть имена известных режиссеров и актеров: Соловьев, Гафт, Гармаш… Что бы это значило? Любимые местными киноманами имена? Рязанов, Говорухин…
В книжном Косточкин быстро отыскал полки с краеведческой литературой, дорогие альбомы покупать не стал, лишь полистал глянцевые страницы с прилежными парадными фотографиями достопримечательностей. Траты на альбомы у них с Вадимом не были прописаны. Он купил карту-схему крепости. А на выходе заметил фотоальбом с работами смоленских мастеров конца девятнадцатого и начала двадцатого веков. Но стоил этот фолиант дорого даже по московским меркам.
– Отличная вещь, – не смог он скрыть разочарования, – но цена?
Рыжая продавщица внимательно взглянула на него и ничего не ответила, отвернулась, лишь пожала плечами. Внезапно откуда-то вывернулся большеглазый невысокий мужичок с большим носом, прямо как у Льва Толстого, с щеточкой аккуратных седых усов. Один глаз у него попадал как-то мимо лица Косточкина, да, он косил – и в этот момент странным образом становился похож на Гарика Сукачева.
– А есть место, где такой же продается в три раза дешевле, коллега, – сказал он и вновь обратился к пролистыванию какого-то альбомчика.
Тут Косточкин заметил, что у него на боку потертая фотосумка, ага.
– Да? Интересно, где же?
– На Соборной горе.
– Там, где собор?
– Йес. Перед аркой магазин со свечками и венками, раньше и гробы продавали, но решили не отпугивать туристов, хе-хе. А ведь оригинально: прибыл турист, купил себе гроб в Смоленске. Старики по деревням всегда держат на чердаке домовину. Что тут такого, да? С философской точки?
– Мм, не знаю, – замялся Косточкин, расплачиваясь за карту-схему. – Да, так там и книгами торгуют?
Мужичок весело взглянул на него – один глаз мимо, куда-то повыше.
– Где? Там?
А пожалуй, подумал Косточкин, он косит, как этот знаменитый француз-философ, ну, черт, не Камю, а тот, в очках.
– В том магазине на горе, – уточнил Косточкин.
– Торгуют, – веско подтвердил мужичок и непроизвольно шмыгнул носом. – Только не всякий будет покупать их душещипательную продукцию.
Косточкин уже собирался выходить, но замешкался.
– Вроде этого альбома? – с любопытством спросил он у большеносого мужичка с фотосумкой, кивая на фолиант.
– Нет, как к ним залетел этот шедевральный кирпич, я без понятия. Но его-то и продают дешево.
– А вы… – начал Косточкин.
– Не купил! – с вызовом ответил тот, не дослушав вопрос. – А почему, сами поймете, внимательно смотрите на первые страницы… – Он сощурил один глаз, глядя вторым куда-то вверх. – На страницу пятнадцать! Ага, не ошибетесь.
Косточкин хотел бы все-таки задать еще пару вопросов, но что-то удержало его – догадка, что этот коллега так запросто ничего ему не скажет: в противном случае уже сказал бы, но не говорил. Да и ладно. Косточкин вышел из магазина. Отправляться снова на Соборную гору ему не хотелось, он чувствовал уже настоящую усталость. Надо было позаботиться о вечере, об ужине. Поесть он решил в номере. Завернул в магазинчик и купил колбасы, хлеба, картофельных соленых хлопьев. Еще раньше он заметил пункт продажи свежего пива – «Кардымовского». Хорошее название, дремучее, с дымком. Попросил наполнить полулитровую бутыль. Но тара была только литровая и больше. И уже в номере, устроившись перед телевизором, разложив на столе снедь, нарезав колбасу, хлеб и распробовав пиво, порадовался, что взял столько.
После местных новостей – говорили что-то о реставрации древней… или не очень древней иконы и о ее возвращении – переключился на другой канал и попал на ископаемый фильмец «Рукопись, найденная в Сарагосе», польский, Войцеха Хаса, фильмец, любимый Скорсезе, Линчем и самим Джерри Гарсиа из «Благородных мертвецов». Когда-то давно смотрел, а еще раньше подростком читал эту книгу с рисунками обольстительных сестер, неизменно возбуждавших его… Затрепанная библиотечная книжка с выпадающими страницами источала похоть. Он прекрасно помнил это мучительное наслаждение и вполне понимает теперь тех, кто в штыки встречает электронные книжки. Книга из публичной библиотеки ни с чем не сравнится.
Сомнамбулические блуждания героя «Рукописи» захватывали. Да и многое уже выветрилось. Снова подумал о женщине с дочкой из кафе… Они как сестры.
Под конец фильма позвонила Алиса, спросила, едет ли он уже в Москву на пиво с солеными фисташками. Он отвечал, что не уложился за день, наверное, отчалит завтра, хвалил местное пиво. Алиса просила ей привезти бутылочку. Фильм закончился, и он включился в сеть по мобильному телефону, запросил местную крепость, прочитал, что она была построена в начале семнадцатого века зодчим Федором Конем – да, вот как его звали – Конь! – по велению Годунова, шестикилометровая, с тридцатью восемью башнями, из коих после всех взрывов во время польской осады, потом французского захвата сохранились восемнадцать. Приводились названия башен. Была там и Веселуха, «угловая шестнадцатигранная башня». Об этой башне некий Федор Андреевич Эттингер, живший в Смоленске с отцом, обер-комендантом города, а потом уехавший служить в Петербург коллежским советником, в середине девятнадцатого века написал книжку, которую так и назвал «Башня Веселуха». Информация нашлась и о другом Этингере, с одним «т» – Фридрихе Этингере. Но не удалось выяснить, имеет ли смоленский Эттингер отношение к немецкому философу-мистику, оккультисту и писателю восемнадцатого века, почитателю Бёме и Сведенборга. Информация о немецком Этингере сопровождалась цитатой, видимо, из его сочинения: «Господи, дай мне душевный покой, чтобы принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что могу, и мудрость, чтобы отличить одно от другого». Это Павлу показалось дельным. Принимай то, на что нет сил, соучаствуй в том, что по плечу, и отличай одно от другого. А вот третье-то, наверное, самое трудное.
«Рукопись, найденная в Сарагосе» настроила его определенным образом. Как говорится, сведения о «Башне Веселухе» были в тему. И, оживленный воспоминаниями о подростковых эротических опытах над затертой книгой, он загорелся желанием прочесть этот роман… Фридриха… то бишь Федора… Андреевича? Да, Андреевича Эттингера. Ну, не загорелся, все-таки книжные усилия уже не казались ему такими необходимыми, как в школярские и студенческие годы, слушать музыку или смотреть фильмец – оно и поинтереснее, и совмещать полезное с приятным – взглянул на пустую баклажку из-под «Кардымовского» и вздохнул – можно. Но, в общем, подумал, что неплохо бы пролистнуть эту книжку. Там действует польский граф Змеявский, фальшивомонетчик… Хорошая фамилия…
И Косточкин окунулся в калейдоскоп снов. Ничего не мог вспомнить, внезапно очнувшись ночью от стонов… Да, сбоку стонали и яростно скрипели поролоновым матрацем. «Это моя первая ночь в… в…» – неожиданно Косточкин забыл название города. Не мог никак вспомнить. В голову лезла какая-то Познань… Это же польское? Город или что? Город. Познань… Скрип поролона рисовал в воображении беснующегося чешуйчатого змея. Сейчас он взлетит. Ну давай, давай же, давай, улетай, вали отсюда!
И змей действительно улетел или обессиленно рухнул, и все стихло.
Название города Косточкин уже вспомнил. А про Познань подумал, что это такая ассоциация с Потоцким, наверное, графом, написавшим роман… «Веселуха»… то есть, ну, «Рукопись, найденная в Сарагосе».
– Найти бы мне здесь фотографию, – вдруг прошептал Косточкин в темноте. Он протянул руку к графину, наполнил стакан, выпил воды.
5. Искатели синагоги
А утром уже, сразу все вспомнив, подумал: «Какую фотографию?»
Этого он не знал.
Просто с тех самых пор, как первый раз, наверное, нажал на кнопку затвора, заразился… Мысль о том, чем он заразился, пресеклась внезапной вереницей кадров из сна.
Ему приснилась сельская дорога, они шли вдвоем с Маринкой… или с Алисой? Или с кем-то еще. В общем, спутница была сначала одной, потом другой, потом третьей. И вот присели на обочине, достали бутыль с квасом, что ли… Павел сглотнул, так ему захотелось прямо сейчас осушить стакан кисловатого резкого хлебного кваса… И девушка собиралась отпить, но на дороге появились прохожие, какая-то семья, мужчина, женщина, ребенок. И ребенок захныкал, увидав бутыль с квасом: «Пить! Хочу пить! Жарко!» Девушка с улыбкой протянула этим людям бутылку. Но Косточкин обратил внимание на то, что вдоль обочины льется ручеек, правда очень тонкий, мелкий, хотя и прозрачный. Если пригоршнями набирать, можно и напиться. И он сказал об этом. Мужчина и женщина внимательно его слушали. Девушка в смущении опустила бутылку. «Глядите!» – вдруг воскликнул ребенок, светловолосый мальчишка. И все увидели, как над ручейком движется в воздухе крупная красная рыбка с большим хвостом-опахалом. Она была величиной с ладонь и не могла, видимо, поместиться в ручейке. Косточкин сразу кинулся к рюкзаку или какой-то торбе, выхватил дрожащими руками фотоаппарат. И это был его старый армейский пленочный фотоаппарат. Из-под кожаного чехла текла вода. Значит, он почему-то намок. Может, до этого Косточкин попал со своей спутницей под дождь. И тем не менее он попытался сфотографировать рыбку. Но все расплывалось. Объектив не фокусировался. И Косточкин не мог поймать видоискателем эту рыбку. Но зато увидел освещенную солнцем голову мальчишки и нажал на кнопку затвора. Досадуя, он принялся открывать фотоаппарат. Вода вытекала на его руки. Внутри оказалась пленка, но это были скорее слайды, скрепленные тоненькими деревянными полосками, как древняя японская книжка. Кадры, хоть и были сырыми, но не пропали. К нему подошли все – женщина, мужчина, девушка, мальчишка – и стали рассматривать слайды на свет. Косточкин и сам с интересом вглядывался в какие-то фигуры, деревья, светящиеся комья…
Ну да! Что еще могло присниться после событий вчерашнего дня.
Хотя – каких таких событий? Косточкин задумался. И усмехнулся. Ведь ничего как будто и не произошло.
Но его уже не оставляло чувство, что прямо сейчас все и происходит. Что именно?
Он подошел к окну. Серое пасмурное утро. Во всем теле и в голове была такая же погода. Хандра, сплин, тоска.
– Вот тебе Лондон, – пробормотал он сипло, прокашлялся, прочистил горло и повторил резко: – Лондон!
Ему захотелось сейчас же послушать «The Verve». Но он пошел и принял душ. Сразу стало лучше. Косточкин почувствовал голод, еще его одолевало желание какой-нибудь физической работы. Вот бы схватить топор, поколоть дрова. Правда, дрова ему никогда не доводилось колоть. И он просто побоксировал в воздухе.
В кафе спускался, слушая тягучий голос Эшкрофта, наверняка неврастеника: «When I’m low, and I’m weak, and I’m lost / I don’t know who I can trust / Paranoia, the destroyer, comes knocking on my door…»
Он подавлен, и паранойя ждет за дверью. То есть – Эшкрофт. А Паша Косточкин – нет, не подавлен. Он вспоминает свой сон. Но никто не споет об этом. Вот это был бы видеоряд: дорога, ручей, рыбка. Жаль, что нельзя прямо оттуда достать фотографию. Можно, конечно, нафотошопить. Тот же Андреас Гурски свой «Рейн-2» долго обрабатывал: убирал людей, машины. Очищал Рейн. И именно знание об этом вызывает какие-то особые чувства. На кадр работает то, что за кадром. Но Владимиров воспитал его ярым реалистом. У Владимирова была своя студия в Перми, пока ее не пожгли конкуренты.
Нет, после кофе Косточкин тем более не должен был чувствовать никакой паранойи и вообще ничего такого специфического, ну, свойственного Эшкрофту. Но чувствовал. Иначе почему слушал его?
Он был бодр, свеж и вместе с тем придавлен чем-то. Что-то его постоянно беспокоило. Да, не оставляло никогда некое чувство несовпадения. Чего с чем? Всего со всем. Если бы все совпадало, он лежал бы в нирване, как поросенок. Косточкин усмехнулся дурацкой метафоре. Она ему понравилась. Тут же возникли музыкальные ассоциации: с Куртом Кобейном и «Pink Floyd». Это было абсолютно бессмысленно. И вот как раз бессмыслица и раздражала. Но стоит ли во всем искать смысл? В какой-то притче говорится о сороконожке, вдруг сбитой вопросом о ее способе ходьбы – в буквальном смысле: она начала задумываться над шагом каждой ноги и рухнула. Мысли возникают и бесследно испаряются. Часто это довольно нелепые пузыри.
Кобейн Косточкину почти совсем не нравился. Ну две-три песни подряд еще и можно слушать, а дальше – скукота. Подростковая грязнотца, неряшливость хороши, пока ты это не замечаешь, то есть пока сам подросток. Алису, его фанатку, легко было вывести из себя этим замечанием. У нее глаза вспыхивали зелененькой злобою. Косточкин тогда на Алису любовался и даже пытался сфотографировать, но изумрудное сверкание уловить так и не смог. Кстати, Алиса не отличалась особенной чистоплотностью. Под длинными ногтями всегда темнели какие-то чаинки, табачинки, крошки. Пальцы левой руки, указательный и безымянный, были желтоваты – она сигарету держала всегда левой. Волосы частенько висели сосульками. Лень было мыть. Но даже если Алиса приходила на встречу только что из бани, ну или душа, все равно на ее лице оставалось что-то такое несмываемое, какая-то тень.
…И, может, поэтому она жила вдвоем со своим ребенком, без мужа. А фотографировала счастливых невест, рвущих улыбками любую непогоду.
«Pink Floyd» был куда интереснее.
А лучше всех – «The Verve» с паранойей, ждущей за дверью.
В номере Косточкин записал вчерашние результаты рекогносцировки, чтобы не забыть и, в случае спроса, предъявить клиенту:
1. Камни судьбы
2. Глинка
3. Собор?
4. Мост
Собравшись, он снова натянул кепи итальянского почтальона и отправился в новую экспедицию. Легко вышел к тем часам на перекрестке. В воздухе висела противная изморось. Пахло бензином и перегаром, какой обычно бывает вблизи ТЭЦ. Да, подумалось ему, надо же и эти часы включить в реестр.
Он покосился на часы через плечо. Возникло забавное чувство повторения. Словно бы он шел по кругу времени. «Еще забавнее было бы, если бы ехал верхом», – подумал невпопад.
Ну да, это отголоски «Рукописи, найденной в Сарагосе».
По улице тяжко катили автомобили, автобусы, грузовики – вверх и вниз, газуя, выбрасывая белые и черные облачка. Стены какой-то церкви, как будто рассеченной надвое этой дорогой, были перепачканы ошметками дорожной грязи. Над входом во двор справа в копоти и измороси ярчела красками какая-то сомнамбулическая «Троица» Рублева. Косточкин прочитал, что это женский монастырь. Поколебался, входить или нет во двор, и прошагал мимо, только позже сообразив, что поступил логично. Смешно было бы снимать молодых в монастырском дворе. А так, самому ему все это было не интересно. Его мама, учитель французского, говаривала так, переиначивая чье-то знаменитое изречение: «Не верую, ибо абсурдно». И попробуй ухватить, что именно абсурдно, то ли неверие, то ли вера. Но мама полагала, что как раз – вера. Отец уверял, что мама упрощает картину мира, многокрасочную, и все хочет свести к какой-то таблице умножения. Правда, сам он не был ни православным, ни католиком, ни мусульманином, ни буддистом, но симпатизировал и тем, и другим, и третьим, за исключением мусульман – «изобретателей вечной женской тюрьмы – чадры». А женщины лучше мужчин, тоньше, интеллигентнее. И скорее бы вернулись времена матриархата. Отец был дизайнером не только по профессии, но и по духу. Паша Косточкин был на стороне мамы. Хотя признавал, что насчет многокрасочности отец, наверное, прав. Когда на Арбате появляются танцующие кришнаиты в оранжевых и желтых одеждах – это весело. И фотогенично.
Маринке такая позиция была не по нраву. Она обзывала Косточкина теплохладнокровным. Он возражал: «Нет, я хладнокровный, но теплый. И одно другому не мешает». Ей – мешало. Прадед Маринки был священником. Правда, его сын, то есть дед Маринки, с религией еще в юности порвал и встал на коммунистическую тропу войны, работал в райкоме, потом в обкоме и с отцом вовсе не знался, тот доживал в нищете в тверской, тогда калининской, деревне. И наверное, этот партийный дед прививал атеизм своей дочке, а потом и зятю. Но в новые времена оба они пошли за президентами в церковь со свечками.
Родители Маринки подъезжали на лимузине на все праздничные службы и стояли от начала и до конца. Жанна Васильевна эффектно выглядела в темном шелковом платке, с большими подведенными глазами. Георгий Максимович шутил на церковно-деревенский манер: «Хоть прикладайся». Маринка тоже была хороша в религиозном, так сказать, прикиде. Синеглазая, чуть пунцовая, с выбившимися из-под платка в кофейных цветах вьющимися осветленными прядями. Она напоминала каких-то дев с картин итальянцев же. Хм, хм. Не потому ли и его она кличет итальянским почтальоном в этом кепи? Однажды и он отправился на рождественскую службу вместе с ее семейством в ХХС. Часа полтора выдержал, разглядывая картины, скульптуры и временами думая, что находится в каком-то музее. Росписи были светлые, солнечные – какие-то родноверские, Алисе, наверное, понравились бы. Сдуру он об этом сболтнул Маринке. Та надулась, обозвала его диким. Паша не обиделся. И еще выдержал с полчаса толкотни, пения на непонятном языке, поклонов, кашля в ухо, шарканья старческих ног, – взял и затерялся, да и ушел на свежий морозный воздух, послонялся вокруг, а потом и вовсе укатил домой согреваться текилой и слушать «Пустынных», да, в Рождество это лучше всего и слушать – музыку завывающих под ветром дюн.
Маринка потом с месяц была на осадном положении, не отвечала на звонки, из скайпа сразу исчезала, как только он подключался. И он чувствовал себя действительно диким грязным изгоем.
Но Алисе его суждение о росписях в ХСС понравилось. И она отправилась туда поглазеть. «Кость, это прикольно!» – таково было ее резюме. То есть и ей эти росписи показались, так сказать, слишком исконными, дохристианскими. «И чего эти попы взбеленились? – недоумевала она. – На девочек, прыгавших скоморохами здесь?» – «Ты бы и сама попрыгала?» – «Запросто!» – выпалила она, хохоча.
Маринкино семейство этих девочек-скоморохов, разумеется, осуждало. Правда, когда им всыпали «двушечку», осуждение сменилось сопереживанием. Но Маринка оставалась непреклонна: «С дурнями и поступать надо по-дурацки. Адекватно».
Паше Косточкину, честно говоря, было все равно. Его только заинтересовали некоторые подписанты под воззванием о снисхождении: Пол Маккартни, Патти Смит, Билли Джоэл, Стинг, Пит Тауншенд… И многие другие. Букет мировых звезд. Хотя Эшкрофта среди них и не было. У Алисы возникла сумасшедшая мысль о суперфотографии: эти девочки-скоморохи в окружении всех звездных подписантов. «Это было бы круче твоего Гурски!» – заявила она. Косточкин возразил, что вовсе не поклонник Гурски. Ему больше нравится Роберт Франк. А у Алисы еще долго вспыхивали глаза, сыпали изумрудом, когда речь заходила об этих сиделицах. И она им сочувствовала. Косточкин возражал ей, что фотография имела бы смысл только в случае воздействия письма и освобождения девочек-скоморохов.
Но что Путину Пит Тауншенд. У него свои фавориты, «Любэ», потом… как его? Лиепа? Нет, это танцор… Лепс. Какой-то Лепс.
С площадки перед собором Косточкин хотел схватить направление, сверить с картой вид восточного участка стены. Расстояния здесь были небольшие.
Уже на Соборной горе он вспомнил о фолианте с фотографиями позапрошлого и начала прошлого веков и свернул в церковный магазинчик. В этот момент запиликал «The Verve». Он взглянул на дисплей. Это была Марина. После приветствий он сказал, что все еще в Смоленске. Где именно? Хм, вот именно, что в церковной лавке. Марина помолчала.
– И что же ты там делаешь?
– Пока ничего, зашел посмотреть.
– Сувениры?
– Ну вроде того. Купить тебе что-то местное? Кто тут у них… как это? Местночтимый?
Марина со вздохом попросила ничего не покупать ей.
– Сколько еще собираешься пробыть там?
Косточкин ответил, что вечером, а может даже после обеда отчалит. Просто хочет еще посмотреть на одну достопримечательность. Для отчетности. Марина снизила голос и начала жаловаться на своего начальника главврача Авадяева. Это был довольно странный тип с ярко выраженными истерическими чертами, так что они с Маринкой прозвали его Гавврачом.
Косточкин выслушивал ее, разглядывая обложки книжек, на них были запечатлены все брадато-кудлатые старцы, хотя и какие-то смертельно красивые девицы тоже, в платках, со сложенными руками, и такие же смертельно красивые пейзажи. Это был церковный китч. А что еще любит народ? Ярко, конкретно и сразу все понятно.
Наконец он увидел и фотоальбом. Этот фолиант выглядел жемчужиной среди развесистой полиграфической церковной клюквы. Издали его, конечно, с большим вкусом. И не совсем понятно, как он затесался сюда. Впрочем, да, здесь были и старинные снимки церквей, и священников.
Под жалобы Марины он перелистывал фолиант. О какой странице говорил тот мужичок?
– Ты слушаешь?
– Да, да… Он редкий гад.
Он перевернул книгу, взглянул на ценник. Всего-то 400 рублей. Уценка серьезная. В чем же дело? Почему книгу не купил тот коллега?
– …но это было не мое дежурство!
– Вот как?..
– Да!
– Почему ты сразу ему не сказала?
– Я? Сразу? Я просто онемела. От наглости.
Он разглядывал книгу. Не мог вспомнить, о какой странице говорил коллега.
– Ладно, – еще тише проговорила Марина, – потом договорим. Надеюсь, уже не по телефону. Мой поцелуй.
– До встречи. Целую.
Спрятав мобильник, Косточкин приблизился к тоненькой девице в платке, продавщице… или как их называют в таких лавках? Она возвела на него карие шоколадные глаза. Этот взгляд ему тут же захотелось запечатлеть, даже рука дернулась на сумке «Lowepro», странные глаза на бледном постном лице. Некоторое время они молча глядели друг на друга. И девица скромно опустила глаза, но уже в них что-то мелькнуло.
– Меня интересует вот этот… эта книга, – сказал Косточкин, указывая на фолиант.
Пухлые губы девушки дрогнули.
– Какая?
Голос у нее был тоже какой-то шоколадный. Голос уже не сфотографируешь. Он взял фолиант.
– Эта.
Девушка не поднимала глаз. Наконец посмотрела и тут же опустила глаза.
– Я видел ее в другом магазине, возле кинотеатра со звездами.
– Звездами? – тихо повторила она, перебирая какие-то бумажки.
– Под ногами, – уточнил он. – Ну на крыльце. Именные. Актерские. – Он кашлянул. В лавке пахло ладаном, свечами, еще каким-то церковным парфюмом, то есть… – И там она намного дороже. Странно.
Девушка помолчала и кивнула.
– Да, – отозвалась она. Ее голос таял. – У нас совсем другие цены.
– А почему?
Она взглянула на него и пожала плечами… чудесными. Косточкин мысленно сжал их и смущенно отвел взгляд, потер переносицу, полез в карман, достал бумажник, отсчитал четыре сотни.
«В отличном расположении духа…» – подумал он о себе и улыбнулся, почувствовав себя персонажем повести девятнадцатого века. Но настроение у него и в самом деле было отличное. В поезде будет чем заняться под тягучие песни Эшкрофта. Кроме всего прочего, фолиант может подсказать какие-то сюжеты для фотосъемки молодых в этом городе.
Зажав книгу под мышкой, он прошел через соборный двор, навстречу из арки вылетела голубиная стая. Вот бы снять в этот момент молодых здесь. Вообще голубей здесь много, наверное, их кормят. Можно все и подстроить. За аркой насыпать хлебных крошек, а когда голуби слетятся, пугнуть их, направить в арку. Нет, он уже увидел слева от арки уродливые мусорные контейнеры. Это в каком-нибудь Толедо контейнеры выглядят как высокотехнологичные аппараты для переработки. И ведь ясно, что люди идут мимо на смотровую площадку. Ну запрятали бы эти контейнеры куда-нибудь.
Где-то среди домов на склоне живет вчерашняя женщина, вспомнил он. При мыслях о ней возникало ощущение какой-то недосказанности. У этой женщины явно была своя история… А у кого истории нет? Но есть истории скучные, как, например, у Косточкина: родился, служил, работал. А эта женщина что-то такое могла рассказать.
На самом деле Косточкин не верил, что его история скучна. Еще чего. Очень даже интересна. Особенно с утра. Встаешь – полный планов и сил, нет разве? «Вставайте, граф, вас ждут великие дела!» Сфотографировать какую-нибудь напудренную девочку в фате с глазенками-пуговками, нещадно увеличенными тенями-карандашами, накладными ресницами, разгоряченного такого же жениха, мордатого, ушастого, облитого дорогим одеколоном, с белым треугольником носового платка из кармана. И вокруг битюги дружки и расфуфыренные подружки. Ну или офисный планктон, субтильные очкастые клерки, синеватые девушки на диете. Но все отрываются примерно одинаково. Начинается камарилья. Смесь фальши и откровенного куража. И фотограф всему этому под стать. Надо уметь скалить зубы. И делать картинку, красивую. Свадебная фотография изо всех сил стремится к пин-апу. Бетти Пейдж на фото и она же нарисованная в той же позе на плакате – наглядное пособие для свадебного фотографа. Поза та же, чулки те же, лифчик, туфли, румяна. Но на плакате все ярче, острее, выражение лица дано в усилении. То же самое должен делать и свадебный фотограф с помощью верного Санчо Пансы – фотошопа.
«Ты здесь, мой друг?» – иногда спрашивал Косточкин, воображая себя Дон Кихотом со штативом вместо копья. И бросался на ветряные мельницы свадьбы.
Ну это так, преувеличение. То бишь прикол. Никаким Дон Кихотом он не был. Зарабатывал деньги.
Но иногда в свадебных нарядах ему и чудились испанские монстры-мельницы.
Вообще свадьба создает мощное поле, энергия брызжет. И когда твоя работа заключается в том, чтобы окунаться на несколько часов в эту праздничную умопомрачительную стихию, рано или поздно приходит чувство отупения – к будням. Они кажутся бессмысленными. Короче, скучно на этом свете, господа, без свадеб. Но и вечный праздник осточертевает.
На свадьбах Косточкин ни капли не пил, перебрав однажды по неопытности и запоров половину снимков. Хорошо, что новобрачные попались покладистые, хипстеры и почитатели Эшкрофта. Невеста сказала, что, если надо, снова наденет фату, хотя никакой фаты с самого начала и не было. С этими ребятами, Аней и Васей Снегиревыми, у него завязались дружеские отношения. Они звали его с собой в Непал, созерцать Гималаи, смолить траву. Но Косточкин был как-то равнодушен к этой экзотической азиатчине, а траве предпочитал неочищенное темное пиво или пару стаканчиков текилы.
Вообще сейчас только ленивый не бывал там. А еще Марокко, Индия…
Трудно быть оригинальным в век бронирования отелей и частных квартир через интернет.
Прикинув по карте и виду с горы, как идти, Косточкин двинулся вниз. Надеялся, что встретит ту женщину. Но повстречал только двоих бомжеватых прохожих, один был с неопрятной клочкастой седоватой бородкой, в кожаном старом картузе, второй бритый, молодой, в лыжной шапочке, с ушибленным носом. Внезапно они обратились к Косточкину. Их вопрос озадачил его.
– Это, уважаемый, не подскажете, Никольские ворота – там? – спросил тот, что постарше.
А второй только беззвучно шевелил губами, словно повторяя за ним вопрос.
– Не знаю, – ответил Косточкин.
Мужчина проникновенно посмотрел ему в глаза.
– Не подумайте чего-нибудь, – сказал он. – Нам нужна синагога.
И тут Косточкин понял, почему эти грязноватые и неряшливо одетые прохожие показались ему странными: у обоих были черные выпуклые глаза и характерные носы.
Ничего подобного Косточкин в своей жизни не встречал. Евреи опрятные люди.
Косточкин оглянулся вверх – уже отсюда виден был собор. Да он и почти отовсюду виден в центре. Косточкин поневоле улыбнулся и развел руками.
– Так вон же – собор. – Косточкин кивнул вверх. – Успенский, – добавил он.
Прохожие переглянулись.
– И никаких ворот нет? – спросил мужик с бородкой.
– Никольских, – подсказал второй, тревожно глядя на Косточкина.
– Там есть арка, – сказал Косточкин. – А дальше соборный двор.
Прохожие снова посмотрели друг на друга.
– И все?
– Но постойте, – вспомнил Косточкин, раскрывая фолиант.
Прохожие с ожиданием и почтением воззрились на книгу, как будто Косточкин мог прямо оттуда извлечь требуемое. Хотя так и было: он достал карту-схему. Мужчина с бородкой приблизился. Второй остался поодаль.
– Никольские ворота?.. Так, Никольские… Никольские… Копытенские. Вот собор. А мы где-то здесь, ниже, у дороги. А Никольские? Да, вот Авраамиевы ворота. Башня.
Мужчина быстро обернулся к спутнику. Тот сразу же подошел.
– Авраамиевы… – Косточкин повел пальцем вдоль крепости. – И вот Никольские! Совсем не здесь.
Прохожие повели глазами по окрестностям.
– По-моему, – сказал Косточкин, – лучше поехать на маршрутке.
Мужчина отрицательно покачал головой.
– Мы дойдем пешком.
– Ну тогда надо идти по этой дороге, если не ошибаюсь. Дальше… свернуть к стене. И уже просто чесать вдоль стены. По крайней мере, если верить карте.
Поблагодарив, оба так и сделали, спустились к подножию горы, на которую начали было подъем по чей-то указке, и зашагали вдоль шумной дороги. Косточкин двинулся следом. Над странниками явно пошутили. А выглядели они, правда, как странники, хотя вместо котомок только у одного была какая-то небольшая авоська.
Кого-то они Косточкину напоминали.
Ну да, персонажей Шагала. Он быстро достал фотоаппарат и сфотографировал их, бредущих вдоль стремительной грохочущей и коптящей улицы. Но этого было, конечно, недостаточно. Косточкин быстро соображал. Что можно сделать? Здесь нужен крупный план и хорошо видные лица. А так – что ж, идут какие-то бродяги. Обогнать их и сфотографировать где-то возле стены? Косточкин колебался. И в это время мужчина с бородкой вдруг оглянулся и смерил издалека взглядом Косточкина с фотоаппаратом в руке. Тому стало немного не по себе… Да, но лишь немного. «Все-таки я их обгоню», – решил он и ускорил шаг. Мужчина снова оглянулся. Косточкин шел за ними, спрятав фотоаппарат в сумку. Фотоаппарат он перевел на съемку в автоматическом режиме. Косточкин давно уже не стеснялся фотографировать людей. А как иначе? Да, фотограф – вор. Ну и что? Потом сами будете любоваться. Таковы люди. Сейчас они надувают щеки и матерятся. А потом – восторгаются смелостью и ловкостью. Хотя все это смешно. Когда объект съемки начинает возмущаться, Косточкину хочется рассмеяться: «Не вижу ни Дианы, ни принца Чарльза!» Но, разумеется, за эту реплику могут и фотоаппарат разбить. И поэтому он лишь замечает, что фотографирует деревья и окна, иногда красивые автомобили, в которых есть видеорегистраторы, снимающие все подряд, и прохожих тоже: «Это видеорегистратор, ничего личного». Фраза «ничего личного» обычно успокаивает раздраженных персонажей.
А сейчас Косточкин, как охотник, преследовал двоих странников, бредущих в синагогу у Никольских ворот.
Возле какого-то облезлого и, очевидно, старинного дома эти странники остановились. Вправо и вверх к виднеющейся на холме башне с деревянным куполом и флюгером-флажком из железа уходила узкая улочка. Деревья перед домом и сам дом выглядели живописно. Косточкин достал камеру. И вдруг один из странников, молодой со ссадиной на носу, решительно повернул и направился прямиком к нему.
Косточкин подобрался, но камеру не стал прятать.
Парень остановился рядом и вдруг белозубо улыбнулся.
– Так нам точно туда сворачивать? – спросил он.
Косточкин тоже улыбнулся и кивнул.
– Снимаю дом, – сказал он. – Как будто старинный.
Парень оглянулся, посмотрел на дом, возле которого его поджидал старший товарищ.
– Этот? Да ну, – откликнулся парень и взглянул на Косточкина.
В этот момент что-то щелкнуло в голове у Косточкина, да, при ответном взгляде. На него спокойно взирали глаза подревнее этого дома, да и всего города с его башнями и домонгольскими храмами. И в то же время… Хм, все-таки выглядели парень и его товарищ как-то нелепо.
– Ну, мы пойдем, – сказал парень уже как-то неуверенно и направился к облезлому двухэтажному каменному дому с железной ржавой крышей и трубами.
А Косточкин не мог сделать и шагу за ними. Так и стоял, ждал, пока они не скроются.
Что случилось? Он же собирался сфоткать этих гостей откуда-то из пространств Шагала.
Хмыкнув, Косточкин медленно пошел вперед.
Да, дом был старый, в облезлой шкуре штукатурки, с окнами, кое-где затянутыми целлофаном, но и застекленными. Похоже было, что дом жилой? Издалека он увидел и спины искателей синагоги, восходивших по улочке. И тут же они скрылись.
Наверное, дальше пойдут уже по воздуху.
Тут на Косточкина накатила тошнота от его искусства. То есть ремесла. Ремесло он временами считал искусством. Фотографии рядом вот с полотнами Шагала – какая хрень.
И хорошо, что он всего лишь свадебный фотограф. Это по-честному.
Из-за железной сплошной гофрированной ограды старинного здания – уже он разглядел и табличку с сообщением о том, что дом – памятник, жилой дом начала девятнадцатого века, – выскользнул рыжий кот, мрачный, в рытвинах по рыжей башке. Услышав щелчок затвора, кот тяжело посмотрел на фотографа и неспешно пересек улицу. Тут из-за угла соседнего одноэтажного деревянного дома вылетела пятнистая собака, с лаем кинулась к коту, и тот замер и приподнял лапу, но убегать не стал. Собака затормозила и смолкла. Мгновенье она смотрела на соперника и внезапно шмыгнула мимо, понеслась с лаем дальше. Кот медленно повернулся и смотрел ей вслед. Убедившись, что собака далеко, он двинулся все в том же ритме дальше. Косточкин восхищенно следил за ним. Четкий смоленский кот. Косточкину даже захотелось его поприветствовать. Но он совладал с детским порывом и степенно пошел вверх по улочке за искателями синагоги.
6. Человек стены
Но почему-то еще оглянулся и сразу увидел в угловом окне старого дома силуэт. Это была черноволосая девушка, волосы рассыпались по ее плечам. Она смотрела на улицу. Или на самого Косточкина? Он мешкать не стал, вынул фотоаппарат и сфотографировал это окно. Девушка лучисто улыбнулась. Он снова приник глазом к видоискателю, но девушка отступила… нет, ее вдруг скрыла занавеска – может, случайно качнулась?.. Он еще подождал мгновенье, но никто не появлялся.
Улочка была очень тесной, застроенной одноэтажными домами. Слева возвышалась зеленая церковь, за нею виднелась башня, которую и называют Веселухой. К церкви вела длинная бетонная лестница. Косточкин поднялся до половины. Дальше путь преграждали железные двери. Серебрились кнопки кодового замка. Косточкин прочел на табличке, что здесь духовная семинария. Но похоже было, что как раз на территории этой семинарии и находится башня со странным названием. Оглянувшись на крыши и голые черные сады с серым снегом, Косточкин увидел через ров и собор на горе, где он только что был.
Какое уныние здесь! Ему захотелось тут же спуститься, поймать такси и уехать на вокзал.
Но вместо этого он вдруг повернулся к железной ограде, протянул руку и наобум надавил на серебрящиеся холодные влажные кнопки.
…Дверь открылась.
Косточкин слегка опешил. Еще помедлил немного – и вошел, увидел, что изнутри замок легко отпирается, и защелкнул его, потянув дверь на себя.
Поднимаясь дальше по бетонной лестнице, он осматривал склон с деревьями, беседку, турник и чугунную гирю на расчищенной площадке. Вот бы сфотографировать семинаристов, вертящих здесь солнышко и жонглирующих гирей. Но вокруг вообще никого не было. Хотя по улочке то и дело проезжали автомобили.
Немного сновидческая, что ли, атмосфера.
Косточкин вышел к церкви и зеленому зданию семинарии. Рядом темно краснела кирпичом башня. Стена уходила вправо и влево, резко вниз, к тому мемориальному жилому дому. И тот участок, что уходил влево, был ветхий, в трещинах, осыпался. А правый – довольно добротный, видимо отреставрированный. Во дворе семинарии стояли несколько сияющих иномарок. Оказывается, с другой стороны ворота не были заперты, и спокойно можно было продолжить путешествие вдоль стены, к следующей башне. А вход в Веселуху был закрыт. Голубели несколько пушистых елей.
Странно, никого не видно. Только голуби ходили у стены.
Косточкин осматривал круглую башню. Фотографировать ее в таком освещении было абсолютно бессмысленно. Но он все-таки сделал кадр, так, на всякий случай, и вышел за ограду, зашагал вдоль стены. Справа сизовел распадок оврагов с домами, там лаяли собаки, раздавался стук. Попахивало дымом. Если закрыть глаза… Нет, если уткнуться носом прямо в красные ледяные кирпичи стены, то можно что-то такое вообразить. Наверное, здесь снимают исторические фильмы. Хотя перед съемками рабочим приходится покорпеть, убирая все эти дурацкие граффити. Наверное, в те исторические времена на стене тоже что-нибудь писали, но безобиднее – процарапывали гвоздем имечко своей подруги, да и все. Или писали какое-нибудь ругательство местному князю. Мол, пошто сердце у тебя из железа? Что-то в этом роде. Теперь упражняются с баллончиками краски. Стирать это труднее. Прогресс налицо. На лице.
Следующая башня была четырехугольная, вход перекрыт решеткой, которую пытались чем-то вскрыть, ломом, наверное. Сквозь решетку можно было видеть внутри свалку из досок и битых кирпичей, обрывков рубероида, пивных банок.
Как-то это плохо вязалось с патриотическим экстазом, охватившим население в последнее время. Вот куда надо бы направить патриотическую энергию. А не в воздух, не в телеэфир.
Ведь глупо кричать о любви к родине рядом с помойкой?
Вдоль стены Косточкин дошагал по неглубокому снегу до другой башни, круглой, и увидел внутри еще худший срач. Здесь громоздилась куча того же мусора, только сверху еще приваленного черными обгоревшими досками и бревнами. Крыша башни и перекрытия сгорели. Обугленные бревна чернели вверху и внизу, висели доски. Как будто только что здесь была вражеская бомбежка. Польская. Или французская. Или немецкая. Косточкин хотел было уйти уже прочь, но заметил ступени внутри башни, ведущие наверх. Идти или нет? Еще вляпаешься во что-нибудь. Но у него в сумке всегда был фонарик, одновременно и оружие – электрошокер. И сейчас он достал его, включил и пошел, освещая ступени. Свадьбу сюда, конечно, не поведешь. Но уж надо подняться на стену, вряд ли когда-то в своей жизни он попадет сюда еще раз.
Нижние ступени были чистые и сухие. Но выше их покрывал ледок. Надо было ступать осторожнее. Одной рукой Косточкин пытался зацепиться за что-нибудь на стене. Другой держал фонарик. А фолиант зажимал под мышкой. Пожалуй, лучше было оставить это предприятие и спуститься. Но тут ход раздвоился, повернул снова в глубь башни, а другой вел на стену. Косточкин свернул. Здесь ступени снова стали сухими. И он вскоре оказался на площадке. Посмотрел вниз, на провисающие обугленные бревна и доски, гору мусора. Отсюда можно было выйти на стену или продолжать восхождение в башне. Он попытался все-таки взойти выше. Но вскоре отказался от этой затеи: ступени покрывал лед, и чем выше, тем слой льда был толще, по ступеням как будто стекал этот студень.
Косточкин вернулся на площадку.
– Ладно, – сказал он вслух. – Пройдусь по стенке.
Голос его прозвучал как-то странно. Он откашлялся и добавил:
– По стене!
Он шагал, озирая унылую смоленскую действительность, крыши деревянных… как это? Хат. Избушек, короче. И среди них коттеджи. Ближайший к стене – совершенно чумовой, бетонная коробка с плоской крышей, воплощенное уродство. Над оврагом серые пятиэтажки-хрущевки. Какие-то строения, гаражи, трубы котельных, заборы из черт-те чего. А собор посреди этого хлама и срама выглядел монументально, мощно. Что ж, попы снова, как при боярах, живут жирно.
Косточкин сглотнул холодный воздух. «А правда, – подумал он, – есть ли?.. Ну Москва, Лиля, сэр из Татарстана Артур? Алиса? Марина…»
Ему захотелось просто попасть в метро, ехать вниз по эскалатору, слушать успокаивающий голос смотрительницы или шагать по своему Керамическому проезду вдоль железки и парка Дубки в вечерних огнях.
«Да ладно, что за пижонство, – сказал он себе, – вот под ногами достопримечательность все-таки. Настоящая стена, а не мультяшная Алана Паркера. И Москва на самом деле рядом, всего-то четыре часа на “Ласточке”, тук-тук – и ты там. И вообще тем приятнее будет вернуться, пересмотреть, пожалуй, “Стену”, хотя сама группа, конечно, уже музей восковых фигур, встретиться с Алисой. И с Мариной…»
Стена резко сворачивала. Мимо зубцов в различных надписях он дошел до башни, возле которой уже проходил. В башню можно было попасть, решетку на входе отогнула неведомая молодецкая скорее всего сила. Но пройти ко входу надо было по тонкой кирпичной перемычке: с одной стороны улица, с другой – обрушенный и заледенелый ход вниз – прямо в свалку.
Косточкин хотел повернуть, но вместо этого прошел по ледяной снежной тропинке и схватился за решетку. Стало хорошо. Покрепче прижал фолиант, изогнулся, пролез между краем решетки и стеной и попал в полутемное пространство башни на одном из ярусов. Здесь был хороший дощатый пол. Косточкин прошелся по нему. Слева был ход. Косточкин заглянул туда. Сухие ступени вели вниз и вверх. Он пошел вверх и поднялся на верхний ярус. И сразу увидел человека. Здесь было посветлей. Человек стоял под прорехой в уходящей ввысь крыше из досок и бревен. Он и смотрел на эту прореху. И Косточкина как будто не замечал.
– Здравствуйте, – сказал Косточкин.
Человек обернулся и ответил не сразу.
– Здравствуйте, – колюче ответил он, разглядывая Косточкина сквозь стекла очков.
– Не думал, что можно сюда пройти, – сказал Косточкин.
– Не думал? – спросил человек и саркастически осклабился. – Не думал, – повторил он и снова воззрился на прореху в крыше.
– Да, внизу там решетка…
– Внизу там решетка, – проговорил человек.
Косточкину стало как-то неуютно. Что ж приятного, когда за тобой повторяют. Косточкин отвернулся. Сквозь бойницу вместе с серым волглым светом вплывало изображение соборных куполов, золотых луковок и крестов. Косточкин приблизился к бойнице, глянул вниз. Все те же крыши. Все тот же тщетный нефотогеничный свет. Но тем не менее он достал фотоаппарат.
– А о чем же думал? – вдруг спросил тот человек.
Косточкин щелкнул затвором, посмотрел на него. Вообще этот человек, конечно, вроде бы в отцы ему годился, но вежливость все-таки не помешала бы.
– Не важно, – ответил Косточкин.
Мужчина в очках кивнул.
– В том-то и дело, – сказал он. – Отсюда и последствия.
– В смысле? – спросил Косточкин уже против желания.
Ясно было, что мужчина пребывает на какой-то своей волне и лучше не продолжать этот разговор, а уйти. Но тут Косточкин боялся выглядеть перед самим собой малодушным. С какой стати уходить? Нет, он расположится здесь, послушает Эшкрофта, позвонит Марине. Он смотрел на человека в теплом халате кирпичного цвета, то есть плаще, обвисшем и потрепанном, в меховой бурой кепке.
– В бессмыслице, – ответил мужчина. – Раз не важно, то и яйца выеденного не стоит.
«Вы здесь живете, что ли?» – захотелось спросить Косточкину. Но кроме нескольких пустых пивных банок, кирпича, смятой сигаретной пачки и окурков здесь ничего не было. А почему-то этого человека хотелось назвать именно обитателем башни. Как-то он ей соответствовал.
Но вопрос его был другим:
– Как называется эта башня?
– Нет, а как вот это называется? – спросил человек и ткнул пальцем вверх.
Косточкин посмотрел на прореху в крыше.
– Ветром? – предположил он.
Человек трескуче рассмеялся, закашлял.
– Гвоздодером! – воскликнул он и сделал такое ломающее движение руками. – Гвоздодер и лом наш ветер. И я вижу, что какой-то мазурик обогатился еще на три доски. Вот какая чертовщина. Фальшивомонетчики в прошлом. В современности – гвоздодер.
– Так эти доски кто-то ворует?
– Не ворует, а, – заговорил он поучающее, поднимая вверх палец, – забирает. Воруют частную собственность. Или государственную. А историческую – забирают.
– Разве она не принадлежит государству?
– Государству… столько ему всего принадлежит, что многое перестает принадлежать. Смею поинтересоваться: откуда прибыли?
– Из Москвы.
Мужчина кивнул.
– Москвичи любят здесь прогуляться – близко, удобно. Еще немцы. Изредка англичане. Студенты шотландцы – по душу шотландского ротмистра Джорджа, сиречь Юрия, Лермонта, пытавшегося вместе с нашим Шеиным отбить крепость, город.
Косточкин повел плечом, поправил ремень сумки и спросил:
– То есть… как?.. Отец того самого?
Мужчина трескуче рассмеялся.
– Того самого! Верно. Но не отец, он же не Мафусаил какой-нибудь, а шотландец. Век шотландца в те времена был короток, как любого другого, тем более век солдата. Вам сколько?
– Мне? – переспросил Косточкин.
– Ну Джордж лет на десять, может, был старше, когда он сложил здесь голову, на Ясенной, это речка такая. Но отпрысками обзавестись успел. До рождения того самого Лермонта оставался сто восемьдесят один год.
– Хм. А за кого он здесь сражался? – смело спросил Косточкин, поняв, что строить из себя знатока в этой викторине бесполезно.
– Ну за кого он мог сражаться вместе с Шеиным? – саркастически осклабясь, поинтересовался этот человек в длиннополом плаще.
Косточкин вздохнул. Разговор уже казался ему занудным. Мало приятного чувствовать себя школяром.
– Не знаю, – признался он.
– Не знает, – проговорил человек в плаще. – Ни за кого, ни против кого… И вообще, зачем положил голову воевода… Не сам, конечно, ее ему усекли.
– Простите, кому? – спросил Косточкин, стараясь вежливостью скрыть раздражение.
– Тому, кто отбивал город у тех, кто его занимал тогда, – ответил с хитрым прищуром мужчина в плаще. – Как думаете, кто это был, кто здесь сидел?
– Поляки? – почти наугад спросил Косточкин.
Человек в плаще потер темно-золотистые руки.
– Да! Они. И сейчас снова начнется нашествие Речи Посполитой. Да уже и началось, неделю назад целый отряд прибыл из Кракова.
Видя недоумение на лице Косточкина, он спросил:
– За новостями не следите?
Косточкин кивнул.
– Не следите, – понял мужчина.
– Нет, слежу, – возразил Косточкин. – Иногда.
– Иногда?.. Это все равно, что иногда дышу, а иногда нет.
– Есть вещи поинтереснее, – ответил Косточкин.
– Например?
– Музыка.
– А, так это – шарманка? – спросил тот, кивая на фотографическую сумку.
Косточкин улыбнулся.
– Ну, в некотором роде.
– И под мышкой ноты?
Косточкин не ответил.
– Ну так вот, – продолжил этот человек, – скоро годовщина ихнему самолету. Ту сто пятьдесят четыре. И самолет-то был наш. А президент и целая команда придворных – польские. Слыхали?
Косточкин кивнул.
– А я помню то утречко. – Мужчина сморщился, собираясь чихнуть, но так и не чихнул. – То утречко было ясным, хорошим. Я, как обычно, гулял на стене. В субботу. С утра здесь никого не бывает. И вдруг, буквально вдруг – накатило что-то, закрутился вихрь, понесло снежок, солнце задернулось. Туман пал. Как завеса. А самолет на подходе. Лех Качиньский с женкой и целой командой летели к своим мертвецам в Катыни. Пошли на снижение. И врубились в березу. В обычную смоленскую березу. Зашибли ее крылом. И все, самолет перевернулся вверх пузом и рассыпался в хлам, в клочья. – Мужчина поправил очки и в молчании уставился на Косточкина, потом продолжил: – А туман себе рассеиваться начал. Завеса поднялась. И все. Прямо как в летописи. С картинкой развалившегося Ту сто пятьдесят четыре. Летопись Радзивила номер два.
Косточкин молчал.
– Я вижу, тут хоть Радзивил номер три, четыре, – проговорил житель, наблюдая за Косточкиным.
Косточкин чувствовал, что надо высказаться, но не находил слов. Житель откровенно смеялся над ним. «Кто такой Радзивил, черт его знает! – соображал Павел. – Надо будет запросить в инете». Ему хотелось уйти уже, но было как-то неудобно. Хоть бы кто-то позвонил, Алиса или клиент, загнавший его в эти трущобы.
Он взглянул на жителя, на его красноватое лицо.
– Радзивил?
– Ага, – откликнулся тот насмешливо. – Летопись ему подарил один лесничий, наверное как раз когда этот воитель собирался ударить из Орши на Смоленск, осажденный Алексеем Михайловичем. Вот и стала летопись его имени… А так-то она смоленская, здесь ее писали-рисовали. Ведь вы фотографией увлекаетесь?
Косточкин кивнул.
– И фотография есть такое оконце из настоящего в прошлое. Ну а картинки этой летописи и называют тоже оконцами. Этих изографов и можно считать средневековыми фотографами, хе-хе, – колюче он просмеялся. – Да, так вот в апреле пять лет катастрофе.
Треснула спичка, возле лица с глубокими морщинами на щеках и на лбу закраснелась точка сигареты в мундштуке. Житель убрал длинные прямые волосы за уши и с наслаждением затянулся. А Косточкин внезапно отчетливо почувствовал аромат цветущего миндаля.
– Все-таки, – произнес задумчиво житель, – не каждый год самолет с правящей верхушкой страны расшибается. Панове, конечно, усмотрели здесь руку Москвы, кагебе… Рука Москвы махнула березой и сбила самолет, как комарика… Меньше спеси, панове! – с некоторым ожесточением воскликнул он, обращая лицо куда-то к бойницам. – Но даже со своими летчиками они спесивы, как обычно. Лети, и все.
– Пять лет назад? – переспросил Косточкин.
– Да, пять лет.
– Я был как раз в Испании, в апреле.
Человек в плаще остро взглянул на него.
– В Испании? Десятого апреля десятого года?
– Наверное, мы как раз бродили по Барселоне или по Толедо.
– Вот как… запросто.
Косточкин кивнул.
– Ну да. А что такого?..
Житель трескуче – как будто черкали у него во рту десятки спичек – рассмеялся.
– Что такого, – повторил он, кривя тонкие губы и вдруг делаясь похожим на кого-то, да, на какого-то музыканта, композитора. Косточкин никак не мог вспомнить, на кого именно. – Наверное, и с этим своим аппаратом?.. В Толедо жил Эль Греко. Сервантес. Ортега-и-Гассет… если эти имена что-то для вас значат.
– Увы, не повстречал, – саркастически откликнулся Косточкин, – ни на улочках, ни в кафешках, ни в гостинице.
– В кафешках, – брезгливо повторил житель. – Толедо… – Он затянулся. – Толедо древен, как Смоленск. Смоленск он и напоминает. Что, не заметили? – тут же спросил он, увидев вскинутые брови Косточкина. – Надо не просто смотреть, а еще и видеть.
– Спасибо за совет, – отозвался Косточкин.
Житель покачал в раздумье головой.
– Здесь, конечно, нет ни Эль Греко, ни Сервантеса… Но кое-что имеется. Не столь… выявленное. Тахо там шире Днепра? Фотографии могут врать.
– Да, – тут же отозвался Косточкин.
– Что? – спросил житель, глядя цепко сквозь дымок.
– Насчет фотографий вы правы… А речка примерно такая же.
– Всюду камень, лабиринты? – продолжал расспрашивать житель.
Косточкин подтверждал. Житель выглядел удовлетворенным. Но вдруг спросил:
– Алькасар… чистый?
– Чистый, – сказал Косточкин, припоминая, что это крепость на горе. – Там ведь большая библиотека, музей армии.
И тогда житель погрузился в мрачное молчание, яростно затягивался сигаретой, осыпая пепел прямо на плащ, и глядел в сторону.
– Ну да, Боря говорил то же самое… Хотя он там был еще студентом.
– Возможно, и здесь надо устроить что-то такое… – проговорил сочувственно Косточкин. Тут у него мелькнула мысль, что этот человек как раз и есть представитель какого-нибудь ведомства, отдела культуры, музея или… Что он здесь вообще делает? Забрался покурить?
Житель ничего не говорил.
– Ладно, пойду дальше, – проговорил Косточкин.
– Дальше нет хода, – очнулся житель. – Попы перекрыли доступ к Лучинской, чтоб не мешали им… всякие фотографы.
Косточкин приостановился.
– К Веселухе?
Житель снова трескуче просмеялся.
– Это аберрация. Истинная Веселуха не там, не возле семинарии.
Косточкин с сомнением глядел на жителя. Тот вытащил окурок из мундштука, поплевал на него и спрятал в пачку – докуривать, что ли будет? Но там уже нечего курить.
– А где же? Мне говорили…
Житель махнул рукой.
– Ерунда. Заблуждение. Вон истинная Веселуха. – Он указал рукой через бойницу на ту башню, от которой Косточкин и пришел.
– Про которую и написана книга? – уточнил Косточкин и запнулся… – Э-э…
– …ттингера, – подхватил житель. – Федора Андреевича фон… Путаница в головах – наше обычное состояние. Была Веселуха, теперь – Орел.
– Что это означало?
– Веселуха? Радуга. А может, девка с расписным коромыслом. Такой обычай был: приносить градостроительную жертву. Мужики, что строили крепость, условились: кто первый подвернется, того и замуруем. И тут вышла девка к речке Рачевке, там внизу течет.
– Это легенда?
Житель усмехнулся и ничего не ответил, только блеснул ртутными стеклами.
У Косточкина мелькнула мысль насчет свадьбы. Лед к тому времени растает, можно будет и подняться сюда… И что, пригласить проводником этого жителя? Вот сам Косточкин уже запутался, где какая башня. Хотя для свадьбы это все и не обязательно. Но Косточкин все-таки переспросил:
– Так где ее замуровали?
Житель вздохнул и развел руками.
– На самом деле никто этого не знает.
Косточкин засмеялся.
– Хорошо! Пойду поищу.
– Может, этой башни уже и в природе нет! – крикнул ему вдогонку житель. – Было тридцать восемь, осталось четырнадцать.
– А пишут, восемнадцать?
– Врут, как обычно. Хочется выглядеть эффектнее. Подлинных, не перестроенных башен четырнадцать и даже того меньше: тринадцать.
– Тринадцать?
– Да, такой счет нам выставили: двадцать пять – ноль в их пользу. Наши казаки ни в Варшаве, ни в Кракове, ни в Париже башен не взрывали. Мазурикам хотелось выглядеть благородно!.. А надо было взрывать, – закончил он, взмахнув рукой, как полководец, отдающий приказ, и яростно блеснув стеклами очков.
Косточкин остановился и с новым интересом воззрился на этого человека в меховой кепке и теплом мешковатом плаще.
– Что смотрите? – с вызовом спросил незнакомец. – Сами посчитайте. Было тридцать восемь прекрасных башен, радующих взгляды купцов, идущих на корабликах по Днепру, странников, гостей. Годунов-то не просто рек про крепость, дескать, ожерелье Руси. На холмах башни и прясла, выбеленные и крытые черепицей, над синим Днепром, посреди зеленых лесов ожерельем и сияли. Таких крепостей не много на свете. А в каждой башне – своя девица Веселуха. Только дураку башни кажутся нагромождением кирпичей. Вы приложите руку-то… Приложите.
Косточкин невольно повиновался.
– Ну что? Слышите? Есть ток? Движение лет? Кровь?..
Косточкин смущенно кашлянул в кулак.
– Мне просто стало любопытно, – сказал он.
– А! это уже хорошо! – воскликнул житель. – Пушкину иногда надо противуречить. Что же любопытно-то?
– Если бы, допустим, среди штурмующих и взрывающих оказались испанцы… – начал Косточкин.
Житель его тут же перебил.
– Они там точно были. Кого там только не было! Солдаты удачи. И у Наполеона, и у Сигизмунда. Сигизмунд Третий сам-то вообще был прочим шведом. У него, например, служил знаменитый французский капитан Жак Маржерет.
– Об этом я и подумал, – сказал Косточкин.
– О капитане французе?
– Нет, об испанцах…
– Мог бы среди них быть Сервантес? – догадался житель. – Ну, во время осады города войском Сигизмунда он был жив, ему исполнилось тогда около шестидесяти, но левая рука у него была неподвижна из-за ранения в морском сражении, да и правая была занята: он как раз писал вторую часть своего романа… Так что – вряд ли. Но фантазия у вас есть, определенно.
– Да нет, я только хотел уточнить, следовало бы разрушить Алькасар в таком случае? Ну если бы русские – и вы в том числе – ворвались в Толедо?
Житель мгновение смотрел на Косточкина и, погрозив ему пальцем, рассмеялся трескуче, хотя и не громко.
– Толедо наш метафизический побратим.
– Да?.. – растерянно переспросил Косточкин. – В каком смысле?
– Подумайте об этом на досуге, – ответил житель, насмешливо, но и доброжелательно глядя на Косточкина сверху – тот уже начал спускаться по ступеням и сейчас выглядывал из ниши, похожей на суфлерскую будку.
Косточкин кивнул, хотел еще о чем-то спросить, но раздумал и, попрощавшись, пошел вниз.
Он спустился по сухим ступеням и оказался на втором ярусе. «Странный тип, – решил он, глядя вверх, на дощатое перекрытие. – Что он тут делает?»
Будь Косточкин журналистом, он подождал бы не очень приятного, но интересного незнакомца, чтобы разведать по-настоящему, что он за птица, но фотограф Косточкин шел дальше и уже оказался снова на стене. Озираясь, думал о будущей фотосессии.
Съемки на фоне города: собора, той вон красной церкви на горе.
Сейчас атмосфера была унылой, но при хорошем освещении все может преобразиться. Лучше бы, конечно, вообще дождаться настоящей весны, когда распустится листва. Эти черные сады в оврагах, возможно, зацветут. «Что значит возможно? Конечно, зацветут… Не посоветовать ли подождать клиенту?» С самим Вадимом Косточкин так и не встретился, договор и аванс ему привез какой-то парень, вежливый, крепкий, не поймешь, то ли клерк, то ли браток. Бывают и клерки крутые. Рекогносцировка эта, конечно, прихоть клиента. Похоже, что он просто всячески старается угодить своей избраннице.
Косточкин улыбнулся, подумав внезапно об их свадьбе с Мариной. Взять и приехать сюда. Ошарашить Жанну Васильевну и Георгия Максимовича.
Он инстинктивно оглянулся и увидел в проеме между бойниц башни тускло бликующие очки. Тут же вынул камеру, быстро навел и щелкнул. Убит.
Направился дальше.
«Да, убит, – думал он, – обездвижен навсегда. Но странным образом навсегда и жив. Тут какое-то старорежимное соединение мертвой воды и живой, ага. Кстати, в пленочной фотографии это было еще яснее».
Он дошел до круглой башни. Сверился с картой. Эта башня называлась так: Орел. «Орел со сгоревшими крылами», – подумал он, учуяв запах гари. Наверное, поляки, явно не любимые тем жильцом в меховой кепке, устроили бы все здесь по-другому. Или китайцы. Вон как нянчатся со своей стеной. Платные экскурсии, фильмы. А у смолян – башня как урна, помойная яма. Черт, где же тут вообще логика?
Но и в речах того жителя в меховой кепке и мешковатом плаще логики не было. От речей явно разило мутным местничеством, но как понять почти благоговейное умильное выражение, с каким он вдруг заговорил об Испании, точнее о Толедо?
Косточкин вспомнил дождь в Толедо, мокрые камни, вкус риса со свежим лососем, густо красной пряной сангрии со льдом… И еще какой-то торговец, похожий на нашего грузина или армянина, хотел подарить Маринке цветок, но они уже уходили, и тогда синебритый мужик просто бросил, но эффектно, театрально, цветок им вслед. Маринка в цветастой юбке из шелка, в блузке с открытыми, спелыми, едва загорелыми плечами привлекала взоры испанцев, что в Толедо, что в Барселоне. И Косточкину приходилось хмуриться, бычиться, как замечала Маринка. А как иначе? Если ты во вражеском стане.
Но что там такого особенного в этом Толедо? В Барселоне было интереснее.
А, ну да, жителю взбрела в голову блажь сравнивать Толедо с этим унылым облезлым городом, видимо, только и всего. Что-то ударило в голову. Сравнение, конечно, уморительное. Чистый великолепный Толедо в Испании считается местом провинциальным, но в сравнении с этим городом осыпающихся стен – он мировая столица.
Между бойниц стояла пустая бутылка из-под шампанского, в снегу валялись пластиковые стаканчики, пробка, окурки. То есть это бывшая Веселуха. А следующая? Сверился с картой. Следующая – Авраамиева.
Косточкин дошел до следующей башни. Вход в нее был прочно перекрыт железом, просто слепой кусок железа, и все. Что ж, может и правильно. Он воткнул наушники в уши и включил «The Verve». А что, неплохо! «Северная душа» над хмурым депрессивным западным русским городом с разбитыми дорогами и рухнувшими перекрытиями башен. «И я ищу способ вернуться домой». Косточкин под музыку хотел раскинуть руки, чтобы немного полетать, выронил фолиант, перехватил его уже в воздухе – и вместе с книгой как будто и новую мысль поймал: о таком альбоме, где каждая песня была бы башней.
Да нет, дурацкая, конечно, идея, «Стена» «Pink Floyd» все заслоняет. «Вот уж точно – тень на плетень», – подумал Косточкин. А все-таки…
Но все-таки хороший сюжет для лирической песни. Парень той девушки по имени Веселуха, то есть Радуга, ходит всюду, ищет. Слышал о жертве. Но не знает точно, где она была. И ходит от башни к башне, зовет, прислушивается. Приступает к строителям с расспросами, грозит им… «А сколько, этот житель говорил, всего их было?.. Тридцать восемь? Ого, слишком много песен для одного альбома. Тут какая-то опера намечается».
Косточкин подумал о своем знакомом музыканте, Корольке, который то собирает группу, то разгоняет, чистый Эшкрофт. Но он уже представил его двухметровую фигуру, лоснящиеся щеки, длинные сальные волосы, заметный живот. Эшкрофт денди. А главное – гениален. Ну или талантлив и не ленив. А Королек живет на ренту: сдает квартиру, доставшуюся от родственников, сейчас многие москвичи так делают. Потому и застрял где-то в подростковой подражательной музычке. Он никогда не напишет и треть такого альбома. Только и может раздувать щеки, сбивая пивную пену с кружки… Хотя парень хороший, добряк. Возится с собаками, выступает против догхантеров, собирает подписи протеста. Даже попытался концерт протеста организовать, пригласить Ника-рок-н-ролла, Кролика, Манагера. Да ничего не вышло. Забуксовало мероприятие, как и все у Королька. А Косточкин уже сделал пару рекламных фотографий для постеров: Королек со своим английским сеттером, его подружка с беспородной псиной. Все это называлось «догрок». И Королек сочинил песенку на стихи Есенина «Дай, Джим, на счастье лапу мне», и получилось у него… ну уж не хуже, чем у «Сплина», чем у Дмитрия Студеного, «Очумелых ручек», Кобзона и Джигурды. У него вышло такое бормотание, как будто бомж с похмелья бормочет породистому псу.
Косточкин усмехнулся, вспомнив бормочущего под гитару и трясущего грязной гривой Королька, текущие по его щекам струйки пота. Артистизм в нем есть, сам был похож на пса, когда пел.
Но все это недорок, хоть дог, хоть еще какой-нибудь панк. Недород.
А «Северная душа» Эшкрофта хороша. Вот название. Будь какая-нибудь, ну, «Английская душа», – Косточкин сморщился, как будто лимон ел. Или, например, «Южная». Или «Восточная», «Восточноевропейская». «Русская». Нет, нет, нет. Только «Северная». «Посмотри в мои глаза, / Услышь мою ложь, и после я отпущу тебя в ночь».
Посмотри, да. Услышь ложь. Но он-то не врет ни музыкой, ни стихами. Все так.
«Я вплываю в твою комнату по реке этих звуков».
Косточкин вернулся к круглой башне Орел, экс-Веселухе, постоял, подумал и, вытащив наушники, вдруг прислонился к кирпичам щекой, прижался ухом. Древние кирпичи странно шуршали, как некие большие темно-красные бабочки с плотными крыльями в белых прожилках… Но тут он уловил запах гари, вспомнил о груде хлама и бутылок в этой башне, оттолкнулся от стены, отряхнул ладони, провел рукой по щеке, поправил шапку, снова вдел наушники и начал спуск под «Drive You Home», «Отвезти тебя домой», медитативную, протяжную. Фонарик не доставал, просто постоял немного, привыкая к темноте и слушая Эшкрофта. И пошел вниз. Сухие ступени. Потом поворот. Под ногами уже был лед. Ощутил вибрацию мобильника. Кто-то звонил. «Ладно, внизу отвечу, перезвоню», – подумал он, но рука сама скользнула за пазуху, к мобильнику. И в тот же миг Косточкин потерял равновесие, увидел раскрывшуюся перед глазами книгу и полетел следом, клацая зубами. «Фотоаппарат!» – хотелось заорать ему, как будто криком можно было что-то спасти. Из ушей вырвались наушники с расслабленным голосом Эшкрофта. И Косточкин почувствовал, что его как будто схватили под уздцы мощной рукой.
Часть вторая
7. Дубрава Зеновича
Утро было чудесное: золотая дубрава благоухала флорентийским вином, и небо сквозь корявые мощные длани с перстами желудей сияло персидским бархатом, собаки вилькийского лесничего Станислава Зеновича, голубоглазого, плечистого, с перебитым носом и львиной шевелюрой до плеч, звонко лаяли, гонясь за бизоном, как его нарек Плиний, а в этих глухих лесных краях называют зубром. Был он масти поджаристой – бурая с черной, как в виршах охотника и пиита, коими потчевал хозяин радушного дома на взгорке у озера своего гостя и друга, тезку этого пиита, сочинившего для Рима, для Льва Папы «Песнь о зубре». Пенилось пиво, трещали жарко дрова в каминах, прыскал жир печеной рыбы, литовский холодец – похлебка со свекольной ботвой, огурцами, сметаной, яйцами и рубленым мясом – наоборот, студил зубы, а сынок Зеновича, малорослый Варфоломей, читал сии вирши, на латыни, понятной всем, кроме слуг. Хотя и им кое-что было ведомо. Urorum – се зубр, понимали они. Mane – грива, cornibus – рога, silvestre – дикий, rugiet – рык, pecus – зверь, venator – охотник, nocte stella – полночная звезда, Rzeczpospolita – Жеч Посполита, Речь Посполитая, densa silva – пуща, testimonium – медведь, sanguinem – кровь, Arma – оружие, Deus – Бог, In christiana fide – христианская вера, maleficus – колдун, Dnieper – Днепр, река, что и проистекает из тех… из тех краев, где служил друг и гость лесничего – Николай Вржосек.
У Варфоломея голос был чист и сочен:
– In medio quaedam populo spectacula Romae…[2]
Это была поэма о зубре, герой сначала описывает бой быков в Риме, а потом охоту на зубра в диких лесах родины.
И охота покатилась ранним утром лаем собак, топотом лошадей, возгласами людей в волчьих шапках и резкими вскриками птиц, пырскающих из древесных укрывищ. Пар летел из ноздрей лошадей, синий воздух ожигал лица. Весь мир лежал в тонком налете серебра, и в какой-то момент Николаю Вржосеку почудилось, что он зрит – нет, не зрит, а сам там находится, несется на своем вороном рысаке, сжимая его бока ногами в высоких шведских сапогах, потертых и кое-где потрескавшихся, но еще достаточно крепких, – в живой и необычной миниатюре, картинке, как будто еще одной из череды тех, заветных, что собраны под досками, обтянутыми тисненой кожей красновато-коричневого цвета. И то, что все летит, качается и дрожит, лишь усиливает подлинность впечатления, выявляя ту же нервную руку изографа: на картинках из книги лошади также двоятся, и деревья, и люди…
«Хав! Хав!» – лаяли псы лесничего.
Картинки из книги обрываются на великом походе воинства русского на половцев: кровь, отрубленная голова, всадники, – и последней: пострижение в монахи одного из героев этого похода – князя Рюрика Киевского и пленение его жены и дочки, коих соперник князя и союзник по походу тоже постриг. И в этих двух миниатюрах – вся история русичей.
Но дерзкое воображение бывшего хорунжего, а ныне поручика Николая Вржосека рисовало давно, с тех самых пор, как он оставил крепость на Днепре, многие иные миниатюры, и сейчас он был как будто героем еще одной. Мчался на вороном рысаке в клочьях пены, стискивая древко копья и метя его в горб мощного зверя… Как вдруг тот остановился и начал поворачиваться. Непостижимо, но звериное чутье точно подсказало этой горе с рогами, что впереди, за елками – частокол загона, и если бы зубр не остановился, то вогнал бы рога в бревна, расшиб широкий курчавый лоб. Поручик натянул поводья, собираясь поднять рысака на дыбы да и всадить тяжелое копье с отточенным лезвием в зверя, но в этот момент конь оступился, попал ногой в ямку, скрытую мхами, провалился, и Вржосек услыхал хруст тонкой и сильной ноги своего верного скакуна, отчаянно заржавшего… А самого поручика выкинуло вперед, будто горшок с нефтью из осадной катапульты, и он упал, да так глубоко вогнал копье в землю, что сразу не смог его выдернуть. Зубр действовал быстрее. Напружинился и метнулся прямо на рысака, повалившегося на бок, вонзил черный рог прямо в выпученный белый шальной глаз, ударил копытом, раздирая кожу на брюхе, и кровь, разгоряченная погоней, ударила веером, забрызгивая быка, поручика, простоволосого, с выбеленными временем усами, с белыми прядями в черных волосах. Так и не сумев выхватить из земли копье, Вржосек со звоном обнажил саблю. Но бык, бык не татарин или казак, не русич, не швед или немец в панцире, он просто повернулся темной, роняющей пену из пещерных отверстий горой и смел поручика, как былинку или комарика… хотя был тот умелым воином. Вржосека эта звериная мощь отбросила на елки, и он с изумлением и болью понял, что это никакая не миниатюра неведомого изографа и не строфа из стихотворной песни, а – жизнь, жизнь, которая сейчас же оборвется.
И так бы и случилось, если бы не подоспел сынок Зеновича в красном жупане и рысьей шапочке да не выцелил из штуцера яростного бородатого зверя – грянул выстрел, и бык замотал кудлатой башкой, разбрызгивая алую краску вперемешку с белой. А парень, описав круг на своей белой лошади, схватил копье и ловко метнул, вогнал его в горб. Тут подоспели и остальные, и сам пан лесничий. На зубра посыпались удары, раздались выстрелы. Пан Зенович соскочил тяжело с коня и поспешил к товарищу.
– Пане-брате, Николаус! – восклицал он, протягивая ему руки и опускаясь рядом с ним на корточки, сдергивая перчатки.
Николай Вржосек, если бы мог видеть себя, то узрел бы пожилого мужа в коричневом плаще, мышиного цвета жупане, простоволосого, с широко раскрытыми глазами, с растрепавшимися еще густыми волосами, тонкими чертами и лицом цвета утреннего серебра. Муж сей, запачканный грязью и кровью, полулежал на еловых опущенных лапах. Деревца как будто придерживали его… Жупан намокал кровью, обильно сочившейся отовсюду. Вржосек чувствовал, что его со всех сторон проткнули, как будто ловкие лихие крымчаки-татары налетели обычной ордой и превратили своими стрелами с орлиным оперением польского поручика в подобие птицы. В днепровских степях он видел такую забаву татар: первый сбивает летящую птицу, утку ли, гуся, а то и лебедя, и остальные, пока жертва падает, успевают пронзить ее своими стрелами, с гиканьем, улюлюканьем, так что птица превращается в какого-то ежа и шаром свистящим падает на землю, а потом, кто первый этот шар подхватит, тому и достанутся все не сломавшиеся стрелы.
Он приложил ладонь к губам – и та стала красной.
– Николаус! – снова пытался дозваться лесничий, склоняясь над ним.
Вржосек с трудом различал его лицо, оно двоилось снова, как рисунки летописи…
Очнулся он уже в покоях просторного загородного дома лесничего. Что-то звякало. С бульканьем лилась вода, горели свечи, потрескивая. Вржосек увидел девушку в темном платье с рыжим ореолом волос. И не сразу узнал служанку лесничего. Она прикладывала к его лицу влажное холодное полотенце. И, заметив его взгляд, ахнула. Тут же пришли жена лесничего пани Диана, высокая, кареглазая, с копной каштановых волос, и сам лесничий.
– Николаус! Пане-брате! Наконец-то! Viva valeque! Mea culpa[3].
Николай Вржосек попытался поднять руку и жестом отмести сказанное, но тут же огненная волна боли яростно качнула его, и ему снова померещились десятки стрел, торчащие в боках, в животе, в спине – всюду, и он застонал, сжал зубы.
– Virgo María![4] – воскликнула служанка.
– Вытащите же… – прохрипел Вржосек.
– Ах, что, мой друг? – спросила Диана, склоняясь над ним.
– Стрелы… – простонал он.
– Так нет же стрел! – воскликнул лесничий. – Нет. Тебя, пане поручик, твоя светлость, зверь помял, злой зубр. За что он уже лишился своей шкуры. Мой сын спас тебя. Потерпи! Я послал в город за лекарем, он скоро будет. А пока не попробуешь ли, твоя милость, выпить водки просяной? Все же станет легче…
Но Вржосек лишь замычал.
Лесничий начал мерить комнату шагами. По стенам двигались тени.
– Mea culpa, mea culpa, – бормотал лесничий.
…Вдруг собаки подняли лай. Лесничий сразу направился к выходу.
– Это лекарь, – сказала пани Диана.
И действительно, через некоторое время в комнату вошли сын лесничего, сам лесничий и черно-курчавый человек в круглых очках на внушительном носу.
– Пан Гедройц! Как мы вас ждали! – заговорила пани Диана, направляясь к нему и всплескивая руками.
Пан Гедройц, известный в Новогрудке лекарь, уже снял верхнюю одежду. Очки его запотели, лицо раскраснелось от быстрой езды. В руке он держал сундучок. Ему тут же подали стул и второй для сундучка. Но он лишь поставил на стул свою ношу, а садиться не стал. Вржосек вперился в него сквозь волну огненной боли. Пан Гедройц достал платок, снял очки и начал протирать стекла. У него были бледные тонкие руки с длинными пальцами.
– Сстрелы… – простонал Вржосек.
И лекарь слепо уставился на него.
– Пану Вржосеку бредится, – негромко объяснил лесничий и прокашлялся. – Мы были не в новом набеге на татар или русинов, а охотились.
Пан Гедройц нацепил очки и кивнул.
– Я понимаю.
Он склонился над Вржосеком и решительно потянул за край покрывала, делаясь похожим на какую-то птицу… довольно зловещего вида. Пани Диана и служанка отвернулись. Лесничий и его сынок смотрели. Лекарь обнажил торс Вржосека. Вокруг ребер запеклась черная кровь. В одном месте из порванной кожи торчало костяным наконечником сломанное ребро. В других местах кожа бугрилась и готова была вот-вот прорваться. Пан Гедройц бесстрастно рассматривал раны, потом потребовал теплой воды, водки, раскрыл свой сундучок. Лесничий наблюдал за ним. Теплая вода понадобилась, чтобы обмыть торс Николая, и водка тоже. Лесничий думал, что водкой лекарь будет поить Вржосека. Нет. Вместо водки пан Гедройц наложил на нос Вржосека чем-то смоченную губку. Каким-то разогретым предварительно на огне свечей раствором. Лесничий полюбопытствовал, что это. Пан Гедройц не ответил, лишь презрительно качнул головой. Объяснил его подручный, светловолосый круглолицый малый:
– Смесь опиума, сока ежевики, белены, молочая, мандрагоры, плюща и семян латука, ваша светлость.
– Сейчас твоя светлость уснет, – тут же объяснил догадливый лесничий Вржосеку, – и пан Гедройц удалит эти стрелы.
Лекарь помалкивал, поджимал губы, хмурил брови. Капли жгучего раствора стекали по щекам Николая Вржосека.
– Дышите, дышите глубже, – проговорил Гедройц.
Николай Вржосек хрипло, рвано дышал. Глаза его туманились, но не закрывались.
– Bonum![5] – решительно сказал Гедройц и обернулся к своему слуге. – Надо пожечь.
Он велел слуге надеть повязку на нос и рот и себе таковую нацепил. Слуга налил раствор в железную плошку с рукояткой, обмотанной тканью, а лесничий сам поднес толстую свечу и так держал ее над Николаем Вржосеком, отвернувшись и стараясь вовсе не дышать, пока ему не завязала на лице свой платок пани Диана. Раствор зашипел, по его поверхности пошли пузырьки. Гедройц приставил к лицу Николая что-то вроде кожаной маски, и пары раствора устремились по назначению.
– Bonum, bonum, – все тише и тише, ласковее говорил Гедройц.
И черный огромный бык медленно выходил из загона, хлеща себя по бокам сильным хвостом, но все реже и реже… Эти удары совпадали с ударами в проткнутой стрелами груди. По-видимому, на быка действовал успокоительный голос:
– Bonum, bonum…
Варфоломей, сынок лесничего, снова собирался читать «Песнь о зубре». Любопытно, что эту песнь сочинил тоже сын лесничего… А Николай Вржосек стал одним из ее героев в это солнечное октябрьское утро, озарившее поля и дубравы в серебре.
Ах, как сладок был этот свежий осенний винный воздух, как ярки краски, Iesu![6] Словно некий щедрый изограф окунал кисть, перо и выводил линии…
Или это уже было?
Утро, дубравы с тенями, лай собак, топот и мысли о том, что все лишь продолжение его заветной книги… за которой он много лет назад и отправился в крепость на востоке.
Тогда воздух был еще чище, а краски ярче.
8. Замок
Наконец Николай Вржосек увидел город, о котором много слышал. Его называли яблоком раздора между панами и московитами. В замке больше двадцати лет нес службу друг его отца Григорий Плескачевский. Устав отговаривать сына, пан Седзимир Вржосек, уже больной, с одышкой, написал письмо своему другу, которое и вез его сероглазый и черноволосый Николаус.
Город открылся внезапно, дорога вышла из соснового духовитого леса, поднялась на холм, и слева в зеленеющих сквозь прошлогоднее былье лугах показалась серая течь реки, а впереди, выше по течению забелели стены и башни.
– Clavis Moscuae![7] – воскликнул, указывая булавой, черноглазый пан Мустафович в синем кафтане, подпоясанном желтым кушаком, в шапочке, отороченной собольим мехом, на котором сейчас оседали капельки влаги. Этот татарин, получивший за верную службу королю пожалование в христианскую шляхту, и вел отряд жолнеров[8] в далекий восточный город.
– Или Klucz Litwy[9], – откликнулся смоленский дворянин Бунаков, останавливая свою пегую лошадь подле Мустафовича.
Мустафович взглянул на безусое лицо Бунакова, задержал взгляд на его крупном носе, на который как будто насадили желтоватую репку, хотел что-то ответить, но тут взграяли вороны, снимаясь стаей с сухого великого дерева на обочине грязной мокрой дороги. Навстречу обозу скакали с десяток всадников, на древках копий развевались флажки. Это был сторожевой разъезд. Моложавый офицер с короткой бородкой приветствовал Мустафовича.
– Vivat rex![10]
Произошла заминка. Мустафович оглянулся на сопровождающих и снова воззрился на старого вояку.
– Как… вы еще не оповещены о скорбном дне Речи Посполитой?
– О чем вы говорите, ваша светлость? – громко спросил офицер.
– Król umarł![11] – не выдержал коренастый рослый Бунаков.
– Dziewica Maryja![12] – откликнулся пораженный вояка и, сорвав с головы шапку, осенил себя крестным знамением.
То же самое сделали и его всадники, а за ними и те, кто прибыл с этой вестью и находился поблизости. С минуту все молчали, только слышен был грай летящей уже над серой свинцовой рекой вороньей стаи да фыркали лошади и скрипели не останавливавшиеся подводы.
– Но как же так вышло, сударь капитан? – спрашивал Мустафович. – Вас не известили до сих пор?
Капитан с красноватым морщинистым лицом смахнул капельки влаги с жесткой щетки усов. Нет, он был далеко не молод, а почти стар, но держался молодцевато.
– Мы живем у черта на рогах. Даже если рухнет Рим, здесь об этом узнают век спустя!
Он начал расспрашивать Мустафовича о смерти короля Сигизмунда Третьего Вазы. Божьей милостью король польский, Великий князь литовский, русский, прусский, мазовецкий, жмудский, ливонский, а также наследный король шведов, готов и венедов Сигизмунд Третий Ваза скончался в апреле, было ему шестьдесят пять лет. У короля был старший сын Владислав, достойный претендент на престол, но покуда трон в Вавеле, не восстановленном полностью после пожара тысяча пятьсот девяносто пятого года и заброшенном королем, но остающемся замком для коронации, был свободным, избрание и утверждение короля по заведенному порядку еще не состоялось. Конституция запрещала простую передачу власти по наследству. Короля должны были избрать, и стать избранником мог любой шляхтич. Наступило междуцарствие.
Отряд и решено было срочно направить в Смоленск для укрепления гарнизона в это тревожное время. В нем было семьдесят кавалеристов: двадцать рейтар в черных доспехах, с пистолями и длинными мечами, на сильных тяжелых лошадях и пятьдесят товарищей панцирной хоругви с волчьими хвостами на плече, с луками, саблями и пистолями, на быстроногих лошадях, сто двадцать два польских пехотинца в голубых длиннополых – полы все были перепачканы грязью – жупанах, с красными галунами поперек груди, в шапках-мегерках, с мушкетами и кожаными сумочками для пуль и зарядов на ремнях через плечо; восемьдесят шесть немецких ландскнехтов в шляпах с перьями, в камзолах, с мушкетами; а также двадцать семь пушкарей и много пахоликов.
Разъезд двинулся дальше мимо подвод. Проезжая мимо Николая Вржосека, старый капитан задержал взгляд на его лице. Вржосек выпрямился, поправил волчий хвост на плече, капитан приостановил было лошадь, но тут же тронул ее, за ним следовали его всадники. А отряд достиг уже сухого серого и как будто каменного древа, мокрого после ночного дождя.
Весна выдалась дождливой и хладной. Хотя позади было теплее. Сады над Вислой уже цвели, и крестьяне вовсю работали в полях. А здесь леса только покрылись прозрачной и какой-то хрупкой зеленью. В полях вязли лошади, только стаи птиц – скворцов, аистов, журавлей – и выдерживала перезимовавшая пашня. Где-то обоз пересек незримую границу, это произошло незаметно, Вржосек не мог вспомнить, где именно. Может, когда пересекли Березину или эту знаменитую реку, греческий Борисфен, Dnieper[13], в которой по глупой случайности, оступившись, утонул один веселый пахолик[14], любивший подразнить своего товарища, их перепалки всех забавляли, пока господин, тучный пан Брацлавский с усами до плеч, пучеглазый и щекастый, не сверкал на них очами и не покрикивал, но голос у него, как это зачастую бывает у толстяков, отличался слабостью, и это всех смешило еще больше… Течение сразу подхватило его. И никто не успел ничего предпринять. Люди остолбенели, услыхав клокочущий, захлебывающийся вскрик – и все, только круги пошли. Его товарищ не хотел лезть в воду, но пан Брацлавский уже без шуток замахнулся на него сабелькой. И тот слез в исподнем в холодную воду… да ничем уже пособить не мог. Нырял, выныривал, безумно озирался на Брацлавского, отплевываясь и откидывая с лица налипающие пряди длинных волос, и снова нырял. Веселый пахолик не умел плавать. И все помрачнели, сочтя событие дурным знаком для обоза. Брат-бернардинец Мартин из монастыря в Прасныше, тоже направляющийся на службу в крепость на востоке, принялся читать «Отче наш»: «Pater noster, qui es in coelis! Sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua…»[15] Холодный ветер будто слизывал слова латинской молитвы с бледных узких губ брата в шерстяном черном плаще с капюшоном, подпоясанном веревкой, и тут же развеивал их бесследно над широкой течью весеннего Borisphen[16]. Эта река с криками диких уток, текущая в глиняных берегах, покрытых кривыми березками и ивами, с ржавыми потеками родников в обрывах, казалась совершенно чужда высокому строю латыни.
Эта чуждость проглядывала и в лицах паромщиков, крестьян, выходивших из жалких изб, крытых соломой, в лицах куда-то бредущих длиннобородых странников с котомками, сучковатыми посохами, в лаптях, заляпанных грязью. Николай Вржосек до сей поры не покидал пределов коренной Польши, учась в ближнем граде, в Казимеже Дольнем, городе в низовьях Вислы, среди Пулавских холмов, с двумя королевским замками. На самом деле никакого короля в этих замках не было, так они назывались потому, что были построены Казимиром Великим. Да… этот король оставил после себя каменную Польшу, он много строил. И был похож, как говорили, на другого кровожадного владыку – как раз правившего на востоке, на русского Иоанна Лютого. Погиб любвеобильный и беспощадный король на охоте, от клыков всего лишь вепря, кто бы мог подумать. В детстве Николай с друзьями наслушались страшных историй о Казимире, бродящем по замку и его окрестностям, – в окрестностях тень короля снова охотилась на вепря.
Кому-то, тем же евреям, понастроившим в Казимеже своих синагог, и торгашам всех мастей этот ладный городок с огромными складами, полными соли, смолы, древесины, а главное – зерна, которое отправлялось по всем городам Вислы до моря, казался отличным местечком: торгуй и богатей! Седзимир Вржосек, отошедший от ратных дел из-за ран и гнетущих лет, с головой погрузился в торговые операции, невзирая на запреты аж двух Конституций[17]. И он хотел, чтобы сын – ну не торговлей занимался, а вел жизнь рачительного сельского шляхтича в своем имении. А уж отец постарается добиться для него положения – старыми дружбами и злотыми. Но Николаус мечтал о другом и уже договаривался с подозрительным вербовщиком о походе в Крым, где тамошние татары выступили против Порты. Шахин-Гирей, брат хана Махмеда Третьего, надеялся на помощь запорожских казаков и радных панов и присылал своих людей. Восток манил юного Вржосека. И тогда Седзимир решил, что самым разумным будет отправить единственного сына на службу тоже на восток, к своему другу. Пусть там перебродит это резвое вино юности. По крайней мере, это не авантюра Шахин-Гирея, а с русским царем заключен мир. Правда, как раз через год срок перемирия истекал… Что ж, вот и опасность… Да и вряд ли русский царь не захочет его продления. Речь Посполитая грозна и мощна как никогда. Ее гусары с шестиметровыми пиками и крыльями за спиной – олицетворение силы Короны, равных им нет в Европе. Отменны пушкари, и у них поистине дьявольские орудия: не устоять ни стенам, ни людям. Но главное – гусары. При Клушине семь тысяч гусар заставили бежать тридцать пять тысяч московских ратников! Земли Речи Посполитой простираются от моря западного и почти до моря южного, лишь Крымское ханство преградой. Корона торгует со всем миром. Дух свободы здесь торжествует: «Равенством поляки превзошли все иные королевства: нет в Польше никаких князей, ни графов, ни княжат. Весь народ и вся масса польского рыцарства включается в это слово “шляхта”»[18]. По всей стране двадцать типографий печатали книги без устали. Тогда как в Московском царстве, по слухам, одна или две.
Это было первое большое путешествие молодого шляхтича. И он с великим любопытством смотрел вокруг. Странники с развевающимися на холодном ветру бородами, поля, холмы, уходящие за горизонт, будто библейские киты в море… – да, вот именно какие-то воспоминания о Книге и оживали при взгляде на все это. Определенно возникало ощущение древности, из каменной страны обоз входил в землю деревянную, как будто из настоящего они переходили в прошлое. Нет, тут даже не страницы из Библии мерещились, а скорее какие-то позабытые детские сказки, предания. Все казалось диковинным, диким. И реплика Мустафовича о том, что вот они и влезают в медвежью берлогу, показалась очень удачной. Бунаков рассмеялся. У него был странный смех, начинавшийся громово и затем переключавшийся в высокий заливистый регистр, как у мальчишки. Силы он был примечательной: когда одна подвода застряла в колдобине, просто нагнулся со своей коренастой бело-рыжей лошади, подхватил край телеги и выдернул колесо. Это был смоленский дворянин, оставшийся на службе у Короны после падения города в одиннадцатом году, ну, точнее, не покидать город предпочел его батюшка, бывавший в Речи Посполитой и знавший о вольностях того времени, когда его прадеды жили в городе под литвой: сто лет Smolenscium принадлежал Великому Княжеству Литовскому. Потом на сто лет отошел к Руси. И сейчас снова оказался в сени Короны.
И вот Smolenscium белел стенами впереди.
«Здесь мне предстоит служить Короне», – думал Вржосек, всматриваясь в приближающиеся стены и башни.
О, этот замок был внушительнее королевских замков Казимежа Дольны.
Погонщики закричали веселее, подводы заскрипели громче. Но тут снова начался дождь, как бы напоминая о том, что они везут весть траурную. Всадники кутались в плащи, лошади прядали ушами. Колеса наматывали липкую грязь, шумели в лужах. Жибентяй, пахолик Вржосека, угрюмого вида жилистый, смуглый, костистый литвин с бело-желтоватыми волосами до плеч и такого же цвета вислыми усами, ругаясь, укрылся накидкой с головой и напомнил господину, что и ему следует сделать то же. Он не разделял восторга господина от этого путешествия и ворчал все время, мрачно сплевывая около жалких придорожных лачуг или развалин – как вот и таких, мимо которых обоз сейчас ехал. Все косились на выгоревшую деревню с обугленными деревьями, бревнами, каким-то тряпьем, битыми горшками и теперь лучше понимали значение того высокого мертвого дерева, с которого снялась воронья стая.
Необитаемые деревни, даже и не выгоревшие, как эта, часто попадались им на дороге. Стояли они так с той смутной поры, что охватила эту землю более двадцати лет назад, когда все пришло в движение, забурлило, как дикая брага, – а из нее, будто по мановению хитрого волшебника, являлись добры молодцы – паны не паны, но паны им помогали, мечтая осенить Короной эти лесные просторы и небеса. И тогда бы невиданное королевство объявилось в мире, столь же славное и могучее, как и Священная Римская империя. Ради этого можно было и поверить чудесно спасшимся русским царевичам и даже выдать за них ясновельможную панну. О ее свадьбе в Кремле ходили легенды: о золоте и серебре, о парче и соболях, о драгоценных винах, лившихся рекой, и отменных яствах, – неделю спустя настало великое же похмелье, русское похмелье с битьем посуды, пожаром, резней.
Замок становился четче, виднее, потом дорога взяла правее, город скрылся за лесом. Всем не терпелось добраться до крепкой крыши над головой и очага, надоело спать в лесу у костров, в палатках. Вржосек простыл и теперь то и дело утирался носовым платком, которым его не забыла снабдить добрая и печальная матушка; его слегка лихорадило под кольчугой, ртутно блестевшей от дождя, как чешуя рыбы. Сейчас хорошо было бы выпить чарку просяной водки или медовухи, но запас водки как-то быстро кончился, в первые два-три ночлега. И ведь Жибентяй укорял его и жался, не хотел давать очередную бутылку. Но пан Любомирский да пан Пржыемский пылали дружеским пожаром, разве мог ясновельможный пан Вржосек из Казимежа Дольны дать ему угаснуть?.. Это были его новые друзья, тоже товарищи панцирной хоругви, толстоносый и с заметным подбородком русый Любомирский, четырьмя годами старше Николая, и чернявый Пржыемский с перебитым носом и бешеными синими глазами, почти ровесник Любомирского, но по его виду так не скажешь. Этот Юрий Пржыемский с четырнадцати лет был в седле и уже успел многое повидать и поучаствовать в осаде – а именно крепости Меве в Королевской Пруссии. Крепость была захвачена шведами. И король шведский Густав Адольф поспешил на выручку осажденным и отогнал панов. «Это был огненный вал, – говорил Пржыемский, играя желваками. – Мы стояли на высотах над Вислой, а клятые протестанты на дамбах, и все-таки они нас сбили, сшибли дьявольской пальбой, и мы ушли к Диршау, оставив позиции, усеянные трупами. Протестанты заключили сделку с дьяволом и берут огонь и серу в преисподней». – «Да, Густав в устье Вислы под Латарнией расстрелял в пух и прах флотилию Короны, – отвечал Любомирский. – И мой дядя Густав там погиб…» – «Лучше бы пустить на дно его шведского тезку», – заключал Пржыемский. За это надо было выпить. Свои запасы его новые друзья уничтожили в самый первый вечер. Да у Пржыемского ничего-то особенно и не водилось, он был бедный шляхтич из-под Несвижа Радзивилов, в придворные к Радзивилам его и отдала в четырнадцать лет вдовая мать.
Наконец они приблизились к замку настолько, что уже могли видеть бойницы, участки стены с облетевшей побелкой, красневшие кирпичами наподобие ран, мокрых еще и от дождя, и побеленную стену, но тут и там изъязвленную пулями и ядрами. На башнях были надеты как будто деревянные шлемы, кровлею укрывались и прясла. Замок казался каким-то древним воином, хотя и построен был, как рассказывали, только лет двадцать с лишком назад, как раз перед смутными временами.
Жолнеры, товарищи панцирной хоругви, пахолики, рейтары смотрели на замок молча.
– Возблагодарим Господа! – воскликнул брат Мартин, осеняя всех крестом.
– …за то, что нам не надо эту крепость брать приступом! – тут же откликнулся Мустафович, назвавший замок крепостью.
И все воины взглянули мгновенно на стены и башни по-другому.
Из ворот внушительной башни, к которой и вела грязная дорога, выехали двое всадников, они быстро протопотали по мосту через ров мимо земляного бастиона с пушками, сблизились с головой отряда и после приветствий и короткого разговора бегло осмотрели всю колонну солдат в запачканных жупанах и сапогах, развернулись и поехали возле Мустафовича. Из бойниц четырехъярусной прямоугольной башни вниз смотрели жолнеры. На самом верху башни, на караульне с колоколом мокло под дождем красное знамя с белым орлом.
Отряд ступил на мост, ведущий к стене, а потом направо – к воротам в башне. Копыта стучали по бревнам. Все проходили в арку башни, здесь звонче бряцали сабли и мечи в ножнах, звучнее раздавался храп лошадей. Николай мог бы сказать, что входит в новую жизнь… Именно внутри большой башни он остро почувствовал это и ему захотелось побыстрее уже увидеть, что там, на другой стороне, в крепости, как будто там можно было увидеть будущее. Произошла некоторая заминка, и пришлось почему-то остановиться в этой башне, под низкими сводами, пахнущими сырым деревом, известкой и мокрыми лошадями. В какой-то миг подумалось, что дальше их и не пропустят или сразу же накажут за скорбную весть или за что-то еще. Или просто перестреляют в этом каменном мешке какие-то изменщики. Рука сама сжимала рукоять сабли.
Но первые всадники проехали дальше, тронулся и Николай – навстречу серому дождящему свету.
9. Tym Smoleńsk
Но уже наступали вечерние сумерки, да и дождь не прекращался, поэтому хорошенько разглядеть крепость и город не довелось в этот день. Бледный сухощавый жилистый офицер в немецкой шляпе, в коротком малиновом плаще, зеленом камзоле и высоких шведских сапогах, со шпагой на боку коротко приветствовал прибывших и велел своим помощникам наспех разместить всех в каких-то амбарах налево от башни с воротами. Мустафович, разумеется, со своими пятью офицерами были отведены в хороший дом где-то в центре города.
Жибентяй по своему обыкновению хмурился и ворчал. Любомирский возмущался: «Уж мы достигли цели, и что? Как сие называется? Берлогой? Ямой?» А Пржыемский лишь усмехался, он привык к походной жизни. Но хуже всех пришлось Николаю, его лихорадило, поднялась температура. Любомирский посоветовал отправить Жибентяя за водкой. Что и было сделано. Ландскнехты скрежетали своими кресалами, высекая искру и попыхивая трубочками. Зажгли несколько факелов. Солдаты доставали сухари, соленую свинину, лук и чеснок. Дождь сильно стучал по крыше. Раздавались глухой кашель, сдержанный говор. Жибентяй вернулся злой и вымокший, с пустыми руками. Тогда Любомирский послал к немцам своего слугу, но те ничего ему не продали.
– Ладно, – сказал Пржыемский. – Сейчас.
И сам отправился – но не к ним, а к мрачным молчаливым рейтарам. Вояки послушали его, разглядывая лицо с перебитым носом и глазами с сумасшедшинкой, и уступили водки, перелили в его пустую фляжку. Впрочем, водки было немного, и Любомирский с Пржыемским лишь помочили, как говорится, усы, а вот Вржосек запьянел, пустился в рассказы о замках Казимира Великого… Товарищи слушали его с улыбкой. Потом Жибентяй раскатал походную постель, и Николаус лег. Жибентяй укрыл его волчьей шубой, уложенной в вещи шляхтича все той же заботливой маменькой, считавшей, что ее чадо уезжает куда-то к страшным Ледовитым морям.
Николаус еще слушал некоторое время голоса приятелей, дробный стук дождя, слова молитвы на немецком: «Vater unser, der du bist im Himmel. Geheiligt werde Dein name, Dein Reich komme…»[19], польские ругательства: «Kurwa twoja matka!», литовские мечтания: «Būtų gerti alų!» – «Taip apkabinti merginą»[20], белорусские речи: «Гэты горад злы, бедны, жыхары[21] шэльмы, зыркают, таго і глядзі, каня з-пад цябе выкрадут. Адно слова – гліна руская…» и сталь латыни: «Kessinger mundi. Tartaria. Asia. Rex mortuus est, et hic tamen vivit. Ubi vidisti? Et suffocati sunt in Borysthenen? Frigus et lutum. Satius Hispaniam iturum. Ibi est Sol, et mare, et uvas…»[22]
И дальше в своей волчьей шубе он уже качался на волнах испанских морей.
А утром очнулся от звука горна – это трубил, как обычно, ушастый синеглазый парнишка, Янек. Пора было вставать. И ему отвечали грубые луженые глотки – ругательства так и сыпались на всех вавилонских наречиях. Кашель и кряхтение неслись отовсюду. Но, по крайней мере, в щели и оконца бил синий свет, синий и золотой. Так что Вржосек в первый миг пробуждения снова как будто увидел море.
– Вставайте, вставайте, паны! – покрикивал лейтенант, откашливался и кричал еще резче и громче. – Пора привести себя в порядок! Нас будет смотреть воевода смоленский! Александр Корвин Гонсевский!
– А кто же вчера тут был? – спросил Любомирский, протирая глаза пухлыми ладонями.
– Комендант пан Станислав Воеводский, – отвечал лейтенант.
Гонсевский был известен. Он много воевал со шведами, московитами, брал с усопшим королем этот Смоленск.
Все выходили на улицу и умывались водою, принесенной слугами из колодца.
– Ты как, брат пан? – спросил Пржыемский у Вржосека.
Николаус улыбнулся. Глаза его, хоть и серые, а лучились светом, силой и здоровьем. Хворь с него сорвало, как хмарь ветром с этого неба. Вржосек, щурясь, выходил на улицу. Солнце прорывалось из-за деревянных высоких домов и дальних башен. Где-то лаяли собаки, горланили петухи, доносилось лошадиное ржание, покрикивали пахолики. Небо было чистозвонное, синее, такой цвет бывает у Балтики на горизонте. Ну а солнечные лучи густо желтели, как янтарь. На кровлях башен сидели голуби. Николаусу померещилось, что если он сейчас же поднимется на эту высокую башню с воротами, то и увидит уже татарские степи, а в другой стороне – ледовитые моря.
Примерно час спустя приехал неторопливо на белом аргамаке[23] и сам ясновельможный пан Александр Корвин Гонсевский, грузный, с черно-каштановой тяжелой бородой и пронзительным взглядом из-под собольей шапки, с вороном на плаще, ибо род его принадлежал к гербу Слеповорона. Сопровождали его вчерашний комендант Воеводский, Мустафович, еще двое офицеров.
Отряд стоял шеренгами: немцы слева, рейтары по центру, рядом жолнеры в голубых мятых жупанах и на правом фланге товарищи панцирной хоругви. С башен смотрели солдаты. Среди деревянных домов стояли горожане. Всюду шмыгали белоголовые и чернявые, кое-как одетые и многие босые дети.
Гонсевский так ничего и не сказал, только всех оглядел колюче. Говорил бледный лобастый комендант Воеводский с черными тонкими усами, свисающими, как хвостики каких-то зверьков.
– Панове! Приветствуем вас в сем граде богоспасаемом Смоленске! Здесь щит Короны. И вам выпала честь служить на этой заставе Речи Посполитой верой и правдой. Камни сей крепости политы кровью наших соотечественников. Се – польский град, хранимый пресвятой Девой Марией. Град вернула Короне длань его высочества Казимира, по-прежнему primus inter pares[24]. Мы скорбим о его кончине. И помним все свершения его высочайшей воли. Речь Посполитая еще не была так могуча, и богата, и пространна. Gloria![25]
И нестройный, но суровый и сильный хор голосов откликнулся:
– Gloria! Gloria! Gloria!..
Следом, по знаку офицера, с высокой вратарной башни ударили пушки. Все обнажили головы. С кровель сорвались голуби, туго забили крыльями в синем балтийском небе.
Комендант сказал, что сегодня будет отслужена в костеле заупокойная месса. Затем он велел своим помощникам разместить всех по квартирам.
Николай Вржосек спросил у офицера из крепости о Григории Плескачевском.
– Капитан? – переспросил тот. – Что у тебя, пан, к нему?
– Письмо моего батюшки, – отвечал Николаус. – Они старые друзья.
– Эй, – окликнул офицер крутившегося неподалеку подростка с длинной кадыкастой шеей, в долгополой серой рубахе, портках и стоптанных, рваных кожаных сапожках. И далее заговорил с ним по-русски. Затем обернулся к Вржосеку. – Малый тебя, пан, отведет. У капитана сегодня день роздыха.
Наказав Жибентяю ждать его здесь, Вржосек отправился верхом следом за пареньком. Тот бежал поначалу вприпрыжку, потом перешел на шаг. Оглядывался на молодого черноволосого поляка, что-то бросал на ходу встречным горожанам. Вржосек внимательно осматривался. Справа белела крепостная стена с башнями круглыми и четырехугольными, с валом перед нею. Слева стояли приземистые деревянные домики с крошечными оконцами и дома побольше, даже двухэтажные, с резными петухами на крыше. Больших деревьев вообще нигде не было видно. Тянулись у домов молодые тополя, березы. Листва лишь недавно прошила мокрую кору веток и ярко зеленела, с тополей свешивались бордовые сережки. Тополями и пахло сильно, горько-сладко, волнующе и слегка печально, как на склонах Пулавских холмов в родном Казимеже. За изгородями робко и тихо ждали солнца сады. А птицы пели вовсю. Далеко над крышами виднелась стрельчатая крыша башни ратуши.
Гнедая добрая лошадь Бела месила грязь на мокрой дороге. Попавшийся навстречу житель с палкой, в серой одежке остановился и смотрел из-под руки на всадника. Шапчонку не снимал, чтобы приветствовать пана. Кровь вдруг бросилась Николаусу в лицо, взыграла гордость Вржосеков. Мгновенье он колебался, не проучить ли хама, но тут из подворотни вылетела кудлатая собака и с лаем кинулась под стройные ноги Белы, та всхрапнула, дернула головой, повела гибкую шею в сторону. Паренек обернулся и закричал на псину, быстро нагнулся и, зачерпнув порядочно грязи, швырнул в нее. Псина тогда повернула к нему, подбежала, норовя ухватить за голые щиколотки. Паренек что-то кричал по-своему. Николаус с улыбкой наскакал и ловко хлестнул плетью псину, та, визжа, откатилась. Старик тут же пошел прочь, засеменил.
Со своим провожатым Вржосек двигался дальше. Солнце уже стояло над башнями высоко, озаряя бревенчатые дома, оконца, затянутые пленкой бычьих пузырей, голубые дымы над крышами, озябшие сады. Дымы струились из отверстий под крышами, там топились дома по-черному, чего в родных местах Вржосека давно уже не было. И лишь редко над крышами краснели кирпичные трубы и трубы, обмазанные глиной.
Паренек и Вржосек оказались на дороге, ведущей к четырехугольной башне. В башне виднелись ворота. Справа от башни стучали топорами мужики. Они обтесывали сосновые бревна, в серых рубахах, подпоясанных ремешками или просто веревкой, а кто и в коричневых и серых коротких зипунах, все в войлочных белесых и серых шапках, один – с ярой черной бородой – в бараньей истертой зимней шапке. Что-то они собирались строить, может будку или ворота новые. На всадника и паренька взглядывали мимоходом. Перед воротами стоял, привалившись к стене, жолнер в синем жупане, препоясанный ремнем, в синей же шапке, отороченной мехом, с саблей на боку. К стене был прислонен и его фитильный длинноствольный тяжелый мушкет. Увидев товарища панцирника на коне, жолнер с загорелым лицом не переменил своей ленивой позы. И тут уже Николаус Вржосек не стерпел и, слегка осадив Белу, поворотил и, пришпорив лошадь, поехал прямо по дороге к башне. Жолнер наблюдал за ним. Вржосек резко потянул поводья на себя, и его верная чуткая Бела тут же осела на задних ногах и встала на дыбы. Брадатые мужики перестали махать топорами. Жолнер распрямился, оттолкнувшись плечом от кирпичей, и взялся за ствол мушкета.
– Это надо было сделать сразу, жолнер! – воскликнул Вржосек.
Скуластый усатый жолнер с раздвоенным подбородком сдвинул брови, напрягся так, что загорелое его лицо слегка посерело. Он свирепо смотрел на юного пана с жидковатыми усиками, словно вбирая его вид, – да, чтобы лучше запомнить.
Сверху, с башни Вржосека окликнули. Он взглянул вверх. Но никого не смог увидеть в тени бойницы.
– Что угодно пану товарищу панцирной хоругви?
– Ничего боле! – резко выкрикнул он, разворачивая Белу и возвращаясь к ждущему его пареньку.
Вржосек следовал за своим прытким провожатым. Справа все так же высилась стена, потом потянулся ров, щебечущий птицами, ярко-изумрудный. Они двигались по краю.
От колодца по мосту через ров шла баба с двумя деревянными ведрами на коромысле. «С полными ведрами, к удаче», – мельком подумал Николаус.
Над крышами виднелись главки и кресты. В ту сторону они направлялись. И вскоре уже были напротив церковных строений, обнесенных с правой стороны деревянным частоколом, а с левой домами. По-видимому, это был монастырь. У ограды сидел большой черный лохматый пес, и не пытавшийся лаять и угрожать всаднику и его провожатому, потому что между ними зиял глубокий и широкий ров, заполненный кустами и птицами.
Почти напротив монастыря паренек свернул влево, во дворы и остановился перед домом с широким крыльцом, с крышей, забранной тесом, кирпичной трубой. Паренек перевел дыхание и утер испарину. Указал рукой и сказал:
– Вось хата Плескачэўскага!
Вржосек легко спрыгнул на землю, озираясь, потом спохватился, полез в кошелек за поясом и достал монетку, протянул ему и взял и подбросил. Паренек не сплоховал и ловко поймал сверкнувший на солнце серебряный грош. Лицо его тоже вспыхнуло.
– Дзякую пана рыцара! – воскликнул он, пряча монетку и уходя среди заборов – но только лишь для того, чтобы понаблюдать издалека.
Вржосек подвел Белу к коновязи и только начал ее привязывать, как с кудахтаньем разбежались где-то за углом куры и к крыльцу вышел заспанный мужик в серой рубахе, узких портках, мягких старых сапогах. В курчаво-рыжеватой бороде светлели то ли стружки, то ли перышки. Мужик, щурясь, глядел на гостя, бормоча что-то. Потом нехотя взялся за шапку, войлочную, засаленную, обвислую, но так и не снял ее, как будто вдруг забылся, увлеченный какой-то другой идеей. Кашлянул в кулак.
– Dzień dobry, pan![26] – сказал он неожиданно по-польски, но дальше добавил еще что-то по-русски.
– Dzień dobry, – отозвался Вржосек.
Он спросил о капитане Плескачевском, точно ли здесь он проживает? Мужик сразу не ответил, а посмотрел по сторонам, как бы ища настоящий дом пана капитана, и вдруг ответил:
– Так то і ёсць хата пана Плескачы.
– Веди к нему, – сказал Вржосек.
Мужик помялся как-то, но пошел, отрясая бороду, рубаху. Взойдя на крыльцо, перед дверью остановился и обернулся. Николаус велел сказать, что пожаловал пан Вржосек с письмом.
И мужик скрылся за дверью. Минут десять не появлялся, потом выглянул и сказал:
– Mości prosimy[27].
В просторной комнате было светло от солнца, лившегося сквозь довольно большие окна, заставленные слюдой. Навстречу молодому гостю шла женщина средних лет в двух платьях, одно длиннее, с желтой каймой по подолу и на рукавах, верхнее короче, с распашными рукавами, в белом платке, туго облегающем горло и голову, лобастая, кареглазая, дородная. Вржосек с полупоклоном поздоровался. Женщина отвечала, голос у нее был мягкий, грудной, немного томный. Это была пани Елена Плескачевская, супруга капитана. Григорий Плескачевский с младшим сыном Александром рано утром отправился в имение Полуэктово Долгомостского стана, а старший Войтех на службе в крепости. Вржосек сказал, что у него письмо к пану Григорию. Женщина отвечала, что письмо она передаст. Пан Григорий и Александр должны были вернуться через два дня. Говорила пани Елена по-польски очень ладно, но легкий акцент был уловим. Отец рассказывал Николаусу, что его старинный друг, бравший измором и штурмами град Смоленск под предводительством короля Сигизмунда, так и остался служить в замке, женился на смолянке. И это она и была.
Пани Елена предложила Николаусу сесть на скамью и отдохнуть. Но он отказался, сославшись на начавшуюся уже службу в замке.
Оставив письмо, Николаус вышел. Спустился с крыльца к своей Беле, отвязал ее и уже вставил ногу в стремя, как его окликнул давешний мужик.
– Чего тебе?
– Паспрабую, пан, мядовага квасу, гаспадыня паслала. Вельмі хуткі, ваша міласць. Спадарыня і міргнуць не паспела[28].
Николаус вскочил на лошадь, взял деревянный глубокий ковш и пригубил приятного пахучего кваса. Квас был холодный, и Николаус подумал, что снова простудится, да обижать пани Елену не захотел и выпил все. Вернув ковш, просил благодарить госпожу и тронул лошадь каблуками, поехал.
Поселился Николай Вржосек на противоположной стороне замка, у Королевского бастиона, земляной крепостцы в виде звезды Давида, только без шестого конца; крепостцу воздвигли после взятия Смоленска на месте пролома. Вместе с ним в большом доме расположились его друзья и еще семеро панцирников. Окна выходили на рыночную площадь, где вечно горланили зазывалы, ругались торговцы. За грязной вонючей площадью стояла церковка, по-местному называемая Казанской. В местном колодце и вода была скверная. В первый же вечер всех проняло, всю ночь славные воители бегали на двор. «Проклятье! Мы проигрываем это сражение! – кричал Любомирский. – Что нам делать?» Он обращался к опытному походнику Пржыемскому. Тот ответил просто: велел выгрести из печи уголья остывшие и подать к столу панов радных. Жибентяй исполнил, насыпал целое глиняное блюдо превосходных черных углей.
– Отведайте сего кушанья, ваша милость! – сказал Пржыемский, первым подцепил самый лакомый уголь и, сунув его прямо в рот, принялся усердно хрустеть.
Остальные некоторое время глядели на него, кто-то мрачно шутил, что таковы трапезы у этих татар московитов в ихнем Тартаре, но потом один, другой последовали его примеру, и уже все дружно жевали уголь, чернея зубами, перемазав губы, а у кого-то черные отметины появились и на щеках и лбу.
– Мы сами, панове, похожи уже на чертей! – восклицал Любомирский. – Дайте нам рогатины – вмиг прогоним московитов!
– Да еще залп дадите, – проворчал угрюмый литвин Жибентяй.
– Что там твой пахолик рек?! – крикнул один худощавый пан.
Вржосек взглянул на вислоусого Жибентяя с желтоватыми длинными волосами.
– Жибентяй?
– Sveikinkite laimėtojams[29], – проговорил Жибентяй.
– Он нам предрек победу, – ответил Вржосек.
– Он у тебя точно литвин, а не русин?
Уголь и впрямь помог перебороть напасть. Да в доме выявилась другая египетская казнь: клопы. Спалось скверно, все ворочались, кряхтели и поругивались. И еще где-то в пути товарищи-панцирники завшивели. Нет ничего хуже вшей, устраивающих свои бега под камзолами, жупанами и панцирями: терпи, рыцарь. Только вечером, когда с помощью пахолика скинешь всю сбрую, и погоняешь сии орды, прочешешь накусанные места.
С высоты башни, ее называли по-русски Гуркина, Вржосек с друзьями обозревали окрестности и старались разглядеть чуть ли не Кремль, главный дворец Московии, пока дежурный офицер с подвязанной щекой от зубной боли не сообщил им, что смотрят они на запад и, следовательно, могут скорее увидеть Вавель в Кракове. В дали Московии надо всматриваться с противоположной стороны.
С башни открывался вид на зеленую пойму Борисфена и лесистые холмы за ним.
Здесь, на стене, чувствовалась мощь этого замка, построенного русским царем, то ли сыном Иоанна Лютого, то ли кем-то еще. Стена была широка, по ней свободно могли идти жолнеры в четыре ряда. Стена имела три яруса боя: в нижнем были установлены пушки с ядрами и пороховой казной в ящиках – для подошвенного боя, в среднем ярусе камеры для пушек, стрельцов и пушкарей, поднимавшихся туда по приставным лестницам, и верхний бой – из-за зубцов.
В башне были установлены пушки для обстрела подступов к стенам со стороны и для прямой пальбы – до двух тысяч шестисот футов. Башня казалась еще выше благодаря тому, что ее подножие обрывалось в ров.
– Не хотелось бы мне лезть с той стороны с мушкетом, – заметил Пржыемский, высунувшись из бойницы по пояс и глядя вниз.
– А они овладели замком, – откликнулся Вржосек. – И теперь он наш.
Да, здесь можно было воочию убедиться в силе польского духа, слава польского оружия застыла стенами и многообразными – гранеными и четырехугольными – башнями замка.
– Теперь пусть пробуют московиты! – заявил упитанный Любомирский, воинственно вскинув кулак.
– Ты не в ту сторону грозишь, ясновельможный пан, – заметил Пржыемский, усмехаясь в усы.
Тогда Любомирский обернулся и хотел показать кулак другой части света, но передумал.
Отсюда хорошо был виден холм с костелом внутри замка. В этом костеле и проходила заупокойная месса по славному королю Сигизмунду, добывшему сей город с крепким замком Короне. В прежнем времени храм Успения Девы Марии принадлежал, как и все остальные церкви и монастыри города, схизматикам[30]. Над каменным храмом возвышался деревянный купол, в стенах его виднелись замазанные трещины и забранные новой кладкой проломы, так что входить внутрь было немного боязно. В тот вечер заупокойной мессы они туда и не входили, стояли вместе с жолнерами гарнизона на холме вокруг и внизу, надо рвом.
Со стены они осматривали и этот Smolenscium со смесью любопытства и презрения. Город производил поразительное впечатление деревни, как в сказке или во сне перенесенной внутрь замка. Здесь были подслеповатые casas[31], ну, то есть домики, темные, черные, крытые соломой, что представляло явную опасность при обстреле раскаленными ядрами. Стояли и добрые дома, бревенчатые, светло-сосновые, и отделанные досками, плотно пригнанными и гладко обструганными, некоторые крашеные, с резными наличниками, трубами, садами и огородами, обнесенными деревянными оградами. Вокруг темных casas виднелись плохонькие ограждения из жердей и хвороста – что при осаде станет опять же отличным топливом. Да и без умысла злых врагов эти casas и заборчики вспыхнут, как осенний бурьян весной, стоит только кому-то проявить неосторожность с огнем. На огородах копались, словно какие-то диковинные животные, люди, там и сям видны были согнувшиеся фигурки. На одном обширном огороде даже работник пахал на пегой лошади. Всюду белели и пестрели стайки домашней птицы, кур, уток, гусей. Пахло землей и навозом, дымом, сыростью.
– Large castellum![32] – заключил Любомирский.
– И жители здесь злые, – добавил Николаус, просовывая руку за пазуху и скребя под мышкой.
Молодой шляхтич был удручен. Предстоящая служба на краю цивилизованного мира представлялась ему другой. Рисовался совсем иной Smolenscium, воспетый несколькими годами ранее служившим здесь паном Яном Куновским. Гусаром Ян Куновский сражался под Смоленском в отряде нынешнего воеводы Гонсевского. И пан Куновский увековечил эти сражения в поэме «Odsiecz Smoleńska»[33], а потом написал «Zacny Smoleńsk»[34], и эту поэму принес отцу Николауса Иоахим Айзиксон, с которым тот любил коротать зимние вечера. Рыжеватый, сухой, кривоносый Иоахим Айзиксон был настоящим речным капитаном, водил баржи с зерном по Висле, а еще он слыл книгочеем и сыпал притчами. Капитан знал о том, что в Смоленске служит друг пана Вржосека, и привез ему из Кракова эту поэму в подарок. Тут же и состоялось чтение. Отцу казалось, что сия поэма – послание самого пана Плескача. Там были строки: «…Смоленск – прекрасный, / Его разбил литовец властный. / И то, что строил русский князь, / Разрушила Литовца власть. // Мужеством, храбростью – он – славный Витольд, / Славно помог он полякам в Грюнвальдской битве…» И дальше: «Литовцы бежали, / Смоляне отбили хоругви, знамена порвали…» А потом следовало описание замка, вот этого самого замка, на стене которого сейчас и стоят Николаус и его друзья: «Крепкие те стены замка – тридцать восемь башен…» И так далее, про толщину стен, высоту, – здесь пан Ян Куновский точен. Иоахим Айзиксон воодушевился, читая дальше: «Средь стен во рвах там водные каналы, / Река портовая питает всех водой… Он дерзок, этот замок новый. // Днепром портовым всяк товар вези, / Захочешь, то дойдешь и до Царьграда, / Все стороны открыты замку, / А время все расставит по местам. // От Днепра Припятью ты порт найдешь до Гданьска, / Коли языческая сторона противна, / Касплей до Двины, той до Риги лёгко, / Хоть разорится так иной купец. // От Двины в Вилию ты третий порт найдешь, / Когда до Крулевца ты обращаешь мысли, / Рекой Березиной дойдешь и до Немана, / Здесь дело ясное – плыви! // Четвертый порт нам подает дорога, / И с Божьей помощью все вольные народы плыли, / И лишь бы Бог вниманье обратил, / Да прекратил суровую вражду в прекрасной Польше!» Впалые щеки Иоахима пошли красными пятнами, выпуклые черные глаза заблестели: «Порт обрели удивительно выгодный, / Господу слава! Ныне до Персии плыть от Угры до Оки, / Следом – по Волге, от Волги – по морю, / С прибылью быстро народ поплывет…»
– И я бы повел свой корабль в Скифское море! – воскликнул Иоахим. – А там рукой подать до святой земли.
– Я слышал, – отвечал отец, теребя белую бородку пальцами в перстнях и устремляя взгляд слезящихся, когда-то синих глаз в окно, – волоки с Двины в Борисфен многотрудные, речки в лесах глухих, разбойных, медвежьих, те, что ведут к Борисфену.
– Однажды Иесвий, богатырь из Нова, у которого копье было весом в триста сиклей меди, увидел Давида и сказал, что вот он, тот, кто убил моего брата Голиафа! Воткнул он копье в землю острием вверх, схватил Давида и подбросил его, чтобы тот напоролся на копье. И… – Иоахим повел головой вверх и вниз.
– Ну?.. – спросил Седзимир Вржосек, зачесывая белые волосы, распавшиеся двумя крылами над лицом, назад.
– Поспел Авесса вовремя: Иесвий как раз подкинул Давида, чтобы насадить его на копье в триста сиклей меди, как гуся на шампур. И в этот-то миг умный Авесса произнес Шем-Гамфораш. Давид завис над копьем. Авесса вопросил Давида, как тот здесь оказался. Давид ему отвечал. Выслушав, Авесса вторично рек Шем-Гамфораш, и Давид, наш царь, приземлился мимо копья на ноги. И тогда они набросились на Иесвия и прикончили его.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Слово может и корабль поднять на воздух, не только человека.
– Просто это слово? Шем… Как это дальше-то?
Иоахим покачал головой.
– Нет, мой друг. Это не оно. Шем-Гамфораш – наименование истинного имени, но не самое имя, слово. Имя уже забыто. Вот когда бы я смог его вспомнить, тогда, тогда…
– …и направил бы корабль по Двине в Борисфен, Smolenscium и дальше? – спросил Седзимир, улыбаясь. – Но тогда и реки не нужны. Да и корабли.
– Правда, твоя милость. Мы стали бы богаты, а главное, мудры, как Соломон. Но вернемся к поэме.
И капитан продолжил свой путь по реке словес этого Куновского: «Не потеряй рассудка своего, / Освобождай Смоленск, любимца своего…»
И был Смоленск освобожден.
И под хохот пелась песнь снова: «Нет со Смоленском равной цены – / Нет у Митилены, нет у славного Родоса.// Прекрасный Смоленск! Он почетную славу имеет! / Город омыла, украсила дивная речка, / Город обильные снял урожаи – / Мед, молоко, яйца и хлеб кормят людей. // Хлеб и зерно не упустим из вниманья. Пива полно от него, / Множество рыбы, зверей и отличной птицы – / Славно украсили воды и реки / Над этим хозяйством!»
– Tym Smoleńsk! Tym Smoleńsk![35]
– Tym! Tym! Тутум! – подхватили гогочущие друзья Вржосека.
Ведь молодой шляхтич взял аккуратно переписанное матушкой Альжбетой творение с собой; у самого Николауса почерк был прескверный, учитель-иезуит бил его по рукам розгой за такое надругательство над даром Божиим. Но плодов его розга так и не дала. И теперь Николаус читал сам своим спутникам напыщенную поэму.
Контраст был разителен! Где эти дома, украса улиц? Где мед и млеко? А костел того гляди и рухнет.
– Тум, тутум! – отстукивали по доскам Любомирский и Пржыемский, покусанные голодными клопами и объевшиеся давеча углями.
10. Пир у пана Плескачевского
Николаус приуныл. Надо было мечтать, так сказать, в другую сторону: не на восток, а на запад. Хотя бы и в Краков, а еще лучше в Варшаву, которая стала, по сути, столицей после пожара в Вавельском замке. И дальше – в Париж, Рим, Лондон. Нет, послушал отца. А теперь – меси зловонную грязь на этих прекрасных улицах. Хрусти углями.
Дожди снова зарядили. Небеса низко нависали над крепостью, поливали башни, ворота, мосты, стучали с глупым усердием по крышам. Жолнеры укрывались дерюгами, ходили, как иудеи на молитве. А местным хоть бы хны, молодые парни бегали в одних рубахах, шапчонках. Мужики делали свои дела, не обращая внимания на дождь: тесали бревна, кололи дрова, кузнец прямо на торге подковывал лошадь, другие строили дом недалеко от церкви. Кожевники во дворе скоблили шкуры. Даже на торге шла своя жизнь, бабы приносили корзины со всякой снедью, ну почти по этому Куновскому: кувшины с молоком, творогом. Прятались под навесами. А кто и так стоял под дождем.
На четвертый день вдруг Жибентяй сказал о том, что какой-то слуга ждет его на дворе. Николаус вышел и увидел того мужика с кудлатой бородой – правда сейчас он был в добром зипуне, подпоясанном красным кушаком, в бараньей шапке, в сапогах, верхом на мышастом жеребце. Наездник поздоровался, сняв на этот раз шапку, и сказал, что пан Плескачевский велел передать Николаусу приглашение пожаловать в гости прямо сейчас со всем скарбом и слугами, если таковые при пане имеются.
Николаус свои вещи собирать, конечно, не стал, но, накинув на жупан делию[36] с меховым воротником и надев рогатывку[37], пошел к выходу. Под делией на поясе висела сабля.
– Куда это ваша милость собрался? – тут же навострил уши Любомирский.
– В гости! – ответил Николаус и просил Жибентяя принести сумку.
– Да, верное дело сотворишь, товарищ, – одобрил Любомирский, – если с пира привезешь и нам по окороку и добрый мех вина или пива. Хотя, конечно, приличнее было бы не оставлять своих товарищей по несчастью. Вот я оставить тебя не хочу и готов сопровождать почетно.
Николаус замешкался.
– Знаешь, Любомир, – пришел тут на помощь Пржыемский, – как смольняне говорят о подобных тебе? Незваный гость хуже татарина.
– Так он зван к поляку!
– А поляк и есть тут самый настоящий смольнянин, – ответил Пржыемский.
Оставив Жибентяя дома, Николаус верхом на своей гнедой Беле последовал за мужиком пана Плескачевского. Дождь хлестал им в лица, сек лошадиные шеи. Из-под копыт во все стороны разлетались ошметки глины, смешанной с навозом, брызги. Они поехали вниз по горе, затем в направлении к костелу на возвышении; лошади простучали копытами по настилу моста через ров с бурым потоком воды и оказались справа от церковного холма, возле высокой большой башни с воротами. Под вечер на улицах уже никого не было видно, все сидели по домам. Всюду стлался сизый дым. Даже собаки не брехали на стук копыт.
Porta Regia[38], Николаус уже знал их название и то, что это главные ворота города. Мужик повернул лицо к башне и перекрестился размашисто, как это привыкли делать московиты.
Тут и Николаус увидел темный лик под навесом, темный, суровый, почти жуткий. И пониже светлое пятно Младенца. Николаус, как-то оторопев, не сразу последовал примеру мужика. Matko Boża поразила его суровостью, таких ликов иконописных он еще не видел. Это был взгляд почти недобрый. Возможно ли? С опозданием он все-таки привычно осенил себя крестом.
– Matko Boża, zachowaj sługę Twego![39]
Костел на горе остался справа. Проскакав мимо еще нескольких башен, провожатый повернул вправо. Отсюда расходились два оврага. Крутая улочка шла в гору между ними, по ней всадники и поехали было, как вдруг на улочку прямо из оврага высыпались белые мокрые козы, одна за другой они выскакивали из зеленого провала, блея.
Мужик осадил лошадь.
– Чорт! А ну, з дарогі! Прэч! Прэч!
Козы мотали рогатыми головами и желто смотрели на всадников. Как будто отвечая: не-э-т, н-э-э-эт. Да мокрые козлята так и отвечали, розовея длинными языками.
Наконец из оврага вылез и пастух этого грязного и мокрого стада, накрытый рогожей.
– Эй, ты! Гані адсюль сваіх чертяка! – прикрикнул мужик.
Но пастух как будто не слышал. И тогда мужик наехал близко и перетянул плетью рогожу, та слетела, и они увидели округлое конопатое белое лицо юнца.
– Вясёлка?! – воскликнул мужик уже не так грозно. – Чаго ў такую-то надвор’е шастаеце?
Юнец ничего не ответил, лишь сверкнул яркими глазами, нагнулся, подбирая рогожку, а другой рукой махнул прутом, сгоняя коз, крикнул звонко:
– Давайце, козкі, давайце! Пайшлі, пайшлі!
И мужик, а с ним и Николаус терпеливо ждали, пока козы спустятся по склону другого оврага, сизого от заполняющих его со всех сторон дымов. Наконец дорога была свободна, и всадники продолжили путь. По ту сторону оврага высился на горе костел. Всадники двигались краем другого оврага. Слева в дымке виднелись башни и стены.
У знакомого добротного высокого дома мужик остановился, ловко соскочил, взял под уздцы Белу и почти ласково сказал Николаусу:
– Міласьці просім, пан. Аб коніку я паклапачуся.
Николаус еще не успел взойти по крыльцу, как тяжелая дверь отворилась и навстречу вышел юноша, лобастый, как пани Елена, но синеглазый.
– Мы ждем, ваша милость! – сказал он с улыбкой и легким поклоном, сторонясь и пропуская гостя в дом. – Взойдем в горницу.
И по внутренней короткой лестнице они прошли дальше, в глубь дома. Здесь уже горели свечи, тускло освещая просторную горницу. На лавке сидели двое. В одном из мужчин Вржосек сразу узнал того офицера, встретившего отряд на подступах к городу.
– Николаус! Мальчик! – воскликнул Григорий Плескачевский, вставая и идя ему навстречу с протянутыми руками. Они обнялись. – Да уже не мальчик! А eques![40]
– Товарищ панцирной хоругви! – с удовольствием подтвердил Николаус.
– А я помню тебя вот таким, – пан Григорий показал рукой, – таким товарищем хоругви наездников на деревянных лошадках!.. Но ведь я тебя и узнал. Узнал тогда на дороге… А вот не сообразил, как во сне. Видишь что-то, понимаешь: надо так-то поступить, но какое-то безволие находит, а? Сердце узнает, а разум ведет дальше. Служба есть служба.
– Вы уезжали по службе? – спросил Вржосек.
– Когда?.. Ах, нет, нет. Это ты путаешь. Не путай. В тот раз мы проверяли дороги, тут ведь хоть и Речь Посполитая уже третий десяток лет, но кругом московиты, в лесу разбойники. Это была служба. А с Александром мы уехали на следующий день в поместье, слух дошел… Но что мы стоим? – Он обернулся. – А это мой старший – Войтех.
К Николаусу шагнул высокий темноволосый кареглазый Войтех с темными усами и бородкой клинышком.
– Ну обнимитесь, как братья! – сказал пан Григорий. – В моих сынах наполовину кровь Короны, а это значит – полностью!
Они взяли друг друга за руки, потом Войтех похлопал Николауса по плечам. Пан Григорий подозвал и младшего светловолосого Александра. Пан Григорий заметил, что в горнице темновато, и распорядился зажечь еще и лучины, что и было вскоре сделано Александром.
– Ну расскажи, дружок, – сказал пан Григорий, – как там старый Седзимир да матушка Альжбета поживают? В письме-то он особо не распространяется, лишь просит оберегать тебя… Да, а кстати! Где твой слуга? Где твои вещи?.. – Узнав, что все еще в доме на верхнем торге, пан Григорий рассмеялся трескуче, откашлялся в сухой, но крепкий кулак. – Что же ты, любезный, думаешь, пан Плескач там тебя и оставит?.. Небось клопики-то, напасть священная, закусали, ну, признавайся?
Николаус потер переносицу и кивнул.
– Но я бы не сказал, что священная, – возразил он.
– Да как? Святые отцы их прославляют. Скармливают плоть-то свою греховную сим бестиям прожорливым. А еще вшам. Ну-ка, ваша милость, пан радный, сознавайся, тебе сии исчадия докучают? Докучают?
Николаус растерялся и начал краснеть.
– Gaudeamus![41] В сем городе есть мыльни. И даже больше скажу, для пущей радости: у нас на дворе. И ради нашего возвращения с сыночком эту мыльню сегодня истопили. Все снимай перед мыльней, а нарядишься в новое. Эй, Савелий! Завядзі рыцара ў лазню, вопратку яго прымеш і ў хату не занось, прапарыць потым, а возьмеш для пана новую[42].
– Слухаюся, пан.
– Давай, давай, – говорил, посмеиваясь, пан Григорий. – Это дело солдатское, понятное. Но в городских хоромах исправимое. Мы не святоши. И тело скормить лучше Короне, а не клопам!
Кровь бросилась в лицо Николауса, и он мгновенье колебался, раздумывая, не вспылить ли… Но ведь этот невысокий и крепкий пан с седоватым ежиком волос, жесткой щеткой как будто стальных усов и пронзительными светлыми глазами в глубоких глазницах… он, во-первых, очень напоминал Николаусу отца, а во-вторых… во-вторых – он же прав, черт побери! И молодой шляхтич повиновался. Савелий отвел его во двор, к низкой бревенчатой мыльне, держа в одной руке шипящую лучину, а в другой холщовый мешок с новой одеждой. Но сразу одежду не отдал, попросив сначала раздеться. И лучше прямо на улице это и делать. Николаус снова подумал, что во всем этом есть что-то издевательское. Раздеваться посреди грязного двора под дождем. Разве он арестант?.. Правда, по двору проложены были деревянные настилы, и сейчас они стояли с Савелием на крепком настиле… Но что-то подсказало ему и сейчас повиноваться. Он молча снял делию, саблю, жупан, шапку, шведские сапоги, портки, чувствуя мускулистым телом мелкие уколы ледяных дождинок. Всю одежду он складывал прямо на поленницу березовых дров.
– Добра, пан. Ідзі ў мыльнай. Зараз прынясу святло, – сказал Савелий, входя первым в мыльню и зажигая там лучины в железных светцах над деревянными плошками с водой.
Николаус вошел следом, больно стукнувшись лбом о дверной косяк, в темную протопленную, духовито пахнущую осенним лесом мыльню. Савелий, кажется, хохотнул в бороду.
– Пся крев!.. – выругался Николаус, хлопая себя по бедру, как будто его верный клинок там и мог быть.
Савелий на ругательство внимания не обратил, показал, где кадушки с водой холодной и где с теплой, положил веник в кадушку, пожелал доброго мытья да и вышел.
Потирая лоб, Николаус озирался. Занесли его черти в эту Тартарию… Но делать нечего, не сбегать же голышом на Беле в дом, клоповник на верхнем торге. И Николаус принялся мыться, вдыхая душистый аромат дубравный от веника… Это они хорошо придумали… Будто вернулся в дубравы на склонах Пулавских холмов над Вислой…
В новой, чуть великоватой одежде, чистый и почти сияющий Николаус вернулся в хоромы. Здесь его ждали, правда еще не за столом, накрытым белой скатертью и уже уставленным глиняными и деревянными блюдами с холодными закусками: рыбой, грибами, ягодами, капустой, солеными огурцами и кувшинами.
– Ну, садись за стол, угощайся, чем Бог послал. Как наша мыльня? Жар не ушел еще?.. Одежка почти впору. Завтра вернем твое платье. Веник был добрый?
– Пах чудесно, – сказал Николаус.
– Ну, пах, это да. А сек-то шкуру хватко?
Николаус растерянно заморгал.
– Да ты, ясновельможный, его что, только нюхал? – спросил пан Григорий и рассмеялся, сверкая глазами в огне свечей и лучин.
Заулыбались и его сыновья.
– Это же розги для мыльни! Эх, надо было Савелию наказать отхлестать тебя хорошенько. Так тут моются, сынок Николаус. Дерут себе шкуру. И говорят: лучше в бане семь шкур спустить, чем на рынке. Торговая казнь делается, правду сказать, не вениками и розгами, а батогами[43]. Хотя даже батоги лучше, конечно, чем кнут. Ладно, в следующий раз пойдем в баню все вместе. А сейчас – пора и к сражению брюха наповал приступить! Ну-ка, рыцари, молодцы! Коли и руби! В атаку!
И все начали занимать свои места за столом.
Чуть позже появилась и хозяйка дома, пани Елена, в двух платьях, зеленое поверх, с длинными собранными на локтях рукавами, в повойнике на волосах, расшитом бисером и украшенном серебряными монетками. Улыбка светилась на лобастом лице, бликами перекликаясь с серебряными увесистыми серьгами с каменьями. Николаус вспомнил о сумке, ее он забыл на Беле. Войтех позвал громко: «Савелий!» Появился тот кудлатый мужик, Войтех приказал принести суму с лошади. Савелий этот как будто разумел польский язык, но пан Григорий, наверное, ради верности говорил с ним на другом языке.
Из сумы Николаус доставал гостинцы: турецкий кинжал с рукоятью в виде львиной головы, инкрустированный, острый, – пану Григорию, венецианское зеркало в медной оправе, – пани Елене, а братьям – норвежские шахматы из кости. Шахматные фигурки все тут же принялись разглядывать, забыв о закусках, пиве и водке. Это были изящно выточенные фигуры рыцарей, коней, королев и королей, причем одни были крестоносцами, другие – сарацинами с верблюдами вместо коней и слонами вместо башен.
– Не хватает только какой-нибудь реки и флота, – сказал пан Григорий. – Благодарствуем. Роскошные подарки прислал нам пан Седзимир. Только вот мои рыцари лучше управляются с саблями. А этой умной игры не разумеют.
– Я научу, – тут же сказал Николаус.
И по всему видно было, что готов приступить к этому сейчас же, да и у сыновей пана Плескачевского глаза разгорелись, особенно у младшего. Но пан Григорий напомнил о другом ристалище – о столе, который уже заставил Савелий и горячими блюдами: подовыми пирогами с овощами и рыбой, студнем, рубцом с луком и гречневой кашей, также там был запеченный бок бараний и много чего еще, у Николауса после солдатской кухни глаза, по правде, разбегались, и он жалел, что нет с ним рядом чревоугодника Любомирского, нет быстрого Пржыемского. Пиво после мыльни казалось особенно вкусным, хотя и было мутным, с каким-то дегтярным, что ли духом.
– Славное пиво, – сказал Николаус, вытирая пену с пушистых еще и не густых усов.
– Какое? – спросил, обернувшись к супруге, пан Григорий.
– «Мартовское», – подала голос пани Елена, и тяжелые серьги в ее ушах плавно покачнулись.
– Со вкусом Борисфена, – добавил Войтех, отламывая сочный кус от бараньего бока.
– Мутноватое оттого, – объяснила пани Елена, – что мы его сдабривали для крепости пущей: мед добавляли да патоку да после чуть кипятили. Бери, пан, кушанья, на здоровье, без церемоний.
– Откушай рубца. Каков?! Правду говори!
– Но… – замялся Николаус, – что-то совсем не соленый?
Все заулыбались.
– Это, брат, оттого, что живем мы, как и все московиты, почти на Ледовитом окияне. Уразумел ли?
– Нет, – сознался Николаус.
– Да зимы у них лютые, потому и не присаливают все, как у нас. В погребах – ледниках – снег лежалый до свежего снега хранится все лето, осень, весну. Ну добра, Савелій, дзе соль для пана? Ён пакуль ня обвык[44].
– Тут говорят: недосол на столе – пересол на спине, – заметил Александр.
– Да, вот тебе солонка, – подтвердил пан Григорий. – А ежели б Савелий пересолил – березовой каши отведал бы! Хе-хе…
Хмель ударил в голову Николаусу, и он вдруг ощутил что-то необыкновенное… Да, похоже, не зря он стремился по грязным дорогам, через разлившиеся, несущие сор и ветки, обломки лодок реки, духовитые леса – сюда, в этот замок на краю мира, как бы на берегу моря или даже океана. Его охватило предчувствие чего-то важного, грядущего, судьбоносного.
А хозяин, выслушав все новости Речи Посполитой и жизни его друга, увы, переменившего меч и судьбу воина на мошну торговца, начал неторопливо рассказывать о поездке в Полуэктово Долгомостского стана, где их задержали разлившиеся реки, но посещение было необходимо из-за самоуправства местных крестьян, порубивших рощу на Ливне, речке, потом о службе в Смоленске и – под воздействием ли пива или ржаного вина доброго, сиречь водки двойной перегонки, или под напором нахлынувшего увлекся – и уже перешел к делам двадцатилетней давности, когда он таким же молодчиком, как Николаус, прибыл сюда под знаменами самого Сигизмунда Третьего Вазы – брать приступом сей замок.
11. Рассказ капитана Плескачевского
После январского сейма король начал готовить этот поход, да, и он был прав. Пора! Мы засиделись. Заждались. Шляхтичам вредна жизнь праздная, а такова любая жизнь, ежели ты не в походе. Пора было вернуть сей замок, сей порт на Борисфене, сей Smolenscium Короне. Да, двести лет назад он принадлежал княжеству Литовскому, а не Кракову – целых сто лет! Но сейчас Господу угодно было соединить обе силы: Корону и Литву, – прочнее, нежели ранее. Нам необходим этот форпост. А Руси – Руси нужен был государь, а не вор. Таковым и мог стать сын короля Владислав либо сам Dei gratia rex[45] Сигизмунд, хотя и швед… Не все его любили у нас… В Московии смута была – не мартовская, подобная этому пиву, – кровавая. Один царевич убиенный объявился, потом другой. Заманили дочерь Мнишек с отцом, суля царство, играя доверчивым девическим сердцем и любящим сердцем отца. Первого Димитрия, сразу как свадьбу справили, порубили московиты, вбили в пушку и выстрелили. Всех служанок и женщин двора, дочерей польских вельмож обесчестили, да и саму Марину, говорят, уж прости, хозяйка. Мне эту историю сказывал гусар пан Унишевский, оказавшийся в самом пекле кремлевском. Таковы нравы в Кремле: неделю назад слезы лили, умиляясь на царя Димитрия и его царицу Марину Юрьевну. А тут как с цепи сорвались, бороды дымились в крови. (Здесь высокий плечистый Войтех позволил себе возразить, что пану Унишевскому нет особого доверия. На это отец отвечал, что уж он сам был в числе пленивших воеводу Шеина с бородой, как метла на бойне. Но сын возразил, что речь не о бородах, а о фрейлинах и самой Марине Юрьевне: есть сведения, что московские бояре надругательства не допустили, вырвали полураздетых дам из лап черни.) А после все равно ее удушили в кремлевской башне или отравили… бедную пани Марианну. И сынка трех лет от роду – позорно повесили.
…Но тогда она еще была здрава вместе со вторым Димитрием. И славные хоругви Короны шли к Смоленску. Правда, поначалу сил-то оказалось маловато, паны мои радные. Венгерцы, немцы, литовские татары и шляхта – всего чуть более десяти тысяч. И около тридцати пушек. Это на такой-то замок?! Но король и гетман Жолкевский, канцлер Сапега, маршал Дорогостайский, старосты Потоцкие, староста Стадницкий… кого еще забыл? Кавалера Новодворского! Все они полагали, скажу вам, полагали вещь немыслимую: добровольную сдачу. Такого-то замка? Зачем же московитам было лишь пять годков тому назад и возводить сию твердыню, а, я спрашиваю? Но тогда и мне, молодцу, грезящему о подвигах, тоже такое мнилось: сдадутся смольняне на милость шляхты великодушной.
В этом нас уверило и то, как принят был первый гонец с посланием Сапеги к смольнянам: а принят он был, не в пример тому, как приветствовали таковых-то гонцов московиты, принят был любезно, хотя ответ воеводы был отрицательным. И все понадеялись, что оттого сие произошло, что Смоленск и воеводу оставили дворяне с оружием, ушли.
Чуть позже уже сам Его Величество соблаговолил обратиться к смольнянам с универсалом… Это был прекрасный универсал, мои дети, прекрасный, уверяю вас. Любые другие жители Московии приняли бы его с радостью. Король обещал с помощию святых угодников и Девы Марии оборонить смольнян от врагов всяческих зловредных и промышляющих худо, освободить холопов от рабства их постыдного, унять разлитие крови христианской, твердо укрепить православную их веру и даровать благодать мирных лет и тишину… И, мол, вы бы, смольняне, радовались тому и нашей королевской милости, да и вышли бы с хлебом-солью, по обычаю, да пожелали жить отныне под королевской рукой нашею… Sic![46]
Да норов-то у них оказался не менее нашего. Так вспомните, сто лет Smolenscium был в Великом княжестве Литовском, а они, литва, нам почти ровня. И мы вместе громили тевтонцев при Грюнвальде[47]. И как раз смоленский полк не дрогнул там, а, поговаривают, вырвал победу из закованной длани псов-рыцарей и вручил ее Владиславу Ягайло и Витовту.
Воевода их Михайло Шеин ответствовал королевскому посланцу, что ежели тот еще раз подступится с таковой-то грамоткой-речью про немедленную сдачу, то его, сердечного, напоят-де водицею днепровскою, закусить дадут тины. Гордец!
Как мы перешли нашу границу у речки Ивалы, подканцлер королевства Щенсный Криский поздравлял короля с счастливым вступлением в то государство, которое смел удерживать за собою сто лет лет грубый народ русский.
Утро было туманное, деревья похожи на людей, правда слишком больших, начинался дождь. Но едва его величество переехал мост, небо стало ясно и выкатилось солнце. Все повеселели. Мы вступили в эту страну мрака, неся ей свет.
Паны радные разом желали кинуться на сии высокомерные словеса и доставить к стопам короля победу. Но идти приличествует на штурм пехоте, а не всадникам. А пехоты было маловато, чуть более четырех тысяч. И все-таки мы выступили, дабы проучить жестоковыйных смольнян. (Здесь Войтех поинтересовался, так ли уж мало тридцати орудий? Отец ответил, что мало, ежели на башнях и стенах их было в десять раз более, а у Короны из этих тридцати только четыре пушки осадные.)
Казаки господина Невядомского наткнулись на дороге на посланца Шеинова. Это был повешенный смольнянин, сообщавший литовскому канцлеру о смоленских делах, с письмецом, мол, вот висит вор такой-то, а висит за воровство свое с Львом Сапегой.
Хорош привет воеводы Михаила этого Шеина, ничего не скажешь.
Еще издали на подходе к Смоленску увидели мы дым и зарево на окрестных лесах, холмах и небесах осенних. Что такое? Господа? Смольняне одумались и ради вольностей Речи Посполитой, ради Магдебургского права[48], ради мирной жизни схватили своих воевод, учинили рокош?[49]
Но подойдя ближе, мы услышали пальбу со стен – смольняне палили в нас. А огнем был охвачен город на правом берегу Борисфена. O Mater Dei![50] Там полыхали тысячи домов. Они не щадили даже своих церквей старожитной греческой веры. Перед воротами толпились стада. Туда поскакали – конечно, не мы, гусары, а легкие гайдуки, отбивать скот. Смольняне обернулись и кинулись врассыпную, а иные похватали кто что мог и пробовали защищать своих коров да овец, но гайдуки легко вошли в эту оборону, как нож в сало, пастухи сии падали рассеченные, теряли головы, руки. Правда, тут смольняне начали палить густо, доставалось и своим, и коровам с лошадьми, которые утробно мычали и ржали, разбегаясь во все стороны, падая в Борисфен, сшибая рогами и гайдуков. Мы все глядели на сие первое сражение со Спасской горы, порываясь в бой. Но нам запретили. Штурм надо было подготовить. Гайдукам удалось увести часть этих стад, сколько-то было побито пулями и ядрами, остальной скот загнали-таки в замок. Да! Им это очень скоро пригодилось.
Итак, смольняне затворились в своем замке и постановили держаться, сколько хватит мужества. Ихний архиепископ Сергий засвидетельствовал у Господа эту клятву службою в церкви на горе.
И этого мужества, Николаус, им достало на два года.
Два года! Кто бы мог подумать, что дело так затянется?.. Налей, Савелий, мне водки. И я выпью за моих друзей, сложивших здесь головы, славных гусар с крыльями, наводившими своим треском страх на неприятеля. За панов Бодзинского, Збаражского! За пана Гаевского, старосту, убитого выстрелом из гаковницы[51] в шею, когда он стоял неосторожно на шанцах[52]. За лейтенанта немецких пехотинцев Пауля Ланге, бесстрашного голштинца, убитого стрелой, попавшей ему прямо в глаз… В левый глаз… И, рыча, он выдрал ее вместе с глазом – да и замертво рухнул. Великий был насмешник, рыжий силач. За француза Гвери, мастера петард[53], подкопов… Но постойте, изящный Гвери в дурацком парике остался жив. Да, и это было чудо, милость Девы Марии. Смольняне вели встречный подкоп от стены и зажгли порох – Гвери выбросило вверх! Ого-го! Он так не летал даже во сне. Потом он говорил, что увидел даже все замковое устройство, дома, подводы, пушкарей на стене, порубленные деревья, костры. И увидел – он увидел кое-что еще, а именно – радугу между горами в замке. Это зимой-то? Зима его и спасла. Гвери де Вержи упал в сугроб и остался жив. Да!.. Но… Но с тех пор у него начала трястись голова, отшибло слух. А главное, главное – его начали донимать видения. Для солдата – это слишком. Он же не пиит? Как наш Куновский. Радуга – ладно, ее и мы все однажды увидели, уже летом, как и обычно – после дождя, хотя дождь произвел свое ошеломляющее в высшей степени воздействие на все оружие в наших руках и в руках неприятеля: только Брацлавский воевода разрушил ядрами три башни и часть стены и туда уже ринулись венгерцы, мы, казаки, немцы, как из совершенно ничтожного облачка – вот не более шкуры бараньей – хлынул какой-то уже библейский дождь. И загасил вмиг фитили, намочил порох, сделал скользкими и неприступными склоны, и посему приступ не вышел. Ну а над проломом в стене и сияла чудесная радуга, так что художник его величества схватился за свои приборы, велел натянуть парусину и принялся рисовать. А наутро пролом был уже завален камнями, землей и бревнами, смольняне всю ночь трудились. Дождь пособил им.
А Гвери Вержи толковал, что се длань защитницы града, и он ее видел. Кого? Virgo Maria[54]. Видел над дымным городом в плате радужном. Смольняне почитают свой град под ее защитой, и храм на горе есть Ecclesia Beatae Mariae Virginis Assumptae[55]. Но дальнейшие события опровергли все его прозрения. А самого несчастного Гвери Вержи пришлось отправить в Варшаву, король не пожалел денег на его лечение… Что с ним стало? Далее его следы теряются в Париже.
Вот за них я и выпью этой хлебной дикой смоленской водки. Выпейте и вы!
…Но полегло здесь рыцарей и пахоликов многажды больше.
Мм… дзёрзкая гарэлка…[56]
А первый штурм, первый штурм не удался из-за трубачей.
Литовский маршал перед рассветом послал из пушек и мортир приветствие калеными ядрами воеводе и архиепископу. Ядра улетали за стену, вбивались в стену, эхо разносилось по спящим окрестностям… Но уже никто и не спал. Рыцари готовились к броску. Воздух был наполнен запахом дыма и гари. Горький воздух той осени!.. И пехота господина Вайера, немцы, наконец выступила, ударила с запада. А с другой стороны замка пошли Новодворский и Шембек. А с юга замок прикрыт болотистой местностью. С севера его хранит Борисфен. Немецкие пехотинцы заложили под ворота петарды, но взрыв произвели ничтожный. У господина Новодворского поначалу дело пошло лучше: в Авраамовой башне петарды выбили ворота. Венгерцы ждали сигнала трубачей, пошедших с подрывниками специально. Сигнальщики должны были трубить в случае удачного подрыва… И подрыв был удачен! Был!.. Но где трубачи? Они сбежали. Да, мои панычи, победа бывает в зависимости от музыкантов. На этот раз музыки победы не прозвучало. (Здесь Николаус поинтересовался, что было потом с трубачами этими? Пан Григорий ответил, что их хотели повесить, но по милости его величества погнали, как баранов, этой же ночью впереди пехотинцев Людовича Вайера на штурм главных ворот – Днепровских в пятиярусной башне, которые были снаружи укреплены шанцами и срубами; немцам удалось эти срубы запалить и опрокинуть смольнян, броситься за ними, попытаться на плечах их ворваться в чаемый град, но тут смольняне открыли бешеную пальбу из ружей и пушек. Провинившиеся трубачи и были в клочья изодраны свинцом и каменьями. Что ж, пуля лучше воровской веревки. Штурм снова был отбит.)
И тогда началась долгая осада.
Маршал Дорогостайский установил на северной Покровской горе за Борисфеном орудия и через реку повел огонь по замку. С запада со Спасской горы тоже била артиллерия. Каленые ядра запалили замок во многих местах. Мы обрадовались. Но смольняне быстро все загасили. Стрельцы и пушкари у них вели по нам огонь. А жильцы, даже и женщины с детьми, как то видно было в подзорные трубы, тушили пожары, рыли землю, таскали камни и бревна. Только наши пушки проделают пролом в башне или стене, как жильцы, ровно муравьи, кинутся в это место и зачнут все заделывать.
Мы действовали не только кнутом, но и пряником. Посылали гонцов, глашатаев, суливших смольнянам различные выгоды при сдаче и, наоборот, несчастья при упорстве. Все было впустую. Те, за стеной, твердили как попугаи, что-де крест они уже целовали Шуйскому, а другого царя знать не хотят. Но ведь этот Шуйский мало чем отличался от узурпатора лжецаревича второго Димитрия. Он подговорил чернь броситься на царя Димитрия, всеми московитами признанного, и венчанную на царство Русское Марину Юрьевну. Но смольняне вдуматься в это дело не желали. Крест целовали, и все. Ну, так и самому сатане можно жезл целовать!..
Артиллерия наша была слаба. И мы ждали осадных орудий из Риги, кои доставить должны были Двиной. А смольняне совершали дерзкие вылазки и даже, атаковав шанцы Стадницкого, захватили знамя. Хорунжий, правду сказать, был пьян, но храбро кинулся отбивать знамя, да только получил рану и свалился, а те так и ушли. Тогда поручика, командовавшего людьми на этих шанцах, приказано было казнить. А семидесяти двум гайдукам, проворонившим русских, наказано идти впереди всех на следующий приступ. Поручик был хорош, смелый, белокурый, звать Анджеем. Но командовать совсем не умел. Слишком молод. Его только назначили. И сразу лишили звания, да и белокурой головы. Dura lex, sed lex[57], как говорили древние.
Удалось им занять и шанцы перед Чуриловским рвом на западе. То и дело высыпали они с пальбой с бочками и ведрами к Борисфену – брать воду. Перебежчик сказывал, вода от действий орудий уходила из колодцев в замке. Сказывал, что и все дерева у них на учете, хлеб, соль. По избам теснота, а тех, кто пустит кого к себе по найму, со двора сбивать. Воеводская изба выпустила поручную запись, ее должны были принимать крестьяне, пришедшие в осаду, чтоб им верно служить государю Василию Ивановичу, целовать ему крест, в Литву не сбегать, изменникам вестей не носить, добра литовским людям не желать, бояр слушать и с Литвой биться до смерти…
Переметывались помалу людишки из замка, больше от голоду, подлого звания, крестьяне, коим приходилось кормиться милостыней, ходить Христа ради по миру. И чтобы им не помирать с голоду, брали веревку, повязывали бойницу и спускались на нашу сторону, бежали во тьме.
Но и наши в замок уходили, как это ни прискорбно. Один пахолик обокрал жолнера и дал деру в замок. Воевода его снова отправил к нам – на разведку. И тот все вынюхивал и снова в замок ушел. Через время – опять к нам, стараясь с тем жолнером не сталкиваться. Да вот же бывает: жолнер тянул с другими застрявший воз и этого пахолика окликнул: пособи, мол. Тот пристроился – глядь… Бежать было, да его перехватили. Ну и приступили к расспросам пристрастно. Он все подробно рассказывал и просил отпустить его шпионом в замок: де, он ведает, где казна пороховая, и все подорвет. Но ему не поверили, отвели к обгоревшему дереву и вздернули.
Два орудия у нас вышли из строя, от стрельбы появились изъяны, расколы наметились, осталось только еще два. А из Риги орудия еще не пришли. И мы как кроты принялись вести подкопы, а смольняне – свои подкопы под наши подкопы. А сверху уже зима русская, лютая. Иной раз там, под землей, происходили стычки. В январе смольнянам повезло подорвать наш подкоп и задавить землей гайдуков да самого инженера Шембека. Правда, Шембек оказался счастливцем – правая его рука была свободна, и он ею сумел выкопать все свое тело. Тем и спасся. Минеры хотели, как мыши, сгрызть этот замок. Но большого успеха не имели.
Весной прибыли орудия из Риги. Но посильнее сих орудий было воздействие голода. К нам прыгали с замка совсем оголодавшие смольняне. Хотя, как показывали допросы, воевода Михайло Шеин торговлю хлебом для корысти запрещал и отводил для того место перед Днепровскими воротами. Но это еще только у посадских да крестьян брюхо подводило, а боярские дети, дворянство и стрельцы хлеб ели, ежели и не от пуза, как говорится, но во здравие.
Шеин хлеб раздавал дворянам, оказавшимся в осаде, – из различных смоленских городов, которые и пришли-то сюда без запаса, да еще с семьями и людьми. Воевода умен был… Да и сейчас есть, жив. Посадским он тоже хлеб давал. И только на крестьян ничего не оставалось. Те и убегали к нам. И мы их кормили, по человечеству.
Да еще у них в замке началось моровое поветрие. Беглый стрелец с ошалевшими горящими глазами и замызганной бороденкой говорил, что каждый день в замке похороны, да знатные: по сто человек закапывают. И все лежат больные, а здравых только человек с две тысячи.
Они, смоленские сидельцы, как их московиты называли, они надеялись на родню царя, молодого боярина Скопина-Шуйского, отбросившего войска Димитрия Второго от Москвы и вообще дельно воевавшего. Да на пиру московиты его потравили. Дядька его царь Шуйский и потравил из опаски. Другому родственнику доверил войско, а мы его разбили! Семь тысяч гусар ударили по этому войску московитов под Клушином, четырнадцать тысяч трещавших крыльев навели такой страх на них, что бросились те прочь, роняя ружья. Хоть московитов было за тридцать тысяч. Гетман Жолкевский, оставив на время осаду Смоленска, летучих гусар и вел, и ах, как я жалею, что как раз выбил правую руку, гоняясь за одним боярином под этими стенами, когда смольняне осмелились на вылазку. У него был соболий воротник, и мне не терпелось отделить сей воротник от забубенной головы. Сперва его прикрывали стрельцы, так что немцы не могли подступиться. Но тут в дело вмешались мы, ринулись с копьями наперевес и быстро рассеяли стрельцов. А я, наметив пику в сего боярина, на полном скаку промахнулся да так врубился в бревно полусгоревшего перед стеной сруба, что не удержался и вылетел из седла своего гнедого. А тот боярин – ко мне на коне, с саблей, голубые глаза в красных прожилках, я их до сих пор помню. Моя сабля сбоку… А я не могу пошевелить дланью. Попытался и закричал от боли, как будто мне оторвало руку и лишь на жилах она повисла. Но тут меня и спас немец, рыжий Ланге, – выстрелил из пистолета… осечка… рраз! Просто метнул тяжелый пистолет, и тот рукоятью пронзил щеку боярину, да так, что посыпались зубы, а глаза голубые в красных прожилках едва не вылетели от боли, и он тоже свалился с коня, вскочил, схватившись руками за голову… Тут ее и снес подоспевший с другой стороны товарищ – разорвал копьем на скаку, словно какую-нибудь гнилую колодину или тыкву. Я еле увернулся от кровавого копья, упав на колени, и Ланге отскочил в сторону от храпящей лошади. Вот так удар! Это был пан Ляссота.
Ваш капитан, будущий капитан, спасся таким образом. Но не смог уйти с хоругвями Жолкевского на славную битву, которую будут помнить потомки. Плечо мне вправил лекарь голландец, напоив водкой. А я его за ту милость поил рейнским. Но руку пришлось держать на перевязи, она долго ныла и оставалась вспухшей. Тогда, не желая оставаться в стороне, я принялся с усердием испытывать левую руку: учился стрелять и рубил саблей тыквы. Ведь дни Смоленска были сочтены, и вот-вот мы должны были предпринять решительный штурм. На Москве бояре низложили царя Шуйского, насильно постригли его и в конце концов передали с двумя братьями Жолкевскому.
А до того пан Жолкевский отдавал его королевскому величеству булаву Дмитрия Шуйского, усаженную камнями, а также тринадцать вражеских хоругвей.
Осенью гетман Жолкевский доставил пленных в наш лагерь. Мы увидели их, да, этого старичка с длинной седой бородой, длинным горбатым носом, большеротого и глядевшего исподлобья. Маленькие глазки беспощадно простреливали наши головы насквозь… Но и только. Мы оставались целы. А ясно было, что он мечтал вымостить дорогу к главным воротам Смоленска нашими простреленными головами. Был он, как и его два брата, в простой одежде. Хотя должен был носить рясу. Ему показали Смоленск из-за реки. Может, и со стен кто его увидел… Смольняне ожидали царской милости, ждали боярина-освободителя Скопина-Шуйского, а вместо него дождались жалкого старичка-отравителя. Ведь никто не сомневался, что это он отравил на пиру своего богатыря племянника.
И его с братьями увезли дальше, в Речь Посполитую, где в Варшаве уже на следующий год устроили достойную встречу царю русскому, приняли его с почестями… А главное – позабавили народ. И этот старичок, как рассказывают, пал ниц во дворце пред его величеством, как и подобает царю варваров. (В этом месте пани Елена опустила глаза, а Войтех снова позволил себе заметить, что этому рассказу пана Унишевского противоречит рассказ ксендза Мархоцкого, чей брат присутствовал там. Пан Григорий взглянул на него, потом перевел глаза на супругу, хотел что-то сказать, но в этот миг в светце одна лучина вдруг, ярко вспыхнув, вывалилась из зажима и с шипеньем упала в прямоугольное блюдо с водой. Пан Григорий посетовал, что Савелий плохо укрепляет лучины и однажды все здесь также вот пыхнет – сосновый дом, двор, как это недавно случилось у ротмистра Домарацкого!) Тут мне вспомнился другой ротмистр, Модзелевский. Он вдруг еще ранее, в первую зиму осады напал со своими людьми на обоз наших же литовских татар и пограбил их. На него донесли. Модзелевский все отрицал. Во всем винил какого-то татарина, оскорбившего его и погрозившего передаться русскому царю. Ротмистру велено было представить сего татарина. И тот не смог. А посему, после некоторого ожидания, его вывели на поляну посреди лагеря, в одной белой рубашке, штанах и сапогах, простоволосого, и в обильно падавшем снеге велели опуститься и склонить голову, что Модзелевский неохотно, после понуканий и уговоров сделал. Тут свистнула сабля, и голова ротмистра кувыркнулась. В войске, где были и венгерцы, и немцы, и русины, и литвины с поляками, да еще казаки и татары, подобные случаи грабежей страшны, словно пожар в деревянном городе.
Нам надобно было делать одно дело – возвращать сей град Короне.
И мы его взяли у этого медвежьего народа.
12. Продолжение рассказа Плескачевского
Ну, коли вы еще бодры, и ты, наш гость, так слушайте и дальше сие повествование о брани. Толькі найперш няхай Савелій напоўніць мой кубак сакавіцкім півам, пара асвяжыцца…[58]
Да! Potum nice![59]
Легко было произнести слова о взятии града. А нам еще предстояло год его брать. Дела наши были не так хороши, как это может показаться, нет, нет… Войска для такого замка было мало. Орудий тоже. С топорами и саблями думали наскоком взять – да куда там. Петардами – тоже не получалось. Подкопаться тоже не удалось. Гусары не желали становиться пехотой. А разве на коне возьмешь замок? В войске зрело недовольство. Запасы провианта надо было пополнять. Денежное довольствие не платили. Однажды и я отправился с командой на промысел. Нам нужен был фураж, лошади отощали. По октябрьскому зазимку, как говорят московитяне, наш отряд в тридцать семь человек гусар, товарищей панцирной хоругви и сорок пахоликов, с подводами, двинулся на юг от Еленевских ворот. Здесь у них старинный путь. Выступили рано и, так как морозец оковал великие местные грязи, быстро оставили замок позади. Деревни вокруг пустовали или были пожжены. Крестьяне ушли кто куда. Большинство – в замок, другие в отдаленные места. И нашему отряду приходилось скакать дальше и дальше, пока мы уже не достигли одного села, славного тем, как нам стало известно позже, уже во время спокойного жития в замке, – тем славного, что смольняне разбили там воинство Батыя, а предводитель ихний, римский воин Меркурий стал святым, ибо он и повел отряд смольнян на сражение по велению Матери Божией и был в бою обезглавлен, но вернулся к стенам Смоленска, держа свою главу, и упал у Молоховских южных врат, чрез кои твой отряд, Николаус, и въехал сюда.
Разведчики, бывавшие здесь прежде, доносили о зажиточных и еще не тронутых деревнях далее, а именно: о Словаже, о Васильеве, Птахове, Станькове, Могарец, Горавичи, Белкине, Мончино… Теперь-то я все сии берложьи наименования хорошо усвоил. Королевским привилеем четыре года назад был пожалован землею в стане Долгомостском.
И туда мы стремились.
Да и застряли в тамошнем болоте за селом, ибо недруг разобрал клади. И клади эти разобраны оказались не сразу у начала переправы, а в середине. А пробовали идти так – солнце уже светило сильно и действие ночного мороза иссякло, стали вязнуть повозки, лошади. Стали поворачивать подводы, да тут и увязли, одна лошадь по уши ухнула в прорву окаянную, судари мои. И мы, всадники, кто смог, повернули, выбрались на твердый берег и пошли к северу, где на холме стоит большое село над Борисфеном. А часть наших осталась вытаскивать увязшие повозки, ладить настилы. В большом том селе уже побывали наши добытчики с месяц или того более назад, изрядно его обобрали, и мы не хотели туда вступать, да что делать. Встретили нас неласково. Сена у них совсем не оказалось. И мы велели пахоликам брать с крыш солому. С каждого двора постановили дать по четыре овцы, либо одну корову, либо два поросенка, либо двадцать кур. Начались препирательства, свары. Я этого не люблю и десять раз пожалел, что ввязался в сию кампанию. Не гусарское это дело. Но по моему увечью сюда меня ротмистр князя Острожского, кастеляна Краковского, и определил. Один мужик разъярился и погнал быка прочь, к реке, тот с обрывистого берега бултыхнулся в осенние воды Борисфена да и поплыл, фырча. Ну, казаки схватили того мужика и кинули следом, он немного отплыл в одежде и начал тонуть. Так и потонул, а быка казаки застрелили. Пришлось брать лодку и гнаться за мертвым быком, потом тащить на веревках, грузить на отнятую подводу.
А когда мы вернулись к Долгому Мосту, как называлось то село, где ихний святой ходил обезглавленным, то застали посреди болота и разбитых кладей одни трупы наших и опрокинутые телеги да побитых и по уши утопших лошадей. В телах торчали стрелы. Будто лучники татары того Батыя на них и напали. Тут же ринулись к деревенскому люду, пылая местью и намереваясь поджечь славный тот Долгий Мост, но мне удалось задержать исполнение намерения наших. Вызвали старосту именем… Меркурий же, а по-ихнему, деревенскому, Мирька, с окладистой бородой, синеглазый… Он и по сию пору жив, только борода уже белая, ровно высушенный лен, а глаза бесцветные, слепые. И тот сказал, что налетели на наших точно татары. Мы не поверили. Но вскоре явился там живущий дворянин Никита Чечетов… (Капитан взглянул на пани Елену, и легкая улыбка тронула его лицо со слегка покрасневшими жесткими скулами. Полуулыбка осветила и лобастое лицо Елены.) И сей дворянин заверил нас, что на обозников в самом деле напали татары, уж он-то знает их облик, ибо в пограничном с Диким Полем городе ведал строительством стругов, что спускались по Сосне в Дон. А как начались смутные времена, и город наполнился всяким отребьем, и струги начали жечь, вернулся в родной край, где, в Смоленске, и начинал ладить лодки, смолить их, на Смядыни было у них с батюшкой и братьями это дело, так сказать верфь. А потом его позвал московский боярин в тот город, пограничный с Диким Полем. Я спросил его, отчего же он сидит здесь? Никита Чечетов отвечал, что сии времена не для строительства… И он, этот дворянин, спас село Долгий Мост, в котором – на некотором отдалении – и жил с семьей в усадьбе. А с ним и дочерь Елена Чечетова. Что, признайтесь, мои судари, знаменательно, ведь и путь тот в южные княжества именуется Еленевским. Хотя и утверждают, что сие прозвание произведено от ели. Но я-то женат не на дереве?.. І пара ўжо нам усім выпіць за нашу гаспадыню, пані Алену!.. Савелій, дзе ты?..[60]
…Но кто же были эти татары? Этого нам так и не удалось выяснить, паны мои. Может, наши татары, недовольные тем нападением ротмистра Модзелевского? А я и был как раз отправлен с его людьми. Но самого ротмистра уже не было в живых, он понес заслуженное наказание за разбой в лагере. Или этого им показалось мало? Но могли ли они незаметно оставить лагерь и последовать за нами? Или все-таки это были другие татары, из тех, кто служил московскому царю… уже и не царю, а семи боярам, взявшим власть в Кремле? Или они были в услужении у ложного Димитрия? Его отряды как раз недавно захватили Козельск. Или это были татары сами по себе, пустившиеся в поход на рысях по Руси, что осталась точно по русской пословице: без царя в голове? Таких отрядов лихих много рыскало всюду: казаки, татары, шведы, англичане, шотландцы. Русь являла собою настоящий Вавилон. Но сия башня не к небесам тянулась, а растянулась от края и до края.
Раненого моего товарища Суфчинского перевозить никак нельзя было, он кричал от боли при малейшей встряске, и тогда пан Чечетов предложил свой кров и уход. За Суфчинским ухаживали пани Чечетова с дочерью Еленою… И он выжил-таки, проведать и, если можно, забрать раненого я поехал уже по снегу, под Рождество. Там, в доме среди снегов, мы и отпраздновали Рождество по нашему обычаю, Чечетов склонялся к униатству после дружбы с одним оршанским монахом, бывшим в татарском плену и сбежавшим в Ливны, и посему со всем семейством принял участие в празднике, нарушив строгий православный пост и велев готовить сочиво – пшеницу в меду – в этот декабрьский вечер, а не в январе, как это у них ведется. И на столе появилось вино доброе, мальвазия, чего нельзя было ожидать в такой-то глуши волчьей. А Рождественской звездой был огонь в доме в деревне над болотом. И там-то, в белом болоте, выли волки. Хозяин в шутку предложил охотиться на них, и мы все его дружно поддержали. На следующий день хозяин предоставил нам лыжи, по бездорожью лошади утопали в снегах. Никто из нас не пробовал еще ездить на таких-то устройствах из еловых тонко оструганных досок, кои подвязываются к ногам сыромятными ремешками. А московиты на таковых-то лыжах пол-Сибири покорили и сто лет назад приходили в Литву. Была у них лыжная рать. И сейчас под Москвой пятитысячный отряд Скопина-Шуйского на лыжах уязвлял нашего Сапегу. Ну а в лесах русских на лыжах бегали шайки шишов. Шиши по-русски, а по-нашему разбойники, головорезы. Свист – и вдруг летят отовсюду со склонов, выскакивают из-за лесных завалов. А лошади вязнут, даже у легкой татарвы. Да и рассказывают, что однажды лыжная рать побила татар под Рязанью. Ну и вот мы сами были как шиши. Какие там волки, паны мои!.. Ехали и падали… Но мне неожиданно это пришлось по сердцу… Трудно сказать. Жмудское староство, что ли, мне тогда вспомнилось, откуда я родом. Хотя там у нас местность все ровная, а тут – холмы. А болота такие же. А в лесах Жемайтии, по-ихнему… то бишь по-нашему… нет… московитяне называют ее Жмудь, так я тоже обвык… В лесах наших… ихних… (Тут пан Григорий замолчал и беспомощно взглянул на пани Елену, она ответила тихим смехом, а Александр с жаром воскликнул, что здесь все леса принадлежат Короне!)
Савелій, дай мне медавухі. Сёе – выраблена пчоламі Ливнинского лесу, у які сягоння ўварваліся з сякерамі чужыя сяляне, у нашу вотчыну, што на Излуке супраць Полуэктова…[61]
Пока места непроходимые. А они на лодках. И лес легко по воде утянуть. Да мы с Александром нагнали на порубщиков страху. Да попросили подмоги в Николославажском остроге, что на горе за речкой Ливной стоит. Там пан Ляссота, тот, что когда-то спас меня, воеводит. И посейчас пособляет. А мы ему бочонок рейнского из замка-то отвезли.
Что же я хотел сказать, паны мои радные?.. Ах, да, Жмудь… или Жемайтия… Вы там не бывали. А ты, Николаус? А вот твой отец пан Седзимир ясновельможный гостил у меня на озерах. Озер там много. И мы славно охотились на гусей, а в бору добыли вепря… Николаус? А? Хо-хо!.. Я вижу, взгляд твой сверкнул. Да ты никак в отца? Тоже разделяешь сию страсть? Ну так мы еще поохотимся в тех местах на речке Ливне, в Полуэктове, а глядишь, и в Жмуди…
Жмудь… или Жемайтия… Да, Жмудь… Там и народ такой – жмудь, ражий, хмурый, медведю поклоняется… Ну еще лет полтораста всего назад и поклонялся. Крестились только вчера. И в стане Долгий Мост, в поместье Полуэктово – такие же. И это мне по сердцу пришлось, хотя я чистый шляхтич. Но последователь Лютера. Там, в сердце Речи Посполитой, сейчас для нас настали трудные времена. И король… ныне покойный… хм… Сигизмунд Ваза Третий налагал длань тяжкую на приверженцев Лютера. Может, при его восприемнике выйдет послабление сих оков. Но здесь, на краю мира, в сем новоявленном Иерусалиме к нашему брату отношение терпимое. И наш король, невзирая на мою веру, дал привилей на земли и лес в Полуэктове. Вера наша несколько иная, но служба – верная. Потому я и предпочел сей Иерусалим!.. Не смейтесь над старым солдатом. Таковым град нарекли сами паны переговорщики, когда сюда пожаловали из Москвы еще в сентябре, митрополит Филарет и Голицын, и их поселили в четырнадцати шатрах за версту от королевского стана. Они прибыли бить челом королю, чтоб тот отпустил сына своего Владислава на царство в Москву. Ведь они своего царя свергли… а московиты не могут без царской руки никак. И даже изъявляли согласие и, более того, всею душою желали посадить в царские палаты иноплеменного королевича. Только хотели, чтобы он непременно перекрестился по православному обычаю и в жены взял москвитянку. А король, по слухам, в те дни страшно мучился от болей в животе своем. Солдаты требовали платы. Денег не было. Провиант приходилось распределять бережливо. Те же московские послы жаловались на скудость кормления. На что им отвечали, де, его величество не в своей земле, чтобы жаловать их по-настоящему своей милостью. Соединить магната с боярином, а шляхтича с дворянином? Корону и шапку Мономаха? Этого горячо и желали московиты. Только просили короля отступиться от Смоленска и вообще уйти с войском к себе в Варшаву. На что паны радные ответствовали так: король пришел сюда успокоить разбой и раздор, и как он этого достигнет вполне, то и сына даст на престол московский. И чтобы сына ему дать, надо еще у сейма испросить дозволения, ибо власть его не тираническая, как у вас было при Иване Лютом, да и после так ведется. И о Смоленске сказали, что даже если бы его величество решил отступиться, они, рыцари и паны, ни за что не согласятся и во что бы то ни стало отнимут и вернут свою вечную отчину – Смоленск. Войска у короля – люди вольные, а не рабские, и от Смоленска уже не хотят уйти сами. Им нужен сей град. Послы отвечали, что без указа из Москвы ничего не могут решить. А паны им заявили, что они – великие послы и все могут сами усмотреть и сделать, так вот и велели бы смольнянам этим жестоковыйным потешить короля, целовать крест ему и сыну да и отдать Смоленск, впустить в него войско. Послы им на это: де, будет Владислав царем – будет и Смоленск его градом. Тогда Смоленску конец! Так заявили паны радные, потеряли просто уже терпение всякое с этими московитами дремучими бородатыми в шубах и собольих шапках препираться, сколько можно? А те снова за свою волынку: не, не можно отдать град сей. Тогда им паны: де, ежели так, ежели не прикажете смольнянам врата раскрыть и крест целовать, то камня на камне не оставим и будет граду сему, как Иерусалиму!
Слухи об этих переговорах живо пересказывались в лагере. Мы уже не могли ждать и смотреть на эти стены, об которые столько раз ранились и до смерти наши товарищи. И ждать плодов добрых от переговоров не хотели никак, уже сколько их было! Сюда приезжали уже московские послы, уговаривал сдать град касимовский царь, перешедший к королю на службу, упрашивали купцы, попы. А смольняне ответствовали пушками. И ведь Москва уже присягнула королевичу Владиславу! Царь в плену. А Смоленск? Чей ты, град? После битвы под Клушином сюда прибыли и почти тысяча дворян смольнян из войска московского. Они получали грамоты жалованные Сигизмунда на свои, а то и на чужие поместья. И тоже обращались к сидельцам в замке с речами о сдаче… Так нет! (И пан Григорий ударил кулаком по столу так, что подпрыгнули кружки и пустые блюда.) Нет… Главный боярин из Москвы прислал троих бояр с грамотой-приказом сдать немедленно град и бить королю челом. А смольняне в ответ били из пушек.
Тогда сии слова грозные об Иерусалиме мы тут же и попытались претворить: пошли на штурм. Взорвали башню и часть стены, ринулись в пролом с криком, закипело дело, и кровь закипела, паны мои, на камнях, скрежет и стрельба, ор и хрип, сверху камни и пули. Тут кусок стены отломился, и моих двоих товарищей, Бодзинского и Збаражского, зашибло, кости проломило. Сии гусары, оставив своих рысаков, в деле участвовали как пехотинцы. Нас встретили огнем, топорами, кольями, саблями, ружьями. Странное дело, паны мои! Ночами то и дело из замка переметывались стрельцы, посадские, крестьяне и дворяне между ними, – даже по десять человек за ночь. От голода, и болезней, и кар воеводы за дорогую продажу хлеба ли, соли и прочие провинности, к примеру посылку вместо себя за деньги на ночную стражу на башне, или стене, или в подкопах-слухах, или просто за речи о бессмысленности дальнейшего запирательства в замке, когда уже и Москва отдалась шляхтичу. А тут, тут мы проломили стену к свободе же! Бегите, рабы упрямства Шеинова, мы дадим вам хлеб и соль! Но сии темные упрямцы, ровно гладиаторы на римских аренах, – да, sic! – кинулись с воплем и рогатиной нам навстречу. Три раза мы врывались в пролом, и три раза они с рычаньем нас отбрасывали, не желая покидать свою темницу. И всю ночь там корпели, шатаясь от голода, выплевывая ослабевшие от болезни зубы, обдирая руки в кровь, – и наутро мы изумленно узрели забитый землею и бревнами, камнями пролом. Откуда у них брались силы? А главное – у железного этого Михайлы Шеина, воеводы? Ведь по речам, которыми с нами делились переметнувшиеся, выходило тесное положение боярина Шеина. Не все были с ним заодно, так-то, паны мои. У смольнян тоже были разброд и шатания. И воевода хватал их и бросал в темницу. Да всех же не побросаешь? С кем защищать обширные стены, высокие башни? У них в Московии был мятежник, учинивший рокош, как его… княжеский холоп… Иван… Так ему свернули шею царевы слуги. И сего воеводу Шеина так иные сидельцы в замке и прозывали, де, как тот вор Иван, княжеский холоп… И речи такие вели, что он, Михайло Борисович, потому упорствует, что поджидает вора главного, ложного Димитрия, того, второго уже… Хотя у них можно было сбиться со счету, сколько вдруг повылезало внуков и детей Иоанна Лютого тирана, царевич Август, князек Иван от одной из баб Лютого, а тот ведь был не только до расправы лют, но и до красавиц охоч, потом еще царевич Лаврентий какой-то, дальше слышно было о царевичах Федоре, Клементии, Семене, Мартынке и Савелии!.. Земля царевичей.