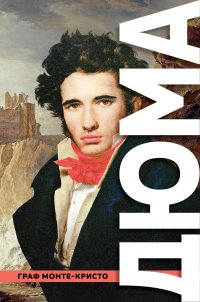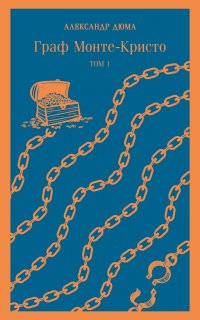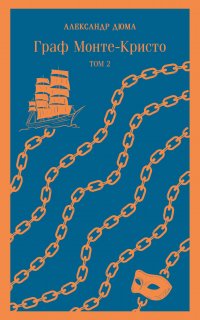Читать онлайн Сильвандир бесплатно
- Все книги автора: Александр Дюма
© Перевод. Я. З. Лесюк, наследники, 2019
© Агентство ФТМ, Лтд., 2019
* * *
I
Что представляли собой шевалье Роже Танкред д'Ангилем и его семейство в 1708 году от Рождества Христова
В труде гораздо более серьезном, нежели это наше сочинение, мы уже объясняли, каким образом французское дворянство было повержено в прах тремя людьми – Людовиком XI, Ришелье и Робеспьером. Людовик сокрушил своих могущественных вассалов. Ришелье обезглавил высшую знать, Робеспьер уничтожил аристократию.
Первый подготовил монархию единодержавную, второй – монархию абсолютную, третий – монархию конституционную.
Однако, поскольку события, о которых мы собираемся поведать, происходят между 1708 и 1716 годами, мы предоставим истории оценить в социальном аспекте деяния короля, рубившего головы на плахе, равно как дела и поступки трибуна, рубившего их на эшафоте, а сами кинем лишь беглый взгляд на то, какими были Париж и провинция через семьдесят лет после смерти Ришелье – иными словами, в начале восемнадцатого столетия.
Когда мы говорим «Париж», то совершаем ошибку, и нам бы следовало сказать «Версаль», ибо в ту эпоху Парижа больше не существовало. Людовик XIV так и не сумел простить столице, что она в бурные дни Фронды изгнала его из своих пределов, когда он был еще совсем ребенком; а так как при всем своем могуществе монарх этот испытывал одинаковое удовольствие, мстя людям и вымещая досаду на предметах неодушевленных, то он и создал Версаль, этого фаворита без должных достоинств, как именовали в ту пору и как будут именовать во все времена сие сумасбродное творение, создал его, дабы наказать древний Лувр за давний мятеж, лишив этот дворец присутствия своей королевской особы.
Итак, Версаль с того самого дня, когда Людовик XIV перенес туда свою резиденцию, стал источником света для французского королевства, и к этому манящему факелу слетались и обжигали об него свои крылышки те золоченые мотыльки, коих именуют придворными; Версаль уподобился солнцу, что всходило над миром, сияя ослепительнее других светил[1], ему предстояло сиять еще сильнее и ярче по мере того, как оно будет еще выше всходить на небосводе[2].
Из-за ослепительного этого сияния, средоточием которого сделался Версаль, остальная часть королевства пребывала в тени; все, что не обращалось вокруг главного светила – солнца, как бы принадлежало к второстепенной звездной системе, к какой-то неведомой туманности, которую политическим астрономам того времени и изучать-то не стоило; а потому на протяжении семидесяти трех лет, пока длилось царствование Людовика XIV, история Версаля и была, в сущности, историей Франции.
Вот как получилось, что в той великолепной галерее, которую мемуары тогдашней поры открывают любопытным взорам читателей, представлены лишь те, на чью долю выпал необычайный успех, или же те, кто навлек на себя высочайшую немилость: мы узнаем о возвышении Лувуа, Вилларов, Аржансонов, Кольберов и о падении Роганов, Ришелье, Лозенов и Гизов; что же касается храброго и честного провинциального дворянства, некогда составлявшего силу монархии, дворянства, которое вместе с Дюгескленом изгнало Черного Принца из Гиени, а вместе с Жанной д'Арк изгнало Генриха VI из Франции, то его больше не существовало, вернее сказать, оно было удалено от центра королевства и не подавало ни малейших признаков жизни, так что могло показаться, будто оно вообще перестало существовать.
Бесспорно одно: пребывая вдали от солнца и тем самым от света, оно прозябало в безвестности и забвении.
Если б мы сами придумывали сюжет нашего романа, нам бы следовало, ничтоже сумняшеся, выбрать своего героя из среды тех блестящих придворных, о которых повествует Сен-Симон: он рассказывает, что эти люди изо дня в день присутствовали при пробуждении короля и при его отходе ко сну, их охватывала тревога, если монарх хмурил брови, они расцветали от его улыбки и приходили в полное отчаяние от одного его гневного слова; однако мы почитаем себя прежде всего историком, а потому берем своего героя там, где его находим; впрочем, возможно, придет такой час, когда, неотступно следуя за нашим героем, мы должны будем вырвать его из провинциальной безвестности и ненадолго очутимся вместе с ним в лучах света, которые Версаль даже в ту эпоху упадка все еще отбрасывал вокруг себя.
Но пока мы попросим читателя оставить Версаль – кстати сказать, постоянное пребывание г-жи де Ментенон превратило его с некоторых пор в весьма унылое место – и отправиться с нами в иные пределы, расположенные в двухстах тридцати двух километрах от Парижа, как нас понуждает выражаться закон о новых мерах длины; а поскольку четыре километра составляют одно льё, то нашим читателям достаточно разделить двести тридцать два на четыре, ежели им хочется узнать, на каком именно расстоянии от столицы они находятся. Мы охотно избавили бы их от такого труда, но нас заставляют платить штраф в размере пятидесяти франков всякий раз, когда мы употребляем старинные меры длины, и нам приходится из соображений бережливости отсылать читателей к четвертому правилу арифметики. Как ни глупо, но это так.
Стало быть, мы находимся на левом берегу Луары, в окрестностях города Лоша, на красивой равнине, расположенной между реками Эндр и Шер, пересеченной рощами, которые здесь торжественно называют лесами, и богатой прудами, которые тут пышно именуют озерами.
Равнина эта в ту пору была поистине гнездовьем небольших дворянских усадеб, где прозябали обломки тех знатных родов, которым Людовик XI, можно сказать, укоротил ноги, а Ришелье – поотрубал головы; так что все эти славные сельские жители, чьи замки были разрушены, земли отчуждены, а права урезаны, люди, которые могли бы потягаться знатностью с самим Карлом Великим, ныне были бедны, как Готье Нищий. Потомки дворян, разбойничавших на больших дорогах во времена Филиппа Августа и Людовика XI, возглавлявших отряды своих вассалов при Филиппе Красивом и Карле V, бывших капитанами при Франциске I и Генрихе II, в войсках Генриха IV и Людовика XIII превратились уже в простых знаменщиков или сержантов; наконец, еще позднее, не находя себе больше места даже в последних рядах войска и не имея возможности пустить в ход старые шпаги своих предков, шпаги, чью позолоту постепенно разъела ржавчина, они как бы вернулись к давним временам, описанным в Библии, и стали, по примеру Нимрода, великими охотниками пред Господом. Словом, то были потомки самых знатных, самых старинных и самых богатых родов во Франции, но, увы, такие потомки, о которых потом, пожалуй, даже не вспомнят.
В самом деле, владельцы крупных поместий мало-помалу переселились поближе к Версалю, и древняя Турень, расставшись с великолепными родовыми замками, обосновалась со всем своим движимым имуществом, с чадами и домочадцами в окрестностях Шартра и Ментенона. Лош в результате всеобщего упадка перестал быть королевским городом, и здешние мелкопоместные дворяне, жившие в богатом, мирном, но затерянном крае, хотя они все еще шумно оспаривали свое право на былое величие у безвестности и забвения, сами чувствовали, что над их головами медленно, но неотвратимо нависает угроза впасть в полное ничтожество.
Такой участи поневоле покоряются, но мириться с нею не хотят. А потому по всей провинции нарастало в ту пору глухое недовольство правлением великого короля. И наши дворяне, чье уязвленное самолюбие приводило к брожению умов, о котором мы только что упомянули, стремились восполнить то, что было ими утрачено, звучными названиями, напоминавшими о былом: так, их жилища по-прежнему именовались замками, наружные ограды – крепостными стенами, а тенистые ручьи, где барахталась дюжина уток, – глубокими рвами; единственный двор при доме нарекали парадным двором, хотя иного двора не было; имелась у них и оружейная зала: обычно ею служила кладовая для фруктов или для сыров; была, наконец, и замковая часовня, а на самом деле – церковь в ближнем селении, куда чаще всего можно было попасть, только совершив часовую прогулку по полям.
Тем не менее, если бы не ущемленная гордость и несоответствие пышных наименований истинной ценности вещей, все эти дворянские имения могли бы стать счастливыми гнездами; однако их обитатели полагали для себя унизительным признаться в том, что они счастливы. Надо сказать, что их недовольство порождалось скрытым тщеславием; слишком бедные для того, чтобы перебраться поближе к Версалю, они громогласно заявляли, что ни в грош не ставят королевский двор. Каждую минуту они упоминали о заманчивых предложениях, которые будто бы получали и от которых отказывались. А так как все повторяли приблизительно одно и то же, им приходилось делать вид, будто они верят друг другу. Нечего и говорить, что такое жалкое и никчемное фрондерство не выходило за пределы провинции, и за все пятьдесят или шестьдесят лет, пока оно продолжалось, передаваясь по наследству от отца к сыну, слух о нем ни разу не достиг ушей короля.
Надобно заметить, что в этом небольшом уголке земли, который составляет часть края, именуемого садом Франции, дворянин уже слыл богачом, если у него было две тысячи экю годового дохода, и не много встречалось людей, чьи доходы достигали столь вожделенной цифры. По большей части эти мученики тщеславия получали в среднем от двух тысяч пятисот до трех тысяч ливров ежегодных поступлений, а иным и вовсе приходилось довольствоваться ста пятьюдесятью или двумястами пистолей в год; но, несмотря на скудость такой суммы, они умудрялись вместе со своими порою весьма многочисленными чадами и домочадцами достойно принимать участие в праздничных сборищах окрестных дворян.
Помимо всего прочего, эти славные господа, а вернее, их предки, пользовались в былые времена необычайными и весьма широкими правами, мало-помалу утратившими силу, что не мешало нашим дворянам, когда они невзначай перечитывали свои жалованные грамоты и отряхали пыль с пергаментных свитков, испытывать известную гордость при мысли о том, что их прадеды могли совершать самые невероятные поступки и располагали привилегиями, коим позавидовали бы Прокруст, Герион или Фаларис. Вот почему некий арендатор, живший на землях барона Аженора Паламеда д'Ангилема, был однажды не на шутку испуган, услышав, как его господин и повелитель, приплясывая, чтобы согреться во время охоты на волка, громко объявил:
– Дворяне из рода д'Ангилемов в согласии с грамотой, пожалованной им в тринадцатом веке, имели право раз в году в часы охоты согревать ноги в животе одного из своих вассалов, который перед тем вспарывал доезжачий.
Нечего говорить, что ни сам достойный дворянин и ни один из его предков никогда не застуживали себе ноги до такой степени, чтобы их надобно было отогревать столь необычным способом.
Коль скоро имя барона д'Ангилема появилось из-под нашего пера, воспользуемся случаем и расскажем, кто он такой и каков он.
Барон Аженор Паламед д'Ангилем принадлежал к числу тех титулованных землевладельцев, о чьих правах мы только что упомянули и чье состояние достигло весьма скромных размеров: он жил в замке, расположенном на равнине, владел шестьюдесятью овцами и шестью коровами, продавал на двести ливров в год шерсти и выращивал за тот же промежуток времени на триста ливров конопли, выручая всего пятьсот ливров, каковые он великодушно отдавал баронессе д'Ангилем – на ее наряды и на воспитание их сына.
У баронессы Корнелии Атенаис д'Ангилем было только шесть платьев, хоть и не слишком элегантных, но зато необычайно красивых; одно платье она сшила к свадьбе, другое – по случаю рождения сына, которого все из любезности называли молодым бароном, хотя по дворянской иерархии он имел право только на титул шевалье; именно так, а не иначе мы и будем, не обинуясь, его именовать, ибо у нас, в отличие от тех, кто его окружал, нет никаких оснований льстить этому юноше. Остальные четыре платья баронессы были сшиты не в столь отдаленные времена и больше отвечали современной моде; однако и они, можно сказать, видали виды, что, натурально, не могло не отразиться на их внешнем виде, как говаривал, употребляя изящный и неизбитый каламбур, некий шутник, маркиз де Шемилье, живший по соседству от них, всего в двух льё, на той же равнине.
Молодому барону – а вернее, шевалье Роже Танкреду д'Ангилему, будущему наследнику всех родовых владений, а именно: Ангилема, Пентад и Герит – иными словами, шестидесяти арпанов пашни, двадцати арпанов лесных угодий и огорода, где росла капуста, – шел пятнадцатый год. Этот рослый и красивый малый мог, даже не садясь на лошадь, догнать бегущего зайца; из ружья он стрелял, как метр Лаженес, их егерь, о котором говорили, будто он из двадцати болотных куликов убивает девятнадцать; Роже был способен без седла скакать на самом норовистом коне во всей провинции, что на десять льё в окружности создало ему славу истинного кентавра; наконец, уже в возрасте пяти лет, когда барон Аженор д'Ангилем вложил в руку мальчика небольшую узкую шпагу, Роже начал обучаться обращению с холодным оружием, ежедневно по часу, а то и по два упражняясь под руководством своего отца, принадлежавшего к числу самых опытных фехтовальщиков провинции; правда, благодаря своей громкой славе барону ни разу не представился случай обнажить шпагу для настоящего поединка. Таким образом – переходя от урока к уроку, поднимаясь с одной ступени совершенствования на другую, усваивая один ловкий прием за другим, – Роже сменил маленькую узкую шпагу на длинную рапиру, его слабые икры мало-помалу стали железными, дрожащая рука сделалась стальной, а сам он из ребенка превратился в бравого молодца и мог, не отступая ни на шаг, целый день простоять в оборонительной позиции, опираясь всем телом на выдвинутую вперед левую ногу и держа рукоятку рапиры на уровне груди, справа: это было главным правилом в методе того времени, которая, заметим мимоходом, ничуть не хуже любой другой.
Помимо сих благоприобретенных качеств, шевалье был наделен от природы многими завидными достоинствами: у него были красивые белокурые волосы и необыкновенно изящные руки и ноги, росту в нем было пять футов пять дюймов, и следовало полагать, что он на этом не остановится, а будет еще выше; его ясные синие глаза смотрели смело и открыто, на полных румяных щеках уже начал пробиваться легкий пушок. Вот почему жены всех живших по соседству мелкопоместных дворян, пользуясь тем, что он еще не вышел из отроческого возраста, называли его, и при этом всегда с улыбкой, либо «красавец Роже», либо «красавец Танкред», в зависимости от того, на ком останавливало выбор их романтическое воображение – на герое, завоевавшем Сицилию, или же на возлюбленном Клоринды.
Вот что можно сказать о физических качествах Роже, а теперь перейдем к его нравственным достоинствам и образованию.
Эта столь важная сторона в воспитании человека, которому самой судьбой было предначертано поддержать и упрочить славу рода д'Ангилемов, составляла первейшую заботу барона и баронессы с того самого дня, когда, по милости Господней, Небо даровало им сына.
Госпожа д'Ангилем сама давала Роже первые уроки грамоты, письма и счета. Священник из соседнего селения научил мальчика склонять имена существительные и спрягать глаголы, но этим исчерпывались его собственные познания, и он с прямодушием, делавшим честь скорее его порядочности, нежели учености, откровенно признался, что не берется приготовить шевалье к поступлению в следующий класс. Родители Роже оказались в большом затруднении, не зная, как продолжить образование своего отпрыска, ибо им не хотелось, чтобы он уезжал из дому в столь нежном возрасте; но тут один из друзей рассказал им о некоем аббате Дюбюкуа, который только что завершил обучение одного из самых богатых наследников в Лоше и подыскивал себе новое место и нового воспитанника. Именно такой человек и нужен был барону и баронессе д'Ангилем. Были наведены самые подробные справки, и все они говорили в пользу наставника; вот каким образом аббат Дюбюкуа поселился в замке д'Ангилемов; ему определили годовое содержание в сто пятьдесят ливров со столом и присвоили высокое звание наставника шевалье д'Ангилема.
А теперь скажем несколько слов о самом замке, где обитали четыре человека, о которых мы только что поведали; одному из них – мы не хотим этого долее скрывать от читателей – суждено сделаться главным героем нашего повествования. Нетрудно догадаться, что мы говорим именно о том, кого местные дамы, как уже упоминалось, привыкли называть «красавец Танкред» или «красавец Роже».
Замок д'Ангилемов, собственно говоря, вовсе не был замком, не был он, правда, и обычным домом. Нет, то было строение, представлявшее собою нечто среднее между тем и другим, и оно могло бы сойти за прекрасную ферму. Внизу на сей ферме – мы остановимся на этом слове, хотя и обязаны выказывать всяческое почтение ее благородным обитателям, – было восемь комнат. Среди них прежде всего назовем кладовую для сыров, каковой было присвоено громкое наименование оружейной залы, столовую и гостиную, украшенную тремя старинными портретами, на коих почти невозможно было разобрать лиц, и недавно писанным портретом, изображавшим офицера королевского флота в парадном костюме командира корабля. К этому портрету мы еще вернемся. Залу для стражи – но, увы, без стражи – украшали доспехи, принадлежавшие пяти стражам в те времена, когда они еще имелись; ныне эта зала превратилась в обычную комнату: в ней собирались вместе все члены семьи. Имелись в доме и четыре спальни. Кухня и различные хозяйственные службы находились в подвальном помещении, а еще ниже, под кухней, были устроены погреб и погребки, тянувшиеся подо всеми восемью комнатами. Наконец, в одном из четырех углов этого строения высилась двенадцатиметровая башня, которую именовали сторожевою. Сам барон Аженор д'Ангилем спал в ней, и именно она позволяла ему упорно называть свое жилище гордым словом «замок»; впрочем, название это – то ли по привычке, то ли из учтивости – охотно употребляли все окрестные жители, говоря о доме барона, и если мы оспариваем его право так считать, то поступаем единственно из духа противоречия.
Замок д'Ангилемов не принадлежал к числу наиболее богатых в округе. Барон получал от своих арендаторов, которым он отдавал внаем земли, тысячу двести ливров в год; а поэтому, так как в провинции доходы каждого известны всем остальным, ему следовало либо безропотно смириться с репутацией дворянина средней руки, либо лгать.
И барон лгал без зазрения совести: он утверждал, будто получает сто луидоров в год из военной казны, да еще сто других из личной казны короля. Впрочем, мы не отважимся уверять, что он утверждал это самолично, просто он не мешал говорить другим и никого не разубеждал. Надо сказать, тут дело обстояло точно так же, как и со всеобщим недовольством, о котором мы уже упоминали: никто не обманывался насчет этих двухсот луидоров дополнительного дохода, и потому шевалье Роже Танкред не считался в провинции завидной партией.
Однако это обстоятельство, как, несомненно, понимают наши читатели, не слишком-то тревожило юношу. Он был высок и силен; если ему недоставало собственных лошадей, к его услугам были лошади всей округи; места для охоты у него было вполне достаточно, ибо по молчаливому уговору окрестных дворян, которым негде было бы разгуляться на собственных землях, каждый имел право охотиться и на землях соседей; Роже мог с листа читать и переводить Корнелия Непота; не имея покамест особых потребностей, он еще не успел обнаружить, что беден.
И в самом деле, чего ему не хватало? У него был воспитатель, с которым он легко мирился, хотя, по правде говоря, смотрел на него как на излишнюю роскошь. Когда Роже возвращался с охоты, то благодаря заботливой предусмотрительности баронессы его всегда ожидал сытный обед, а остатки обеда он отдавал своей собаке. Затем, после трапезы, его ждала мягкая постель, и он мог, если ему это доставляло удовольствие, спать хоть двенадцать часов кряду. По-моему, это и есть настоящая роскошь, или я глубоко ошибаюсь.
Когда Роже Танкред покидал свой замок – на коне или пешком, с ружьем за спиною или под руку с аббатом Дюбюкуа, – работавшие в поле крестьяне поднимали головы, оборачивались и кланялись ему, а жившие по соседству молодые дворяне останавливались и дружески пожимали ему руку. Вот все блага и преимущества, каких может желать человек с простым сердцем и философическим складом ума, или я ничего не смыслю в вещах такого рода.
Когда в замке ожидали гостей, Роже Танкред помогал матери ничуть не меньше, чем двое слуг, составлявших всю челядь дома. Он собственноручно начищал до блеска массивное старинное столовое серебро с фамильными гербами, он помогал баронессе готовить пироги, ибо она подобно средневековым владелицам замков не брезговала месить тесто своими руками. Больше того, так как он был столь же ловок, сколь и силен, то именно ему поручали вытирать пыль с нескольких ваз из японского фарфора: их вот уже три поколения бережно хранили как семейные реликвии. Когда гости собирались, Роже Танкред облачался в новый кафтан, сшитый, правда, уже года два, а то и три тому назад, проводил гребнем по своим пышным вьющимся волосам и предлагал руку дамам.
Барон и баронесса частенько задумывались над будущностью своего горячо любимого сына; почтенные супруги не раз обсуждали открывавшиеся перед ним возможности. Отец стоял за военную карьеру; баронесса, однако, обращала внимание мужа на то, что при этом пришлось бы похоронить имя д'Ангилемов в безвестности – в последних рядах войска, ибо питать более радужные надежды в этом случае не приходилось, поскольку наш будущий герой был недостаточно богат, чтобы на собственный счет снарядить и содержать полк. Бывали, правда, особые случаи, когда король устранял такого рода препятствия, жалуя дворянину грамоту на чин полковника и присовокупляя к ней еще и денежное пособие в сто тысяч экю; однако Людовик XIV уже столько раз делал такие дары, что, по его собственным словам, мог теперь это себе позволить только в самых редких случаях.
А у короля не было никаких оснований отказываться ради шевалье Роже Танкреда от столь мудрого решения. Вот о чем баронесса вслух напоминала мужу всякий раз, когда он заводил разговор об этом предмете. Кроме того, она уже чуть слышно прибавляла, что вовсе не желает, чтобы ее бедный мальчик сделался военным, памятуя, что наследник рода д'Ангилемов может, как последний солдат, получить удар алебардой во Фландрии или пулю из мушкета на берегах Рейна, что и случалось сплошь да рядом со многими дворянами, которых благородное происхождение не удержало в родных местах.
Тогда барон обращался мыслью к столь превосходному поприщу, как финансы. В ту эпоху должность в финансовой ведомстве уже считалась завидной карьерой и на нее можно было отважиться, не слишком поступаясь дворянским достоинством. Но где было взять такую должность, ведь она бы стоила вдвое дороже, чем полк, поскольку полк приносил своему владельцу одну только славу да раны, в то время как тепленькое местечко по ведомству финансов приносило своему владельцу полновесные луидоры, приятные и для глаз и для души. Поэтому приходилось отказываться от всяких видов и на эту карьеру, доступную одним только любимчикам г-жи де Ментенон, отца Лашеза и герцога дю Мена. А посему барон д'Ангилем, как и подобало славному добропорядочному мелкопоместному дворянину, на все корки честил «старуху», иезуита и бастардов.
Так что и на финансовое ведомство особенно рассчитывать не приходилось, и сама баронесса, хотя она страстно желала, чтобы ее горячо любимый сын получил какую-нибудь должность, исправлять которую можно без опасности для жизни, была вынуждена признать, вздыхая и покачивая головой, что строить подобные планы – полнейшее безрассудство.
И тогда барон вновь возвращался к заветной мечте, которую он давно лелеял, а именно к мысли сделать сына морским офицером. Морская служба была прекрасным и благородным поприщем, со всех точек зрения достойным любого дворянина. Людовик XIV превратил Францию в морскую державу, и она мало-помалу начала успешно противостоять влиянию Англии и Голландии, двух этих повелительниц морей: французскому королю уже не раз удавалось добиваться того, что они ослабляли одна другую, а он тем временем укреплялся за счет обеих; однако именно здесь барон наталкивался на особенно сильное сопротивление своей супруги. Если она боялась для сына жребия солдата, то с тем большим основанием должна была страшиться жребия моряка, ибо моряку каждый день приходится бороться не только против враждебных ему людей, но и против всевозможных капризов стихий.
Дело в том, что один-единственный раз, в самом начале их совместной жизни, барон и баронесса д'Ангилем побывали в морском порту. Произошло это в Бресте: во время морской прогулки на них налетел шквал, да такой неистовый, что суденышко, на котором они плыли, раз сто могло перевернуться, и только чудом, по милости Неба, оно благополучно вернулось в порт.
С той поры госпожа д'Ангилем, чьи нервы, хоть она и была деревенской жительницей, были, в сущности, не крепче, чем у парижской маркизы, теряла спокойствие при одном упоминании о море; перед глазами у нее постоянно стоял ее милый сын Роже: при свете молний, под раскаты грома бедняга дрожал и раскачивался на ветру, ему угрожали смертью морские валы, готовые поглотить и похоронить его на дне разбушевавшейся пучины, чей пророческий голос в свое время так убедительно предупредил ее об опасности; а потому, стоило барону после множества словесных ухищрений завести разговор на эту тему, и баронесса тут же начинала испускать громкие вопли и спрашивать мужа, неужели в благодарность за примерное поведение, которым она всегда отличалась, он желает чтобы она умерла с горя.
Тогда барон, человек превосходной души, в свой черед тяжко вздыхал и едва слышно произносил:
– Сударыня, сударыня, вы недостойны гордого имени Корнелии, которым вас нарекли!
На что баронесса отвечала:
– Сударь, мы, слава Богу, живем не во времена Гракхов, и я не римлянка.
В самом деле, славная женщина была всего лишь доброй, нежной и прекрасной матерью, что, быть может, не многого стоит в глазах философов, но, уж конечно, высоко ценится Господом Богом. И супругов вновь одолевала все та же вечная неуверенность в грядущем жребии шевалье Роже Танкреда; а покамест мальчику давали самое лучшее воспитание, какое только могли, хотя, по всей видимости, ему предстояло сделаться в будущем всего лишь мелкопоместным дворянином, получающим четыреста экю годового дохода, как и его почтенный отец. Весьма печальная участь.
Тем не менее на этом сумрачном небосводе едва заметно блестела крохотная звезда, и она время от времени освещала семейство д'Ангилемов своим неярким мерцающим сиянием. Роль такой сулившей покровительство звезды играли пока еще робкие надежды на получение наследства: речь шла о состоянии дальнего родственника – барона, кавалера королевских орденов, отставного капитана фрегата, своего рода морского волка, который плавал под командой Жана Барта; звали этого человека виконт де Бузнуа.
Современный портрет, висевший в гостиной среди старинных фамильных портретов, изображал именно его.
Иногда в замке заводили речь об этой нынешней знаменитости, чей блеск сливался с блеском имен прошлых знаменитостей из рода д'Ангилемов, но говорили о ней весьма сдержанно. Дело в том, что хотя состояние виконта и вправду было весьма внушительным, однако виды на наследство были довольно шаткими, а посему связанные с ним планы справедливо почитали волшебными замками, химерами, грезами; вот почему барон и его супруга не отваживались серьезно надеяться на это наследство и были совершенно правы, но при случае они не без гордости заявляли:
– В Версале живет наш родственник виконт де Бузнуа, капитан корабля королевского флота. – Затем, указывая рукой на портрет, прибавляли: – Взгляните, вот он изображен в парадной форме.
Именно глядя на этот портрет, барон вновь обращался мыслями к морской карьере для сына, о чем мы уже поведали читателю, именно столь счастливым родством и были они внушены.
– Что ни говори, – рассуждал барон, – а виконт де Бузнуа – мой кузен; больше того, я даже единственный из оставшихся у него родственников, так что я наследую ему, если он умрет, не оставив завещания; поэтому, если бы я попросил у него рекомендации для Роже Танкреда, он не мог бы мне в том отказать, ну а рекомендация капитана фрегата открыла бы перед моим сыном морское поприще, а коль скоро шевалье сделает первые шаги на этом поприще, кто знает, как далеко он пойдет?
Мысль о морской карьере для сына крепко засела в голове барона, и тут не малую роль сыграли события таинственной жизни виконта де Бузнуа. Самые необычайные рассказы ходили насчет источников его огромного богатства, ослеплявшего взоры всего семейства д'Ангилемов. И один из этих рассказов все почитали наиболее правдоподобным. Вот к чему он сводился.
Виконт де Бузнуа шестнадцатилетним юнцом отправился в свое первое плавание на французском фрегате «Фетида». Сперва он снискал себе славу, обстреливая из орудий попеременно англичан и голландцев; затем, во время второй войны во Фландрии, он вооружил на собственный счет бриг «Касатка» и нападал на суда английской компании, возвращавшиеся из Чандернагора, и на суда голландской компании, возвращавшиеся из Батавии; помимо солидной доли в прибылях, это принесло ему чин капитана фрегата на той самой «Фетиде», на которой он в свое время уже плавал. Наконец, когда был подписан Нимвегенский договор, виконт де Бузнуа в награду за хорошую и верную службу был назначен губернатором небольшой колонии на Малабарском берегу, принадлежавшей в ту пору Франции.
Вам известен обычай женщин только что названной страны. Наш собрат Лемьер, который скончался, так и не уразумев, почему морское министерство не установило ему пенсион в шесть тысяч ливров годового дохода в знак признательности за его знаменитую стихотворную строку:
- Свой трезубец Нептун точно скипетр сжимает… –
наш собрат Лемьер, говорю я, описал сей обычай в смертельно скучной своей драме. Так вот, обычай этот в силу филантропического правления англичан начинает ныне выходить из моды, но в то время он был весьма распространен. И случилось так, что скончался один из самых богатых и могущественных малабарских князьков; следуя традиции, его жена – ей не было еще и двадцати лет, и она была хороша, как ясный день, – объявила о своем твердом намерении сжечь себя во время погребения своего усопшего супруга.
Господин де Бузнуа, в ту пору человек еще молодой – ему лишь недавно исполнилось тридцать пять, – г-н де Бузнуа, повторяем мы, узнал о решении молодой женщины. Надо сказать, что еще при жизни ее мужа отставной капитан фрегата «Фетида» не раз окидывал оценивающим взглядом ту, что ныне стала вдовой; он решил, если только это окажется возможным, помешать готовившемуся самосожжению и отправился для этого в дом покойного; придя туда, он увидел, что вдова приводит в порядок свои роскошные наряды, натирается самыми изысканными благовониями – словом, так прихорашивается перед смертью, как другая прихорашивается перед празднеством. Виконт объяснил очаровательной малабарке цель своего визита, он убеждал ее, что просто преступно так вот взять и ни с того ни с сего покинуть здешний мир, в то время как один ее взгляд может озарить радостью жизнь других людей. Он напомнил ей, что она не только вдова, но прежде всего мать и у нее существует не менее священный долг перед живым сыном, нежели перед умершим мужем. Словом, он был необыкновенно галантен, нежен, красноречив, даже трогателен; но все было тщетно. Молодая женщина призналась, что не без сожаления расстается с жизнью, к которой только-только приобщилась; тем не менее, она была тверда в своем намерении, давая, однако, понять, что, несмотря на свой решительный отказ, она приносит себя в жертву не столько из желания умереть, сколько потому, что склоняется перед предрассудками окружающих; в конце концов она, призывая в свидетели Вишну, Шиву и Брахму, объявила, что будет навеки обесчещена, если проявит слабость и не последует общепринятому обычаю. Из ее слов виконт де Бузнуа заключил, что несчастная вдова не испытывает большого восторга перед ожидающим ее костром, но поступает так единственно потому, что все женщины в ее краях так поступают, что так заведено, что такова, можно сказать, мода, а во всех странах мира любая женщина во что бы то ни стало стремится следовать моде.
И тогда виконт принял твердое решение. Он не стал мешать ходу погребальной церемонии, и казалось, что церемония будет доведена до конца; однако в ту минуту, когда прелестная вдова начала прощаться с родными, он выхватил шпагу и подал знак двум десяткам солдат, которых перед тем расставил цепью вокруг ритуального костра, объявив, что это придаст еще более торжественный характер поучительному зрелищу; пока половина небольшого отряда разбрасывала солому, поленья и другие горючие материалы, сам виконт во главе второй половины своего скромного воинства похитил очаровательную вдову и увез ее в губернаторский дворец.
Мы не знаем, какие именно доводы употребил по прибытии туда г-н де Бузнуа, чтобы отвратить свою малабарскую Венеру от ее решения.
Но одно нам доподлинно известно: на следующий день она не только отказалась от мысли взойти на костер, но, видимо, вполне утешилась и больше уже не горевала о том, что ей не удалось умереть.
Год спустя виконт де Бузнуа женился на вдовушке; и, по слухам, вступая в брак, супруги завешали свое имущество тому из них, кто переживет другого. В настоящее время в живых оставался сам виконт, и, как мы уже упоминали выше, благодаря рупиям своей покойной красавицы-жены, присоединенным к его собственным пиастрам, он обладал состоянием набоба.
И теперь, если бы г-н де Бузнуа умер, не оставив завещания, его состояние должно было целиком перейти к барону д'Ангилему как к самому близкому его родственнику, ибо сын малабарки от первого брака, по всей видимости, утратил права на наследство, когда его мамаша вступила во второй брак.
Однако вероятность получения этого наследства зависела от слишком многих обстоятельств, и семейство д'Ангилемов не могло никоим образом полагаться на такую возможность, строя планы на будущее для шевалье Роже Танкреда.
Долгими зимними вечерами, когда, собираясь вокруг большого камина, окрестные дворяне беседовали то у одного, то у другого соседа о подвигах своих предков или о военных деяниях сородичей, г-н де Шемиле, чей двоюродный дед командовал кавалерийским полком, толковал о кавалерии; г-н де Биргару, кузен одной из крестниц Вобана, рассуждал об осадах крепостей; г-н Гантри, доводившийся зятем сборщику соляного налога, разглагольствовал о финансах; аббат Дюбюкуа говорил о церкви. Что же касается барона Аженора Паламеда д'Ангилема, то, благодаря своему родству с виконтом де Бузнуа, он в этом собрании, где каждый вид оружия имел своего представителя, представлял морской флот. Таким образом, героические поступки и любовные похождения капитана фрегата отбрасывали некий отблеск на его родичей из Лоша: слава, как всем известно, не слишком-то прибыльное достояние, но, за неимением иного, она все-таки лучше, чем ничего.
II
Как шевалье д'Ангилем, которого дамы из Лоша и его окрестностей называли: одни – Красавцем Роже, а другие – Красавцем Танкредом, обнаружил, что у него есть сердце
Так проходили дни – а под днями мы разумеем также и ночи – этого славного семейства, но родители все еще ни на чем не могли остановиться, размышляя о будущей карьере наследника рода, которому между тем исполнилось пятнадцать лет; он проводил время как вздумается, охотился и гарцевал на лошади в свое удовольствие, зубрил латынь, хотя и почитал это занятие никчемным, утверждал, что вольный воздух весьма полезен для развития его ума, но стоило ему оказаться на вольном воздухе, и он почти ни о чем не думал, а только насвистывал.
Шевалье Роже Танкред был грозой всех зайцев и косуль в округе, но ему еще ни разу не пришло в голову поохотиться за какой-нибудь смазливой пастушкой. Правда, он унаследовал от матери изрядную дозу чувствительности, однако ничто в Ангилеме и его окрестностях еще не заставило ее пустить ростки. Много телесных упражнений, мало прочитанных романов, почти полная невозможность влюбиться – вот что доселе определяло его линию в жизни.
Впрочем, один случай ему все-таки представился, и, надо сказать, шевалье Роже Танкред не преминул им тут же воспользоваться.
На Пасху барон и баронесса давали званый ужин. Праздник этот в те времена был поводом для дружеских встреч, и все окрестные дворяне, жившие на шесть льё в окружности, были приглашены в замок д'Ангилемов. Шевалье Роже Танкред усердно помогал матери, он выполнил все, что ему было поручено, – о его обязанностях мы уже подробно рассказывали выше – а затем нарядился в самое лучшее свое платье и вошел в гостиную, где уже собрались приглашенные.
Беседа велась о порубках леса, о недавнем севе, о предстоящей охоте, и, так как эти предметы разговора были весьма близки и интересны мелкопоместным дворянам, никто не обратил особого внимания на то, что один из гостей сильно запаздывает; гость этот был виконт де Безри, слывший по всей провинции столь точным человеком, что его аккуратность вошла в поговорку. Тем не менее, когда на стенных часах пробило восемь, – в приглашениях было сказано, что за стол сядут ровно в половине восьмого, – желудки собравшихся начали требовать своего, и, прислушавшись к этому властному голосу, их обладатели стали тихонько спрашивать друг у друга, что же все-таки могло задержать опаздывающего соседа.
Вопрос был вполне уместным, ибо, начиная с той минуты когда часы пробили половину восьмого, все стали замечать, что барон с беспокойством следит глазами за бегом минутной стрелки, а баронессу уже два или три раза подзывали к дверям гостиной слуги, чтобы справиться, можно ли подавать кушанья, причем она громко отвечала:
– Повремените немного, Катрин: виконт де Безри с минуты на минуту прибудет.
Стенные часы показывали четверть девятого; стало понятно, что только несчастный случай мог так задержать г-на де Безри. И баронесса д'Ангилем начала не на шутку тревожиться за свою приятельницу-виконтессу и за ее дочь Констанс: та приехала из монастыря, чтобы провести пасхальную неделю в родной семье, и должна была сопровождать своих почтенных родителей в Ангилем.
Тогда барон приказал шевалье Роже Танкреду оседлать Кристофа и отправиться по дороге в Безри на поиски пропавших. Было решено ждать возвращения молодого человека, но тут же условились, что ежели через час он возвратится, ничего не узнав, то все сядут за стол, больше не думая о том, что именно могло произойти с виконтом де Безри.
Роже Танкред принял поручение, не заставив себя долго упрашивать: этот живой юноша был всегда готов услужить; поверх своих шелковых чулок он натянул пару длинных гетр, оседлал Кристофа, доброго коня трех или четырех лет от роду, вскочил ему на спину, натянул поводья, взмахнул прутом остролиста, заменявшим ему отсутствующие шпоры, и заставил мирное животное с ходу перейти в галоп.
Вечер был такой, о каком может только мечтать поэт: тусклая луна, скрытая большими лохматыми тучами, резкий северный ветер, свистевший в ветвях, еще лишенных листвы, зловещие крики ночных птиц – все это привело бы в восторг Рене, Вертера или Гамлета; но Роже был равнодушен к мрачному очарованию ночи, к тому же он сильно проголодался, а когда Роже бывал голоден, то в природе не существовало почти ничего – за исключением разве хорошо сервированного стола, – что могло бы привлечь его внимание. Вот почему он мчался галопом, бранясь и посылая ко всем чертям неаккуратных людей, прикидывая, что из-за этой задержки рагу слишком долго пролежит в кастрюле, а говяжье филе пережарится; и всю вину за неаккуратность соседей он возлагал на мадемуазель де Безри: скорее всего она слишком тщательно наряжалась и этим задержала родителей. Предаваясь подобным размышлениям, юный гонец нахлестывал Кристофа; тот привык к гораздо более спокойному аллюру, даже когда на нем гарцевал сам шевалье, а теперь несся галопом, причем из ноздрей у него валил дым, как у фантастического коня возлюбленного Леноры.
Однако, хотя Роже Танкред все мчался вперед, он по-прежнему ничего не видел, кроме теней от туч, закрывавших луну; тени эти на мгновение как бы набрасывали на дорогу траурное покрывало. Время от времени юноша придерживал коня и прислушивался, но до него доносился лишь свист ветра в верхушках деревьев. Тогда Роже со вздохом поворачивал голову в сторону родительского замка и сквозь ветви различал вдали светящиеся окна его. При этом он испытывал сильный соблазн повернуть назад и возвратиться домой, сказав, что на дороге ничего не заметил; однако юноша тут же вспомнил, что прошло всего десять минут с тех пор, как он выехал из замка, а отец наказал ему ехать вперед не меньше четверти часа. И он пересиливал себя, опять нахлестывал Кристофа и снова мчался галопом, к величайшему изумлению бедной лошади: обычно на ней ездил верхом барон, и поэтому она привыкла к небыстрой рыси.
Внезапно Роже показалось, будто в двухстах или в трехстах шагах впереди раздался отчаянный крик; услышав этот крик, лошадь сама остановилась, шумно втягивая воздух дымящимися ноздрями. Шевалье посмотрел по сторонам: он находился теперь в пустынной заболоченной лощине на узкой дороге, которая шла над карьером, где добывали глину; вокруг царил мрак, и потому крик прозвучал особенно зловеще; юноша невольно вздрогнул.
Однако – и это надобно сразу сказать в похвалу наследнику рода д'Ангилемов – чувство страха, охватившее шевалье, было мимолетным и тотчас же прошло, едва он подумал, что может быть полезен тем, кто издал столь жалобный вопль. Роже снова пришпорил коня и закричал во всю мочь:
– Эй-эй! Кто зовет на помощь? Где вы там?
– Здесь! Здесь! – послышался новый возглас, прозвучавший теперь уже гораздо ближе, чем раньше: он доносился как будто из недр земли.
– Где «здесь»? – спросил Роже, продолжая ехать вперед.
– Влево от дороги, в канаве. Тут-тут, внизу, прямо под вами!
Роже придержал Кристофа и устремил взгляд во тьму, которая стала еще гуще, ибо луна совсем скрылась в тучах. Ему показалось, будто в футах пятнадцати под ним что-то шевелится.
– Уж не вы ли это, господин де Безри? – осведомился юноша.
– Да, да, это я, шевалье, – отвечал невидимый собеседник, – Бога ради, вызволите нас отсюда. Мы ехали по самому краю откоса, наш экипаж накренился, сполз вниз, и мы увязли в грязи.
– На помощь, господин Роже! – послышался женский голос.
– На помощь! – вторил ему девичий голосок.
– Ах, бедный господин де Безри! – воскликнул Роже. – Обождите, обождите, я мигом!
Он соскочил наземь. И только тогда услышал сильный шум, которого до тех пор не различал за топотом копыт своего коня; теперь же, когда Кристоф стоял, шум этот отчетливо доносился до ушей юноши. В жидкой грязи глиняного карьера неистово билась какая-то лошадь: она увязла в ней по самое брюхо. Старинная карета, как уже сказал виконт де Безри, съехала с проезжей дороги в глубокую яму и упала плашмя, но, так как кузов у нее был очень крепкий, а глина мягкая, падение никому не причинило вреда.
Госпожа де Безри сперва решила, что самое лучшее – упасть в обморок, но, услышав голос Роже, она тут же пришла в себя. Ее дочь Констанс перенесла падение экипажа с редкостным присутствием духа; нечего и говорить, что сам виконт де Безри, который тоже совсем не пострадал, тревожился только за жену и дочь.
Шевалье Роже Танкред, полагая, что времени терять нельзя, соскользнул по откосу и очутился на крытом верхе кареты. После этого он окликнул кучера, зовя его на помощь; однако оказалось, что тот отправился искать подмоги, и юноша тщетно звал его. Тогда Роже решил собственными силами вытащить на дорогу виконта де Безри, его жену и дочь, справедливо рассудив, что тем больше будет его заслуга. А потому он прежде всего отворил дверцу кареты, и Констанс – виконтесса, по примеру матери, поднимавшей во время потопа свое дитя над бушующими водами, уже протягивала ему дочь, – оказалась на воле. Роже подхватил мадемуазель де Безри на руки и перенес ее на сухое место с такой ловкостью, будто это была не девочка, а пташка. Затем настал черед самой виконтессы, и это уже было делом более трудным. Г-жа де Безри, как и большая часть дам в провинции, была, что называется, дебелой матроной, иначе говоря, полной и весьма аппетитной особой; рост ее достигал пяти футов и одного дюйма, на отсутствие жира она пожаловаться не могла, а потому весила от ста шестидесяти до ста семидесяти фунтов. Тем не менее Роже напряг все силы, и ему в конце концов удалось извлечь почтенную даму из кареты, виконт тем временем подталкивал жену снизу, и через несколько мгновений она – целая и невредимая – уже стояла на дороге рядом с дочерью.
Оставался еще сам г-н де Безри, но с ним не могло возникнуть таких трудностей, как с его супругой. Виконт был высокий худой старик, еще крепкий и проворный; он в один миг выбрался из кареты, без помощи Роже вскарабкался по откосу и присоединился к остальным членам своей семьи.
Роже больше нечего было делать на рыдване г-на де Безри, он незамедлительно последовал за виконтом и обменялся с ним учтивыми поклонами, а мать и дочь рассыпались в выражениях благодарности, сопровождая их реверансами.
Между тем кучер все не возвращался. Напрасно все четверо звали его, их крики замирали в ночной тишине, и одни только совы да филины отвечали на этот призыв, как будто решили посмеяться над незадачливыми путниками.
Сильное чувство голода лишало шевалье последних остатков терпения, и он предложил больше не ждать кучера, сказав, что тот наверняка сам во всем разберется и отыщет дорогу; затем юноша принялся выпрягать лошадь, барахтавшуюся в грязи; и через минуту она в свой черед оказалась на дороге в десяти шагах от своих хозяев.
Теперь оставалось лишь добраться до замка. Дело это, на первый взгляд, было совсем легкое, однако, как увидит читатель, оно осложнялось обстоятельствами, в которых очутились наши герои. Для такого переезда в их распоряжении имелись только две лошади: на карету рассчитывать не приходилось, ибо понадобилось бы семь или восемь человек для того, чтобы поставить ее на ноги, вернее сказать, на колеса. Стало быть, как мы уже сказали, имелись две лошади, но одна из них была вся перемазана грязью; Роже сначала предложил такой план: он поведет Кристофа на поводу, а виконтесса с дочерью сядут на спину коня, сам же г-н де Безри поедет верхом на другой лошади. Однако Кристоф, все еще разгоряченный быстрой скачкой, беспокойно ржал и бил о землю копытом; он показался матери и дочери слишком резвым, и потому от плана Роже пришлось отказаться.
Тогда шевалье сказал, что сам сядет на Кристофа вместе с виконтессой де Безри, ибо, оказавшись верхом на коне, он полностью может отвечать за его поведение, а виконт с дочерью сядет на другую лошадь. Но, как мы уже упомянули, лошадь была вся в грязи, и виконтесса негромко сказала мужу, что в этом случае Констанс перепачкает свое красивое новое платье из полосатой шелковой ткани. Так что и это предложение было отвергнуто вслед за первым.
Наконец было решено, что г-жа де Безри, меньше дорожившая собственным платьем, нежели платьем Констанс, сядет вместе с мужем на лошадь, выпряженную из кареты, после того как на спину этой лошади наденут седло, снятое с Кристофа, а шевалье Роже Танкред, слывший прекрасным наездником, поедет на Кристофе без седла и отвезет Констанс в замок на крупе своего коня.
Приступили к осуществлению этого плана, но и его пришлось подвергнуть небольшому изменению. Г-н де Безри первым взобрался на лошадь, затем Роже приподнял его супругу и торжественно усадил ее позади виконта. До сих пор все шло превосходно, но привести в исполнение остальную часть замысла оказалось не так-то просто.
Если бы шевалье Роже Танкред первый уселся верхом на коня, некому было бы помочь мадемуазель де Безри взобраться на круп Кристофа; в противном случае, если бы шевалье Роже Танкред сперва усадил Констанс, сам он мог бы сесть на лошадь, разве только прибегнув к необыкновенному способу: ему пришлось бы вскочить на Кристофа со стороны его головы, а не со стороны хвоста. Стали искать вокруг какую-нибудь скамью, каменную тумбу, пень, чурбак, но ничего подходящего не нашли. В конце концов шевалье Роже Танкред, чью изобретательность пришпоривал голодный желудок, придумал выход: он решил, что поедет на коне позади Констанс и сам обнимет ее руками, вместо того чтобы она обнимала его. Такая поза, без сомнения, не вполне совпадала с приличиями, и потому супруги де Безри нахмурили брови; однако виконтесса нагнулась к уху мужа и тихо сказала:
– Ничего не поделаешь, друг мой! Это необходимо, да к тому же они еще дети.
– Садитесь как угодно, – буркнул виконт де Безри, – пора со всем этим кончать.
– Мадемуазель, вы позволите? – спросил Роже.
Он поднял как перышко маленькую сильфиду по имени Констанс, и через мгновение сам оказался на крупе Кристофа, позади нее.
Мадемуазель де Безри издала легкий и весьма мелодичный возглас, испуганный, но отнюдь не пугающий. Виконт тотчас же спросил: «Что такое?» – и в голосе его прозвучала отцовская тревога за целомудрие дочери.
– Пустяки, милостивый государь, пустяки, – отозвался Роже, – когда я садился на коня, ваша дочь слегка покачнулась; но теперь я крепко держу ее в объятиях, так что никакой опасности больше нет.
– В объятиях, черт побери? В объятиях?! – проворчал виконт.
– Молчите, друг мой, – остановила его жена, – вы, пожалуй, еще наведете этих детей на мысли, которых у них, разумеется, нет и в помине.
– Не будем об этом больше говорить, – пробурчал виконт.
И он с такой силой сжал бока лошади пятками, что она с места пошла рысью. Кристоф затрусил сзади.
Тем не менее поспешим сказать, что для опасений г-на де Безри, хотя и несколько преувеличенных, известные основания все же были. Как только шевалье Танкред почувствовал, что Констанс прижалась спиной к его груди, сердце у него забилось так сильно, как никогда еще не билось. Со своей стороны девочка, до тех пор воспитывавшаяся в монастыре и в жизни не ездившая верхом, вся трепетала от страха; и потому ли, что она испытывала незнакомое прежде удовольствие, либо потому, что владевший ею испуг в самом деле одержал верх над правилами приличия, эта невинная девочка безотчетно прижимала к своей груди руку, которой юноша обнимал ее, и, время от времени оборачиваясь к нему, восклицала:
– Ой, шевалье, держите меня покрепче! Ой, шевалье, я так боюсь! Ой, шевалье, я сейчас упаду!..
И всякий раз, когда она поворачивала голову, ее белокурые волосы касались лба юноши, взгляд прекрасных глаз встречался с его взглядом, свежее дыхание смешивалось с его дыханием, так что бедный шевалье забыл даже о мучительном голоде, и ему хотелось, чтобы поездка длилась вечно, ибо он ощутил незнакомое удовольствие, невыразимое блаженство, несказанную радость, овладевавшую всем его существом; это дотоле неведомое чувство распирало ему грудь, каждый шорох ветвей на деревьях, каждый лунный луч нежно ласкал его и как будто шептал на ухо: «Не правда ли, Роже, ты счастлив?»
Да, шевалье был счастлив, и, сама не зная отчего, Констанс тоже была счастлива. К ее боязни примешивалась легкая доля сладостного волнения, в котором она не отдавала себе ясного отчета, и милая девочка с удивлением думала, что никогда еще дрожь не была ей так приятна и что, оказывается, страх – это чувство, полное прелести, чувство, до сих пор малоизвестное, потому-то на него и клевещут, как клевещут на все то, что плохо знают.
Так, охваченные неизвестным ощущением счастья, еще недоступным их рассудку, но уже глубоко проникавшим в их сердца, наши юные герои прибыли в замок д'Ангилемов. Гости сразу услышали стук лошадиных копыт: говорят, будто голодное брюхо ко всему глухо, но это глубокое заблуждение. Напротив, голодное брюхо вовсе не глухо, оно все слышит, да еще как! А потому все высыпали на крыльцо, и виконт, виконтесса, Констанс и Роже были встречены при свете факелов прямо как владетельные монархи: ведь когда те возвращаются в свою страну, в их честь королевскую резиденцию ярко освещают огнями.
Барон подал руку виконтессе, и, опершись на нее, она довольно ловко спустилась на землю. Виконт сошел с коня весьма торжественно – в три приема, как и подобает опытному наезднику; Роже одним прыжком соскочил с лошади, обеими руками обхватил мадемуазель Констанс за плечи, поднял ее как перышко и осторожно, так осторожно опустил на землю, что гравий даже не зашуршал, когда ножки милой девочки коснулись его. Только теперь, при свете факелов, Роже наконец как следует разглядел Констанс, чей облик он дотоле скорее угадывал. Что сказать о ней? Прелестные голубые глаза, золотистые волосы, нежные и мягкие, как шелк, румяный, точно вишня, рот, лебединая шея, талия, как у сильфиды, – вот какова было мадемуазель де Безри! Жаркая, обжигающая как пламя пелена заволокла на миг глаза Роже, и ему показалось, что он сейчас умрет от радости.
Он шел за мадемуазель Констанс, не решаясь предложить ей руку, а она, едва сойдя на землю, зарделась и, как подобает воспитаннице монастыря, сделав изящный реверанс кавалеру, направилась к своей матери; но странное дело: сердце шевалье, еще недавно переполненное радостью, почему-то вдруг болезненно сжалось. Ему почудилось, что милая девочка разлучается с ним. И Роже, бедный Роже, юноша, чей завидный аппетит вошел в поговорку, уселся за стол, не испытывая ни малейшего желания есть.
Между тем нашему герою был уготован подлинный триумф. Нетерпение, с каким гости ожидали ужина, заставило их устремиться в столовую; но уже после первой перемены разговоры, на время приглушенные голодом, возобновились: посыпались вопросы, все стали осведомляться о причинах, заставивших г-на де Безри так опоздать, и удивлялись, почему сей достопочтенный дворянин, который должен был приехать в карете, вместо этого прибыл верхом.
И тогда виконт де Безри во всех подробностях рассказал о случившемся, он назвал шевалье Роже Танкреда своим спасителем, с похвалой упомянул о самоотверженности и о ловкости, которые тот выказал, несмотря на юный возраст. Г-жа де Безри вторила мужу, приумножая его похвалы. Одна только Констанс ничего не сказала, зато густо покраснела и украдкой взглянула на Роже. Юноша, не спускавший глаз с девочки, заметил, что она покраснела, и перехватил ее взгляд; сам не понимая почему, он почувствовал, что и взгляд этот, и румянец, выступивший на щеках у Констанс, доставили ему несказанное удовольствие. Словом, за ужином только и говорили что о шевалье Роже Танкреде, а за десертом гости уже смотрели на него как на избавителя всей семьи де Безри вообще, и как на спасителя мадемуазель де Безри в частности.
Таким образом, мадемуазель Констанс и шевалье Роже Танкреда чествовали, точно двух истинных героев вечера, их чествовали, как это было принято в те счастливые времена, когда всюду еще царила учтивость и доброжелательность; и впрямь в ту эпоху каждый, казалось, старался быть особенно любезным и ласковым с юными существами, делавшими свои первые шаги в обществе. Женщины приветливо встречали школяра, которого еще опекал наставник. Мужчины стремились понравиться наследницам дворянских родов, еще жившим взаперти – за решетками монастыря. Молодые люди, едва выйдя из коллежа, уже говорили о любви, а юные девицы, едва выпорхнув из приемной залы обители, уже охотно слушали такие разговоры.
То было счастливое время, когда мальчики, пуская волчок, еще не рассуждали о политике, а девочки, одевая и раздевая своих кукол, еще не рассуждали о нравственности.
Господин д'Ангилем в глубине души был весьма польщен, что неожиданное приключение на болоте придало некую значительность его сыну. Строя планы на будущее, барон всякий раз думал и о грядущей женитьбе Роже Танкреда. А ведь Констанс после смерти родителей могла стать обладательницей годового дохода в шесть тысяч ливров, она была не просто хорошей, но даже завидной партией для шевалье. В случае их брака можно было бы объединить владения де Безри и д'Ангилемов, купив три или четыре льё заболоченных земель, превосходных для охоты, но более ни на что не пригодных; их удалось бы приобрести за бесценок, а вместе с двумя или тремя рощами, разбросанными там и сям вдоль дороги и принадлежавшими небогатым владельцам, которые тоже уступили бы их почти даром, земли эти составили бы одно из самых великолепных поместий, когда-либо принадлежавших баронам в Турени. Дети, родившиеся от этого брака, владели бы, таким образом, и долиной и горой, как ими владели их предки во времена своего наибольшего могущества. Это было бы хорошо, это было бы прекрасно, это было бы великолепно! И достойный барон был за ужином необыкновенно весел, а за десертом даже что-то напевал.
В полную противоположность барону, виконт де Безри, словно бы проникший в тщеславные планы г-на д'Ангилема, уже сел за стол с подчеркнутым достоинством, а по мере того как трапеза подвигалась к концу, он держался все более чопорно и делал знаки своей жене, призывая ее к тому, чтобы и она, со своей стороны, была начеку; надо сказать, что благородная супруга выполнила свой маневр с умением, заслуживающим всякой похвалы. Случилось так, что молодых людей усадили за стол рядом, и они, вместо того чтобы есть с аппетитом, как положено детям от двенадцати до пятнадцати лет, все время тихонько переговаривались, как поступают влюбленные. Виконт и виконтесса де Безри испепеляли дочь разгневанными взглядами, но Констанс, поглощенная совсем другим, долго вообще не замечала этих суровых взглядов; однако под конец она обратила на них внимание, и это повергло девочку в тревогу тем более ужасную, что она никак не могла понять, за что, собственно, гневаются на нее родители.
Вот почему, как только встали из-за стола, г-жа де Безри взяла дочь за руку и усадила рядом с собой, а г-н де Безри объявил, что хочет вернуться домой в тот же вечер, и вышел узнать, не прибыла ли его карета.
Он возвратился в полном расстройстве: оказалось, что его кучер явился мертвецки пьяный, а карета по-прежнему мирно покоится в болоте; и тогда, как того требовала учтивость, барон и баронесса, естественно, предложили соседям комнату для ночлега в своем замке. Однако, выслушав такое предложение, в котором, кстати, не было ничего необычного, виконт де Безри так и подскочил на месте, а потому барон был вынужден сделать другое предложение. Он сказал, что можно запрячь лошадь виконта в его, барона, двуколку: тогда супруги де Безри, коль скоро они так настаивают, в ту же ночь уедут вместе с дочерью к себе в замок, а утром, прибавил г-н д'Ангилем, его слуги вытащат экипаж из болота, впрягут в него Кристофа, означенный Кристоф отвезет карету в Безри и доставит оттуда двуколку.
Это новое предложение было с восторгом встречено виконтом и виконтессой, к величайшему огорчению мадемуазель Констанс и шевалье Роже Танкреда: они украдкой обменялись беглым и горестным взглядом, в глазах у них даже мелькнули слезы, и оба сопроводили свой взгляд подавленным вздохом, что, по счастью, не было замечено непреклонными родителями девочки. Четверть часа спустя слуга доложил, что лошадь уже впрягли в двуколку барона.
Надо было расставаться; бедные дети впервые увидели друг друга всего два часа тому назад, но им казалось, будто они знакомы с самого детства. Барон и виконт обменялись рукопожатием; г-жа д'Ангилем и г-жа де Безри расцеловались; Констанс сделала собравшимся изящный реверанс и бросила весьма грустный взгляд на шевалье Роже Танкреда; затем трое отъезжающих поднялись в двуколку, лошадь тронулась с места, и все услышали постепенно стихавший вдали стук колес и звон колокольцев, потом и эти звуки стихли.
Роже не вернулся в гостиную вместе с другими. Сперва он стоял на крыльце возле самых дверей, затем сбежал с крыльца во двор, к воротам, и застыл там, печальный, неподвижный, провожая глазами медленно удалявшуюся двуколку; даже когда она совсем скрылась из виду, он все еще продолжал смотреть ей вслед. Без сомнения, юношу застали бы на том же самом месте и следующим утром, если бы он не почувствовал, что кто-то легонько ударил его по плечу. Это был наставник шевалье аббат Дюбюкуа: он пришел сказать своему воспитаннику, что его затянувшееся отсутствие будет расценено приглашенными, еще сидевшими в гостиной, как проявление неучтивости. Роже незаметно вытер две крупные слезы, катившиеся у него по щекам, и последовал за воспитателем.
III
Как шевалье д'Ангилем, обнаружив, что у него есть сердце, пожелал убедиться, что у мадемуазель де Безри оно тоже есть
К счастью для шевалье Танкреда, в те времена по праздникам, даже на Пасху, люди не засиживались допоздна, и в полночь все гости уже распрощались: жившие поблизости отправились по домам – кто на лошади, кто пешком; жившие подальше разошлись по комнатам, которые барон и баронесса, свято соблюдавшие правила старинного гостеприимства, охотно предоставили в их распоряжение.
Перед тем как подняться к себе, Роже, как всегда, поцеловал отца и мать, и те с улыбкой переглянулись. Потом он отвесил поклон аббату и удалился, но не для того, чтобы лечь, – спать ему совсем не хотелось, ибо сон у него пропал так же, как и аппетит, – а для того, чтобы без помехи помечтать о мадемуазель де Безри.
Впервые в жизни шевалье думал не об охоте, не о верховой езде, не об умелом выпаде во время фехтования, не о хитроумной уловке, которая избавила бы его от необходимости разбирать отрывок из Саллюстия или Вергилия, а о чем-то совсем ином.
Юношей овладела глубокая грусть; он понял, что поспешный отъезд семейства де Безри имел единственную цель – похитить у него Констанс, но он прочел в глазах милой девочки, что ей хотелось остаться не меньше, чем того хотелось ему, и это его несколько утешило. К тому же в первых огорчениях первой любви есть нечто такое, от чего сладостно сжимается сердце, а потому мы миримся с этими ощущениями гораздо спокойнее, нежели с тем безразличием, на смену которому они пришли, ведь влюбленный прежде всего алчет даже не счастья, ибо он еще толком не знает, что такое счастье, сильнее всего он жаждет права не возвращаться в ту бесплодную пустыню, откуда ему удалось уйти; ему так хочется и дальше оставаться под сенью красивых зеленых деревьев, греться в лучах ласкового солнца, бродить среди чудесных цветов с одуряющим ароматом, и, хотя их шипы уже поранили его пальцы, он во что бы то ни стало стремится сорвать эти цветы и вопреки всему вдыхать их аромат. Отныне он предпочитает затишью все что угодно, даже бурю, и если радость пока еще не дается ему, он согласен даже на страдание.
Роже заснул поздно, и сон его был беспокоен, однако это не помешало ему подняться с первыми лучами солнца; проснулся он свежим, в хорошем расположении духа, глаза у него блестели. Дело в том, что у него созрел небольшой план: он надумал самолично отвезти в Безри карету виконта, в которую должны были впрячь Кристофа, и собрался он сделать это, сославшись на то, будто отец и мать поручили ему осведомиться о самочувствии соседей: принимая во внимание, что те покинули замок д'Ангилемов в столь поздний час, барон и баронесса, разумеется, тревожились, как бы по пути с ними не случилось какого-либо досадного происшествия. Надобно заметить, что Роже перед тем пришла в голову еще одна мысль, она-то и сделала вполне естественным и осуществимым его план: он решил дать экю кучеру виконта, с тем чтобы тот сказался больным и объявил, что покамест не в силах добраться до Безри.
Шевалье хорошо помнил место, где увязла карета, и он направился туда в сопровождении егеря и младшего конюха; призвав на помощь садовника, арендатора и трех или четырех батраков, они после долгих усилий умудрились на веревках вытащить экипаж на дорогу. К счастью, старинный рыдван был так прочен, что нигде даже не треснул, и, как только карету вновь поставили на колеса, оказалось, что ее можно без особого труда доставить в Безри. Кристоф, которого его юный хозяин все время подгонял ударами хлыста, с ходу перешел на крупную рысь; правда, он брыкался и обиженно ржал, давая этим понять, что никак не возьмет в толк, почему со вчерашнего дня с ним начали так дурно обходиться.
Однако по мере того как Роже приближался к Безри, его обращение с Кристофом становилось все мягче, и умное животное, заметив, что удары хлыста сыплются на него реже, перешло сперва с крупной рыси на мелкую, а затем – с мелкой рыси на шаг. В самом деле, если молодому человеку сначала казалось таким простым делом самому отвезти виконту его карету и забрать отцовскую двуколку, то теперь это представлялось ему чудовищной дерзостью. Вспоминая суровое чело г-на де Безри, его нахмуренные брови, отрывистый голос, а особенно поспешный отъезд, юноша спрашивал себя, испытает ли человек, поторопившийся уехать из замка д'Ангилемов, большое удовольствие, увидя наследника этого семейства у себя в замке. Все эти соображения были малоутешительны для шевалье Роже Танкреда, который при всех превосходных качествах, коими его наградило Небо, не обладал той счастливой дерзостью, какая почти наверняка ведет к успеху; вот почему он совсем перестал подгонять Кристофа; больше того, если бы его лошадь вдруг остановилась, молодой человек, пожалуй, не нашел бы в себе мужества заставить ее продолжать путь, а если бы она вдруг пошла назад, к дому, он бы не решился повернуть ее вспять и принудить ехать в Безри. Но, к счастью, всего этого не произошло: Кристоф был честный и порядочный конь, не способный на такой поступок, он не любил, чтобы его подгоняли, и только; когда же ему доверяли, он выказывал истинно провинциальную добросовестность, и на него вполне можно было положиться. А потому Кристоф спокойно трусил по дороге в Безри, и Роже вскоре заметил две крытые черепицей башенки небольшого замка, чьи скрипучие флюгера виднелись над деревьями старинного парка.
Шевалье Роже Танкред все еще продолжал продвигаться вперед; но надобно прямо сказать, что теперь уже не он управлял Кристофом, а скорее Кристоф управлял им. Итак, шевалье продвигался вперед, он был во власти сильной тревоги, размышляя о приеме, который будет ему оказан, как вдруг в оконце одной из башенок появилась прелестная золотистая головка Констанс, смотревшей в его сторону широко раскрытыми красивыми голубыми глазами, а рука, подчинявшаяся воле очаровательной головки, махала платочком в знак того, что вновь прибывшего узнали. При виде этого Роже остановил Кристофа, и двое милых детей стали обмениваться знаками простодушной нежности, которая переполняла их сердца, стремившиеся одно к другому.
Так продолжалось минут десять и, вероятно, продолжалось бы до самого вечера, если бы Роже не заметил, что позади Констанс выросла другая фигура. Столь некстати появившаяся особа была виконтессой де Безри; она проходила по коридору, увидела, что ее дочь, по неосторожности не притворившая дверь своей комнаты, подает в окно какие-то странные сигналы, и пожелала узнать, к кому же эти сигналы обращены. Г-жа де Безри, еще накануне упрекавшая мужа за то, что он слишком легко поддался тревоге и заставил их так рано уехать из замка д'Ангилемов, теперь, узнав Роже, начала думать, что опасения виконта были не столь неосновательны, как ей сначала показалось.
Застигнутый на месте преступления, Роже понял, что отступать поздно; он ударил хлыстом Кристофа, злополучный конь, не ожидавший такого обращения, перешел в галоп, и шевалье, не замедляя хода, въехал во двор замка де Безри.
Первым, кого увидел наш герой, был виконт, возвращавшийся к себе после утренней прогулки по парку. Шевалье подумал, что теперь самое время проявить отвагу; он спрыгнул на землю, приблизился к г-ну де Безри и довольно развязно для человека, делающего еще только первые шаги на стезе лжи, сообщил, что кучер виконта совсем расклеился и он, Роже, решил сам доставить карету в Безри, полагая, что она может понадобиться виконту, а также для того, чтобы осведомиться по поручению барона и баронессы д'Ангилем, не произошло ли с их добрыми соседями какого-либо досадного происшествия, когда они ночью возвращались домой.
Такое объяснение выглядело вполне правдоподобным, и виконту пришлось удовольствоваться им, хотя он прекрасно понимал истинную причину, вызвавшую визит юноши; он сделал вид, будто верит всему сказанному, и, в свою очередь, осведомился у Роже о здоровье его родителей; а так как время уже близилось к обеду и виконт направлялся в замок, чтобы сесть за стол, он выказал себя настолько учтивым, что даже пригласил своего услужливого соседа разделить с ним трапезу. Нетрудно догадаться, что Роже с признательностью принял это приглашение.
То было второе испытание, которому виконт решил подвергнуть Роже и Констанс: ведь что ни говори, а он мог накануне ошибиться и потому хотел сызнова понаблюдать за обоими детьми. Увы! Их бедные юные сердца еще не умели притворяться! Войдя в гостиную, Констанс покраснела, словно ей было уже пятнадцать лет, а Роже побледнел при этом, как будто ему исполнилось восемнадцать. Г-н де Безри заметил, какое различное действие произвела на молодых людей их встреча, однако действие это было вызвано одной и той же причиной, а потому его смутные подозрения превратились в твердую уверенность.
За обедом Констанс и Роже совершали одну оплошность за другой; но на сей раз виконт де Безри не хмурил брови, как накануне, он не мешал обоим вести себя как им заблагорассудится и только довольствовался тем, что делал своей жене знаки. Знаки эти говорили: «Ну что? Такой ли уж я фантазер, как вы вчера утверждали? Теперь-то вам ясно? Ясно?»
И в самом деле, все было настолько ясно, что к концу обеда виконт, без сомнения, для того, чтобы отбить у Роже всякую охоту вновь появляться в замке де Безри, небрежным тоном сообщил, что его дочь в тот же вечер возвращается в монастырь. При этом известии Констанс испустила горестный возглас, а Роже, заметив, как сильно она побледнела, и думая, что бедняжке дурно, бросился было к ней, однако виконт мягко удержал его, присовокупив, что г-жа де Безри тут и если дочка будет нуждаться в помощи, то помощь ей окажет мать.