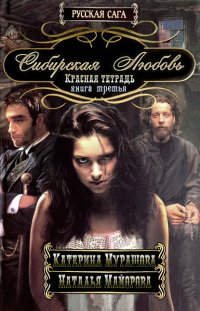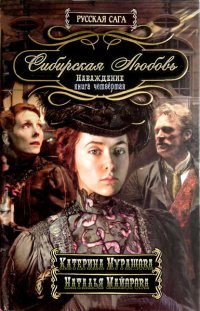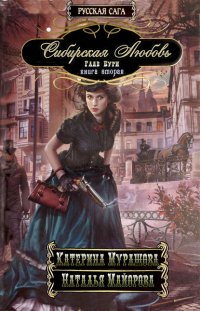
Читать онлайн Глаз бури бесплатно
- Все книги автора: Екатерина Мурашова, Наталья Майорова
Пролог
В котором в разное время и в разных местах Земного шара происходят два вроде бы совершенно не связанных между собой события. Однако, с них-то все и начинается
10 сентября, 1871 года от Р. Х., Бирма
В день полнолуния месяца Тауталин 1233 года от основания империи пышная процессия двигалась по шумным улицам города Мандалай, направляясь в храм Махамуни – Золотого Будды. Повозки, запряженные волами, прижимались к домам, рикши останавливали свой бег и пропускали красиво одетых людей и изукрашенных животных, продавцы, стоявшие за жаровнями, где на углях жарились рыба и бананы, почтительно кланялись. Прохожие радостно улыбались и махали руками.
В самом начале процессии шли нанятые музыканты и танцоры. Далее на волах ехали мальчики в роскошных, почти придворных одеждах, далее (о роскошь, о богатство!) следовал пегий от старости слон, безразлично прядающий обмахрившимися по краям ушами. Сразу за слоном пешком шли счастливые и гордые родители будущих послушников. За ними группа самых красивых, празднично одетых девушек несла позолоченные подносы с подношениями монастырю.
Среди этих девушек находилась и Сат Жун, красивая, но уже не слишком юная по бирманским меркам. Тяжелый поднос оттягивал ей руки, но это не имело сейчас никакого значения. Вполне успешно игнорируя тяжесть подноса, Сат Жун старалась ступать грациозно, и незаметно шмыгала широковатым на взгляд европейца носом, чтобы остановить или хотя бы утишить слезы радости, которые все текли и текли по смуглым щекам, и грозили окончательно разрушить красивый узор из листьев дерева ботхи, нанесенный на лицо девушки специальной сандаловой пастой. Но слезы не останавливались. Радость и гордость за себя и за брата переполняли Сат Жун. Наконец-то это свершилось! И именно так, как они мечтали! Тан Нюн вместе с двумя другими, соседскими мальчиками едет позади, в разукрашенной коляске под золотым зонтиком, одет и украшен как принц. И это совершенно правильно, поскольку весь обряд – шинбью – символизирует уход Сиддхартты – будущего Будды из дома. За повозкой идет процессия из нарядных гостей. Все они, а так же приглашенные на праздник монахи, уже получили свое угощение и подарки…
И все это устроила и оплатила она – Сат Жун. Четыре долгих года она копила деньги на этот праздник, отказывая себе и семье во всем – и вот! И никто ни о чем не жалеет! Достаточно только взглянуть на счастливые лица матери и отца, младших братишек и сестренок…
Все знают, как провожают в монастырь мальчиков из бедных семей (а семья Сат Жун и Тан Нюна – увы! – никогда не могла похвастаться не только богатством, но даже зажиточностью). После кормления монахов рисом и сладкими лепешками мальчика пешком ведут в монастырь, где монах бреет ему голову и облачает в оранжевое монашеское одеяние, которое родители, купив заранее (для бедняков сгодится и поношенное, проданное после окончания послушания на дешевом рынке), относят в монастырь.
Как же отличается от этого нынешнее шествие! Конечно, свой самый торжественный день Тан Нюн, любимый братик Сат Жун – мата-сан-кхалей (поднимающийся ребенок) – запомнит на всю жизнь. И ему не будет стыдно и горько вспоминать об этом. Особенно, если учесть то, что после окончания периода послушания Тан Нюн не собирается возвращаться домой. С самых ранних лет он хотел стать монахом и служить Будде в храме Махамуни – самом большом и самом красивом храме Мандалая. Пусть так и будет! Ради его счастья сестра не пожалеет никаких денег. Пусть все видят, как молод, красив и чист ее мата-сан-кхалей – настоящий принц!
После того, как Сат Жун стала придворной танцовщицей во дворце Мандалая, ей довелось повидать и принцев, и даже короля Бирмы. Что ж! Они тоже обыкновенные люди, с обыкновенными руками, ногами, головами и прочими членами. Король! Много золота и пышных одежд… Все равно распоряжаются всем англичане… Это называется протекторат, но всем, даже танцовщице Сат Жун, ясно – еще немного, и Бирма полностью потеряет самостоятельность, попадет в полную зависимость от английской короны…
И это тоже давно учла умная Сат Жун. Она не только умеет хорошо танцевать, красиво и завораживающе для любого мужчины, будь он англичанином, или бирманцем, или кем-то другим… У Сат Жун есть не только гибкое, мягкое, умащенное благовониями тело. У Сат Жун есть еще и голова. И голова ее служит не только для того, чтобы носить замысловатую прическу, как у других девушек-танцовщиц. Сат Жун нужна голова, чтобы думать. Иначе – разве сумела бы она оплатить шинбью для своего брата? Содержать семью, когда два года подряд Иравади от обильных дождей выходила из берегов и в неурочное время заливала посевы риса, которые сгнивали на корню?
В толпе разодетых гостей, возвышаясь над ними едва ли не на голову, идет и рассеянно улыбается господин Сандерс, англичанин, не последний человек в свите английского резидента при дворе бирманского короля. Когда они остаются наедине, Сат Жун называет мистера Сандерса просто – Джонни. Он сам просил ее об этом. И пусть мистер Сандерс уже немолод и не слишком хорош собой, зато он ласков с Сат Жун, относительно щедр, и вот уже почти два года не отсылает ее от себя…
Процессия вступила в монастырский двор, где будущих послушников встретили монахи в традиционных коричневатых одеяниях. Другие монахи приняли от девушек подносы с дарами. Мистер Сандерс протолкался к Сат Жун сквозь толпу гостей:
– Я могу осмотреть храм?
– Конечно.
За это ей тоже нравился Джонни. Зная, что не встретит никаких препятствий (кто бы осмелился противоречить приближенному английского резидента!), он все равно всегда вежливо спрашивал разрешения. Везде. В королевском дворце. В буддийском храме. В постели. В самом начале их знакомства мистер Сандерс говорил ей, что у себя на родине он происходил из хорошего, хотя и обедневшего рода. К тому же он был младшим сыном, и потому вынужден был служить, ехать в колонии. Многие англичане врали своим бирманским любовницам, петушась и рассказывая самые невероятные истории о своих семьях и происхождении. Но Джонни Сат Жун верила безоговорочно. Мистер Сандерс никогда не был простолюдином – это было очевидно даже для нее.
Внутри огромной каменной коробки стоял полумрак, только загадочно поблескивало золото, и время от времени вспыхивали драгоценные камни в короне статуи бога. Большие прямоугольные окна располагались достаточно высоко над землей. К статуе Золотого Будды вели пологие каменные ступени, истертые тысячами ног. У постамента стояла большая бронзовая чаша с песком, куда втыкали зажженные ароматические палочки, у боковых стен примостились низкие столы, на которых располагались цветы лотоса, фрукты и другие подношения. Сидящий на невысоком постаменте в позе лотоса Будда выглядел довольно странно. Верхняя его часть, то есть торс, плечи и голова со знаменитой улыбкой и длинными мочками ушей никаких вопросов не вызывали. Ступни же бога, колени и кисти свешивающихся рук казались непропорционально большими, шершавыми и какими-то бесформенными.
– Почему так? – шепотом, по-английски поинтересовался мистер Сандерс у своей возлюбленной.
– Такой обычай, – тоже по-английски объяснила Сат Жун. – Люди покупают немного золота для подношения Будде. Вроде лепестков цветка, даже тоньше. Идут к статуе и приляпывают его туда, куда сумеют дотянуться…
– Забавно, – мистер Сандерс пожал плечами. – Впрочем… христиане целуют чудотворные иконы… касаются их… да… Какой удивительный камень в навершии короны… Это, наверное, сапфир?
– Я не знаю, – тихонько отвечала Сат Жун. – Но он очень большой.
– А как охраняется храм?
– Никак, – удивилась Сат Жун. – Зачем его охранять?
– Но ведь здесь столько ценностей… Все они стоят денег…
– Я опять не понимаю тебя, Джонни, – Сат Жун снисходительно улыбнулась. – Кто посмеет посягнуть на ценности, принадлежащие богу?
– Да, пожалуй, ты права, – согласился мистер Сандерс и надолго о чем-то задумался.
Сат Жун тут же позабыла о нем и опять, с наслаждением и гордостью принялась радоваться за брата.
5 ноября 1854 года от Р. Х., Санкт-Петербург
С южной оконечности Матисова острова в хорошую погоду открывался прекрасный вид на залив и Синефлагскую мель. Нынче же холодная и какая-то скользкая на ощупь морось облепила все – здания, тротуары, морды лошадей и лица людей. Не видно ни зги уже в пяти шагах. Туман.
– Постой, слышишь, ну постой же! – скрипучая дверь пивной приоткрылась и из болезненно оранжевой пасти вместе с запахом щей, сивухи и пригоревшей каши неясно обозначилось чье-то расплывающееся в сумерках лицо. – Ефим! Слышь ты, оглашенный! Ну не гони ты! Может, обойдется еще! Не надо тебе!.. И-эх! – кричавший безнадежно махнул рукой и покачиваясь, скрылся в душной теплоте помещения.
Уходящий из пивной человек даже не оглянулся на крик. Скорее всего, он его и не слыхал вовсе. Одетый в русский кафтан и шапку со щегольским пером, огромный, грузный и сутулый, он, несмотря на наряд, выглядел обычным «желтоглазым» извозчиком. В руках нес бесформенный сверток, по виду был тяжело пьян и непрерывно бормотал что-то себе под нос.
– Что? Что ж такое выходит? Кому? Кому мы теперь нужны? Никому! Вот то-то! И куда ж? Куда ж теперь? Никуда, миластивцы! Никуда – это такой адрес, в который и самый лихач не свезет. Да! И грех на мне будет, значит, на ём нетути… А на ей? На ей, значит, не будет греха? Блаженны, кто верует… Милость… К милости Твоей припадаю… Господи, все забыл, а ведь надо ж… Надо ж помолиться перед тем… Вода-то небось холодная… И мокрая… Господи…
Само собой, никаких клиентов в такую погоду не было и быть не могло. Как бы они ее разглядели, когда собственную вытянутую руку с трудом видать? Девушка, ежась и подпрыгивая на несильном, но каком-то удивительно промозглом ветру, уже собиралась идти назад, в обшарпанный дом на углу Торговой и Большой Мастерской улиц, как вдруг, прямо напротив дровяного сарая, заметила неясную фигуру, которая неловко, подобрав полы, лезла на чугунную огородку реки Пряжки. Догадавшись, что видит, девушка сначала испугалась до немоты, но уже спустя мгновение, отличаясь характером бойким и решительным, закричала истошно:
– Человек! Человек, что ж вы делаете?! Прекратите сейчас, или я городового позову!
Может быть, крик ее, увязнув в тумане, не дошел до незнакомца. Или уж он находился в ту минуту по другую сторону всего, и не был в состоянии понять. С ужасом, зажав рот ладонью, девушка услышала тупой, короткий всплеск.
Неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем она снова обрела способность двигаться и говорить. В первую очередь, отпуская сжавшуюся внутри пружину, девушка тихо заплакала.
– Что ж это ты, дядечка, – едва слышно пробормотала она, глотая жгучие соленые слезы. – Видать, совсем невмоготу стало… Надо бы и мне так! – со сладкой мстительной тоской добавила девушка. – А вот ведь держит, не пускает что-то… И-эх, жизнь…
Подойти к огородке и взглянуть на черную, исходящую паром, безмолвную воду девушка так не решилась. Пробиралась к дому тихонько, прижимаясь к осклизлым стенам сараев и прячущихся между ними помоек. Вдруг с одной из них донесся слабый, прерывающийся плач… Девушка замерла.
– Котенка выбросили, сволочи. Или щеночка… – прошептала она, уже зная, что обманывает себя. Котята и щенята плачут не так.
Плач прервался. «Не было ничего!» – убеждала себя девушка, засучивая между тем рукава и подбирая полы поношенного пальто цвета раздавленной клубники.
Еще минуту спустя она деловито рылась в помойке, временами останавливаясь и прислушиваясь. Ничего, кроме шелеста почти невидимого дождя и тихого плеска воды, не было слышно.
– Чертов туман! – выругалась она. – Свечу бы сюда или, лучше, фонарь… Ну где же ты?! Неужто совсем помер?!
Плач снова раздался почти под ее ногой, обутой в подвязанную веревкой туфлю, которой она разгребала мусор и влажные опилки. Девушка вздрогнула от неожиданности, потом резво наклонилась, выхватила из размокшей коробки продолговатый сверток, который тут же разразился пронзительным воплем.
– Так вот ты где! – усмехнулась девушка и заглянула в кулек. – Живой. Вполне. И что ж мы теперь с тобой будем делать?
Услышав человеческий голос, завернутый в тряпье ребенок замолчал, вытянул крохотную ручку и дотронулся до мокрой щеки девушки. Утихшие было слезы хлынули из ее глаз с новой силой:
– Сиротка! Бедненький ты мой! – пробормотала она и с неожиданной нежностью поцеловала ребенка в прохладный широкий лобик.
* * *
Глава 1
В которой Ксения Благоева проводит спиритический сеанс, а молодая петербургская писательница Софи Домогатская, желая всего лишь собрать материал для своего нового романа, попадает в ужасную историю
Апрель, 1889 г от Р. Х. Санкт-Петербург
Бледные весенние сумерки за окнами раздражали хозяйку дома, и горничная, повинуясь ее нетерпеливому жесту, поспешила задернуть тяжелые шторы. Уюта в комнатах не прибавилось. Гости, бывавшие здесь довольно часто, всегда чувствовали себя будто в просторной антикварной лавке, наполненной множеством старых вещей, каждая из которых оставалась сама по себе. И хозяйка – сама по себе, слегка нелепая в потертой собольей накидке поверх платья, давно вышедшего из моды, а точнее, никогда в моде и не бывшего. И хозяин – он редко появлялся на людях, присутствуя, так сказать, теоретически где-то в глубине большой квартиры. Детей им Бог не дал. И, рассуждая беспристрастно – к лучшему. Что бы они с ними делали?
– Свечи, господа, зажигаем свечи! – объявила хозяйка, грея под накидкой постоянно мерзнущие сухие ладони. – Каждый – свою… Елена Францевна, драгоценная, что ж вы не садитесь?
Одна из гостий – немолодая, полная, строго одетая дама с движениями удивительно плавными и неторопливыми (двигаясь, она как будто плыла в глубине моря, преодолевая телом сопротивление воды), – обернулась от чиппендейловского буфета, возле которого стояла, рассеянно проводя рукой по гладкой дверце.
– Приветствую старого знакомого, – она выговаривала слова с чуть заметным суховатым акцентом, – точно так же он стоял в гостиной вашей матушки… помните, Ксения? – в простенке между окнами, и свет падал на него с двух сторон, отчего громоздкий британец терял изрядную часть своей солидности…
Присутствующие заулыбались. Хозяйка – тоже, хотя не сказать, что очень уж искренне. Высокий молодой человек с пышной каштановой шевелюрой и красивым, слегка меланхолическим лицом сообщил, подходя к полной даме и беря ее под руку:
– Maman, c,a s'appelle la sentimentalite allemande.
Дама чуть заметно поморщилась, но позволила ему подвести себя к большому круглому столу, за которым расположились гости.
Всего гостей было шестеро. Кроме помянутой дамы и молодого человека – старуха в черных кружевах, нервозностью и неуклюжестью весьма напоминающая хозяйку (что и неудивительно, поскольку являлась ее теткой), румяный господин в круглых очках (известный в обществе поклонник переселения душ и животного магнетизма), а также – элегантная, энглизированного вида леди бальзаковских лет и не менее элегантный джентльмен. Последние сидели рядом и время от времени перебрасывались веселыми понимающими взглядами. С хозяйкой их связывало дальнее родство и склонность – от нечего делать – к экзотическим развлечениям, которых они, впрочем, в отличие от нее, никоим образом не принимали всерьез.
Перед каждым гостем стоял высокий подсвечник. Всего их – вместе с хозяйкиным – выходило семь: мистическое число! Когда свечи зажглись, неуютный сумрак отполз в углы, а главной стала середина стола, на которой желтел большой лист пергамена, исчерченный буквами, цифрами и геометрическими фигурами.
Хозяйка распахнула дверцы чиппендейловского буфета и достала из его глубин чайное блюдце тончайшего китайского фарфора. Господин в очках тут же строго выпрямился и принял таинственный вид. Тетушка в кружевах, поджав губы, проворчала:
– Негоже, милая: нынче пятница, и дата нечетная. По-иному надо, не сойдется…
– Негоже под руку говорить, – хозяйка передернула плечами, – а вы какого мнения, Иван Илларионович?
Господин в очках радостно встрепенулся оттого, что в нем признали знатока, и принялся с торопливой осторожностью излагать свое мнение на предмет различных способов призывания духов. Энглизированная леди, с улыбкой обведя глазами комнату, обратилась к той, которую хозяйка назвала Еленой Францевной:
– Вы правы, баронесса, а я и не приглядывалась: в княгининой гостиной мебель стояла совершенно таким же порядком, – и, понизив голос:
– Но какова разница!..
– Самое главное, – подхватил ее сосед, бросив иронически-сочувственный взгляд на хозяйку, – убедить себя в своих несчастьях. И они не замедлят воспоследовать.
Елена Францевна легким наклоном головы показала, что согласна. Ее сын, подвинув для матери стул, уселся рядом и с рассеянным любопытством принялся разглядывать знаки на пергамене:
– Славянская азбука готическим шрифтом… интересно… А вот что: знает ли кто-нибудь из вас, где теперь эта индусская предсказательница?
– Ефим, сделай милость… – предупреждающе начала баронесса; но джентльмен вопросительно приподнял бровь, и молодой человек, улыбаясь, пояснил:
– Ну, та самая, с колокольчиками на щиколотках. Помните? Вот так же мы сидели с вами в пресловутой княгининой гостиной. Сто лет назад, если не ошибаюсь. Она вплыла, смуглая и необыкновенная, как черный лотос. Принялась нас пугать… И вдруг! Все сбылось по ее слову! Фамильные драгоценности – или что там? – пропали, и, кажется, до сих пор…
– Как не помнить, – леди состроила жалобную гримаску, – этот следователь… господин Кусмауль, он из меня тогда душу вынул, хотя он и премилый…
– Зизи! – нервный вскрик хозяйки утонул в звоне разбившегося блюдца.
Тетушка заахала, всплескивая руками – в ужасе перед дурной приметой, господин в очках поспешил заявить, что примета – учитывая специфику предстоящего, – наоборот, очень даже хорошая, леди и джентльмен с легким недоумением переглянулись, молодой человек обескуражено вздохнул:
– Верно, не стоило поминать… Но согласитесь, право: это ведь было настоящее приключение!
– С того дня начались все мои беды, – убитым тоном провозгласила хозяйка, без сил опускаясь на стул.
Леди, которую она по-родственному назвала Зизи, отвела глаза. Ей очень хотелось сказать, что главная беда Ксенички Благоевой – рожденной княжны Мещерской – заключается ни в чем ином, как в самой Ксеничке.
– Ценю твое благородное молчание, – шепнул ей сосед.
Баронесса коротко взглянула на сына, и тот поднялся, чтобы позвать горничную.
Спустя несколько минут, когда осколки были убраны, дамы и господа наконец разместились вокруг стола и приступили к тому, ради чего собрались: общению с потусторонним миром. Блюдце, вынутое из буфета взамен разбитого, закоптили на семи свечах и поместили в самый центр стола. Господин в очках, румянец которого слегка поблек в связи с торжественностью момента, заговорил приглушенно и нараспев:
– Reginae magnae Cleopatrae spirite, voco ti…
– Стойте! – внезапно, резко подавшись вперед, прервала его Ксения. Руки присутствующих, потянувшиеся было к блюдцу, замерли.
– Я решилась, – быстро, опережая вопросы, заявила Ксения, – прошу вас, господа… Иван Илларионович… Нынче мы станем искать другого общества. Клеопатра простит.
Она откинулась на спинку стула и громко произнесла (голос почти не дрожал):
– Дух блаженно почившей Анны Мещерской… явись, поговори с дочерью своей! Помоги мне!
Наступила тишина. Фарфоровое блюдце, над которым застыли, почти не касаясь его, семь ладоней, пришло в движение.
С тихим шуршаньем оно медленно обернулось вокруг своей оси. Тетушка в кружевах коротко вздохнула, как всхлипнула. Иван Илларионович повел напряженным взглядом на нее, потом на Ксению, потом на блюдце.
– Маменька, здесь ли… – не справившись таки с голосом, едва слышно прошептала Ксения. Блюдце подтвердило: здесь.
Дух княгини Мещерской, отлетевший из этого мира шесть лет назад, и впрямь явился, воспарив над трепещущими свечными огоньками. В комнате не стало, впрочем, ни светлее, ни уютнее.
– Ты… все теперь знаешь. Видишь: нет счастья, нет покоя. Скажи, отчего так?..
Узкая, в изящных кольцах рука Зизи над блюдцем слегка дернулась. Что за мелодраматизм, в самом деле. Стоило ввязываться в эдакую моветонную глупость. Знала ведь, что с кузины станется… Но – любопытно! И оно ведь движется… ползет?..
Невольно затаив дыхание, гости смотрели, как блюдце подползает к цепочке готических букв, оборачивая намеченную на краю копотью стрелку то к одной, то к другой. Иван Илларионович, не выдержав, взялся читать вслух:
– В… к… а… в ка-мне… сча-сти-е…
– В камне – счастие, – монотонным эхом повторила Ксения, – я так и знала.
Баронесса качнула головой, будто хотела – вслед за Зизи – укорить себя за участие в этом мероприятии. Ее сына, кажется, интересовало другое: с рассеянной, немного скептической, немного снисходительной улыбкой он приглядывался к лицам. Кто же двигает это несчастное блюдечко? Не может ведь оно ползать само?
Или – может?..
– Я так и знала, – повторила Ксения, голос ее вновь окреп, – камень украли, и все пошло не так. Ты, маменька, знаю, гневаешься на меня за то, что твой особняк продала. Но куда было деваться? Боренька совсем нездоров! Ему-то за что наше проклятье? Скажи мне… скажи – кто украл? Кто?!
На последнем слове она едва не взвизгнула. Гости – кроме тетушки и Ивана Илларионовича – хоть им и было интересно и даже слегка не по себе, предпочли отвернуться: неловкость победила. Блюдце тем не менее прилежно задвигалось, выдавая ответ, который Иван Илларионович столь же прилежно озвучил:
– М… и… ш… к… а. Мишка.
– Миш…ка? – повторила, запнувшись, отнюдь не Ксения – баронесса. Ксения молчала, пытаясь, кажется, сообразить: что за Мишка? Ефим с удивлением взглянул на мать.
Повисшая тишина сделалась отчего-то такой тяжелой, что огоньки свечей потускнели и поникли. В этот миг даже рационалистически настроенный джентльмен почти не сомневался в том, что дух Анны Кирилловны Мещерской, свойственницы и давней знакомой семейства Ряжских, к коему он имел честь принадлежать, – вот он, тут, прямо над столом.
Внезапно тетушка в кружевах вскинула голову и вопросила высоким, вибрирующим от сладкого ужаса шепотом:
– Annette! Ma petite! C'est toi?!
– Тетя!.. – страдальчески оскалившись, выдохнула Ксения. Иван Илларионович укоризненно поджал губы. Ряжский возвел глаза к потолку. Зизи опустила ресницы. Лицо баронессы приняло индифферентное выражение. Блюдце не шелохнулось.
Бедная тетушка, не найдя ни в ком сочувствия (хотя, если бы пригляделась, могла бы заметить его в глазах сына Елены Францевны!), стушевалась и даже чуть было не отдернула руку от блюдца – но тут оно снова задвигалось, и теперь уже Ксения, подавшись вперед, начала громко читать вслух:
– Н…а…к… на-ка-жи… его… Кого? Кого наказать, маменька?
Блюдце споткнулось и поползло быстрее, при этом смысла в его ползанье как будто поубавилось:
– С-м-м-тр… к-н-г…
Однако, волнуется почтенная Анна Кирилловна, отметил про себя Ряжский.
– Книгу! – радостно вскрикнула Ксения, и блюдце тут же подтвердило: точно, к-н-и-г-у.
– Что за книга? Зачем книга?
Запинаясь и теряя буквы, дух начал объяснять, что и зачем. Свечи, до сих пор горевшие ровно, взялись вдруг трещать и чадить. Понять объяснения было трудно. Рука Ксении, напряженно тянувшаяся к блюдцу, совсем онемела.
– Не вижу, – прошептала она растерянно, – запуталась…
– Да вот же, – сказал Ефим. Глянул на мать, будто извиняясь. Ему явно надоело отыскивать в происходящем забавные стороны. И впрямь: сколько можно?
– Первая книга на нижней полке слева… Так, Константин?
Ксения перевела быстрый испуганный взгляд с него на Ряжского.
– Похоже, – кивнул тот, – что там дальше? Ага… страница тринадцать.
– Четвертое слово в седьмой строке, – сказала Зизи.
Все снова уставились на блюдце.
– Так? – спросила Ксения, и блюдце успокоено подтвердило: так! Вслед за чем повторило: «Накажи», – и, доползя до центра пергаменного листа, окончательно замерло.
Никакие вопросы и призывы уже не могли его оживить. Дух княгини Мещерской покинул собрание.
Гости, отступив от стола, возвращались понемногу в реальный мир. Со свистящим шорохом свернулся в трубку желтый лист, расписанный буквами и знаками. Свечи, сдвинутые на край стола, горели теперь ярко и мирно, по-домашнему. Иван Илларионович снял очки и протер их мягкой фланелевой тряпочкой. Он чувствовал себя слегка обманутым: спиритический сеанс не оправдал ожиданий. Планировалось свидание с Клеопатрой, а затем с Цезарием Гейстербахским… и что? Разве что книга… Да! Книга!
– Заглянем же наконец в книгу!
– Конечно. Сей же час отыщу, – Ряжский, поднявшись, шагнул от стола. Книги помещались в соседней комнате, именуемой кабинетом – якобы хозяин предавался там высокой умственной деятельности. На самом деле горничная ходила туда убирать раз в месяц – чаще-то все равно никто не заглядывал, не стоило и надрываться. Сейчас эта горничная, стоя на пороге гостиной, выслушивала распоряжения хозяйки насчет ужина. Внезапно Ксения прервалась, махнула рукой и обернулась так резко, что по всегдашней своей неуклюжести едва устояла на ногах. Ефим даже сделал движение: подхватить, – но она уже бежала к дверям кабинета, громко восклицая:
– Костя! Костя! Остановись!
– Ах, Боже мой, – сморщившись, будто от кислого, пробормотала Зизи.
– Не ходи и не ищи никакой книги, – категорическим тоном заявила Ксения, – ужин стынет.
– Так за ужином и прочитаем, – добродушно заявил Ряжский, улыбаясь, – ты же сама наверняка сгораешь от нетерпения.
– Нет! – она тряхнула головой. – Мне это совершенно не интересно.
Ефим взглянул на Ксению, потом – на мать. Баронесса тоже смотрела на госпожу Благоеву – со сдержанным сочувствием, думая при этом, однако, явно о чем-то своем, очень далеком от происходящего.
– Мы бы помогли вам разработать план, – сказал Ефим.
– План? Какой план?
– Наказания похитителя, разумеется, – Зизи надоело скрывать раздражение. – Честное слово, кузина, тебе давно не пять лет и даже не шестнадцать. Можно бы…
– Вот именно, – Ксения, резко передернув плечами, издала деревянный смешок, – давно не шестнадцать. Оставим это, господа.
Вконец разочарованный Иван Илларионович раскрыл было рот, чтобы возразить… и закрыл. Гости поднялись и двинулись в столовую. Тетушка в кружевах задержалась возле подсвечников. Она была единственной, кого инцидент с книгой никоим образом не затронул. Точнее, она в него просто не вникла – как и в то, зачем нужна книга.
– Annette, Annette, ma pauvre Annette!.. – пробормотала она, несколько раз проведя рукой по кружевной скатерти, будто хотела стряхнуть с нее крошки.
Ксения Благоева едва дождалась ухода гостей (которые, надо признаться, и не стремились особенно задерживаться). Рысью, почти не задевая по пути за мебель, метнулась через гостиную с давно погашенными свечами, распахнула дверь в кабинет.
Нужная книга обнаружилась сразу. Это был сборник какого-то поэта – Ксения и не подумала посмотреть, какого, равно и задать себе вопрос, отчего вдруг поэтическая книжка объявилась у ее мужа, который рифмованной речи не воспринимал в принципе. Стремительно зашуршали страницы. Вот и тринадцатая… экой номер – не к добру! Или – наоборот? Хмурясь и четко двигая губами, Ксения вполголоса прочитала четверостишие с искомым словом:
- – Не ждите, я жалеть не стану,
- что оставляю навсегда
- мой Альбион, страну туманов.
- Однако – в этом ли беда?..
Сентября 11 числа, 1889 г от Р. Х.
Имение Калищи, Санкт-Петербургской губернии, Лужского уезда
Здравствуй, милая Элен! Сердечно обнимаю тебя и прошу прощения за свой поспешный и необъявленный отъезд из столицы.
Попробую объясниться. Даже сейчас, в деревне, гуляя по лесам и долам, пребываю я в совершеннейшем расстройстве и смятении чувств. Ты знаешь лучше других, что таковое состояние для меня не характерно, и потому я верю, что твое великодушное сердце простит мою беспардонную неучтивость.
Однако, все по порядку. В прошлое наше свидание я говорила тебе, что визит мой в Петербург связан с литературными делами. Именно так я и задумывала свое пребывание в столице. Собрать материал для нового романа побудила меня отчасти скука деревенской жизни, отчасти (тебе я могу в этом признаться) – светский успех «Сибирской любви». Тщеславие – сомнительная опора в делах, но кто из нас ему не подвержен? Ты отговаривала меня, объясняя опасения свои рискованностью мною задуманного, а я, несчастная, не прислушалась к твоим разумным словам. И вот что из этого вышло.
Дней уже больше десяти тому назад, ввечеру отправилась я в район Канатной фабрики, что за Чухонской слободой, чтобы осведомиться о жизни, быте и нравах местных обитателей. Особенно меня интересовали завсегдатаи игорных домов, трактиров, девицы легкого поведения и прочие жители городского дна. Оделась я, как всегда, скромно и неброско, чтобы не привлекать излишнего внимания тамошних обитателей. До моста на Голодай меня довез извозчик, дальше он ехать отказался, говоря, что там, мол, по ночам барышне бывать опасно. Где у этих людей логика мысли? Никогда мне этого не понять. В результате я велела ему ждать, а сама отправилась пешком, вглубь Чухонской слободы, а затем к фабрике, вкруг которой теснились подслеповатые деревянные домишки. Прогулка моя начиналась не без приятности. Выйдя на побережье и впав в некое оцепенение, слушала я резкие крики чаек, любовалась пронзительными красками вечернего неба и созерцала меланхолический вид на пустынные об эту пору острова Жандармерова, Кошерова и Гонаропуло. Далее за час наблюдения над нравами слободы я записала много удивительных для будущего читателя фактов и подслушанных словечек. Меж тем окончательно стемнело, на Думской башне пробило 11 часов, дороги стали вовсе пустынными и жуткими. Я собралась уже идти назад, как вдруг услыхала какие-то крики, и стоны, и звуки ударов. Забежав за угол трактира-развалюхи, увидела, как трое оборванцев избивают ногами лежащего человека, по виду прилично, и даже богато одетого. Луна в те дни находилась в фазе полнолуния, и в ее безжалостном свете я с ужасом увидала блеснувший в руках одного из нападавших нож… Нож опустился, лежащий человек глухо вскрикнул. Будь я девушкой более тонкой конституции, я, должно быть, упала бы в обморок или убежала (негодяи в пылу драки меня не видели), но предыдущие испытания закалили мое сердце, и я достала из ридикюля пистолет, который всегда ношу с собой в такие места для обороны, и выстрелила в одного из нападавших. Представляю, что ты сейчас обо мне думаешь, но сложившаяся к тому моменту картина была слишком нервической даже для меня: на моих глазах убивают человека, помощи ждать неоткуда, я – случайная свидетельница – его единственная надежда спастись.
Оборванец, в которого я выстрелила, повалился замертво, остальные двое, видимо, испугавшись, бросились бежать. Я, не чуя под собой ног, и трясясь, словно в лихорадке, подошла к лежащему человеку. На его плаще расплывалось кровавое пятно, другой порез уродовал лицо, но сознание его не покинуло, и глаза были открыты. Увидав меня, он вдруг приподнялся и принялся ругаться самым ужасным, трущобным образом (многих слов я попросту не понимала), что совершенно не гармонировало с его одеждой и прочими деталями облика.
Справившись с болевым шоком, он спросил меня, что я тут делаю и где мои спутники. Узнав, что я нахожусь здесь одна, он снова начал ругаться, а потом приказал (именно приказал, а не попросил) вывести его оттуда, обещая награду. Я понимала, что он вне себя от боли и потери крови, а меня принимает за служанку или подавальщицу из какого-нибудь ближайшего притона. К тому же на обиды просто не было времени – оставшиеся в живых оборванцы могли вернуться в любую минуту. Я предложила ему встать, опираясь на меня. О том, чтобы тащить его, не могло быть и речи – он слишком велик даже для моей, отнюдь не субтильной, фигуры. Я высказала соображения о том, что следовало бы позаботиться о помощи человеку, в которого я стреляла – он разразился новым потоком ужасной площадной брани. Меня покоробило, но я не могла не признать, что в его положении отсутствие человеколюбия по отношению к пострадавшему выглядело вполне оправданным.
Когда, с великими трудами и преодолев ужасные мучения, мы, наконец, добрались до извозчика (трусливый ванька был в великом страхе и явно жалел, что, польстившись на заработок, остался дожидаться меня), спасенный мною мужчина велел везти его на Аптекарский остров, к игорному дому Туманова. Когда я осмелилась поинтересоваться, не лучше ли ему в его состоянии отправиться домой, он засмеялся с самым ужасным видом (не забывай, что лицо его было порезано ножом, и по нему, несмотря на все мои усилия, текла кровь), и сказал, что этот великосветский игорный притон и есть его родной дом. Я подумала было, что у него начинается бред, но в остальном он изъяснялся вполне ясно и здравомысляще (если не считать вопиющей простонародности его речений).
Короче, мы подъехали к дому Туманова (ты знаешь, что он был построен недавно по образцу лучших лондонских клубов) как раз в тот момент, когда там вовсю разгоралось веселье. Богатые экипажи, светские щеголи, лакеи, камердинеры, ливреи, особы легкого поведения в ужасных шляпках и нарядах, непременные в таких местах цыгане, в общем все, как это описано у прогрессивных европейских писателей – запах больших денег, нравственного разложения и светского разврата. Раненный велел подвезти его к заднему крыльцу, я помогла ему сойти, и хотела было удалиться, считая свою миссию исполненной, но он сказал, чтобы я осталась. До сих пор не могу понять, почему я подчинилась. Выбежавший навстречу слуга в роскошной, хотя и несколько вульгарной ливрее явно признал спасенного мной человека и готов был оказать ему всяческую помощь и поддержку. Так что мое дальнейшее присутствие совершенно не требовалось. Да и само пребывание в подобном месте, в полночь, не делало мне чести. В общем, не было ничего, кроме полупросьбы, полуприказа истекающего кровью незнакомого человека, который, к тому же, ни на минуту не прекращал ругаться. И, ты не поверишь, Элен, но я осталась.
Потом лакей и прибежавший откуда-то невысокий человечек с лисьими глазками (впоследствии я узнала, что это управляющий клубом) с трудом тащили раненного наверх, по узкой, крутой лестнице. Наверху, в просторной комнате, обитой темно-красным шелком, уже ждал немолодой врач в зеленом жилете, с белыми, словно вымоченными в каком-то растворе руками. Он велел раздеть раненного. Я опять хотела уйти, но управляющий вежливо проводил меня в соседнюю комнату и попросил подождать там. Поверь, Элен, я никогда не видела ничего страннее покоев, в которых очутилась. Твой тонкий, безупречный вкус ожидало бы в них немалое испытание. Вот что там было: самая невероятная смесь стилей, подлинной роскоши и немыслимых вульгарностей. Наборный малахитовый столик (со времен своей сибирской эскапады я легко могу опознать в нем настоящее произведение искусства, достойное царских апартаментов) и картинка с лебедями на нем, купленная на блошином рынке. Персидские ковры, стулья эпохи какого-то из Людовиков, бронза, серебро, позолота, картины… Все это вперемешку, навалом, без всякого намека на единое пространство и оформление. Если это личные покои, то совершенно непонятно, как в них можно жить. Взглянув на все это, я как-то по-особому оценила свой скромный учительский домик, который ты, Элен, всегда ругала за подчеркнутый аскетизм. Право слово, моя бедность намного привлекательнее такого богатства.
Меж тем врач очистил раны пострадавшего и принялся зашивать их. Ругань, которая неслась при этом из комнаты, не поддается никакому описанию. В конце концов, насколько я сумела понять, раненный попросту прогнал врача и громовым голосом запретил ему притрагиваться к себе. В комнату, где я находилась, забежал человечек-лиса, и чуть ли не со слезами на глазах попросил меня воздействовать на его хозяина. Иначе, дескать, у того лицо останется изуродованным. Меня, по чести, все это приключение уже измотало до крайности, и я мечтала только об одном: добраться до своей комнаты в номерах, скинуть испачканную кровью одежду, принять ванну и уснуть. Жизни раненного, как я поняла, ничего более не угрожало, и мои мысли все более возвращались к другому человеку, тому, кого я, быть может, убила наповал.
Однако элементарное сострадание заставило меня прислушаться к просьбе человечка-лисы. Быть может, совсем чуть-чуть здесь примешивалось и любопытство, ведь я до тех пор ничего не знала о спасенном мною человеке. Я зашла в комнату, и тихим, но уверенным голосом сказала раненному, что ему следует неуклонно подчиниться всему, что сочтет нужным делать врач. Лежал он передо мной почти совершенно обнаженный, с залитым кровью лицом и дикими от боли и настойки опия глазами. Услышав мой голос, он развернулся ко мне, усмехнулся и махнул врачу рукой, разрешая приступать к операции.
– А ты пока расскажи мне о себе, – велел он мне, почти не шевеля распухшими, как котлеты губами.
Чтобы отвлечь его от боли, я начала что-то рассказывать о своей работе и деревенской жизни. Он слушал внимательно и даже перестал ругаться. Человечек-лиса смотрел на меня, подобострастно улыбаясь и молитвенно сложив руки. Я поняла его жестикуляцию как выражение благодарности и приглашение не останавливаться, ибо крутой нрав лежащего на кушетке человека уже был мне к тому времени известен.
Далее в неспешном течении моего рассказа наступает момент, о котором мне стыдно писать даже тебе, Элен. Впрочем, ты взрослая женщина, мать двоих детей, и твои прогрессивные взгляды на мораль и физиологическую сущность человеческого существа мне известны. А потому сообщаю тебе без всяких экивоков: на протяжении всего монолога я не могла отвести глаз от этого грубого мужика. Его огромное распростертое тело попросту притягивало мой взгляд. И самое ужасное: несмотря на его болезненное состояние, он, кажется, заметил это.
Когда все процедуры были закончены, я быстрее пули вылетела в соседнюю комнату. Почти сразу же туда вошел управляющий и от имени раненного предложил мне деньги. Я, естественно, отказалась. По всей видимости, из-за боли и опийного опьянения раненный плохо слышал мой рассказ и по-прежнему принимал меня за горничную или служанку.
Однако человечек-лиса слышал меня хорошо. Отказавшись от мысли всучить мне деньги (сумма, кстати, предлагалась немалая), он, в свою очередь, осведомился, не может ли он что-нибудь для меня сделать. Я, наконец, задала давно интересовавший меня вопрос: кого же я спасла и кем этот человек приходится владельцу клуба? Последовавший ответ меня слегка обескуражил, но в чем-то я уже была к нему готова. Лежавший в соседней комнате человек оказался самим владельцем и основателем игорного дома – Михаилом Тумановым.
Поразмыслив немного, я сообщила человечку-лисе (он представился мне как Иннокентий Порфирьевич – чего-то в этом роде, я, признаться, и ожидала), что мне, как сочинителю и литератору, для написания моего нового романа полезно будет ознакомиться с нравами завсегдатаев игорного дома. Он сначала разохался и принялся было пространно объяснять мне (иногда даже вставляя французские слова и щеголяя ужасным произношением), что приличествует и наоборот девушке моих лет, внешности и сословия, но я быстро и решительно оборвала этот поток лакейского красноречия. Он мигом оборотился в нормального делового человека и, подумав, сказал, что постарается мне помочь. Мы договорились о встрече в четверг и на том расстались, уверив друг друга во взаимной симпатии. Его хозяин, как я поняла, к тому моменту, наконец, поддался чарам опийной настойки и уснул (настойки этой влили в него немеряно сразу по приезде, но до поры его могучая конституция, на его несчастье, обарывала и сон, и обезболивающее ее действие).
Вернувшись в номера и выполнив все, о чем мечталось, я, против собственных предположений об истощении сил и нервов, не могла не только уснуть, но даже сидеть или лежать спокойно, и чуть не до утра ходила по комнате как тигра в зверинце, смущая, должно быть, соседей.
Туманные картины Голодаевского побережья, фабричной слободки, всего моего вечернего приключения вставали перед моим внутренним взором, перекрываясь и накладываясь на противоречивый облик Туманова, сама фамилия которого удивительным образом гармонировала с обуревающими меня чувствами и переживаниями. И какая же все-таки дикость эти так называемые народные нравы! В наш просвещенный век иметь под боком у процветающей столичной культуры такие вот слободки, где пьянство и убогость самого бытия калечат и развращают людей с самого детства до смерти. Какой позор для всей цивилизации! С этим, несомненно, следует бороться, бороться неустанно, отдавая этой борьбе весь жар души. Вот подлинно благородная задача для человека, живущего на пороге двадцатого века!
Однако, следует признать, что все эти ясные картины достойного образа мысли и существования являлись и являются в мой мозг как бы затуманенными чем-то еще, чего я покуда не сумела определить с достаточной точностью, а потому погожу бередить твой ясный ум незрелыми плодами моих терзаний, быть может, совершенно напрасных и бесплодных. Прочла ли ты новую книгу г. Преображенского, коею я имела честь тебе рекомендовать? Что ты думаешь о явлениях животного магнетизма, в ней описанных? Мне кажется, что некий здравый смысл во всех этих писаниях присутствует, тем более, что некоторые явления, происходящие со мной сейчас, так и напрашиваются на какие-то физиологические толкования… Вероятно, следует отбросить лень, обратиться к первоисточникам и прочесть все это на немецком языке. Боюсь, без практики мне будет трудновато уяснить для себя нелегкие моменты этих ученейших трудов. Ты ведь не хуже меня знаешь, какими занудами могут быть эти ученые немцы, и в какие словесные кружева облекают они плоды своих интереснейших (надо это признать) изысканий и размышлений.
Возвращаясь от рассуждений к событиям моей жизни, сообщаю, что в четверг ко мне на Консисторскую улицу, где расположены номера, прибыл роскошный экипаж от Тумановского клуба. Кучер сослался на распоряжение Иннокентия Порфирьевича, а я так и осталась в недоумении: докуда простирается вольность этого лисоподобного управляющего в ведении дел клуба и приглашении гостей? Мог ли он пригласить меня помимо воли самого Туманова? И могу ли я считаться гостьей?
Однако, собрав свои письменные принадлежности, я, не колеблясь, отправилась в этот роскошный притон, не без волнения думая о возможной встрече с его владельцем. Дорогой я осведомилась у кучера о здоровье хозяина клуба (слуги всегда все знают) и услышала, что он вполне на ногах и ведет дела, как обычно. Видимо, его медвежье здоровье позволило ему без особого вреда для себя перенести столь тяжкие ранения. В предвкушении интересных впечатлений и не менее интересных сведений для моего будущего романа я уселась в экипаж.
Прости, Элен, но то, что произошло далее, настолько волнует меня, что я пока не в силах справиться с собой, и с присущей мне рациональностью описать тебе все по порядку. Позже, когда впечатления улягутся по своим местам и отчасти рассеются и потеряют остроту, я обещаю тебе подробнейшим образом рассказать обо всем, а пока… верь в благоразумие своей давней подруги и молись за меня, если хоть капля веры сохранилась в твоей просвещенной душе. Я же, увы, молиться не в силах, что иногда воспринимается мною как достижение Вольтерова просветительства, а иногда – как ужаснейшая из потерь, постигшая человеческую цивилизацию в целом и меня с нею заодно. Я вижу, как по-звериному глубоко, хотя и смутно, веруют крестьяне в усадьбе и в деревне. Посещение церкви и исполнение обрядов (сути которых они, по преимуществу, не понимают) приносят им радость и духовное удовлетворение, которого я, будучи материалисткой, лишена совершенно.
В Гостицах все по-прежнему. Сестрица с матушкой, чадами и домочадцами здоровы, неустанно осуждают меня за мой способ жизни и мысли (удивительнейшим образом забыв, что сами были ему не последней причиной). Муж сестры затеял какую-то сельскохозяйственную реформу и гордится ею настолько, что готов обсуждать ее даже со мной. По-моему, все это очередная помещичья блажь, которая не решит ни одной из деревенских проблем, а лишь встревожит крестьян, коии и так неспокойны, нищи, запойны и мятежны духом.
Младшие ученики мои с благодарностью откликаются на любую попытку вложить в их вихрастые головы хоть какую-то крупицу знаний, а старшие по большинству являют собой образцы уездного скудоумия и догматизма. Они готовы учиться арифметике и алгебре, и даже грамотному письму, но география с историей и зоологией представляются им настолько далекими от их повседневных интересов, что, когда я рассказываю им из этих предметов, они с полной уверенностью просто засыпают, отдыхая от крестьянских, ремесленных или торговых трудов, которыми нагружает их семья.
Как обстоят дела у Василия Александровича? Здоровы ли Петенька с Ванечкой? Напиши подробно. Еще раз прости за поспешный отъезд. Засим всех крепко обнимаю и целую.
Навсегда твоя Софи Домогатская.
Сентября 20 числа, 1889 г. от Р. Х.
Санкт-Петербург
Милая, гадкая Софи!
Получив днями твою карточку с «pour prende conge» я попросту не находила себе места, гадая, что еще с тобой приключилось. Выпила как простой компот всю склянку успокаивающей микстуры, что прописал мне по капле доктор Зельский, и никак не почувствовала ее действия. Ругала себя и тебя последними словами, даже невинному Васечке досталось от моего плохого настроения. Зачем ты не остановилась у меня! Зачем я тебя не уговорила! Право, Софи, что за ненужная церемонность между старыми подругами! Твои рассуждения касательно компрометации нашего семейства мне просто смешны. Все знают, что мы с тобой в коротких отношениях с детства, и во всех салонах я с гордостию за твой талант называю тебя своею лучшею подругою. И кого б ты стеснила в нашем особняке на Разъезжей, где по утрам, бывает, живого человека не дозваться, и бродишь, и ищешь кого-нето, чтоб слово сказать…
Когда же принесли письмо, я сперва успокоилась, а потом еще больше встревожилась и разволновалась. Софи! Софи! Заклинаю тебя всеми святыми, памятью батюшки твоего, чем угодно, хоть делом освободительных реформ, оставь, изгони из своего ума и сердца думы об этом человеке! Ради Бога, выходи за Петра Николаевича, и будьте счастливы! Он милый, кроткий человек, никогда тебя не обидит. И к литературным твоим занятиям и прочим увлечениям относится либерально (ты же именно это всегда называла камнем преткновения, говоря о невозможности замужества, – но вот, камень откатили с дороги). И доход у него хоть и невелик, но имеется, и имение не заложено (я уж через Васечкиных друзей узнавала). Чего тянуть, Софи! Или ты за пустяковыми отговорками ждешь, когда в твоей авантюрной натуре опять проснется жажда приключений, и потянет тебя в пропасть?! Равноправие полов есть великое благо, но ведь мужчины не могут рожать детей. Пусть женщина будет равноправным гражданином, ученым, писателем, художником, вообще чем угодно, но, по моему твердому убеждению, она не может исполнить свое предназначение на земле, не родив, не вскормив и не воспитав следующее поколение. Таков завет Природы и Бога (выбирай, что тебе больше нравится), и не нам с тобой это отменять или осуждать. И вот еще что, Софи. Ты всегда была образованнее меня, и имела более быстрый и острый ум, я с детства это чувствовала, смирилась и давно не обижаюсь на это. Но теперь есть область, в которой я прошла дальше, и ты не сумеешь этого отрицать. Быть женой и матерью – это огромная радость и счастье. Никакие рассуждения об общественной пользе и земской реформе не заменят женщине улыбки ее собственного младенца и сливочного запаха волосиков на его головенке. Заклинаю тебя, Софи, подумай об этом!
Зная тебя многие годы, я читала твое послание между строк и содрогалась от страха за тебя. Зачем вы с Петром Николаевичем не повенчались нынче осенью, как собирались? Все соблазны были бы уж позади, и геенна не разверзалась у твоих ног. Хотя и знала уже довольно, но тем не менее кинулась по всем своим светским друзьям и недругам (ради тебя ездила с визитами даже к тем, кого терпеть не могу – не будем по именам, ты знаешь, о ком я) наводить справки о Туманове. Уж к вечеру первого дня мои гладкие от природы волосы (послушности которых, помнишь, ты так завидовала в детстве) стояли дыбом и никак не хотели ложиться. По совершеннейшему пустяку нахамила Ванечкиной няне, послала Глашу в аптеку заказать еще капель, опрокинула на себя бонбоньерку с пудрой – в общем, полное смятение чувств и расстройство нервов.
Кое-что ты уж, наверное, про него знаешь, но все равно полезно увидеть это, сказанное (точнее, написанное) словами, чтоб не было соблазна изгнать из головы, забыть, как будто и не было ничего. Знай же, Софи: Туманов – человек из ниоткуда. Даже имя его, говорят, не данное ему от рождения, а им же самим выдуманное. Все бумаги его – фальшивые и справлены за деньги. Крещен ли он, и если крещен, то в какую веру – того никто не ведает. Сам он никогда не давал повода думать, что хоть во что-то верует. Впрочем, и о неверии тоже ничего не говорил, хоть дамы и пытали его об этом. Родился он где-то в трущобах. Мать его, по слухам, была дешевая проститутка, которая тут же по его рождении не то умерла, не то бросила его в куче отбросов. Кто его подобрал и вырастил – все покрыто мраком и тайной. Про детские годы он никогда и ни с кем не говорит. Все его огромные капиталы не унаследованы и не заработаны, а нажиты исключительно нечестными путями, из которых прямое воровство на улицах и рынках представляется самым простым и легко оправдываемым. Читает он с затруднениями и едва умеет писать, но при этом – феноменальный счетчик. Говорят, что в его голове целиком умещаются все бухгалтерские книги его заведений.
Теперь то, что тебя особо касается, – его личная жизнь. Писать буду прямо, не делая никаких скидок на твой девический статус, ибо водит моим пером единственно тревога за тебя и желание оградить любимую подругу от неприятностей. Его первый значительный капитал – результат интимного обслуживания престарелых светских дам, скучающих вдов и молодушек, выданных замуж за стариков. Чем он брал за свои услуги – деньгами, протекциями или иным образом, – здесь мнения света расходятся. Должно, и тем, и другим. Но не все ли равно? По общему мнению, он совершенно не Казанова, и женщин, в общем, не любит и даже презирает. Причем чем более женщина знатна, прилична в поведении и нравах, тем выше градус этого презрения. При этом сила его дикарского обаяния (я так понимаю, что ты успела испытать его на себе) такова, что немного найдется дам, в чьей постели он не успел еще побывать. После недолгого романа он их бросает с видом великолепного равнодушия, который одних доводит до нервического припадка и отъезда на воды, а в других, по закону противоположности, вызывает еще более сильную к нему привязанность восовокупе с ненавистью и брезгливостью. Все это мешается в такую адскую смесь, что как бы не превратилась в порох. В этом смысле меня совершенно не удивляет, что кто-то напал на него в фабричном поселке (а что он, кстати, там делал? – об этом ты не подумала?) и хотел его убить. Подумай только, что ты со своим пистолетом, быть может, избавила его от мести ревнивого мужа, лишив при этом жизни несчастного оборванца, которого великосветский рогач нанял за несколько серебряных рублей. Последняя скандальная связь Туманова была с графиней К. Он ее бросил, как и других, она же, по слухам, не смирилась, и все надеется чуть ли не силой вернуть его благосклонность. В чем сила его влияния на мужчин, я не знаю, и Васечка об этом говорить отказывается. Однако, мне кажется, что сказанного достаточно вполне, чтоб ты выбросила из своей хорошенькой головки все мысли об этом человеке. Поторопись же соединить свою судьбу с Петром Николаевичем, и ваш душевный и телесный союз сразу все излечит. Займись школой, хозяйством, роди ребеночка и предоставь призракам петербургских трущоб вести их мучительное существование вдали от тебя.
Василий Петрович и маменька с папенькой шлют тебе поклоны и наилучшие пожелания. Ванечка, слава Богу, здоров, а Петечка третьего дня перекушал мороженого и заболел ангиной. Жар уже спал, однако, горлышко еще красное. Даем микстуру и силимся удержать его в постели, чтобы не было осложнений.
Засим обнимаю тебя крепко-крепко и остаюсь верная тебе
Элен Головнина
«Любой, кому случалось праздно прогуливаться вкруг Васильевского острова, заметит, что разные его концы мало походят друг на друга. Южный берег весь уставлен огромными каменными строениями с пышной архитектурой. Северная же сторона глядит на Петровский остров и вдается длинною косою в сонные воды залива. По мере приближения к этой оконечности каменные здания редеют, уступая место деревянным хижинам. Между сими хижинами проглядывают пустыри и, наконец, строение вовсе исчезает, и вы идете мимо ряда просторных огородов, который по левую сторону замыкается рощами. Он, в свою очередь, приводит вас к последней возвышенности, украшенной одним или двумя сиротливыми домами и несколькими деревьями. Ров, заросший высокой крапивою и репейником, отделяет возвышенность от вала, служащего оплотом от разлитий; а дальше лежит луг, вязкий, как болото, составляющий взморье. И летом печальны сии места пустынные, а еще более зимою, когда и луг, и море, и бор, осеняющий противоположные берега Петровского острова, – все погребено в серые сугробы, как будто в могилу».
Однако, на сей момент в Петербурге стояла лишь ранняя осень, до зимы оставалось еще два месяца, в палисадниках алели рябины, и воробьи дрались в пыли из-за просыпанных зерен. Богач и миллионщик Туманов возвращался с Канатной фабрики, где меж деловыми людьми намечалась выгодная сделка с участием оной фабрики, Верфей и Путиловского завода. Если дело выгорит, то прибыль получится немалая, а главное, чистая, не облагаемая никаким налогом. Для участия в разговоре самого Туманова не было никакой особенной необходимости – вполне довольно было бы послать своего человека, но он пошел сам, не то чтобы не доверяя кому-то, но повинуясь той смутной тяге, которая жила где-то посередине его широкой груди, под богатым сюртуком из серой английской шерсти. Временами она (сам Туманов называл ее тоской) сподвигала его на действия весьма диковинные для его нынешнего положения. Бывало такое, что, скинув сюртук и засучив рукава тонкой рубашки, Туманов сам, в очередь с грузчиками, разгружал ящики с апельсинами и яблоками, присланными для ресторации игорного дома. Бывало, собственноручно варил суп, мешая в нем такие диковинные сочетания продуктов, от которых у знатных поваров (один из них был выписан из самого Парижа) вставали волосы дыбом. Случалось ему мыть полы в своих комнатах, выступать в роли вышибалы, приказчика, лакея – и все это делалось с такой гримасой мучительной серьезности на грубом лице, что возникшие было на лицах слуг усмешки таяли сами собой, оставляя в их душах чувство какой-то неопределенной жалости к заблудшей и явно томящейся душе хозяина. Сказать ему об этом они не смогли бы, да Туманов не стал бы их и слушать. Но на кухне и в служебных помещениях игорного дома его необычные привычки и склонности служили постоянным предметом для обсуждения, и какая-нибудь розовощекая кухарка или горничная говорила, щелкая орехи или лузгая семечки:
– Ой, барина-то как жалко! Глянешь, прям сердце рвется. Мается, сердечный, а от чего?
– К причастию не ходит, Бога не чтит, – оттого все, – откликалась от плиты баба постарше. – Кто Бога забыл, тот завсегда мается.
– Может и так, может и так, – говорила молодка, но при этом качала головой из стороны в сторону, будто не соглашаясь.
Туманов шел по пыльной дороге и жевал ягоды рябины. Горький вкус ягод словно бы холодил рот. Перед домом на колченогом табурете стоял таз с горячим яблочным вареньем. Девчушка лет пяти веткой отгоняла от него ос. Рассмотрев Туманова, она бросила свое занятие и подбежала к нему. Рыженькие волосики и белые ресницы делали ее похожей на веселого поросенка.
– Дядя, дай грошик, – сказала она и протянула выпачканную в варенье ладонь. – Я за тебя Богу помолюсь.
Туманов вытащил из кошелька монетку и дал девочке. Она цепко схватила ее, но не убежала, как он предполагал, а вдруг, изловчившись, поцеловала его в сжатый кулак, и тут же, глянув в лицо, рассмеялась весело и открыто. Ее поведение, лишенное системы, развеселило Туманова. Он рассмеялся в ответ, и потянулся погладить жидкие кудряшки, сквозь которые просвечивала розоватая кожица. Девочка увернулась, а оса, привлеченная яблочным запахом, сделала над ее головой замысловатый пируэт. Взблеснувший из-за облака луч заходящего солнца окрасил волосы и холщовое платье девочки в красноватые тона волшебного фонаря. Туманов двинулся дальше, но, сворачивая за угол, не удержался и обернулся, чтоб поглядеть на девочку еще раз. Увидел, как мальчик постарше, тоже рыжий и кудреватый, зажал сестренку локтем и отобрал полученный гривенник. Девочка некрасиво скривила лицо и убежала в безмолвном горе. Туманов дернулся было назад, но остановился, поняв, что любые разборы лишь сделают ситуацию еще хуже и тягостнее для всех участников.
На завалинке у покосившегося домика на три окна сидели мужчина и женщина. Женщина, достав из выреза платья веснушчатую грудь, кормила завернутого в тряпки младенца. Мужчина с шилом в руке починял недоуздок.
– Гляди-ко, ночью дождь будет, – сказала женщина, взглянув на небо.
– Может, и будет, – откликнулся мужчина и, заметив Туманова, оборотился к жене. – Прикройся, неловко.
– А-а, – женщина озорно улыбнулась, и сразу стало видно, что она совсем молода, привлекательна и даже кокетлива. – Пущай барин смотрит. Нешто что новое разглядит? – она склонилась лицом к ребенку, а муж неодобрительно покачал головой, встретился взглядом с Тумановым, углядел в нем нечто, расслабился и заговорщицки подмигнул: «Что, мол, с глупой бабы возьмешь?»
Туманов хотел, но не сумел подмигнуть в ответ. Где-то под ложечкой родилась боль, превратилась в мучительную зависть к этому немудреному супружескому вечеру.
– Отчего у меня не так? – сам себя спросил Туманов и, не находя ответа, прибавил шагу.
Немного времени спустя он свернул под покосившуюся трактирную вывеску и потянул на себя разбухшую дверь.
Когда Туманов, побагровевший лицом и шеей, но все еще крепко держащийся на ногах, вышел из трактира, совсем стемнело. В кармане сюртука плескался полуштоф водки, взятый навынос. Невдалеке, возле фабричных бараков горели голубоватые фонари, у трактира же темень – глаз выколи. Дождь так и не случился, и потому темнота была пыльной и какой-то осязаемой. Казалось, ее можно черпать ложкой. Из сада, огороженного двумя жердями, вышла девица в сарафане, остановилась возле Туманова и с поклоном протянула ему на тарелке три яблока:
– Откушайте, барин!
Туманов вздрогнул, с трудом сфокусировал на девице еще не приспособившийся к потемкам взгляд, взял яблоки, одно надкусил, другие сунул в карман, насупротив полуштофа. Потом наклонился, сгреб девицу за талию, поцеловал в щеку, пахнущую дешевым мылом и пивом. Девица тихонько взвизгнула, пожалась всем гибким телом и захихикала почти бесшумно, как ночная птица. Туманов отпустил ее и пошел прочь.
Парило совсем по летнему. Небо оставалось затянутым и даже луна и звезды не освещали дорогу. Туманов шел зигзагом, колеблясь от одной стороны дороги к другой. Раз споткнулся об не то выброшенную, не то оброненную кем-то корзину, другой – наступил ногой в лошадиные катышки. Бормоча под нос ругательства, подумал, что, может, уж сбился с пути и сейчас удаляется от центра.
Внезапно прямо перед ним, словно сгустившись из темноты, выросли три черные фигуры. По одежде Туманов признал в них местных оборванцев, голытьбу, выгнанную с завода за пьянство, разврат и хулиганство. Хотел было вытащить кошелек, и отдать им, но что-то в их движениях – решительных и неуверенных одновременно, и слишком слабый запах спиртного (оборванцы были почти трезвы), подсказало даже затуманенному водкой мозгу – договориться не удастся. Эти люди ждали не случайного прохожего, а именно его, и их цель – не ограбление (хотя портмонетом, а именно его содержимым, они, конечно, тоже не побрезгуют). Придется драться – понял Туманов, и одновременно понял, что шансы его весьма невелики. Он один, пьян, не взял с собой никакого оружия, помощи в этом крысином углу ждать не от кого…
Даже пьяный, Туманов был силен и опытен в драке. На второй минуте он своротил челюсть одному из нападавших, и в лицо остро пахнуло кровью и жареным луком. Но их было трое, а он один. Когда одному из оборванцев, наконец, удалось обманным ударом свалить его на землю, и в свете прорвавшейся-таки сквозь облака луны он увидел нож, почему-то жаль стало не обрывающейся жизни, а разлившегося полуштофа с водкой и откатившихся куда-то яблок. Туманов усмехнулся и изо всех сил напряг мышцы, готовясь принять неизбежный удар. Боли почти не ощутил, только к холоду разлившейся водки добавилось тепло вытекающей крови. Руки еще слушались, но движения уже замедлялись и, хотя и пытался, лицо прикрыть не успел. После сквозь наползающую черноту грянул гром.
– Неужели гроза? – вяло удивился Туманов.
Потом над ним склонилось лицо, которое никак не могло принадлежать никому из нападавших. Сквозь заливавшую глаза кровь он разглядел прямые темные брови, высокий лоб и голубоватый кончик тонкого носика. Все остальное пряталось в тени.
– Какого черта?! – прошипел он. – Убирайся!
Это существо здесь и сейчас было еще более неуместно, чем он, истекавший кровью, и напавшие на него оборванцы. Кстати, куда они подевались? Скрипя зубами и отчаянно ругаясь от нахлынувшей боли, Туманов приподнялся на локте и увидел одного из нападавших, неподвижно лежащего на дороге лицом вниз. Да ведь это же она в него стреляла! – внезапно догадался он. – И пожалуй что, убила. Вот это номер! Впрочем, нет, чепуха! Стрелял, должно быть, кто-то из ее спутников.
– Кто ты? Где остальные? – сплюнув в пыль натекшую в рот кровь, спросил Туманов.
Девушка молча покачала головой. Должно быть, это означало, что она здесь одна. Осознав положение и собственную беспомощность в нем, Туманов вновь принялся ругаться. Лучше бы он сдох здесь в одиночестве!
Тем временем девушка достала платок и попыталась стереть кровь с его лица.
– Глупость! – сказал Туманов. – Глупость все! Черт! Черт! Черт! – он отобрал у девушки платок и прижал к ране.
Туманов был опытным бойцом, знал толк в уличных стычках, в колотых, резаных и даже огнестрельных ранах, и уже понял, что обе его раны, скорее всего, не смертельны, если вовремя остановить кровь и избежать лихорадки. Та, что на лице, выглядит, должно быть, страшно, но, в сущности, чепуха. Опасность в другой ране, той, что в боку. Оттуда вытекает слишком много крови, вся рубашка уже промокла насквозь. Впрочем, там же еще водка, – вспомнил он и усмехнулся, подумав о модной дезинфекции.
Раз уж он жив и пока в сознании, глупо лежать и ждать, пока оборванцы опомнятся и вернутся, чтобы отомстить. Тем более, что теперь он не единственный объект их мести.
– Надо валять отсюда по-быстрому! – сказал он девушке. – Подмогни мне! Я на тебя обопрусь и встану. Дальше легче пойдет.
Девушка сжала тонкие, темные губы и послушно просунула руку ему под локоть.
Дальше все виделось как в тумане. Казалось, что они шли всю ночь, и уж должно было рассвести. Звезды и луна снова куда-то исчезли, начал накрапывать дождь, капли текли по вискам и за пазуху, и почему-то пахли водкой и луком. Мучительно хотелось отдохнуть, заснуть или уж хоть умереть, если иначе нельзя. Фартук, который кинул им ванька, чтоб не поганить экипаж кровью, где-то в середине пути превратился вдруг в мерзкую облезлую собачонку, вилявшую хвостом и повторявшую хриплым, испуганным голосом: «Не спите, не спите, я вам говорю – не спите. Нельзя вам спать».
– Вон пошла! Вон пошла, тварь! – ругал и гнал собачонку Туманов, и сам понимал, что получается тихо и жалобно, и собачонка нимало не пугается, а все нудит и нудит под ухом, не дает уснуть и избавиться от боли.
Потом откуда-то взялись Федор, и Иннокентий с бледным, выжатым лицом, похожим на просвирку. И снова рядом была девушка с высоким, чистым лбом и плотно сжатыми губами. Она хотела куда-то уйти, но он боялся настырной собачонки и велел ей остаться, чтоб отгоняла проклятую тварь, если та надумает вернуться.
Доктор хлопотал над ним, а огонь от ламп, которые снесли в комнату, то расплывался радужными кругами, то стягивался в ослепительные точки, и тогда под веками словно что-то взрывалось, отдаваясь в голове нестерпимой, сверлящей болью. Туманов кричал, ругался, плохо сознавая себя, и вполне пришел в сознание лишь один раз, когда девушка принялась уговаривать его не противиться доктору и дотронулась до плеча своей прохладной ладонью.
– Кто ты? – спросил Туманов. – Расскажи о себе.
Девушка пожала плечами, кинула на Иннокентия растерянный взгляд, и начала говорить что-то обыкновенное, что говорят всегда, рассказывая о себе незнакомым людям. Если верить этим рассказам, то получается, что все девушки одних лет или все старики похожи друг на друга, как горошины из одного стручка. Но девушка не была обыкновенной, и Туманов ясно знал это, несмотря на потерю крови, опий и все прочее. Синее строгое платье с белым отложным воротником делало ее похожей на гимназистку, но темные глаза казались намного старше лица.
– Что-то здесь не так, – подумал Туманов, погрозил девушке пальцем, расслабился и поплыл на волнах опийных снов и ее низкого, хрипловатого голоса, который долетал к нему тоже волнами, словно девушка то наклонялась к нему, то отходила в дальний угол комнаты.
Глава 2
В которой хозяин игорного дома Михаил Туманов беседует со своим управляющим, и с трех разных сторон рассматривается совершенно моветонный случай, произошедший с барышней Софьей на купеческом балу
Спал он более суток. Когда проснулся, сначала подумал, что глаз у него больше нет, потому что открываться и глядеть на белый свет они категорически не хотели. Доктор, которого тут же кликнул Федор, пояснил, что это лишь следствие отека и скоро пройдет. Так и вышло. После умывания один глаз приобрел почти нормальные размеры и пугал ярко-красным белком, другой – смотрел через слезящую щелочку. Говоря после с людьми, Туманов держал в руке салфетку из ресторана и промокал ею глаз. Рана в боку была туго стянута бинтами и лежа почти не беспокоила. Несмотря на протесты доктора, Туманов оттолкнул Федора с его услугами, встал и, почти не шатаясь, сам пошел по интимной надобности. Проходя мимо зеркала, глянул и усмехнулся.
– И был-то красавец, а уж теперича…
– На ваш век баб хватит, если вы о том беспокоитесь, – огрызнулся из комнаты Иннокентий, злой на то, что хозяин опять не послушал доктора. – Бабы – они на блажь падкие. С таким-то лицом еще более любить будут.
– Угу, – не споря, подтвердил Туманов и тут же по согласию с темой вспомнил вчерашнюю девушку. Хотел было сразу спросить про нее у Иннокентия, но отчего-то сдержался.
После совершения туалета и перевязки Туманов отпустил доктора, который все это время оставался в клубе и теперь положительно клевал носом, и заговорил с Иннокентием о делах, почувствовав усталость еще до начала разговора.
Для разговора с управляющим требовалась определенная сноровка и немалая доза терпения. Иннокентий, младший сын нищего дьячка, был грамотен, охоч до разнообразного чтения, ум имел острый и быстрый, в делах клуба понимал не менее самого хозяина, но наряду со всеми этими достоинствами обладал одним существенным недостатком – любил выражаться витиевато и вносить в свои речи нечто, что он сам именовал нравственной компонентой и причинно выводил от своего происхождения из духовенства.
Будучи приглашен к хозяину (долго искать не пришлось, поскольку стоял под дверью), Иннокентий сообщил, что скандала из ночного происшествия пока не сделалось, потому что все удалось скрыть, а гостям сказали, будто Туманов простудился, и теперь лежит в жару. Во время дневных визитов приходили справиться о нем три дамы, всем трем отказано по причине возможной заразности больного. Карточки с пожеланиями скорейшего выздоровления лежат на подносе в соседней комнате. Встречу с владельцем ткацкой мануфактуры Иннокентий своей волей отложил до понедельника, ссылаясь опять же на внезапную болезнь хозяина. В ресторане, клубе и казино все идет своим чередом. Девочки из шляпной мастерской, которые, конечно, знают правду, все плачут и очень волнуются за здоровье благодетеля.
Обсудили вопрос, кто из недругов Туманова мог организовать ночное нападение. Поскольку Туманов не верил ни в честь, ни в благородство высшего сословия, то даже первостепенных кандидатов вышло столько, что разговор увял сам собой. В полицию решили не обращаться, чтоб не привлекать внимания к девушке, стрелявшей в оборванца. По сведениям Иннокентия Порфирьевича, у которого во всех трущобах были свои люди, раненый пока жив, хотя и очень плох.
– Пошли к нему доктора, – велел Туманов. – Если эта падаль выживет, может, удастся узнать, кто их нанимал.
– Уже послал, – кивнул Иннокентий. – Хотя, даже при сомнительном благоприятном исходе, я не стал бы питать особых надежд. Наверняка тут подставное лицо.
– И кстати, – словно между прочим вспомнил Туманов. – Что с девицей? Дал ты ей денег? Кто она? Расскажи мне.
– Очень милая молодая особа, – сказал Иннокентий, как-то по-особому поджав губы. – Между прочим, из дворян.
– Да ну?! – удивился Туманов. – А я-то ее сперва за горничную принял. И что ж?
– А то, – Иннокентий, видя слабость хозяина, позволил себе назидательно поднять палец, за что в крутую минуту мог бы и схлопотать по шее. – Если кто-то не пудрится и не наряжается, как тропическая птица попугай, то это не значит, что этому человеку не присуща утонченность характера и благородство мыслей и облика.
– Ну, ты загнул фортификацию, – усмехнулся Туманов. – Что ж это означает-то? Не изволишь ли разъяснить? Неужто этот голубой стручок так тебя очаровал, что рискнешь хозяина прогневать?
– Воля ваша, – Иннокентий обиженно поднял реденькие бровки.
– Да ладно, ладно, не обижайся, расскажи толком, – примирительно попросил Туманов. – Кто она? Откуда? Она ж говорила, только я все позабыл… Деньги-то взяла?
– Отказалась, – вздохнул Иннокентий. – Бедная, но гордая. Учительница она в школе. В месяц выходит ей от земства двадцать рублей жалованья. На то и живет. Уроки еще дает, кабацким да кулацким детям.
– А муж, дети?
– Детей нет, мужа, как я понял, тоже. Есть там же, в деревне, жених. Поэт.
– Поэ-эт?! – с презрением протянул Туманов. – Это который стишки плетет, что ли? Вот уж комиссия! Этот, пожалуй, мало того, что семью не прокормит, так еще и на женины деньги жить будет.
– Жених ее, ежели желаете знать, помещик. Именьишко у него имеется, – с удовольствием возразил Иннокентий. – А стишки, как вы изволили выразиться, для чувствительных и тонких натур – существенное вспоможение в жизни могут иметь. Любой барышне тонкое обхождение приятно. Особенно насупротив таких, у которых одна брань на устах…
– Поди! – устало сказал Туманов, подождал, пока Иннокентий выйдет, уронил на подушку большую голову, смежил глаза и тяжело задумался.
ЗАПИСКИ МЕЖДУ ДЕЛОМ, ПИСАННЫЕ РАБОМ БОЖЬИМ ИННОКЕНТИЕМ ПОЖАРОВЫМ.
Сентября 4 дня, четверг.
Если бы не мое умственное расположение, заключающееся в величайшей ответственности и размеренности мысли, вряд ли сумел бы я по порядку описать сегодняшние происшествия. Однако, мой покойный батюшка всегда поучал меня так: ты, Иннокентий, прежде чем сказать или сделать, вдохни медленно десять раз, и соответственно десять раз выдохни. Потом медленно же выпей пять глотков чистой воды. После – приступай. Батюшкиным советом я пользуюсь всю жизнь, и через это большое вспоможение имею, ибо человек я от природы нервический и слабый по конституции, и сила моя именно в упорядоченном размышлении над причинами и следствиями всего происходящего. Только благодаря батюшке и его наставлениям и достиг я нынешнего положения, в котором не нуждаюсь ни в чем, сбережения на черный день имею и матушку с сестрицей имею честь содержать. Мир праху его! Да упокоится душа его с миром!
К угощению в нижнем зале сегодня впервые подавали пулярок в белом вине с шафрановым соусом. Мосье Жак весьма волновался, что, при его послужном списке и всеми признанных достоинствах, выглядело почти комично. Когда, желая успокоить, ему указывали, что волнения его по существу есть пустота, он сердился еще больше и кричал, что русские, пусть даже самого высокого звания и чина, не понимают по настоящему тонких блюд, и рады, если их потчуют кашей с салом и рыжиками. Где-то в его словах, несомненно, прячется истина. Взять хоть меня. Сам я более всего с младых лет люблю клюквенный квас и расстегаи с печенью, и никакие французские тонкости с этим моим пристрастием бороться не сумеют.
Когда начали собираться гости, я не без удовольствия послал Тришку с каретой за барышней Домогатской. Сперва хотел доложиться хозяину, но потом передумал, видя его не в духе постоянно на протяжении последних трех дней. Ну и кто бы был в духе на его месте, имея на своем лице печать разбойного нападения и непрерывное колотье в раненом боку! Потому решил действовать на свой страх и риск, рассчитывая, что хозяин, как и накануне, в залы спускаться не будет, а займется делами у себя в кабинете. «Горячка» его все продолжается и гости (дамы особенно) выражают ему свое сочувствие на все лады. Однако, слухи об истинном происшествии в кругах уже поползли. Препятствовать им нет никакой возможности, ибо воистину сказано: «на чужой роток не накинешь платок».
Барышня приехала все в том же темно-синем платье (есть ли у нее другое на смену?), в пенсне, с блокнотиком для записи, еще более похожа на курсистку. Говорила со мной строго, но мило. Я как раз такое обхождение уважаю, и считаю его единственно приемлемым для обращения высшего сословия с низшим. Ну что за чудо барышня Софья! Глаза прозрачные, как темная вода в парковом пруду, пальцы тонкие, ловкие, голос звучный. Так и видишь, как она наставляет в науках своих учеников. Подумал вдруг, что ведь они, пожалуй, могут и не слушаться, и огорчать ее (чего возьмешь с деревенских-то!), и стало как-то неловко, захотелось оградить ее. Утешил себя расположением, что, когда выйдет она за помещика своего, он ей работать не позволит. А потом и свои детишки пойдут…
До начала большой игры показал ей расположение разных клубных помещений. Изволила удивляться современности обстановки и устройства, долго рассматривала лифт для подъема наверх и спуска продуктов, готовых блюд и другого имущества. Осматривала ватерклозеты (я конфузился, а ей – хоть бы что!), газовые лампионы и разноцветные електрические фонари над парадным съездом. Записала что-то в свой блокнотик, а мне сказала, не скрывая горечи:
– Вот, Иннокентий, глядите: богатые бездельники собираются, чтобы за вечер просадить деньги, на которые можно было бы построить не одну школу или больницу. И здесь же, к их услугам, самые современные и красивые достижения цивилизации! (При этом она кивнула на ватерклозет, а я потупился в смущении). – Вот вы, прислужник капитала, но все равно понимаете меня! – воскликнула Софья, заметив мое смущение, но неправильно его истолковав. – Подумайте, в это время крестьяне, которые кормят всех этих… сидят с лучиной! А вон там, гляньте, бархатные портьеры для создания интимного покоя и уединения для господ! А рабочие, создатели всех этих тканей и технических механизмов, всю жизнь ютятся в бараках с ситцевыми перегородками по двадцать человек в комнате. Справедливо ли это?!
– Может и несправедливо, – вынужден был согласиться я. – Но ведь, помилуйте, всегда так мир был устроен. Есть высшие и низшие, так Богом определено, не нам менять…
– До чего ж вы дремучи, Иннокентий! – барышня даже ножкой изволили топнуть от возмущения. А на щеках такой умилительный румянец проявился, что я, ничтожный, загляделся и следующие слова прослушал. Услышал, когда она про Бога нашего заговорила.
– Вот я атеистка по убеждениям, но и то знаю: Бог проповедовал равенство, всеобщее равенство людей! А все остальное придумали священники и власть имущие, чтоб удобнее было управлять и грабить народ. Понимаете?
Я покорнейше извинился и сказал, что понять и принять таких рассуждениев никак не могу. Софья сразу остыла, захлопнула блокнотик и сказала:
– Вы извините меня тоже, Иннокентий! Вы – человек верующий, сами из семьи служителей церкви. На хлеб зарабатываете здесь, в игорном доме. Вы ни причем, и я не имею права так с вами говорить. Забудемте.
Я еще больше умилился ее смирению (при этом носик-то раздувается и ножка по ковру: топ, топ, топ!). Юна еще, а умна-то не по годам. И вот такая барышня – красивая, умная, дворянка – учит недорослей за 20 рублей в месяц!
Сообщил барышне, что на сегодняшний вечер назначен у нас бал от Купеческого собрания по случаю помолвки дочери купца Рукавишникова. Не без удовольствия разъяснил, что, хотя питерские купцы собственные помещения и особняки имеют, однако наша репутация современного заведения и слухи про европейскую роскошь сподвигли Ивана Саввича Рукавишникова раскошелиться на аренду. Купцы ведь как птицы-сороки – падки на все блестящее.
Софья Павловна обрадовалась, даже в ладоши совершенно по-детски захлопала. И мою хитрость и дипломатию, как я и ожидал, не разгадала. Купеческий бал – времяпрепровождение простое, без затей и тайн. Никаких компроментациев, никаких шуршаний и обсуждений из этого не воспоследует. Примут бородатые-толстопузые на грудь и все – трава не расти. Опять же на помолвке молодые девицы закономерным порядком присутствуют, и кавалеры их также. В этом ряду появление Софьи в ее скромном наряде пройдет незамеченным, и сведений своих она соберет более чем довольно. Все ли ладно? Получалось, что все. Кто ж знал, что из этого выйдет! Воистину говорят: «человек предполагает, а Бог располагает».
Бал начался по предрасположению – в восемь часов пополудни. Статная невеста напоминала праздничный торт от французской кондитерской, жених же на ее фоне терялся в буквальном смысле и все его то и дело звали:
– Егорушка, где ты! Георгий Тимофеевич, пожалуйте! Жорж, ну куда же ты подевался!
Находился он обыкновенно в двух шагах от ищущего.
Иван Саввич Рукавишников смотрелся купцом с журнальной картинки, совал большие пальцы за парчовый жилет, гладил бороду и шумно гордился дочерью. Прочие гости много ели и пили и веселились каждый на свой лад. Музыка играла громкая и пронзительная, по вкусу заказчиков.
Софья сновала где-то по краю зала, поправляла на носу пенсне и не расставалась со своим блокнотиком – все что-то строчила в него. Если кто и замечал ее, то принимал, должно, за чью-то компаньонку-гувернантку или даже за служащую заведения, ведущую учет. Впрочем, в купеческом вкусе ее бледное, серьезное лицо и строгие черты никакого интереса не представляли.
Ближе к полночи передали, что меня зовет хозяин. Я поднялся. Он сидит на кровати, босой, страшный, с бутылкой в руке. На ковре валяется коробочка из-под сардин, разлито масло.
– Веселятся там? – спросил он меня. Я, естественно, подтвердил.
– А вот объясни, Иннокентий, – потребовал хозяин, глядя на меня своим все еще красным глазом. – Отчего бывает так, что вот вчера еще что-то казалось важным до зарезу, так, что вот не выйдет оно и все – пропала жизнь, а потом – р-раз, и нет ничего. И не понять уже, зачем тебе нужно было все это, зачем из кожи лез, глотку драл, продавал душу…
Рассуждения такие я слыхал уже не раз, поэтому ответил по обыкновению:
– Человек, Михаил Михалыч, тем от зверя и отличается, что тенденцию к развитию имеет. Сегодня ему одно нужно, завтра – другое. В этом счастие его великое и возможности покорения всего мира, в этом же – и томление души, неудовлетворенность достигнутым сегодня. Если бы вы, Михаил Михалыч, изволили книги читать, то смогли бы об этих предметах не со мной, невежей, советоваться, а с умнейшими людьми…
– Да не советуюсь я с тобой, остолоп! – закричал хозяин. – Будто не понимаю, что не советчик ты мне! И никто не советчик! И мудрецы эти малахольные! Думаешь, не пробовал я их читать? Пробовал. Сами ничего не знают, а туда же… Душа мается, вот и кричу на весь свет. Водки еще принеси!
– Не надо бы вам водки, – сказал я и отошел на всякий случай к двери. Ливрея на мне парадная, больших денег стоит. Да и лицо тоже… Хоть и не Адонис, а вот с хозяином не сменялся бы…
Однако хозяин бушевать отчего-то не стал. Поговорили мы еще минут десять об умственных материях, и отпустил меня. Я и рад, побежал вниз за делом приглядеть. Знал бы, как обернется, остался бы его ублажать. Водку бы с ним пил, графа Толстого вслух читал, все, что угодно…
Ближе к полуночи застолье, как водится, расстроилось, гости разбрелись по заведению. Кто-то отправился к зеленым столам, кто-то погонять бильярдные шары, молодежь все танцевала, в красной гостиной составились партии в вист. Здесь, каюсь, я упустил барышню Софью из виду и занялся обычными мелочами: куда послать лакея с сигарами, куда – с шампанским, кто-то хочет уж уехать, надобно подать карету и все такое прочее…
Хозяин между тем, как я понял, раздобыл-таки еще водки, выпил и, соскучившись бесцельным и одиноким времяпрепровождением, отправился на поиски приключений. Надо сказать, что современное устройство нашего Дома включает в себя черты истинно средневековые. Например, почти всюду можно добраться по тайным переходам и даже галереям, скрытым от постороннего глаза. Все это, во-первых, облегчает передвижение прислуги, а во-вторых, дает возможность тайного наблюдения за происходящим в клубе. Данные фортификации являются одной из тайн Дома Туманова, и полностью весь план и устройство этих потайных переходов известны, как я понимаю, лишь архитектору, который все это проектировал и строил, да самому хозяину.
Но довольно слов. Нет сил и причины оттягивать далее описание ужасного для меня момента и потому, как абрек в бурную и холодную горную реку, мысленно бросаюсь я в волны несчастья, которое, быть может, проглотит и мою судьбу.
Отпустив Марию с наказом сменить скатерть в ломберной, я, стоя на галерее, спокойно курил и неспешно размышлял о том, что вот, еще одно действие в жизненном театре движется к своему благополучному завершению, и невольно вспоминал слова барышни Софьи о неравенстве классов и несправедливости распределения земных благ. Потом вспомнил о позабытом мною хозяине и решил справиться о том, не нужно ли ему чего-нибудь подать. Впрочем, на тот момент я полагал, что он, накушавшись водки, давно уже пребывает в объятиях Морфея.
Внезапно я услышал какие-то крики, которые время от времени прерывались так, словно кричащему затыкали рот. Мгновенно сориентировавшись, я, ускорив шаг, побежал к покоям хозяина. Все слуги были заняты внизу, да я, по чести, и не хотел, чтоб кто-нибудь был свидетелем. Без стука ворвавшись в комнату, я застал там ужасную картину, разом надорвавшую мне душу. Хозяин сжимал в своих медвежьих объятьях барышню Софью, а она всячески старалась вырваться, по возможности кричала и колотила его кулачками куда попало. Наряд ее и прическа были в совершеннейшем беспорядке. Тяжелый запах перегара висел в воздухе.
– Михал Михалыч, остановитесь! Стыдно вам! – крикнул я, стараясь не смотреть.
Хозяин лишь зарычал в ответ. Тогда я, почти не колеблясь, схватил бронзовый канделябр, и со всего маху опустил его ему на голову. Хозяин тут же повалился, как сноп, барышня Софья – рядом, но тут же вскочила, одернула платье и закричала трагическим шепотом:
– Иннокентий! Вы! Что вы сделали!
– Должно быть, лишился места, – печально ухмыльнулся я, надеясь своей горькой иронией сгладить трагичность и вопиющее неприличие момента.
– Нет! Нет! Нельзя так! – испугалась барышня, и благородство ее разом победило все остальные сопровождающие обстоятельства. – Идите! Идите отсюда скорее! Я всем скажу, что это я его ударила. Он напал, я защищалась. Он ничего не вспомнит потом, он же пьяный совершенно, и по голове… Иннокентий, голубчик, у вас здесь доктор есть? Пришлите его сюда, глядите, у него кровь по лицу… должно быть, швы опять разошлись… Идите, скорее, не бойтесь ничего, я вас не выдам…
– Простите, сударыня, но я не могу позволить вам или кому бы то ни было предать огласке этот совершенно моветонный случай, – сказал я с излишней, быть может, торжественностью. – Я сделал то, что должен был сделать любой порядочный человек, и перед хозяином теперь отвечу как подобает, не уронив лица. Хорош бы я был, прикрываясь вашим благородством и рискуя ради места вашей репутацией… Мои извинения в сем случае неуместны, но знайте, что я отдал бы все, лишь бы предотвратить случившееся, – сам не знаю, откуда во мне взялось все это хладнокровие. – Сейчас вы приведете себя в порядок, и я выведу вас из клуба через черный ход. Не смущайтесь меня, я отвернулся и не вижу вас. Если вам нужна вода, то она вон там, в кувшине на табуретке. Чистое полотенце найдете справа в комоде. Торопитесь!
Барышня Софья послушалась меня и зашуршала сзади, что-то роняя и обо что-то спотыкаясь. Я восхищался ее самообладанием. Другая девица уж билась бы в истерике, обвиняла бы весь белый свет в своих несчастьях и требовала нюхательной соли и врача. Софья тоже требовала врача. Но не для себя, а для хозяина. Я обещал ей позаботиться о нем тот час же, как отправлю ее домой.
Перед самой отправкой произошел курьез: в приоткрытую дверь заглянула девица из шляпниц, объела вытаращенными глазами происходящее, ахнула, зажала ладонью рот и убежала. Вот будет теперь комиссия! Как уговорить ее молчать? Впрочем, я ведь даже не запомнил ее. Все равно не успеть. В этой публике слухи распространяются со скоростью пули…
Софья уехала, я телефонировал доктору Ивану Петровичу (он выслушал мои смутные объяснения и, не удержавшись, пробурчал, что Туманову пора бы уж хоть на время угомониться. Как я с ним согласен!). Теперь вот сижу в одной из хозяйских комнат и пишу свои успокоительные записки. Очнувшийся Михал Михалыч в соседней комнате плачет пьяными слезами. Мимо покоев, шурша словно мыши, шмыгают девицы. Сейчас вот пошлю их утешать хозяина… Что-то будет, как проспится…
Сентября 20 числа, 1889 год от Р. Х.,
Лужский уезд, Санкт-Петербургской губернии, имение Калищи.
Здравствуй, милая моя, драгоценная подруга!
Представляю, сколько хлопот и психологических тягот приносит тебе дружба со мной. Но потерпи, молю тебя! Кроме тебя, у меня нет никого, кому я могла бы доподлинно рассказать о себе. Как и обещала, собравшись с силами, пишу…
Твое письмо получила. Дружеские предостережения трогают мое сердце, но, увы, в сем послании нет ничего, что я сама тысячу раз не сказала бы себе. Дорогая Элен, все еще хуже, чем ты полагаешь. Туманов – животное, в котором страстные порывы соединяются с непонятной мне душевной болью и опустошенностью. Мои чувства по этому поводу самые обескураживающие. Скажи мне: где в жизни прямолинейность романных героинь, которыми мы так восхищались в наши юные годы? Отчего я не Машенька – героиня «Сибирской любви»? Отчего ничуть не похожа на нее и ее прообраз? Порядок событий таков:
Он встретил меня на купеческом балу, когда празднество достигло разгара, и уставился так, словно я – видение, явившееся ему в холерном бреду. Я, не останавливаясь, делала записи (приложением к письму посылаю тебе копию) и видела уже главу из нового романа, посему до поры не замечала ни его самого, ни его дикого взгляда. Что он делал до того, и откуда явился, могу лишь предположить. При этом с самого начала он был изрядно пьян, и этим можно объяснить многое из последующего.
Однако, когда я все же заметила его, он обратился ко мне вполне авантажно, и весьма сдержанно высказал свое удивление моим появлением в его заведении (из чего неопровержимо явствовало, что Иннокентий Порфирьевич действовал на свой страх и риск). Не видя другого выхода, я объяснила все не душевным расположением Иннокентия (боясь повредить ему в глазах хозяина), а собственным нахальством, и, принужденно смеясь, рассказала, как вместо денег за спасение Туманова потребовала материал для моей литературной работы. Туманов видимо заинтересовался моей литературной деятельностью, стал расспрашивать подробно, что именно я пишу, и печатались ли где-нибудь мои стихи (Бог весть, отчего он решил, что я пишу стихи). При том видно было, что он подсмеивается надо мной (вполне, впрочем, добродушно) и не верит, что девица вроде меня может написать хоть что-то стоящее. Я отговаривалась какими-то незначащими фразами, а он смеялся и говорил (мне показалось, с чужого голоса), что все издатели фактические канальи, и совершенно не ценят настоящих талантов. Потом взял меня за руку и проникновенно заявил, что как-то раздумывал о покупке собственной типографии, и теперь, когда познакомился со мной, пожалуй, купит ее и издаст все мои произведения на веленевой бумаге. Я, наконец, почувствовала себя оскорбленной его мужским высокомерием и заявила, что 1) несмотря на крайнюю польщенность его предложением, я, как автор, в его услугах не нуждаюсь, 2) мой первый роман имел уже серьезный успех в столице и в Москве, 3) для следующего романа я прямо сейчас могу выбирать из трех издательств.
Милая Элен! Я понимаю, что похвальба вообще непростительна, а для меня и нехарактерна, но уж очень он канителился своим… Даже не знаю, как сказать, но ты меня, наверное, понимаешь…
В ответ Туманов рассмеялся пуще прежнего, шутовски поклонился и спросил, как называется мой роман, потому что ему, дескать, не терпится его прочесть. Я вспомнила твое письмо и отчего-то повела себя с отменною бестактностью, а именно спросила: «А вы, милостивый государь, и читать умеете?»
Лицо Туманова тут же страшно изменилось. И до той поры назвать его привлекательным нельзя было (опухоль на месте наложенных швов, полопавшиеся сосуды в обоих глазах, да и природные его черты изяществом отнюдь не отличаются), но как-то все это оживлялось улыбкой и лукавым каким-то блеском. А после моих слов словно помертвело все. Отвернувшись, он подозвал проходившего мимо лакея, взял с подноса в обе руки стаканы с вином и выпил подряд, как воду, залпом, явно не ощущая вкуса. Потом сквозь знакомое уже лицо проглянуло нечто нестерпимо уродливое и подлое и сказало:
– Брезгуете, значитца, Софья Павловна? А еще учителка называетесь! А мы-то к вам со всевозможным почтеньицем… А нам, значитца: знай свое место, свиное рыло…
В этом намеренно простонародном говоре и тоне, во внезапном переходе с «ты» на «вы» (с первого мига нашего знакомства он говорил мне «ты» и «Софья»), в дурацком самоуничижении этого большого и, несомненно, сильного человека было что-то столь невозможно ужасное, что у меня слезы выступили на глазах. Я перемоглась, но поняла, что должна как-то поправить ситуацию.
– Простите, Михаил Михайлович! – твердо произнесла я. – Я сказала, не подумавши. Очень меня ваш смех задел, что меня, однако, не извиняет. Я, верите ли, серьезно отношусь к своей литературной деятельности, и ваша насмешка…
– Ладно, Софья, будет! – сказал он и отвернулся.
Я видела, как Туманов перебарывал свою обиду. Сжимая огромные кулаки, он видимо загонял ее внутрь, волей стирал с лица жуткую маску. Признаюсь, это меня впечатлило. Но отчего ж он такой чувствительный? Что ему, миллионщику и победителю сотни светских львиц (так ты мне писала?), мнение какой-то сельской учительницы? Или я поневоле наступила именно на больную мозоль?
Далее мы говорили вполне по-светски. Туманов оказался весьма занятным собеседником, умно и язвительно давал характеристики многим чинам и прослойкам современного общества, рассказывал байки из жизни разных народов (насколько я сумела понять, он много путешествовал. Когда?). Я попросила разрешения кое-что записать. Он недовольно нахмурился, но не возразил. Я чувствовала бы себя с ним совсем легко и свободно, если бы не одно но: он все тяжелел и не пропускал ни одного проходящего мимо лакея с напитками. Признаюсь, меня даже исследовательское любопытство разобрало: как он может столько пить, и после этого еще на ногах стоять и со мной разговаривать?
В контексте беседы Туманов предложил мне посмотреть какого-то алтайского идола, скрывающегося в его покоях. Я, увлеченная его рассказом, и испытывая к нему доверие (совершенно непонятно откуда взявшееся и чем навеянное), согласилась. Сразу же в гостиной он остановился у инкрустированного стола и с Мефистофельской улыбкой спросил:
– Ты что ж, Софья, совсем не боишься меня?
– А почему я должна вас бояться? – поинтересовалась я.
Вместо ответа он достал откуда-то бутылку с мутной жидкостью и отхлебнул прямо из горлышка. Меня передернуло, и тут только я впервые подумала о неуместности и неприличности всей ситуации. Я в комнате почти незнакомого мужчины, наедине с ним, мужчина пьян… Почему умные мысли приходят в мою голову слишком поздно?
Туманов закусил выпивку дешевым серым печеньем и, ухмыляясь, предложил угощение мне. Печенье лежало на сервизной тарелке китайского фарфора, изготовлено было на соде и пахло мылом. Я отказалась.
– Что? – медленно, словно ворочая камни, спросил он. – Вкусы у меня… не того… не аристократические… Н-да?
– При чем тут аристократия?! – рассердилась я. – Пить вам не надо – вот что!
– Не надо, – охотно согласился он. – А я вот пью… И еще выпью…
Я, словно уговаривая его (или себя?), начала поспешно говорить о том, что видела при посредстве Иннокентия в его клубе, восхищалась техническими новшествами и как бы между делом обмолвилась, что ничего опасного для себя покамест не наблюла. Его как-то еще больше перекосило и следующие слова он почти прорычал:
– В этом доме тебе, Софья, следует бояться только одного жизненного явления – меня!
Я дрожащим голосом осведомилась, в каком же то смысле понимать. Вместо ответа он сгреб меня в охапку и попытался поцеловать.
Я попыталась отпихнуть его и вырваться, но, кажется, с равным успехом могла бы толкать паровоз. Постаралась поймать его взгляд, надеясь, что, прочтя в душе моей, он очнется и устыдится своих действий. Но на изуродованном лице его читалась лишь дикость и не страсть даже, а какой-то бесшабашный ужас, словно он играл в русскую рулетку, и заряженный пистолет уж холодил его висок. Я попыталась позвать на помощь, но он зажал мне рот широкой ладонью. От страха и злости (на себя, Элен, на себя – кто же еще виноват в моем нынешнем и тогдашнем ужасном положении?!) я уж была готова зарыдать, упасть в обморок, словом, сотворить что-нибудь сугубо женское, но тут помощь пришла и мой мучитель внезапно рухнул на ковер, увлекая меня за собой.
Спасителем моим оказался Иннокентий Порфирьевич. С неожиданной для меня решительностью и отвагой этот небольшой человечек огрел огромного Туманова канделябром, и в дальнейших событиях и разговоре проявил необычную, совершенно не лакейскую тактичность.
Вскоре я была уж дома, и лишь в своей комнате позволила себе распуститься окончательно. Хозяйка стучалась в дверь, изображая обо мне тревогу (но, испытывая, конечно, лишь праздное любопытство, ибо видела карету, на которой я уехала), я довольно невежливо отговорилась меланхолией и нежеланием видеть и говорить.
Таковы без утайки мои действительные обстоятельства, а коли говорить о чувствах, то здесь наблюдается такой разброд, что даже для тебя я, боюсь, не сумею разложить их и пронумеровать по порядку, как ингредиенты в аптечных сигнатурах. Во-первых и в основных (хочу, чтобы ты знала размеры вражеской рати, с которой предстоит сражаться), я отчего-то совершенно не злюсь на Туманова. Второе: отношения мои с Петром Николаевичем, до сих пор ясные и прозрачные, странно запутались и усложнились. Я, как ты знаешь, и раньше колебалась относительно собственных чувств к этому человеку, но сейчас уж и вовсе не знаю, как себя держать и что говорить. Все вокруг говорят мне, что дальнейшая неопределенность неприлична, и в мои годы и при моем положении надобно решаться на что-то, но я не могу не только решиться, но даже сосредоточить на этом свой ум. Стоит мне строго сказать себе: сядь вот здесь и подумай о… – как мысли сразу же начинают шаловливо разбегаться и концентрируются на каких-то совершенно посторонних, комичных, или откровенно глупых предметах. Маменька и Анюта, естественно, шипят, как две летние гадюки, которым наступили на хвосты, Модест Алексеевич при случае ведет со мной (с подачи жены и тещи) душеспасительные беседы, полные бессмысленного глубокомыслия; Гриша (он приехал в Гостицы на несколько дней) велит мне поступать так, как подсказывает душа и совесть. А душа моя, к сожалению, притихла и молчит, словно ее и нет вовсе.
Засим остаюсь преданная тебе и деткам
Софи Домогатская
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПИСЬМУ.
Записки о купеческом бале.
Петербургское купечество раскошелилось и закатило пир во весь мир. Съехались отовсюду: и с Калашниковской пристани, и из-за Нарвской заставы, и с Охты. Папаши блистали таким сознанием своего достоинства, что у клубных лакеев на целый аршин стали длиннее руки для получения на чай; мамаши держали себя на европейский лад, пили только оршад, и строго настрого запретили сынкам и дочкам говорить во время кадрили о том, что оне усиживают за один присест по двух-ведерному самовару, а прелестные купеческие дочери щеголяли друг перед другом крупными бриллиантами, самоцветными камнями и жемчугами. Все, что копили бабушки еще во времена «француза», все выплыло на Божий свет и было надето на внучек. Туалеты были бесподобны. Роскошь – уму непостижимая и танцы – превеселые. Барышни млели в полном смысле этого слова; да и как было не сомлеть: ловкий стройный офицер с дьявольски закрученными усами подхватит за талию, понесется и закружит, закружит… В глазах мелькают огоньки, сдобная грудь так и пышет огнем, а он анафемски пощелкивает шпорами. Не одна купеческая дочь не спала после этого бала целую ночь, и не одна бредила и грезила шпорами и усами. Старухи-няньки спрыскивали с уголька, шептали разные заговоры и ходили к маменькам с докладом, что бедную барышню сглазили. Маменьки крестили дочерей, поправляли им подушки, всячески баюкали, но…
- Не властна человека сила
- Когда любви стрела пронзила…
Не смотря на веселье, коммерциею все-таки пахло сильно, особенно за зелеными столами. Между большим и малым шлемом перекидывались словца о ярмарке, говорилось об овсе, о несостоятельности и векселях. Кому-то «с нашим удовольствием» был открыт кредит потому, что он «по совести» расплатился полтинником за рубль; купца с Петербургской стороны отчитали за либерализм и за то, что он стоит за воскресные отдыхи приказчиков, купца с Выборгской хвалили за то, что он сумел разсовать своим должникам из провинции залежавшийся товар. Не были забыты и кучера. Шел разговор о Мишках и Микешках, которые «по нашей климате» упорно не полнеют и не приобретают лоснящиеся физиономии, несмотря на пуды рыбьего жира, вливаемого в их утробы. – «Чуть-чуть пополнеет, начнет маленько вокруг себя проявляться, а там опять на износ пошел. Хоть совсем не сажай на козлы. Никакой в нем видимости телесной нет!» –
Купчихи, блестя кружевами и бриллиантами, передавали под звуки вальса одна другой под строжайшим секретом последние «видения», которые сообщила юродивая, праведная Анфисушка, и толковали о красивом дьяконе Константине, с которым приключилось горе: вышел читать басом, а поперхнулся и запел тенором. Говорили об огурцах, о женихах и о полуде медной кострюли. Сны толковались так, что все «оракулы» испугались, почувствовали свою ненадобность и подали в отставку.
Туманов заметил ее сразу, и ощущение было сродни тому, как, слезши с полка в парной, плеснуть в лицо и в грудь холодной водой. Что она здесь? Почему он не знает? Впрочем, тут же догадался: Иннокентий! Не зря нахваливал «милую барышню Софью», решил в знак симпатии поспособствовать… Но чему? Что делать ей на купеческом балу, среди бриллиантов и золотых цепей толщиной в руку, в пенсне и синем платье, лишенном всяческих вывертов?
На лице девушки читалось напряжение и благородный гон некорыстной охотничьей собаки. В руках она вертела красный блокнотик, в который только что кончила записывать. О чем? Туманов насторожился. Купеческий бал – дело безобидное, но лишние слухи о клубе ему ни к чему. И так «доброжелателей» хватает. Туманов машинально потер перетянутый бинтами бок, коснулся указательным пальцем распухшего лица. Может, она в газетки прописывает, подрабатывает копейку к скудному учительскому заработку?
Какое-то время колебался, хотел оставить как есть. Что ему к ней? Он пьян, безобразен, от сочетания водки и утреннего опия, прописанного доктором, в голове словно вата набита, а временами находит бред: из живых людей выходят полупрозрачные двойники и медленно улетают в неизвестном направлении.
Потом сказал себе, что должен выяснить про блокнотик, неуверенно шагнул навстречу. Девушка подалась к нему; отшатнулась, не то увидев распухшее вокруг шрама лицо, кровавые белки, не то ощутив водочный запах; справилась с собой, надела на лицо вежливую маску: как никак он – здешний хозяин. Все эти ее колебания, которые он читал легче, чем в книге (книги он читал с трудом), отозвались болью в боку и выше. Словно увидел себя ее глазами: неуклюжего, уродливого, неряшливо одетого и дурно пахнущего к тому же. Захотелось враз уйти, но это смотрелось бы уже странно, и, пожалуй, еще больше смутило бы ее.
Разговор завязался неожиданно легко. Ничего скрывать Софья не хотела, сразу рассказала, что собирает материал про жизнь разных слоев общества. Оттого и в трущобах тогда оказалась, в тот, критический для Туманова день. Зачем ей это? Для литературной работы. Туманов представил, как в своей деревне она сидит за столом. За окном шумит скучный осенний дождь, царапают об крышу ветки. Софья обмакивает перо в чернила, смотрит сначала на огонек лампы, потом – на потолок, на чистый, сливочный в сумерках лист, наконец, кивает сама себе и выводит четким учительским подчерком: «Петербургские типы».
– А про меня напишешь?
– Отчего же не написать? Вы – весьма колоритная фигура. Может быть, сделаю вас одним из героев романа.
– Так ты роман пишешь?
– Да. Вас удивляет это?
– Если честно, то да. Впрочем… нет, не очень. Я, кажется, понимаю. В деревне скучно, вечера длинные, темные. Ученики бестолочи. А здесь, в романе…Балы, приемы… Он встречает ее, она его… Она в декольте, он во фраке. Любовь-морковь. Конечно, почему нет? Только причем тут трущобы?
– Я хочу написать социальный роман. Вся петербургская жизнь построена на контрастах. Богатые и нищие, высочайшая образованность и дикая темнота, благородство и полное разрушение нравственности…И все это вовсе недалеко друг от друга…
– Совсем близко. Совсем, Софья. Я думаю, прямо в одном человеке поместится.
– Вы так полагаете? Мне трудно понять. Как так может быть? Так он богат или беден? Возможно, вы о себе говорите? В вас… в вас есть это… Ваша речь… Вы то говорите как вполне светский человек, то ругаетесь как, простите, ломовой извозчик…
– Да, я такой. А что ж ты хочешь своим романом? Чтоб богатые устыдились и раздали свое богатство? Чтоб неграмотные образовались? Да ведь они и прочесть не сумеют…
– Вы, конечно, старше, Михаил Михайлович, и в чем-то опытнее меня. Но, предупреждаю сразу: не стоит считать меня глупенькой, сентиментальной барышней. Увольте: я тоже кое-что повидала и все, что мне еще надо, увижу. Я ничего специального не хочу и не думаю, что, прочитав мой роман, люди моментально изменятся. Но это ж миссия пишущих людей, миссия литературы вообще – нести в массы не только образы, но и идеи… Возьмите Островского, Достоевского, Толстого, наконец…
– Так у тебя, значит, есть идеи?
– Отчего ж у меня их не может быть? Оттого, что мне мало лет? Оттого, что я – женщина?
– Женщина… Женщина… Когда замуж-то пойдешь за своего поэта?
– Откуда вы?… Ах, да, Иннокентий Порфирьевич… А еще говорят, что женщины сплетницы… Это, впрочем, не ваше все дело…
– Известно, не мое. А роман твой с идеями – это хорошо. Ты пиши. Я его сам издам. Закажу так, чтоб переплет богатый и бумага хорошая. Или издательство с типографией куплю. Мне уж предлагали. Хочешь с картинками? Я сам с картинками люблю, так понятнее. Картинки закажем у кого получше, я справлюсь у знающего человека, кто там из художников считается. Хорошо будет, красиво… Чего ты хмуришься? Я ж должник твой. За тот раз. Туманов долгов не прощает, но и сам в долгу быть не любит, у меня от этого нрав портится. Иннокентий сказал мне, что ты денег не взяла. Гордость… Я это понимаю, сам гордый… бываю иногда… Вот так… Договорились, что ли?
К удивлению Туманова, Софья, вместо того чтоб растаять в благодарном удивлении, гневно раздула ноздри и топнула ногой:
– Если вы мужчина и миллионщик, то не следует вам так уж много о себе понимать! Если хотите знать…
За следующие полчаса успели поссориться и опять помириться. Туманов, волей одолевая наползающую дурноту, и то и дело собирая в кучку мысли (они норовили расползтись, как намыленные), рассказывал, сам удивляясь, что может еще вспоминать и связно говорить.
«Надобно мне сейчас уйти и лечь, – думал он. – Как же ее оставить? А что ж с ней будет? Попишет еще в свой блокнотик, Иннокентий присмотрит, потом карету даст. Приехала же она сюда по сговору с ним… К-как он посмел? Так ведь хорошо же, поговорили, познакомились. Надо ж как… Девушка, и романы пишет. А если не врет, то и с успехом… Надо будет прочесть…Почему она сказала, что я мужчина и поэтому не должен… Что не должен? Спросить у нее… Нет, нельзя…»
– А духи они, должно быть, используют плошками, не меньше… – с улыбкой рассказывала Софья о своих бальных наблюдениях. – В ином случае и не поймешь, что за запах – цветы, фрукты, ваниль – все вместе… От невесты так розаном пахнет, что словно вымачивали ее…
– Это не розы, – сказал Туманов. – Это спермацет. Дорогая вещь, промежду прочим. Они им не то волосы мажут, не то корсеты. Но запах где хочешь узнаю.
– Спермацет – я слышала, но не знала. Что ж это, вы знаете?
– Когда убивают китов, у них в черепе по бокам есть такие полости, вроде маленьких горшочков. Вот, оттуда этот спермацет и берут. Его мало, потому дорого. Он вроде жира, только прозрачный и розой пахнет…
– Бр-р… как неприятно… Я бы не стала… А откуда вам известно?
– Я… у меня знакомец на китобойном судне плавал, матросом… Он рассказал… («И дал понюхать,» – мысленно усмехнулась Софи)… Китов не надо теперь убивать, я так думаю. Корсетов теперь можно не носить, лампы керосиновые, светильники электрические в силу входят, а мясо – что ж… можно обойтись…
– Почему ж не убивать китов? Чем они, к примеру, лучше коров?
– Коров для того разводят. А киты… не знаю, как тебе объяснить… они очень большие, могучие, умные… ты, если не видала, даже представить себе не можешь… В них так много жизни, что даже страшно смотреть. А когда их убивают, получается… очень много смерти. Понимаешь?
– Может быть… – Софи с сомнением покачала головой. – Вы странный все-таки, Михаил Михайлович…
– Зови Михаилом. Выговорить проще. Ты ведь дворянка, да? Меня дворяне Мишелем зовут, но мне не нравится… на «кошель» похоже. Я странный. Тебе мои рассказы… речь у меня необразованная, это – да…
– Образованные так много пустого говорят, – спокойно возразила Софи, пожав плечами. – А вы, когда не ругаетесь, говорите интересно.
Туманов поклонился, с трудом удержав равновесие. В устах знакомых ему девушек и женщин «из общества» последняя фраза прозвучала бы кокетством. Софи же лишь называла очевидный для нее факт.
– Я тебе еще много расскажу… – пообещал он. – Интересного…
– Спасибо. А только для чего вы столько пьете?
– Не знаю. Натура, должно быть, такая. Я б трезвый с тобой разговаривать не стал.
– Отчего же? Я слышала, вы с женщинами не робеете…
– А! Слышала уже? Рассказали, добрые души? Это к лучшему…
– Почему к лучшему?
Туманов не обратил на вопрос Софи внимания, весь поглощенный какою-то своею мыслью.
– И что ж? Ты, про меня наслушавшись, не боишься совсем?
– Чего ж мне бояться? Неужто вы страшнее, чем те, в слободе?
– Я! Для тебя! Страшнее! – почти выкрикнул Туманов и хотел, очень хотел добавить. – Уходи! Уходи теперь отсюда. Скорее!
Не смог. Язык не повернулся. Дальше руки действовали отдельно от мозга, в котором билась паническая мысль:
«Чего ж я, мерзавец, делаю-то?!»
Никакого удовольствия или хоть чего похожего, не было. Тьму, наступившую после удара Иннокентия, Туманов принял как избавление от кошмара.
Глава 3
В которой Гриша и Софи Домогатские знакомятся с падшей женщиной Лаурой, горничная Лиза рассуждает о любви, а Михаил Туманов посещает гадательный салон своей давней подруги
В любое время года Лужский край с его высокими холмами, песчаными грядами, перелесками, рощами, долинами, крутобережьем многочисленных рек и озер очаровывает своей живописностью. Полужье заселялось славянами еще с VI века от Рождества Христова, чему свидетельством многочисленные памятники древности – городища, селища, сопки, курганы, могильники, жальники. Однако, главный город уезда – Луга, основан был по указу «сверху». В 1777 году Екатерина П, проезжая Полужьем, и вдохновившись, должно быть, красотой и богатством здешних мест, повелела: «На реке Луге учредить новый город, близ урочища, где река Врёвка в Лугу впадает, наименовав его городом Луга». С 1802 года числится Луга уездным центром, но еще в середине XIX века путешественники отмечали: «Луга вовсе не похожа на город, это просто небогатое село, в котором, кроме собора, нет другой церкви и ни одного красивого дома». Так и посейчас.
Все помещики этого края испокон веку были, что называется, «средней руки», сидели на 200–400 десятинах и у кого насчитывалось больше, считались богачами. Среди владельцев почти не встречалось титулованных особ, в основном то были представители небогатого дворянства, которые, тем не менее, во все года изрядно послужили России в самых разных областях и землях, находясь в чинах прапорщиков, поручиков, секунд-майоров, редко полковников.
Военное поприще в то время представлялось настолько естественным для дворянина, что отсутствие этой черты в биографии должно было иметь какое-то специальное объяснение. Впрочем, после появления «Манифеста о вольности дворян», изданного Петром III 18 февраля 1762 года, многие дворяне, дослужившись до определенного чина, уходили в отставку и удалялись в деревни, где жизнь была спокойнее и дешевле.
Все эти исторические сведения невольно вспоминались Софи во время ее затянувшейся одинокой прогулки по берегу Череменецкого озера. При этом девушка ясно отдавала себе отчет в том, что исторические ретроспективы служили лишь ширмой и отвлечением от мыслей действительных, которые прятались глубоко в сознании и пугали ее своей неопределенностью и какой-то неясной угрозой для ее размеренной, устоявшейся жизни.
Живописные картины открывающихся видов на Череменецкий Иоанно-Богословский мужской монастырь, выстроенный на маленьком островке по приказу Ивана Ш, и богатую мызу Вал с ее радиальными аллеями и террасами, радовали взор Софи и несколько утишали мятежную душу. Предвечерний свет и осенняя утомленная предрасположенность природы также оказывали свое действие.
Село Калищи с двумя почти слившимися с ним деревнями Неплюевкой и Дубровкой, скрывалось в слегка расплывшейся акварели пейзажа, и лишь голубые купола Петропавловской церкви, да зеленая крыша недавно выстроенной школы проглядывали в кронах деревьев, еще пышных, хотя и тронутых уже осенней ржавчиной. Темнело по-осеннему быстро, на небе уж появилась краюшка луны, отчего-то напомнившая Софи светлую детскую пяточку. Первая звезда отразилась в залитой водой колее разбитой дороги. Софи оторвалась от созерцания вечерних картин и ускорила шаги, торопясь вернуться до темноты. Не слишком многолюдное село уже тонуло в тумане и безмолвии. На лавке возле своего дома сидел сапожник Рувим в черной ермолке и держал в руках маленький сапожок, по виду женский или детский. Работы Рувим не делал, а все время, что Софи шла по улице, зачарованно глядел на луну. При этом пел себе под нос какую-то песню, из которой Софи на подходе слышалось лишь «Цззсы… Цззса…». Увидев Софи, Рувим прервал свое птичье пение, привстал, молча поклонился, не снимая ермолки. Софи показалось, что сапожник хотел что-то сказать ей, но удержал себя. Кивнув ему, девушка прошла дальше, потом отчего-то обернулась. Ей казалось, что все это – озеро, дорогу, пяточку луны, сапожника – видит она в первый раз, а до этого не видела вовсе. И все казалось отдельным (раньше она не отделяла того же Рувима от придорожной столетней липы) и исполненным какого-то особого, нового смысла.
Рувим отложил сапожок, достал из кармана луковицу, показавшуюся Софи огромной, черную краюху хлеба и стал сапожным ножом чистить луковицу. Софи, словно окаменев, наблюдала. Очищенная луковица в свете луны казалась ярко-серебряной и законченно красивой. Рувим полюбовался ею, посолил из кармана, а потом смачно откусил, заев горбушкой. Положил все на лавку, выставил кадык и, уставившись на небо, снова затянул свое: «Цззсы… Цзсса…». Софи встряхнулась, словно разбуженная собака, потерла кулачками скулы и заспешила домой.
Софи любила свой маленький домик, выстроенный неподалеку от школы и одновременно с ней, крытый такой же веселой зеленой крышей. Несмотря на пять прошедших лет, в жаркие вечера от стен школы и домика еще пахло смолой и свежим деревом. Илья Самсонович Андреев, лужский помещик, по проекту и на деньги которого была выстроена школа, знал Софи с детства, благоволил ей и, учитывая размер земского учительского жалованья и отношения Софи с родными, подкидывал ей, смотря по сезону, то дров, то мешок картошки или муки, то ведро яблок или лукошко клубники. Несмотря на вольнодумство, суфражистские взгляды и гордяцкую репутацию, Софи подношения от Ильи Самсоновича принимала легко и с благодарностью, так как благородная душа, деловая сметка, активность в делах благотворительности и неподкупная честность одинокого вдового старика были широко известны в уезде и симпатичны ей с детских лет (в те времена Илья Самсонович сначала заседал в суде, а потом был избран предводителем уездного дворянства).
Издалека увидав возле своего домика маленькую карету-«эгоистку» с высокими колесами, Софи в первую очередь подумала об Илье Самсоновиче, но, приблизившись, поняла, что изящный экипаж, не лишенный щегольства, принадлежит кому-то чужому. На козлах дремал крупный молодой парень с гладкими щеками, даже не пошевелившийся при появлении Софи. Вороная кобыла рысистой породы повела в ее сторону лиловым глазом, на ее блестящем крупе, словно присевшая бабочка, застыл лимонно желтый кленовый листок. Софи огляделась в поисках гостя и сразу же заметила вблизи крыльца маленькую фигурку, кутавшуюся в темно-синий салоп. Незнакомая девушка вышагивала вдоль фасада, то и дело попадая в лужи, но явно не замечая этого, нервно поводила руками, словно споря с кем-то, и ломала пальцы. Софи вздохнула и мысленно простилась с тихим одиноким вечером, проведенном с книгой в любимом кресле.
– Не меня ли вы ждете? – осведомилась она у девушки.
Та подпрыгнула, словно ее ткнули в бок чем-то острым, хрустнули пальцы, блеснули во тьме влажные глаза и русый локон, выбившийся из прически.
– Я… вы так бесшумно… извольте… простите… без приглашения…я даже напугалась…
– Я хожу без шума – я знаю, – согласилась Софи. – Это с детства. Вы играли в индейцев? Нет? Я играла с братьями. Нужно ступать особым образом, с носка на пятку, и глядеть, куда ставишь ногу. Это привычка, как научишься, потом уж не надо следить. Пройдемте в дом, – Софи еще раз вздохнула. – Там и поговорим. Я – Софи Домогатская. А вам, милая, кого надобно?
– Вас, как раз вас мне и надобно, – успокоенная размеренным голосом Софи, девушка слегка расслабилась. – Софья Павловна Домогатская. Меня селяне послали к школе, сказали, вы здесь. Я уж жду, жду, думала, вы в гостях или еще где… А мне еще ехать…
– Что ж у вас за дело ко мне? Как мне вас называть?
Сняв салоп и присев на краешек стула, девушка казалась еще меньше. Ее хрупкость виделась не совсем здоровой, а огромные глаза портили коричневые, слегка набухшие подглазья. На вид ей нельзя было дать больше четырнадцати-пятнадцати лет. Резвость, естественно присущая этому возрасту, подменялась у нее откровенной нервичностью и издерганностью чувств. Когда часы на стене в гостиной начали бить, она вскрикнула и тут же зажала рот узкой ладошкой с простеньким серебряным колечком на среднем пальце.
– Меня зовут Лаура…
– Вот как? – соболиные брови Софи удивленно приподнялись, а девушка тут же смешалась.
– То есть на самом деле я Аграфена, Груша по-домашнему. Аграфена Воробьева. Позвольте… То есть, я хотела сказать, вы можете меня Грушей звать…
– Хорошо, Грушенька, так и договоримся. Вы, в свою очередь, можете называть меня Софи. Что же вас привело к моему крыльцу в столь поздний час? Куда вы вообще направляетесь?
– Я направляюсь в Лугу, – послушно, словно отвечая урок, сказала Грушенька. – У меня там маменька-вдова и двое братиков проживают. В собственном доме, – зачем-то добавила она и громко глотнула, так, что по узкой бледной шее прокатился комок.
– Может быть, чаю? – сообразила Софи. – Вы ведь ехали по холоду и здесь ждали. Погода нынче осенняя, промозглая… Не возражайте. Сидите. Я сейчас попрошу Ольгу, она самовар поставит. У меня маковые крендельки есть…
После второго стакана Грушенька согрелась, зарумянилась, с каким-то зверушечьим удовольствием трескала крендельки, и смотрела на Софи уж не с испугом, а с какой-то недетской грустью.
– Что ж мне вам сказать? – молвила она и сунула руку куда-то в складки странноватого покроя платья, доставая оттуда измятое письмо. – Вот вы такая милая, внимательная к незнакомой девице, чаем меня поите… И дом у вас такой чистый, милый, спокойный… Вы ведь учительница в школе, да? Как бы я хотела… Да что говорить! А я ведь, пожалуй, расстрою вас… Смущение чувств уж точно… Нехорошо это выходит. Я вот понимаю, а делать нечего. Письмо у меня для вас. От Михаила Михайловича Туманова. Велел передать в собственные руки. Вот, передаю… А только не надо бы вам…
– Спасибо, Грушенька, – прервала ее Софи, забирая письмо и не желая слушать дальнейшее. – Я сама решу, что мне с этим письмом делать… А кем же вам-то Туманов приходится, что посылает курьером?… Кстати, кучеру бы вашему чаю… Я Оле скажу…
– Не трудитесь, только сконфузите их… Пусть так, лучше, право… Мартын, он глухой. И не говорит почти. Речь по губам понимает, но у знакомых больше… Оставьте его, не смущайте…
– Ну что ж, вам виднее. А только как же глухой – кучером? Странно это. Впрочем, что мне? Что ж с Тумановым?
– Хозяин он мне, кто ж еще… Я же в Доме Туманова, в клубе… ну… в общем работаю… Это он как любезность попросил… и конфидент… чтоб не знали… Я молчаливая очень, не как другие девушки. У меня маменька в Луге. Я к ним часто езжу, подарки вожу, деньги, это все знают… Вот он и попросил меня… Это дурно, что я к вам приехала? Это вам… стыдно?… От такой, как я…
– Помилуйте, Грушенька, о чем вы? Я вас даже не очень понимаю. Почему стыдно передать письмо? Что в нем такого? Туманов что, давал вам его читать?
– Нет! Конечно, нет! Что вы! Как вы могли подумать! – девушка сделала руками такой жест, словно отгоняла крупную птицу, и едва не смахнула чашку. – Я не об этом вовсе!
– А о чем же?
Грушенька насупилась, поломала тонкие пальчики (Софи перекосило – она совершенно не выносила хруста, сопровождающего этот нервический жест) и сказала с угрюмой агрессией:
– О том, что вам должно быть неблагородно чаи распивать с падшей женщиной!
Несколько мгновений Софи размышляла, пытаясь переварить и связать между собой полученные сведения, потом осторожно улыбнулась. Внутри у нее, впрочем, все клокотало от злобы. Туманов оказался еще хуже, чем она могла подумать. Следовало внимательнее прислушиваться к словам мудрой Элен. Появилось желание немедленно кинуть в печку непрочитанное письмо. Софи удержала себя от детской экзальтации. Хватит здесь Лауры-Грушеньки. Как же она не догадалась сразу? Малолетние девочки, обслуживающие богатых клиентов заведения, столь падких на всякие пикантные развлечения… Интересно, пользовался ли сам Туманов ее услугами? Наверное, да, раз она заслужила его доверие.
– Это вы падшая женщина, Грушенька? – на всякий случай уточнила Софи. Девушка кивнула все с тем же упрямо-яростным выражением на лице.
– Сколько же вам лет?
– Семнадцать. Вы думали меньше, я знаю. Все так думают. Доктор говорил, надо было есть больше, когда росла. Теперь уж я не расту, поздно…
– Это ничего, – утешила Грушу Софи, соображая, что ж сказать дальше. – Миниатюрные барышни многим мужчинам нравятся… – тут же поняла, что получилась ужасная двусмысленность, и жар заиграл на щеках, не от самовара и чая, а от смущения.
Грушенька, впрочем, отчего-то не смутилась, а приняла комплимент, даже улыбнулась застенчиво и кривовато. – «Видать, сама свою худосочность и юный вид почитает за недостаток, – догадалась Софи. – Полагает, что это мешает в… «работе»».
Разговор иссяк сам собой, и именно в эту минуту за окном послышался топот копыт, потом короткий разговор, визг и хихиканье Оли в сенях, стук сапог с подковками по деревянному полу. Вслед за тем в гостиную вошел румяный молодой человек, с большим чистым лбом и слегка слабой для такого лба нижней частью лица. Сходство его с Софи бросалось в глаза. Входя и протягивая к сестре руки, он уже говорил:
– Здравствуй, нехорошая, гадкая Сонька! Приехал из Петербурга специально, чтоб тебя видеть, говорить с тобой, мне столько надо рассказать тебе, а ты и носа не кажешь. Что ж мне? Слушать Модеста про его пасеки, паровые котлы, регулярные сады и прочие благоустройства? Он зануда…
– Здравствуй, Гриша! – Софи сердечно обняла и расцеловала брата. – Я тоже рада тебя видеть. Касательно Модеста Алексеевича, хотела бы тебе напомнить, что все вы живете на его деньги, в том числе и на доход с имения, который он в меру своих сил стремится увеличить…
– Соня! И ты меня будешь попрекать! – и без того румяные щеки Гриши полыхнули как маков цвет. – Что ж мне теперь – застрелиться? Пойти рабочим в артель?
– Не говори ерунды! Все, что от тебя требуется, это относится с уважением к его усилиям…
– Бог с ним! – Гриша порывисто шагнул к сестре, встал на колено и совершенно по-детски потерся щекой о ее предплечье. Софи положила руку на его голову, намотала на палец и шутливо дернула ореховую прядь. Видно было, что сердиться на брата она не умеет. – Я не о нем говорить приехал. Модест Алексеевич без меня слушателей имеет. Леша с Сержем за ним хвостами ходят, а главный советчик – мама твоего Петеньки. Он без нее ни лошадь выхолостить не велит, ни скамейку на партере выставить… «Как Мария Симеоновна скажет»… – сунув палец за щеку, шепеляво передразнил он. – Матушка с Аннет, кажется, даже обиду на него держат. Ты будешь у нас в субботу? В воскресенье я уезжать должен, в понедельник – занятия в Университете. Приезжай, пожалуйста, хоть в пятницу вечером. Побудем вместе, поболтаем на диване. Помнишь наш диван в кабинете? Папенька тебя туда сажал в наказание за проделки, а я к тебе украдкой прибегал, тебе нельзя было уходить, и ты тогда меня не гнала, говорила со мной… Я ведь дурной был мальчишка, я на тебя, знаешь, папеньке специально доносил, чтобы он тебя на диван наказал, и ты со мной говорила, рассказывала мне. А потом я очень боялся, что Бог меня за донос накажет, и плакал по вечерам и молился…
– Ага! Совесть мучила?
– Нет, это не совесть была, страх только. Я просто любил до смерти твои рассказы и не мог от этого отказаться. Как иные табак курят, или вино, понимаешь? Я ж книг не любил тогда читать, а ты так много всего знала… Помнишь, как ты меня заставляла паруса учить?
– Помню, помню… А ты как-то принес мне под рубахой пышки с повидлом, повидло выдавилось и размазалось, а ты боялся сказать, до вечера ходил так и всю мебель в доме перепачкал. А вечером Аннет села на стул и прилипла к спинке. Потом все искали, что это…
– Да, да, и Анька думала на тебя, что ты специально, потому что видела, как ты эти пышки на диване ела, а меня не видела, и маменька уже хотела тебя наказать, а ты молчала, и тут я не выдержал и признался… А Лиза меня потом в корыте мыла и говорила, что у меня даже в пупке повидло… Ох! Про-остите! Софи, что ж ты молчишь?!
– Гм-м… Я… да… – от радости встречи с братом Софи и сама позабыла о своей оригинальной гостье. Грушенька между тем сделалась еще незаметнее и сжалась так, что, казалось, занимает места не больше котенка. – Позвольте… Мой брат Григорий Павлович, студент… А это Лаура… то есть Аграфена Воробьева. Простите, отчества вашего…
– Эрастовна… Аграфена Эрастовна… но что там… Груша можно…
– Чудесно! – окинув девушку оценивающим взором, и заметив, что она едва не обмирает от страха и смущения, Гриша преодолел собственный конфуз и заговорил, как прежде с сестрой, – легко, быстро, весело. – Грушенька – какое теплое имя, нежное, вкусное. У Модеста Алексеевича в саду (Модест Алексеевич – это нашей сестры Аннет муж) растут прекрасные груши, он саженцы откуда-то выписывал по журналу, и не зря видно, плоды бывают как мой кулак, а кулак у меня… Вот! – Гриша с гордостью продемонстрировал девушкам своей вполне средний по размерам кулачок. – И вкус, знаете, – чистый мед. Вы обязательно должны попробовать! А что ж я вас раньше не видал? Вы, должно быть, курс проходите? Будете сеять разумное, доброе, вечное, как моя сестра? Она – чудесная учительница, все крестьянские недоросли от нее без ума. Им повезло, я так считаю, а вы как? Согласны? Соня терпеливая, спокойная, у меня в гимназии таких учителей не было. Все, как я помню, были похожи на осенних стручков или уж на военный лад… В Университете, слава Богу, совершенно все иначе, и люди, и мысли такие значительные. Мне порой даже страшно бывает, сам себе глупым таким кажусь, ничтожным… Так вы, Грушенька, по какой же части с Соней знакомы?
«Служит девицей в борделе, хозяином которого мой близкий знакомый», – мысленно сформулировала Софи и усмехнулась. Однако, надо было как-то разрешать положение, у Груши-Лауры глаза уж закатывались. «Только обморока мне здесь и не хватает,» – подумала Софи. Невскрытое письмо, лежащее под рукой, жгло ей ладонь, будто наполненное горячими угольями.
– Груша едет в Лугу, навестить матушку с братьями. Любезно согласилась передать мне из Петербурга письмо от… от одного знакомого…
– О, Софи! Что я слышу! – лукаво прищурился Гриша. – У тебя в Петербурге появились сердечные дела? А как же бедный Петенька?
– Что за глупости ты, Гриша, говоришь! Здесь вовсе не то… Здесь… литературные дела, если хочешь знать… Он хочет типографию купить…
Грушенька раздумала падать в обморок и с недоумением и явным интересом прислушивалась к разговору.
– Вы ж, Грушенька, не знаете, должно быть, всего! – торопясь объяснить, оборотился к ней Гриша. – Соня, несмотря на почти мужественную жизненную позицию, в некоторых делах такая скромная, что меня, например, даже злость иногда берет. Вот вы, вижу, с ней накоротке (Грушенька испуганно шлепнула губками, но возразить не решилась), а ведь не знаете, что она написала роман, который снискал бурный успех. Сам Антон Павлович Чехов прочел и похвалил описания природы и живость характеров. Каково?
– Гриша, пустое… – поморщилась Софи. – Довольно!
– Нет, отчего же! – живо воскликнула Грушенька. – Скажите, прошу вас, как он называется, я непременно прочту! Непременно! Я очень люблю читать.
– О! Это великая тайна, – рассмеялся Гриша. – Роман написан, естественно, под псевдонимом. Но вы ведь не выдадите? Нет? – Грушенька яростно замотала головой. – Название романа – «Сибирская любовь»…
– Ах! – девушка прижала ладони к сероватым щекам и округлила глаза, словно увидела призрак. – Это вы, Софи?! Вы написали? Вы не обманываете, Гриша? Правда? Нет, вы точно скажите – это правда? Я ж читала его сразу… Это моя любимая вещь… Я столько плакала… Я… Мне все казалось, что Машенька на меня похожа, будто мы с нею сестры… Я так ее жалела…Вам, Софи, теперь смешно, я понимаю, ведь вы все знаете… Но, знайте, в любой душе сохраняется уголок для светлых чувств…
– О чем вы, Грушенька? – Гриша в растерянности крутил головой, переводя взгляд с сестры на Грушу. – Вы прочли Сонин роман? Вам нравится? Мне тоже. Говорят, мужчины дамские романы не читают. Это ерунда. Есть хорошие романы и плохие. Вот и все. Сонин роман – хороший… А на Машеньку вы и впрямь чем-то похожи… Такой же розан…
«Ого! – внутренне удивилась Софи. – Это ж как посмотреть надо, чтобы в тщедушной Аграфене с ее землистой кожей и коричневыми подглазьями розан увидать!»
– Ах, Григорий Павлович! Вы мне льстите безбожно! – не обольщающейся на собственный счет Лауре сравнение тоже показалось чрезмерным.
– Ах, Грушенька, вы еще так чисты и невинны, что сами своей прелести не осознаете. Вы – бутон…
«Господи Боже! – мысленно воззвала Софи, считающая свои взгляды вполне атеистическими. – Что он несет! Знал бы он… И как же все это некстати! Когда же они уйдут?»
– Спасибо вам, Софья Павловна, за чай, за привет, – чуткая Груша, видимо, уловила нетерпение Софи и ее желание избавиться от гостьи. – Я уж поеду. Вечер поздний, а маменька с братьями рано спать ложатся. И так уж придется будить.
– Оставайтесь у меня на ночь, коли хотите, – с холодной вежливостью, исключающей двойное толкование, пригласила Софи.
– Нет, нет, что вы, спасибо! – правильно откликнулась Грушенька. – Мне ехать надо!
– А можно у нас в усадьбе переночевать, – воодушевился вдруг Гриша. – У Сони места мало, а там вы никого не стесните. У нас в новом доме пять гостевых комнат. И…
– Что вы! Что вы, Григорий Павлович! – замахала руками Грушенька, – Прилично ли мне на ночь к незнакомым людям…А?! Как вы подумать даже могли! – она вполне натурально застеснялась и снова принялась ломать пальцы. Софи затошнило.
– Простите, Грушенька. Я ведь от чистого сердца… – несмотря на угар, Гриша смекнул, что, приглашая на ночь в усадьбу незнакомую девицу, он и в самом деле поступает как-то не совсем…
– Да я знаю, знаю… Счастливо вам оставаться… Вы ведь и промеж собой поговорить не успели…
– Но проводить-то вы позволите, Грушенька? Не отказывайте. Я еще так мало узнал вас, хочу узнать лучше… Софи! Скажи Грушеньке, что я миролюбив и не опасен…
– Подите! Подите сейчас куда хотите! – Софи, наконец, изменила выдержка.
– Я помню чу-удное мгнове-енье! – пропел Гриша и протанцевал замысловатое па вокруг кресла, на котором сидела Софи. – Так ты, Соня, в пятницу приезжай, на Сережины именины. Договорились, да? Коляску за тобой пришлем. Мальчики по тебе соскучились, и Иришка. И даже Аннет, хоть и не признается никогда. А Модест Алексеевич расскажет тебе о новом проекте… Ха-ха-ха! Позволь тебя в щечку… Если бы ты знала, как ты меня одолжила! Милая Софи! Оревуар!
Выглянув в окно, Софи увидела, как Гриша подтягивает подпругу у чалой кобылки, Груша темным силуэтом мнется на дороге, а Оля в накинутом на полные плечи полушубке, размахивая руками, накоротке общается с глухонемым Мартыном, сует ему какой-то сверток, а он вроде бы угощает ее орехами…
«Скорей бы…» – подумалось Софи.
Когда смолкли голоса, конский топот, шаги Оли, Софи налила себе остывшего чаю, отщипнула сахару, помешала и долго смотрела, как растворяется на дне чашки прозрачная горка. Потом решительным жестом подтянула к себе конверт, разорвала. На сложенной вдоль четвертушке корявым подчерком было выведено всего несколько невозможных слов:
ВАЛЯЮСЬ У НОК. ПРОСТИ СОФЬЯ БЕЗРОДНОВА ПСА
МИШКУ ТУМАНОВА.
Бросив бумагу на стол, Софи встала, накинув на плечи шаль, вышла в сени, сошла с крыльца и пошла по улице, не понимая, куда и зачем она идет. Ботинки разом промокли. Листья, перемешанные с грязью, шуршали внизу. – «Как будто ложкой мешаешь в густых щах,» – подумала Софи и мимоходом удивилась пришедшему сравнению. Над лугом раскинулись звезды. На черном силуэте забора смешными грушками выделялись перевернутые и надетые на острия горшки.
«Цсз-зы, цзсс-са…» – послышалось пение сапожника.
Софи остановилась, помотала головой, отгоняя наползавший морок, сгорбилась и пошла назад, к дому.
Подъезжая к клубу, Михаил Туманов соскочил с подножки еще до полной остановки пролетки. Тришка покосился неодобрительно, но, держа кучерский форс, сделал вид, что не заметил исчезновения седока. Важно, сквозь сплюснутые пирожком губы, «тпрукнул», осадил, картинным жестом кинул вожжи. Новая, запряженная на английский манер, коляска, породистые рысистые кони каким-то неведомым образом добавляли и без того гонористому Тришке чувства собственного достоинства. Туманов усмехнулся понятным ему Тришкиным амбициям и тут же заметил девушку, выпрыгнувшую из дожидавшегося поодаль лихача. Девушка, невысокая, с смышленым котячьим личиком, ловко перепрыгивала через лужи, бережа прюнелевые ботиночки, и бежала прямо к нему.
– Лиза! – удивился Туманов. – Ты чего здесь?
– Здравствуйте, Михаил Михайлович! Вот! – девушка, запыхавшись, протянула ему запечатанный розовый конверт, от которого во влажном воздухе потянуло знакомыми Туманову духами. – Графиня велела непременно дождаться и в собственные руки. На словах приказала передать, что хочет с вами немедля встретиться.
– Где ж встретиться? – усмехнулся Туманов. – Мне, что ли, идти к ее мужу? Или, пожалуй, она ко мне, в номера?
– П-ф-ф! – прыснула Лиза и прикрыла рот розовой ладошкой (перчаток она не носила). – Графиня велела сказать: где вам будет угодно. Только скорее. Что ж передать?
– Скажи так: Туманов болен был, и сейчас еще не совсем здоров. Для посещений не в состоянии. Как поправит здоровье, будет счастлив прийти с визитом. Передашь?
– Ох, Михал Михалыч, – закручинилась Лиза. – Печальная для графини весть. Быть мне, несчастной, сегодня с оплеухой, а то и с двумя…
– А что ж тебя, несчастную, может утешить?
Продолговатые кошачьи глазки Лизы озорно блеснули.
– Видела я тут в Апраксином шарфик, продавец сказал, очень к моим глазам идет. Вот бы перед женихом показаться…
– Держи, – Туманов вынул из кошелька рубль, который тут же исчез в складках Лизиного сака. – А что ж жених? Может, он тебе голову морочит?
– Нет, Михаил Михайлович, – Лиза серьезно покачала головой. – Тут дело чистое, только рассудите сами: он младший приказчик, в лавке у него никаких перспектив, я – горничная. Как жить? Как семью строить? А детишек растить? Надо хоть какой капитал накопить, чтобы свое дело начать. Тогда и жениться можно. Годы наши еще молодые…
– Здраво рассуждаешь, – похвалил Туманов. – А как же любовь?
– Любовь? – Лиза неприятно усмехнулась, кожа обтянула скулы, и лицо ее в этот миг напомнило Туманову все кошку же, только сдохшую пару дней назад. – Любовь – это для госпожи-графини. Для тех, которые с деньгами. Они могут романы читать и от мужа про любовь рассуждать. А нам с Кузьмой милостей ждать неоткуда, надобно самим свою жизнь строить.
– Ну что ж, живите, – разрешил Туманов, повернулся и, не обращая больше внимания на Лизу, пошел к дверям, которые услужливо распахнул перед ним дородный швейцар, Розовый конверт он небрежно сложил пополам и, не глядя, сунул в карман.
Девушка глянула ему вслед, стерла с румяной щеки злую слезу и упрямо вздернула подбородок.
Швейцар, похожий на раскормленного и чудовищно увеличенного мопса, закрыл двери, нерешительно переступил с одной толстой ноги на другую и уже вслед почтительно окликнул хозяина:
– Михаил Михайлович! Тут к вам небольшое дельце образовалось. Не знаю, надо ли доложить?
– Докладывай, только побыстрее, – Туманов поморщился.
Швейцар Мартынов, принятый по конкурсу (про взятки Туманов знать не хотел и оставлял все на усмотрение Иннокентия Порфирьевича) из отставных унтер-офицеров Измайловского полка, был широкогруд, представителен, учтив с посетителями, но крайне вязок в мыслях и словах, отчего почасту упускал собственную выгоду.
– Изволите ли видеть, приходила девица (или баба, я, извините, не разобрал), спрашивала вас. Я сказал, что в отъезде, хотел проводить к Прасковье Тарасовне, думал, места ищет, она отказалась. Девица обликом странна, глаза как слива-венгерка, а низ физиомордии вот эдак тряпкой прикрывает. – Мартынов изобразил, как девушка прикрывала лицо, отчего Туманов невольно улыбнулся.
– Что же девица?
– Цидульку оставила, просила передать. Я думаю, может, не надо было брать? Пусть бы к Прасковье Тарасовне шла или уж к Иннокентию Порфирьевичу… Чего господ зазря беспокоить? У господ дела господские, а девица видно, что низкого сословия, может, вообще самоедка…
– Давай, Мартынов, письмо, – вздохнул Туманов и протянул руку.
Мартынов с готовностью протянул ему конверт, а другой рукой вытер лоб, видимо устав от объяснений. Должно быть, он все время, от прихода девицы до приезда Туманова, размышлял, правильно ли поступил, взяв письмо, и не выйдет ли из этого какого конфуза и неудовольствия хозяина. На мгновение пожалев туповатого унтера, Туманов поощрительно кивнул ему:
– Все верно, Мартынов. Солдат ты был исправный, и сейчас исправно служишь.
Мартынов расплылся в необаятельной, но искренней улыбке:
– Стараемся, вашбродь!
– Какой я тебе «вашбродь»! – усмехнулся Туманов. – Нешто не знаешь, из каких я. Небось, сто раз хозяину кости перемыли. Деньги только…
– Важны не деньги, важен дух, – заявил вдруг бывший измайловец. На скулах у него выступил кирпичный румянец. Видно было, что он долго ждал случая, чтоб высказаться. – Ежели у которых деньги или титул, то это не значит, что им от Господа Нашего еще что-то в избытке отпущено. Скорее, наоборот. Спрос больше. А судить будут по делам и по духу. Верно я располагаю?
– Ну, в общем, наверное, да… – Туманов, думая о своем, не уследил за прихотливым ходом швейцарской мысли.
– А на вас, Михаил Михайлович, двойная заслуга, потому как вы дела свои из совершенно невозможного положения начали, а вона чего достигли. По тому и аттестация происходить будет, и присяга на вечную службу…
– Это что же за присяга-то? Страшный суд, что ли? – рассмеялся Туманов.
– Не без этого, не без этого, – Мартынов важно погладил окладистую бороду. – Все в воле Божьей…
– Ну Бог с тобой, – Туманов устал от разговора.
Швейцар проводил его уважительным взглядом и довольно вздохнул. У него осталось приятное впечатление разговора «об умном», и о совершенном согласии между собеседниками.
– Редко такого человека встретишь, – пробормотал он себе под нос. – Чтоб и дистанцию понимал, и вникал так… Даже среди полковников не каждый… Да…
Поднявшись к себе, Туманов присел на софу, окинул взглядом убранство комнат (выстроенных анфиладой). Оно ему не нравилось, хотя он точно не мог бы сказать, чем. Советчики были грамотные, вещи все дорогие, вроде бы подлинные. Все вместе же… «То-то Софья нос воротила, – вспомнил Туманов. – А другие что ж? Другие, надо думать, развлекались, как в ярмарочном балагане. Экзотическое блюдо – ярмарочный медведь Мишка Туманов… – странно, но такие мысли пришли впервые. – Старею, наверное, – решил Туманов, привычно потянулся к бутылке, стоящей на столике вместе с чистым стаканом, но остановил себя. – Дела есть…» – С раздражением взглянул на розовый, надушенный конверт, кинул в сторону. Вскрыл другой, переданный Мартыновым. Написано было по-английски, уверенным, почти мужским подчерком. Водя пальцем по строчкам, Туманов прочел:
«Михаэль, вокруг меня творятся странные дела. Может, глупо, но чего-то опасаюсь. Надобно срочно повидаться. Слыхала, ты был «болен». Не угомонился еще? Если хочешь, приеду к тебе. Можешь – приезжай сам.
Твоя Саджун.»
Отложив письмо, Туманов решительно поднялся и вышел на галерею.
– Федька! – крикнул он. – Скажи, чтоб коляску подали. Уезжаю.
– А кушать, Михаил Михалыч? – осведомился Федор, как обычно, появляясь неизвестно откуда. – Кушать готово подать, как велели. Мосье Жак в обиде будут, если пропадет.
– К чертям собачьим мосье Жака и его обиды! – рявкнул Туманов. – Дела у меня!
– Так и передать-с? – с едва уловимой насмешкой осведомился Федор.
– Будешь хамить, башку проломлю, – пригрозил Туманов, угрожающе приподняв трость. – Скажи там Жаку что-нибудь политесное, да не сам, Иннокентия пошли. Есть он?
– Нету Иннокентия Порфирьевича. С утра насчет подряда уехал, сказал, что вы знаете…
– Знал, да забыл… Ну, в общем, реши там с Жаком. А мне коляску – не слыхал, что ли?! Дармоеды!
На улице сквозь желтые листья падали крупные ленивые хлопья первого снега. Ребятишки восторженно визжали и, крутясь, ловили их жадными ртами. Кудлатая собачонка чуяла что-то и, не в силах понять, заливалась истерическим лаем. Воробьи, нахохлясь, блестели черными бусинами глаз и ждали плохого.
Дом, второй от угла Ново-Петергофского и Троицкого проспектов, снаружи ничем особым не выделялся. На сером фасаде горело в стеклах заходящее солнце. Козырек над крыльцом поддерживали неясные фигуры с облупившимися носами. Внутри все было устроено как бы по контрасту с наружностью. Лестница, устланная пушистым ковром, светильники в восточном стиле, зеркала в бронзовых рамах. В передней на стуле, почти теряющемся под его обширными телесами, сидел малый пудов в шесть весом и задумчиво ковырял в зубе длинным ногтем.
Увидев посетителя, малый вскочил и заученно изобразил на рябой физиономии радость лицезрения. Узнав Туманова, подбавил в улыбку теплоты и какого-то заговорщицкого изюму: мол, мы-то с вами знаем…
– Михаилу Михайловичу Туманову наше почтение, – сказал парень, принимая от Туманова пальто, трость и шляпу. – Мадам-то ждет-с вас. С нетерпением-с.
– И тебе здравствуй, Савва, – ответил Туманов. – Как живешь? Не женился еще?
– Не… И-га-и-га-га-и! – по-кобыльи заржал Савва, словно Туманов сказал что-то нестерпимо смешное. – Мне пока без надобности. В этаком-то цветнике…
– И то верно, – согласился Туманов. – Где ж хозяйка-то?
– Настя проводит, – Савва кивнул на появившуюся на лестнице девушку в кружевной наколке, по виду горничную.
Туманов двинулся наверх, Савва проводил его задумчивым взглядом, поудобнее угнездился на стуле, снова ощутил беспокойство в зубе и привычно сунул палец в рот.
– Анна Сергеевна ванну принимают, – объяснила Настя Туманову. – Вас велели провести не медля. Когда бы ни пожаловали.
– Я бы и подождал,… – начал Туманов. – А впрочем… веди… – Он вспомнил, что Саджун не придает значения подобным вещам и решил последовать ее примеру.
Над огромной ванной на львиных лапах поднимался ароматный пар, пахнущий льняным маслом, сосной и еще чем-то, чего Туманов определить не сумел. Девушка, помогавшая мадам, оглядела Туманова блестящими, как леденцы, глазами, быстро положила полотенце, простынь и накидку на край обширной софы, и вместе с клубами пара вышла неслышными шагами.
– Они у тебя как призраки озерные, – усмехнулся Туманов.
– Хорошая служанка и должна быть призраком, – Анна Сергеевна пожала смуглыми плечами. – И материализоваться только по приказу господина. Ты не согласен?
– Не знаю, не думал об этом, – Туманов присел на край банкетки, обитой синим бархатом, возле одной из двух жаровен с углями.
– Подать чего?
– Нет, сперва разговор. Я из дома, как твое послание получил, от обеда убежал. Чего теперь-то?
– Хорошо. Дай полотенце.
– Сиди там. Мне не мешает, – чуть торопливо проговорил Туманов.
– Не хочешь смотреть? – усмехнулась Анна Сергеевна. – Понимаю. Я сама не хочу. От зеркала отворачиваюсь. Особенно, если прошлое вспомнить. Но что ж поделаешь? Старость…
– Да брось ты, Саджун! Какая старость! Я чуть моложе тебя, но стариком себя не чувствую… Просто знаю, как ты всегда осенью мерзнешь, потому…
– Не оправдывайся, Михаэль. У мужчин возраст другой, и линия жизни другая… Да не о том мы… Хочешь, выйди, пока я вытрусь-оденусь.
– Отчего же… Если хочешь…Ты служанку отпустила, я сам тебе помогу, – Туманов поднялся с банкетки.
– Спасибо, Михаэль, – Анна Сергеевна улыбнулась. Улыбка делала ее лицо старше, но необъяснимым образом добавляла привлекательности. – Ты добрый, хотя всю жизнь это скрываешь. Правильно, никто не должен знать. А я – знаю, – лукаво добавила она.
– Тебе – можно, – усмехнулся Туманов, осторожно обертывая полную фигуру женщины в подогретую над жаровней простынь, и ласково целуя ее шею и плечи. – Ты – мой единственный друг.
Спустя время пили чай в диванной. Анна Сергеевна в синем шлафроке, с накидкой на неприбранных волосах казалась встревоженной. Тревога молодила ее. Туманов с удовольствием глядел в блестящие, чуть раскосые глаза женщины, которую назвал другом. Приподнялся, смачно поцеловал глянцевый, почти без седины локон, выбившийся из-под накидки.
– Кокетничаешь, Анна Сергеевна! Старость! – усмехнулся он. – К тебе сейчас, сию минуту сколько хочешь кобелей сбежится. Свистни только!
– Фи, Михаэль! Ты никогда не станешь джентльменом! Твои комплименты отдают привозом… Впрочем, за это я тебя и люблю… – видно было, что она польщена и растроганна.
К чаю Настя подала светлые колобки, сделанные словно из скомканной бумаги. Туманов по-купечески налил чай на блюдце, шумно отхлебнул, захрустел колобком и поднял на хозяйку вопросительный взгляд.
– Позатот день ко мне приходил помощник пристава. Пил чай, вино, ел, говорил вроде бы про перепись, жаловался на трудную жизнь, выпрашивал подношение, хватал девочек за талию, все как всегда… Однако… – Туманов усилил знак вопроса за счет поднятых бровей. – Вдруг в разговоре, ни к селу ни к городу вспомнил давнюю историю в доме Мещерских. Потом, еще время спустя, также невместно заговорил о нашей с тобой дружбе. Потом поинтересовался, где мы с тобой познакомились, и, наконец, пользуешься ли ты услугами моего заведения. На последний вопрос я, как ты понимаешь, ответила утвердительно. Иначе трудно было бы объяснить…
– Все правильно, Анна Сергеевна, все правильно, – пробормотал Туманов. – Моей репутации уж ничто не повредит. Но чего ж он хотел – как ты думаешь? Проверял что-то?
– Не знаю. Если говорить правду, Михаэль, то я просто растерялась. Я думала, все уж давно забыто. Столько лет прошло… Кому понадобилось это ворошить? Причем тут помощник пристава?
– Может, случайность?
– Я б тоже так подумала. Но он, когда уходил, подмигнул мне этак премерзейше и… И сегодня я получила вот это… Взгляни…
Анна Сергеевна открыла шкатулку и протянула Туманову сложенный вдвое листок. Не опуская удивленно поднятых бровей, он прочел единственную строчку послания:
ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫМ ВСЕ ИЗВЕСТНО.
– Н-нда…
– Что это? Почему? Как ты думаешь, Михаэль? – Анна Сергеевна с тревогой смотрела на Туманова. Ее пышная грудь высоко вздымалась.
– Понять нельзя. Но на это и не рассчитано, – сказал Туманов и успокаивающе сжал пухлую руку женщины, унизанную золотыми кольцами. – Похоже на то, что кто-то очень хочет нас испугать… Но чего ж он добивается?
– А ты, Михаэль? С тобой ничего такого…? К тебе не писали? Какие-то странности…?
– Да нет… Если не считать странностью то, что три недели назад меня пытались убить… Впрочем, все мои знакомые полагают, что это скорее закономерность…
– Кто?! Ты, твои люди – узнали?
– Кто напал – известно. Кто заплатил им деньги – пока нет. Люди Иннокентия работают в этом направлении. Исполнители, как ты понимаешь, меня не интересуют. Но, боюсь, что они и сами заказчика не знают. Такие вещи делаются весьма аккуратно. Не мне тебе рассказывать…
– Что же делать, Михаэль? Я… я боюсь… Ты не веришь, я знаю, но я действительно становлюсь старой… Не только снаружи, но и внутри. Я как старый ишак. Мне уж ничего не хочется… Я иногда по часу ищу, чего ж такого пожелать, и ничего не нахожу… Я… я девочкам своим завидую, можешь себе представить? У них ничего нет, я их с улицы взяла, с приюта, с тюрьмы, с помойной ямы. Они почти все глупы, ничего не знают, не умеют, их надо всему учить. Но… Но они мечтают, ждут чего-то… Хотят разбогатеть, замуж выйти, покровителя найти, не знаю чего… А я… Ты помнишь, какой я была? Куда это все подевалось? Я теперь покоя хочу, Михаэль… Мне страшно…
– Саджун, Саджун! – Туманов обнял женщину, вдохнул странный аромат восточных благовоний. – Успокойся. Сейчас мы ничего не должны делать. Надо ждать. Если что-то на самом деле есть, то рано или поздно они себя проявят. Они ж нас и пугают для того, чтобы мы сделали первый шаг, засуетились, выдали свой страх. Понимаешь? А мы будем ждать… Успокойся… Насчет того, что ты еще говоришь… Я тебя понимаю… Я тоже ищу: чего б такого захотеть? Желания, где вы?… Помнишь, мы сидели на ящиках в порту, грелись под одним пледом и придумывали, что мы будем делать, когда разбогатеем. Я был все время голоден, и мне ничего не лезло в голову, кроме еды. А ты говорила, что я глуп, и называла такие вещи, о которых я и понятия не имел… Помнишь?… – женщина в его объятиях постепенно успокаивалась, перестала дрожать, потерлась макушкой о подбородок Туманова, поцеловала сильную, всю в синих жилах руку с обломанными ногтями.
– Михаэль, ты что, все еще ногти грызешь? Как раньше?
– Сами ломаются. Что ж мне, маникюр делать?
– «Быть можно дельным человеком, и думать о красе ногтей…» – ваш поэт сказал, между прочим.
– Бог с ним, – Туманов передернул плечами. – Не люблю поэтов. С недавних пор – еще больше невзлюбил.
– Поэзия украшает жизнь. Жалко, я не могу хорошо перевести тебе стихи индийских поэтов. Они говорят про любовь. Это красиво.
– Любовь – ерунда. Стихи тоже. Есть расположение обстоятельств и обычных человеческих чувств. Они все определяют.
– Тебя снова кто-то обидел? Да еще хотели убить. Вот этот шрам? Я думала, ты опять подрался в трактире на окраине. Мой бедный Михаэль… А как поживает та девушка, что я послала к тебе?
– Лаура? Вроде все хорошо. Прасковья ею довольна. Клиенты тоже. Тихая, послушная, лишнего слова не скажет. Я не понял: почему она не подошла тебе?
– Есть вещи, которые западные мужчины понять не могут. Ты необыкновенный мужчина, поэтому я попробую тебе объяснить. Лаура жила в семье. У нее уже есть какие-то представления о жизни. Мне пришлось бы ломать их, строить заново. Мне это не надо. Потом. В твоем заведении главное – что? Карточные столы. Рулетка. Игра. Там – страсть, там – восторг, ненависть, разочарование. Все остальное – потом. У тебя девочка сможет остаться самой собой, размышлять о своем «падении», терзаться им, то есть занять место в обществе в соответствии со своими взглядами. Может быть, она даже сумеет вырваться из этой петли. В моем доме нет и не может быть «падших женщин». Они мне попросту не нужны. Я пишу практически с чистого листа. Клиенты ко мне приходят… ты знаешь зачем… Она, Лаура, никогда не смогла бы по-настоящему научиться этому. Ей слишком дорог ее прежний мирок. Ну, а мне нет резона и выгоды бороться с ним… Я объяснила, Михаэль?
– Не скажу. Потому что сам не знаю. Действительно, это что-то специально женское. Не уверен даже, что мне следует это знать.
– Я всегда говорила, что в тебе есть мудрость. Она сродни мудрости камня или греющейся на этом камне змеи… – рассмеялась Анна Сергеевна.
– Ты говоришь, что мои комплименты отдают привозом, а твои так просто не для моего ума, – усмехнулся Туманов.
– Ты уверен, что это комплимент? – Анна Сергеевна кокетливо хихикнула, повела глазами, но тут же снова нахмурилась. – Ты говоришь: ждать и ничего не делать?
– Тебе – ждать. Делать буду я. Скорее всего, это кто-то из моих, а не твоих врагов. Причем, из ближнего круга, раз знает про тебя и мои с тобой отношения. Не простой – иначе не был бы задействован помощник пристава. Можно думать, Анна Сергеевна. Можно искать. Не волнуйся – Туманов поищет…
Выходя, Туманов увидел через дверь сидящую за столом даму в шляпке с лиловыми перьями и с такой же вуалью. Все та же Настя в разноцветной блестящей накидке поверх горничного платья раскладывала ей карты. Другая девушка подавала им чай и нераспечатанные колоды.
«Женский мир, – подумал Туманов. – Тем паче – мир Саджун. Никогда не пойму, как он устроен, кто в нем кто. Может, и к лучшему. Зачем мне?»
Глава 4
В которой Элен Головнина пытается оберечь подругу от опрометчивых поступков, а Софи Домогатская пребывает в имении Гостицы, в кругу родных, и беседует со своим женихом
Сентября 20 числа, 1889 г. от Р. Х.
Санкт-Петербург
Здравствуй, милая моя Софи!
Все время думаю о твоем положении, и о том, чем тебе помочь. Большинство людей сегодня (ты знаешь это лучше меня) живут не идеями, не мыслями, и даже не страстями, а слабо колышущимися (как водоросли на дне тихой речки) инстинктами. И я, в сущности, такова. Знаю, будь ты здесь, рядом со мной, ты стала бы отговаривать меня, спорить, но ведь я чувствую так, а чувства – что ж обсуждать? – они либо есть, либо нет, и от обсуждения или спора не денутся никуда. Ты – человек иной породы, иного призвания. Тебе мало просто созерцать жизнь, мало даже участвовать в ее величественном кругообороте, как участвуют в нем трава, береза, ворона, крестьянская девушка, скорняк-ремесленник или гоголевский чиновник, тебе хочется непременно построить что-то, оставить позади измененным, преобразованным… Я, из глубины своей смиренной лени, поражаюсь вашей смелости: откуда тебе (и другим, подобным тебе) знать, что и куда следует изменить? Или это не имеет значения? Порою от умных вроде бы людей слышу так называемые революционные речи: сперва надо сломать все, расчистить место, а потом уж искусственно насадить дивные сады свободы и иных каких-то радостей…И от тебя слыхала я нечто подобное. А доводилось ли тебе в твоей деревенско-усадебной жизни наблюдать регулярные сады, за которыми по той или иной причине перестали ухаживать? Помнишь, как скоро превращаются они в трудно-проходимые заросли ивняка, орешника и одичалых разросшихся кустов и деревьев? Как быстро повилика, чертополох и лебеда побеждают геометрические клумбы и нежные садовые цветы, привыкшие к постоянному поливу и трепетному надзору садовника? Не то ли произойдет и с «дивными садами свободы» и с людьми, которые, по предположению «передовых людей», станут их насельниками? Нельзя быть нигилистом, не имея в виду планов грядущего строительства. Ты скажешь, что планы имеются. Но не есть ли они все те же, не устойчивые ни к какой природной грозе, сады для человеков? И кто ж будет садовником?
Подумай, Софи, не проще ли покориться пусть не Богу (в которого ты не веруешь), а пусть Природе (оборотясь к дарвинисму, так тобой уважаемому), в которой столь мудро все устроено, что каждой былинке есть свое место? И жить мирно в согласии с этим устроением? Тогда многие вопросы, которые сейчас тебя мучат, отпадут сами собой. Что «природно» в твоем нынешнем возрасте и положении? Надобно ль отвечать? И когда ты, Софи, слушала советов? Разум, а не чувство – твоя сильная сторона. Следуй же ему, и он тебе подскажет правильный шаг, согласный с природой и качествами твоей натуры. И передай мой поклон Петру Николаевичу. Он – милейший человек, редкостной образованности и поистине ангельской терпимости.
А о Туманове забудь, заклинаю тебя. Я думаю, ты права – винить его не за что. Наоборот – он одолжил тебя, показав тебе во всей красе свою подлинную натуру – низкую и подлую. Когда б не этот «счастливый» эпизод, сколь бы ты еще могла заблуждаться, и как далеко бы все зашло? Благодарность Иннокентию Порфирьевичу, «человечку-лисе», как ты его называешь! Вот пример – благородного человека узнаешь в любом звании! Коли он надумает расстаться со своим «благодетелем» (или тот погонит его за описанную тобой историю), то может обратиться ко мне, я умолю Васечку составить ему хорошую протекцию. Он ведь из духовной семьи – правильно я тебя поняла?
По собранным мною помаленьку сведениям, нет такого греха, которому Туманов не отдал бы должное в свое время. Он занимался и ростовщичеством, и скупкой по случаю векселей, и продажей компрометирующих сведений, которые сам же и добывал весьма нечистоплотными, как можно понять, методами. Весь свет его ненавидит, но заискивает перед ним, не из-за денег даже, а из-за той грязной информации, которою он, по предположениям, единолично владеет. Быть бы ему уж давно под судом, когда б известные люди не боялись сопутствующего вскрытия этих корзин с грязным бельем, каковое имеется в биографии почти каждого светского человека (меж которыми святых и подвижников, как ты знаешь, не бывает). К тому же будет задета честь многих женщин, о чем я тебе уже писала… Для Туманова же понятие чести женщины не существует вообще (об этом ты теперь знаешь доподлинно). К слову сказать, одна из его близких и давних подруг – содержательница гадательного салона, в котором основные (и крайне дорогие) услуги оказываются помимо карт и кофейной гущи. Подробности мне узнать трудно (мужчины, сама понимаешь, о таких вещах не распространяются), но вроде бы это что-то потрясающее. Кокотки и сама мадам с уклоном на Восток, со всеми странностями и особенностями восточной любви… Понятно, что и сам Туманов не чужд увлечений своей подруги (она уж сильно не молода, но ее девушки, по слухам, прекрасно обучены доставлять мужчинам всевозможные удовольствия…) Что ж тебе еще, чтоб навсегда отвратить тебя от этого омерзительного, опасного, низкого человека?
Нежно обнимаю тебя. Безмерно скучаю без наших разговоров. Хотя я с тобою часто не согласна, но любая наша беседа для меня – как глоток воды в летнюю жару. Разговоры знакомых дам и девиц – так порой скучны (хоть и естественны, в том именно ключе, о котором я тебе говорила. Песнь сверчка за печкой – успокаивающа и природна. Но слушать ее день за днем, год за годом…) Ах, Софи… Ты даже сама не понимаешь, какое ты чудо…Надеюсь вскоре получить от тебя утешительные вести. Вся семья шлет тебе поклоны и приветы.
Навсегда твоя Элен Головнина
– Ах, Софи, какое же она чудо! Как чудесна, ей-Богу! Ведь она же чудо, чудо! Скажи! Позволь услышать из твоих уст! – Софи сидит в библиотеке, в глубоком, покойном кресле, Гриша – у ее ног, держит ее руку в своих, заглядывает снизу в глаза. – Ты нехорошая, нехорошая, нехорошая! Я три дня ждал случая с тобой поговорить, третьего дня, вчера хотел уж ехать к тебе опять, вместе с Тимофеем, да маман меня не пустила, из приличий, велела занимать гостей… А теперь ты приехала, и бегаешь меня, я не могу тебя застать тет а тет, чтоб высказать мое сердце, которое трепещет от счастья…
– Погоди, Гриша, – Софи морщит высокий лоб, протягивает Грише синюю с золотом чашку, из которой пила чай. Гриша ставит ее на столик, снова берет руку Софи, прижимает ладонью к своей щеке. Щека пылает, как будто с мороза. – Ты совсем меня запутал. О чем ты говоришь – я не пойму. Почему я бегаю? Я, как взошла вчера, не видела минутки свободной, все говорю, пожимаюсь, целуюсь, опять говорю… Ты ж знаешь, как мне все это чуждо… Вот, нашла укромный угол, присела – и тут ты с упреками… В чем я провинилась? Что с тобою стряслось?
– Я счастлив, Софи, понимаешь?! Я счастлив! Я не виню тебя – как ты подумать могла?! Наоборот, я должник твой навеки. Если бы не ты, мне б никогда не довелось узнать ее… ЕЕ!
– Да кого же?
– Грушеньку, Грушеньку же! Аграфену Эрастовну! Неужто ты не догадалась еще? Ты же всегда меня видела насквозь…
– Гриша! Господь с тобой! – Софи некрасиво оскаливается, отталкивает Гришину руку. – Что тебе в ней? Ты знаешь ли…
– Знаю, все знаю… – Гриша, не обижаясь, садится на ковре, обхватив руками колени, мечтательно жмурится. – Она из бедной семьи, почти нищей. Отец умер давно, пенсии не хватало, а мать – самодурка, все делала вид, что они состоятельные, не отпускала прислугу, давала обеды… Боялась, что все прознают про их бедность. Вот Грушеньке и пришлось…
– Что – пришлось?! Она тебе рассказала?!!.. И ты…
– Да, да… Она служит в компаньонках у старой дуры-графини, не доедает, отсылает матери и братьям каждую копейку…
– Значит, Груша сказала тебе, что она – компаньонка графини?
– Да, да. А ты разве не знала?
– Да н-нет. Не пришлось.
– Но какова же она… Эта скромность, застенчивость, чистота… Доверчивость и восприимчивость ко всякой мысли, идее… Прости, Соня, ты знаешь, я очень уважаю твои взгляды, твой круг… У нас в университете тот же кружок, но…Все это равноправие, избирательные права, политические свободы – но куда ж деваться от поклонения Красоте, Чистоте, Невинности, пред которыми от веку повергались ниц царства и монахи, гении и злодеи? Если женщина будет стоять наравне с мужчиной, то что ж это значит? Кому поклоняться? Кому посвящать подвиги, чьим именем творить? Ведь и Бог для многих нынче – пустая абстракция… А я верю, что в каждой женщине живет древняя богиня… Именно в женщине…Зачем же? Вот эта твоя подруга – Матрена, которая велит себя Мариею звать, она же умница, и собою, если всмотреться, вполне недурна, но манеры, наряды… И для чего ж у нее вечно юбка пеплом посыпана, а плечи – перхотью…
– Довольно, Гриша! – Софи встала и теперь глядела на брата сверху вниз. – Если бы ты знал, как ты ошибаешься! Во всем, во всем… И я не позволю тебе чернить Матрену. Она пусть не с бальной картинки, но собственным трудом живет, мыслит, печатается в журналах, ее уважают, а ты покудова еще ничего не сделал, и судить не можешь… А даже если б и сделал… Ты уверен, что видишь так, как оно на самом деле? Что то, что ты принимаешь за белое, на самом деле не является черным и наоборот?
– Что ты хочешь этим сказать, Софи? – Гриша тоже вскочил и теперь стоял перед сестрой навытяжку, как на параде, упрямо выставив невеликий подбородок, покрытый нежным светлым пушком. Ноздри их одинаково раздувались, при почти равном росте (Гриша лишь чуть выше) взгляд уперт во взгляд. – Ты будешь Грушеньку чернить, что б я… Ты ли это? Не ты ль говорила, не ты ль писала, что любовь выше всяких условностей и сословий! Или теперь, как дошло до дела, до применения взглядов, вся твоя широта тут же испарилась, как утренний туман?
– Гриша! О чем мы говорим?! – Софи стиснула руки, говорила медленно, едва сдерживаясь, чтоб не завизжать. – Какая любовь?! Ты видел ее всего один раз в жизни! Ты ничего о ней не знаешь…
– Я знаю довольно. И того, что я увидел сердцем, тебе, с твоим расчетливым разумом не увидать никогда! Да, на твой вкус она не слишком умна, на маменькин – низкого рождения и положения, но речь-то идет обо мне! Обо мне, слышишь! И я не позволю… Какой я болван! Прибежал разделить радость! К тебе! Хотел позвать ее сегодня… Она отказалась… Хорош бы я был… Она почувствовала… Как она тебя превозносила! Ты – ее кумир, твой роман – Евангелие чувств… Какая глупость! Бедняжка…
– Гриша, – Софи переборола себя, опустилась обратно в кресло. – Прошу тебя, выслушай. Ничего не говори, просто услышь. Поверь, я знаю, о чем говорю. И дело тут вовсе не в моем расчетливом разуме, которым меня только ленивый не попрекает. Рассуди сам: будь он у меня, руководи он моими чувствами и делами, неужели я не сумела б устроиться в жизни получше, чем сейчас? А? Что скажешь? … Не говори ничего, слушай: Груша, она же Лаура, – тебе не пара ни в каком смысле, кроме одного, о котором и думать не хочу. Если хочешь избежать большой боли, перетерпи сейчас маленькую, и выкинь ее из головы. Я знаю, о чем говорю: дело здесь не в ее имущественном положении и не в сословных предрассудках…
– А в чем же? Скажи – я требую! – Гриша задрал подбородок еще выше, так, что свеча, стоящая на столике, осветила детскую ямочку у основания горла.
– Не требуй, – спокойно откликнулась Софи. – Тебе этого не нужно. Да и я не хочу… С одной встречи не родится любовь, только влечение полов. Ты молод, горяч…
– Не тебе корить меня молодостью…
– Не мне… верно… Иди, Гриша… Помни, что я сказала…
– Забыл! – с мальчишеской горячностью крикнул Гриша. – Сейчас забыл! Не хочешь объясниться – изволь! А я – забыл все! – и выбежал, хлопнув дверью. Пламя свечи и тени дернулись вслед, словно хотели догнать, вернуть… Софи не пошевелилась, лишь устало прикрыла глаза.
Спустя короткое время в библиотеке появились младшие. Сережа влетел шумно, с гиканьем, сразу же подбежал к Софи, обхватил за шею цепкими, липкими от какой-то сласти руками.
– Сонечка, душечка, вот ты где! Я тебя нашел же! Пойдем, пойдем скорее! Ты прячешься от меня, да? Ты вчера обещала наших солдатиков посмотреть непременно! Мы с утра с Алешей все расставили… Пойдем, пойдем, ты меня так одолжишь… А ты, Соня, в Петербурге царя видала? А кавалергардов? Я кавалергардом стану. Мне Модест Алексеевич лошадку гнедую обещали, как в полку… Ты ведь знаешь, Соня, что у кавалергардов лошадки гнедые? А у гусаров – серые… Идем, идем, что ж ты сидишь-то?
Алеша, темноглазый и робкий мальчик, жался позади брата, молчал и переступал с ноги на ногу.
«Пи́сать, что ли, хочет?» – некстати подумала Софи, увлекаемая Сережиным напором.
К удивлению, солдатики нешуточно развлекли Софи. В комнате у мальчиков стоял большой стол, на котором из песка насыпан был рельеф местности, речки обозначались голубой бумагой, озера – плошками с водой, лес – еловыми веточками. Одиннадцатилетний Сережа с робким Алешей на подхвате разыгрывал игрушечные сражения с применением уже некоторых законов тактики: войска передвигались по определенной мерке, конница с двойной скоростью, артиллерийский огонь велся по открытым целям опять же на определенную мерку и давал четверть потерь во вражеском войске.
На полу разложены были коробки с немецкими солдатиками по пятьдесят и сто фигур, которые очень точно изображали все европейские армии, и раскрытые номера журнала «Всемирная иллюстрация», посвященные русско-турецкой войне 1877–1878 годов. Любимой темой Сережи было разыгрывать геройские подвиги российских войск под Плевной. Сам он, естественно, был при этом «белым генералом» Скобелевым.
С удовольствием выслушав объяснения Сережи и поиграв с ним в солдатики, Софи оборотилась к младшему брату, который, робея, не произнес за все время ни одного слова.
– Лешенька, ты боишься меня, что ли? – Алеша потупился, оттопырив нижнюю губу и ухватив себя рукою за ухо. – Я тебе гостинцев привезла. Ты видал?
– Видал. Премного благодарствую, – прошептал мальчик.
– Чего ж ты церемонишься-то? – удивилась Софи. – Вот, гляди, Сережа совсем меня не боится. Я ж не страшная, я таких мальчиков, как вы, в школе учу…
Алеша вдруг разрыдался. Рыдал он как-то не по-детски, с подвывом, не прикрывая лица, слезы текли из глаз по трясущимся щекам и терялись под подбородком.
– Что с тобой?! – Софи испугалась, обняла мальчика, прижала его к себе. Тот попробовал было вырываться, потом обмяк, прижался, поднял лицо и спросил прерывающимся, но все же твердым голосом:
– Соня, голубушка, молю тебя, скажи: ты правда в Бога нашего Иисуса Христа не веруешь? Ты добрая, хорошая, этого же быть не может, Соня! Скажи мне!
«Ребенка бы пощадили!» – скрипнула зубами Софи, спросила вслух. – Кто ж тебе сказал?
– Маменька. И Аннет. Я им не верю, не может быть. Кто не верует, у того рога и язвия всякия… И обликом темен. Ты же светлая вся, красивая, и голос у тебя как колоколец хрустальный… Но ты мне все же скажи, не утаи, Сонечка, голубушка, – слезы снова потекли по бледным Алешиным щекам.
– Соня, да не обращай ты на него внимания! – с досадой сказал Сережа, складывавший меж тем солдатиков в соответствующие им коробки. – Он же пономарь! Все молится и молится! Аннет мне его в пример ставит, что он по-славянски разумеет, и шестопсалмие читает лучше псаломщиков. А что ж с того! Дворянин служить должен, а не псалмы петь, правильно я говорю? – Сережа подхватил с полу игрушечную саблю, стал в позицию, закричал истошно. – Защищай правую щеку, налево коли, вниз направо руби!
Софи вздрогнула, у Алеши от страха затрепетала какая-то жилка под глазом.
– Довольно, Сережа! – сказала Софи. – А ты, Алеша, успокойся. Бог у каждого в душе, и каждый его по-своему разумеет. Далеко за морем живут люди, у которых кожа цвета бронзы, а в волосах – цветы. Они также любят, так же ненавидят, так же боятся и воспевают красоту, как мы. Они никогда не слыхали про Христа. Как же с ними?
– Надо поехать и рассказать им, – убежденно сказал Алеша.
– Зачем? Они поклоняются своим богам, душам предков, Солнцу, Океану, еще кому-то…
– Бог с ними. Они далеко, – Алеша высвободился, вперил в Софи пронзительный, горячий взгляд. – А кому поклоняешься ты, Соня?
– Да чего ты к ней пристал?! – крикнул Сережа и прежде, чем Софи успела помешать, отвесил брату подзатыльник. Алеша снова разрыдался. – Пономарь! Пономарь! – кривляясь, закричал Сережа.
– Сережа, уймись! Алеша, не плачь! – Софи растерялась, разница между братьями дотоле не бросалась так ясно ей в глаза. – Ну что ж вы такие!
На крик в комнату вошли гувернер мальчиков Сильвестр Александрович и мать Наталья Андреевна в цветной шали.
– Опять передрались? Хороши! Сережа, ты бы хоть ради именинного дня смирил себя! Гости ж едут! Стыд от тебя! А ты, Софья, что ж? Как же ты их в школе окорачиваешь?
– Господа, господа, пойдемте отсюда! – заторопил гувернер, обнимая Алешу за плечи, а Сережу мягко подталкивая между лопаток. – Алексей, вам умыться надобно. Серж, идите вперед, в классную, я к вам подойду. Наталья Андреевна истину говорит: подумайте о своем поведении на этот день. Возьмите на себя хоть какие обязательства. Почему у вас опять рукав порван?…
Софи выпрямилась у стола, где кавалерия по-прежнему вылетала на песчаный холм из-за игрушечного леса, и молча смотрела на мать. Наталья Андреевна подбирала слова для очередной отповеди, а Софи грустила. Последний Алешин вопрос нагнал на нее философическое, элегическое настроение, в котором хотелось сесть и тихо и сладко поплакать над собственной судьбой и всеми горестями мира. Отчего-то подумалось, что, должно быть, есть на свете девицы-счастливицы, которые могут разделить подобное настроение со своими матерями и поплакать вместе. Ей же не судьба.
– Софи! Вот случай поговорить с тобой, – начала Наталья Андреевна. – Ты меня словно избегаешь…
– Как, и тебя тоже? – не смогла сдержать удивления Софи. – «Может, и вправду? – подумалось вслед. – Ведь маман с Гришей и мальчиками точно не сговорились…»
– Я не поняла тебя сейчас. И по большей части не понимаю. Я не так уж глупа, Софи, как тебе, может быть, кажется… – Софи сделала протестующий жест. – И многое могла бы уразуметь, если бы ты взяла на себя труд объяснить… К примеру: что у тебя с Петром Николаевичем?
– Поверьте, мама, я и сама не понимаю. Иначе объяснила бы вам.
– Но ведь надо же и думать о будущем, Софи. Ты собираешься всю жизнь быть учительницей в земстве? Таковы твои планы?
– Не знаю. Мама, я же сказала вам: не знаю.
– Но Софи… Ты не чужая мне, всем нам… Я хотела бы понять, быть может, помочь… Твой брак с Петром Николаевичем решил бы все проблемы, все устроил бы, такое общее мнение. Если вы в чем-то сейчас не поняли друг друга, это, наверное, можно исправить…
– Мама, мне не хотелось ворошить прошлое, но вы первая начали. Не забывайте, вы уже однажды пытались устроить мою жизнь с помощью брака. Вспомните, что из этого вышло. Дайте мне самой решить свою жизнь, прошу вас, не лезьте…
– Софи, как ты разговариваешь с матерью?! Неужели за свой сумасбродный поступок ты смеешь винить меня?! Хочешь назвать все по имени? Изволь! Я тебе скажу! Если Петенька Безбородко настолько глуп или влюблен в тебя, что согласен взять тебя после всего, со всеми твоими историями и дурацкими взглядами, без приданого, так тебе надо держаться за этот вариант руками и ногами. Потому что другого не будет, понимаешь ты это или нет?! Сам Петенька – мечтатель и балабол, но у него прочное положение в обществе, акции, доход от имения, он единственный сын и наследник. И знай: мамаша Безбородко сделает все от нее зависящее, чтоб ваш брак не состоялся! Ты ей как кость в горле – помни это! О такой ли партии для Петеньки она мечтала?
Софи сосредоточенно смотрела перед собой, но против воли видела руки матери, нервически комкающие бахрому накидки. Руки были совсем старые, с желтыми костяшками, словно посыпанные голубоватой мукой. – «Вот и у меня будут такие же руки! – подумала вдруг Софи и представила, как она держит мел и объясняет что-то ученикам, а руки у нее вот такие и так же блестят костяшки. – Так нельзя! – всколыхнулось все. – Но как же иначе? Положим, я выйду за Пьера, рожу шестерых детей, как маман, и все будет то же… Где же выход? Нет! Это слишком обще, это нельзя, об этом я после подумаю…»
– Мама! Увольте меня!
– Не уволю! Сегодня он будет, будь любезна принять его как подобает воспитанной девице. И не заводи своих обычных споров. В конце концов, у нас приличный дом, а не кружок нигилистов. И будь поуступчивей с Марией Симеоновной…
– Мне казалось, вы и сами ее не слишком жалуете…
– Какое это имеет значение! Софи! Когда ты научишься быть светской? Есть правила, которыми пренебрегать не след. Так устроен и так держится этот мир. Ты дворянка, родилась не в конюшне и не в лабазе. Это накладывает на тебя определенные обязательства…
– А тот, кто родился в конюшне, или вовсе в выгребной яме? Как быть ему? Каких устроений придерживаться? Ведь он не виноват же?
– Какое тебе дело до выродков? Или это опять твои либеральные взгляды? Освободительные реформы? Революции? Всеобщее равенство? Запомни: сначала следует благополучно разобраться со своей жизнью, а потом уж радеть о других. Подумай сама: как может устроить чужую жизнь человек, который свою-то устроить не сумел?
– Мама, я не хочу более говорить на эту тему. Вы понимаете? Если уж вам не удержаться, извольте: я сейчас уеду. Объясняйте тогда Петру Николаевичу и другим: не сошлись, мол, во взглядах. Очень по-светски получится…
– Софи, ну почему ты всегда так груба, несносна… – Наталья Андреевна наклонила голову, глубоко вздохнула, напоказ смиряя себя: смотрите, мол, как я терпима. Тени на ее висках залегли глубже и четче, поперек белой шеи обозначились три глубокие морщины. – Ты же знаешь, я люблю тебя, и оттого все тебе, всем вам прощаю… Но иногда ты так напоминаешь мне отца… Эта твоя неукротимость, упрямство, нежелание прислушиваться к чужому мнению…
– Довольно, мама. Оставим. Чтоб нам более не ссориться, я пойду пройдусь.
Ночью пал заморозок. В аллее свежо пахло замерзшим и вновь оттаявшим листом. На северном склоне партера лежали кленовые листья с белой каймой изморози. Софи подняла один, желтый с бурыми пятнами, поднесла к лицу. В лицо дохнуло влажным холодом, словно из погреба. По удалении от дома регулярный сад сменялся ландшафтным. Дубы, липы, лиственницы, клены, пихты размещались кругами и куртинами на пожелтевших, усыпанных разноцветными листьями газонах. Парк навевал лирическое настроение. С южной стороны усадьбы, за граничным валом расстилались обширные луга, сейчас залитые туманом, а на севере над луговым раздольем низкого берега озера высился крутой откос террасы. По совету Марии Симеоновны Модест Алексеевич использовал его для создания романтического уголка с лестницами, переходами, видовыми площадками, беседкой, каскадом и родником. В эту композицию была включена и новая мельница, поставленная на берегу запруды. Осенью все это выглядело совершенно иначе, чем летом. По какой-то неведомой аналогии Софи вспомнила Петра Николаевича и почти тотчас же, вздрогнув, услышала негромкий оклик:
– Софья Павловна! Я надеялся вас здесь отыскать, и вот – нашел…
Черный плащ-крылатка резко контрастировал с льняными волосами Петра Николаевича, и этот художественный разбег цветов почти стирал черты лица молодого человека. Отгоняя неловкость, сковавшую ее члены, Софи в который уже раз попыталась оценить, красив ли Петя Безбородко или уродлив, но, как и раньше, не нашла ответа.
– Здравствуйте, Петр Николаевич… Петя…
Разговаривая, они меняли обращения, сбивались то на «ты», то на «вы». Когда-то, в детстве, встречаясь как соседи, они звали друг друга Софи и Пьер. Потом Петя учился в гимназии, поступил в Университет. Софи росла, тоже училась и почти забыла высокого, тонкокостного мальчика, который мастерски делал силки и приносил ей пойманных певчих птиц. Потом уехала Софи, и вновь они повстречались недавно, уже взрослыми людьми. Двадцативосьмилетний Петр Николаевич после окончания курса на Филологическом факультете болел, лечился за границей, потом по просьбе матушки вернулся в имение и как бы принимал участие в активных преобразованиях, затеянных ею в Назимовке и Люблино. Служить постоянно он не хотел, ссылаясь на здоровье, но что-то делал в земстве и регулярно посылал в столичные журналы свои стихи, которые иногда печатали. Противоречивый образ Софи пленил романтичного Петю. Когда она бывала в Гостицах, он стал наезжать туда вместе с матерью, соседи уж мысленно сосватали их, но прежней короткости в их отношениях не восстанавливалось.
– Как ваше… твое здоровье, Петя?
– Спасибо, хорошо. Я…
– Ты с маман приехал?
– Нет, вперед. Она с Модестом Алексеевичем позже подъедет.
– А он разве у вас? – удивилась Софи.
– Да. Приехал чуть свет. Маман ему паровую молотилку показывает, он думает у себя такую же завести…Смешно…
– Отчего же?
– Сам не знаю. Они словно в игрушки играют…
– Почему – в игрушки? Я слыхала, Мария Симеоновна у вас всю усадьбу на современный лад перестроила. Сад насадила, дачи в аренду сдает, оранжереи завела, парники… Настоящее капиталистическое хозяйство. Что ж тут смешного?
– Да ничего, ничего, Бог с ним. Давай, Соня, лучше о другом поговорим. О более интересном.
– Это о чем же? – Софи кривовато усмехнулась, Петя дернул бровью и тоже скривился в мучительной гримасе.
– Если наши с вами… наши с тобой отношения представляются вам… тебе предметом недостойным… то я тогда… в сравнении с паровой молотилкой и матушкиными реформами…
– Что ж, – Софи вздохнула. – Давай, коли хочешь, поговорим. Только с уговором: тебе начинать.
Софи вошла в беседку, присела на влажную скамейку. Петя остался стоять, опираясь руками о перила и резной столбик, поддерживающий крышу. Софи расправила складки накидки и подумала, что со стороны картина выглядит очень романтично. – «Может быть, для завершения образа попросить его почитать стихи? – всплыла откуда-то ленивая мысль. – Нельзя быть такой… такой недоброй, – тут же одернула себя Софи. – Пьер мне ничего плохого не сделал. Он не виноват в моем устройстве. Никто, кроме меня самой, не виноват…»
– Софья Павловна! Софи! – волнуясь, начал Петя. – Я давно хотел говорить с вами о нас… О нашем будущем. Если тебе этот разговор тягостен, то тем более причин закончить сейчас, чем длить это состояние неопределенности, в котором, мне кажется, я нахожусь уж столь давнее время, что позабыл почти и причину его, и тот благостный порыв, который привел… ежели тебе будет угодно… – Петя запутался в собственных словах и замолчал, не в силах договорить фразу.
«Паки и паки,» – мысленно закончила Софи и успокаивающе дотронулась до Петиной руки, лежащей на крашеных перилах беседки. Рука была холодной и влажной, самой аристократической формы.
– Ну что ж, Пьер, тут никакой тайны нету. Я, ты знаешь, на эту тему низать словеса не мастерица. Разве что в романе. Ты сам чего же хочешь?
– Хочу, чтоб Бог и люди благословили наш брак, – твердо и высоко сказал Петр Николаевич, от волнения пустив петуха на слове «благословили». – Хочу, чтоб моя душа и мое тело навеки принадлежали вам, Софи, и чтоб вы тоже принадлежали мне душой и телом. Навеки, доколе смерть не разлучит нас…
– Ах, Петя, – Софи позволила себе улыбнуться в ответ на явную напыщенность молодого человека. – Что ж мы с вами все это время делать-то будем? Навеки – это так долго…
– Софи? Я не понял… – Петр Николаевич взглянул на девушку больными глазами, и ей разом стало стыдно и скучно.
«Что ж я играю всю эту пошлость? – подумала она. – Да еще и как бы любуюсь собой со стороны. Недостойно. Недостойно, Софи! Ты, девушка с передовыми взглядами, ведешь себя как салонная барышня из восемнадцатого века…»
– Послушайте меня, Петр Николаевич, – серьезно и строго сказала она. – Я, право, не знаю, как нашу с вами ситуацию разрешить. Все, кроме вашей матушки, хотят нашего брака. Моя маман говорит: «это все устроит». Вам не претит?
– Что мне до того, как другие говорят! Что ты, Соня, скажешь?
– Я, Петя, пытаюсь честно все обдумать. Но вот что мешает: сомнения – позволено ли в таких вещах расчетом решать? Не должны ли чувства вперед говорить?
– И что ж твои чувства говорят?
– Не знаю, Петя, не знаю, – в этом все дело.
– Может быть, вы… может быть, ты другого любишь?
– Да нет, нет же! – Софи досадливо всплеснула руками и зажмурилась. – Никого я не люблю – так вернее. И достойно ли мне при таком раскладе соглашаться на ваше, Петр Николаевич, предложение?
Петя со странною во взрослом человеке робостью заглянул в глаза Софи:
– Но, может быть, потом, видя мое к тебе расположение, общие на двоих интересы…
– Вот здесь, Петя, вот здесь… Скажи мне серьезно: что ж это за интересы? Как мы будем жить? Ты мужчина, ты старше, расскажи мне. Ты – не служишь. Я – учительница в школе. Взгляды мои ты знаешь. Принадлежать кому-то всецело, как ты говоришь, пусть даже тебе, Петя, я не могу, и уж не смогу, должно быть, никогда. Вот мы поженимся. Как это дальше будет?
– Как пожелаешь, Софи, как пожелаешь. Брак меняет людей, я это верно знаю. И мужчин, и женщин особенно. Хочешь – посвятишь себя детям, заботам по хозяйству. Хочешь – будем жить в Петербурге. Ты говорила про свои романы – пусть, пиши, коли хочешь. Я ведь тоже, ты знаешь, стихи пишу…
– Ты так говоришь, Петя, словно это блажь какая-то пустяшная – стихи, романы…
– А разве нет? – нешуточно удивился Петя. – Матушка моя так это и называет: Петина блажь. Или ты тоже думаешь, что мне надо служить? Изволь, если такое твое условие, я пойду служить…
– Погоди, погоди, Пьер, остановись, что ты говоришь такое? Какие условия?! Ради Бога – живи ты как знаешь. Мне просто интересно, как ты мыслишь. Скажи: чем же заполнить целую жизнь в деревне?
– Софи, – Петр Николаевич отчего-то оживился, словно, пройдя по болоту, почувствовал твердую почву под ногами. – Ты к здешней жизни несправедлива. Наши места вовсе не дикие, и культуры не чужды. Ты знаешь, в этом сезоне Римский-Корсаков на Красной даче новую оперу писал. Он, правда, не принимал никого, и сам не выезжал, но все равно…Половцев Александр Александрович пароход купил, для поездок в монастырь, все лето катал всех по Череменецкому озеру. Он же фазанов развел, курганы языческие по дороге в Солнцев Берег раскопал… Да это ведь ты знаешь, сама с ним прошлым летом на раскоп ездила… А Бельдерлинг? Ты с ним знакома? Вот голова! Настоящий немец, в мозгах постоянно хронометр тикает. Унаследовал имение в полном разоре, а сейчас? Образцовое хозяйство. Даже матушка хвалит, а уж она придирчива, как фельдфебель к новобранцам… Знаешь, этим летом чего Бельдерлинг удумал? На Врево поставил станцию для наблюдения за температурой озерной воды, за влажностью, за росой… Сам приборы выдумал…
– Петя! – не выдержала Софи. – На что ты мне говоришь? О чем? На пароходе я плавала, а от Бельдерлинга у меня в школе опорный пункт и тетрадочка для наблюдений. Он вправду очень образованный и очень упорядоченный человек, но о чем мы? В чем ты меня убеждаешь? Как странно мы беседуем… Ты просил: поговорим о нас…
– Так я и говорю! – с обидой воскликнул Петр Николаевич. – Ты же сама просила описать. Я стараюсь, но чувствую: словно мои слова куда-то проваливаются. Я понимаю: не в том дело – ты правильно говоришь. Но как же разрешить?
С каждым мгновением Софи становилось все скучнее. Она с трудом удержала зевок, отвернулась, по-собачьи лязгнула челюстью и притворно закашлялась, прижимая к губам холодные пальцы.
«Авось не заметил… – подумала она. – Неловко как… Но что же? Это решается моя судьба, а мне как бы получается все равно. Почему так? В романах пишут: сердце колотится, дыхание спирает, а у меня – что ж? Почему я такая бесчувственная? Вон как бедный Пьер волнуется… Разве согласиться? Пожалеть его, радость доставить… Он же славный, в сущности… Чтоб уж ни о чем не думать, и чтоб… чтоб больше не было ничего…»
– Ах, Петя! Я не могу так! – с внезапным раздражением вскрикнула Софи и вдруг, противу только что пришедшим мыслям, ощутила теплые слезы, щекочущие веки. – Оставим это сейчас! Оставим! Прошу вас! Довольно!
Петя испугался, задрожавшей рукой теребил застежку крылатки.
– Простите, Софья Павловна! Простите! Я расстроил вас! Я, право, не хотел…
– Оставьте, Пьер! – Софи шмыгнула носом, дернула головой, стряхивая слезы, поморгала. – Никто не виноват. Пойдемте в дом. Там нас, должно, уж ищут, – и она решительным шагом, подобрав юбку, зашагала по аллее. Петя с унылым видом плелся сзади, не решаясь предложить руки. Так их и заметила Мария Симеоновна, только что прибывшая вместе с Модестом Алексеевичем из своего имения Люблино.
В зале было душно, пахло свечным нагаром и бессмысленным послеобеденным спором. Кошка каким-то образом утащила с обеда кусок антрекота, спряталась с ним под пуф и теперь, урча, расправлялась с мясом, неприятно оскалясь и терзая его зубами и когтями. Все видели кошку, и все скрывали это друг от друга. Если б кошку увидел Туманов, то, пожалуй, сказал бы, что она похожа на горничную Лизу.
– Помилуйте, старых писателей не может быть много, а старых поэтов не может быть вообще. Вы ведь, душечка Софи, конечно, стихи пишете? А как же? – Арсений Владимирович победоносно и вместе с тем лукаво оглядел собравшихся и клюнул остреньким носиком в сторону насупившейся Марии Симеоновны. – Муза ведь все больше про любовь, шепчет и навевает, а какая у старости любовь? Одна подагра да геморрой, извините меня, душечка, мы ведь тут с вами все люди чертовски демократические… да-с… иногда даже тошно делается…
– А что ж, по-вашему, люди зрелых или даже преклонных лет уж и любить не смеют? – подмигивая всем по очереди и стараясь придать своей реплике тон развязной фривольности, вступил в беседу Модест Алексеевич.
– Отчего же не смеют? Смеют, конечно. Но только, извините за каламбурчик-с, сумеют ли? При общей изношенности организма и идеалов, по облетании всех юношеских лепестков и выветривании флюидов, на какую же любовь изволите рассчитывать-с? Разве что к расстегаям и малине со сливками… – Арсений Владимирович с причмокиванием отхлебнул кофе из чашечки.
– Ну, это уж вы, батенька, загнули! Загнули, признайтесь! – ринулась в бой Мария Симеоновна. – Я так уверена, что человека не года старят, а деловые качества или отсутствие оных качеств (она отчетливо произносила «какчества» и «какчеств», а Петр Николаевич при этом морщился, словно принимал хинин). Ежели человек деятелен и бодр, то ему все доступно. Все доступно, я утверждаю! Сколько нонче молодых людей вялых, ни до чего не охочих. Ништо им не в радость, все тягостно… Разве это жизнь, это молодость – я вас спрашиваю, батенька Арсений Владимирович!
Ответа не последовало. Глаза старика тут же подернулись пленкой, он, вздрогнув, огляделся, словно не понимая, где он, зачем, и что с ним. Все собравшиеся понимающе закивали головами, смущенно перемигиваясь: «Что, мол, возьмешь со старого человека?!»
Софи спрятала улыбку, и подумала, что после поблагодарит Арсения Владимировича за вовремя оказанную поддержку. В его забывчивость и отключенность от мира она не поверила ни на минуту. Софи помнила: еще когда она была маленькой девочкой, «отключался» он всегда вовремя и полностью сказав то, что хотел, а окружающие так же качали головами и лицемерно вздыхали.
Сколько лет Арсению Владимировичу, точно не знал никто. Если спрашивали его самого, он кокетливо жмурился и, покачивая крупной, покрытой пегим пухом головой, говорил, что даже в жизни мужчины наступает предел, когда говорить о возрасте уже моветон, а, впрочем, он и забыл свои года, потому что какое значение может иметь всеми позабытый и выживший из ума старый сморчок… После этого все бросались говорить ему комплименты, а он таращил водянистые глаза и прямо-таки лучился удовольствием, как старая, выползшая на свет и тепло костра жаба.
Старожилы уезда помнили, что именно Арсений Владимирович, будучи уже в полной силе, собирал Лужское ополчение на Крымскую войну. Многие помнили его мировым судьей и гласным по уезду. Ныне он спокойно доживал свой век в небольшом имении на берегу озера Врево, держал с помощью преданного управляющего (сына бывшего денщика) две пасеки, ежегодно сдавал в аренду четыре небольшие дачки и имел с этого достаточный доход. С помощью огромной лупы на костяной ручке Арсений Владимирович читал выписываемые в имение газеты («Русский инвалид» «Неделя» «Санкт-петербургские ведомости» и еще что-то), находился в курсе всех важных государственных дел, слыл отчаянным либералом, очень этим гордился, и во всех спорах принимал сторону наиболее радикального из высказанных мнений.
Гриша принес черную лаковую гитару с орнаментом и стал ее настраивать, склонив голову набок и оттого сделавшись похожим на сеттера. Ирен и младшие братья жались к нему, некрасиво отмахиваясь от гувернера, пытавшегося их увести. Наталья Андреевна кидала в их сторону строгие взгляды, Аннет уныло склонилась над комодом и водила по нему пальцем, словно гоняла по вышитой салфетке какое-то насекомое.
Гриша настроил инструмент и запел, отбивая ритм небольшой ногой в мягкой туфле.
- – За дачную округу
- поскачем весело́
- за Гатчину и Лугу,
- в далекое село…
Песню слышали в первый раз. У Гриши был резковатый, но приятный голос.
- – Там чаша с жженкой спелой
- Задышит, горяча,
- Там в баньке потемнелой
- Затеплится свеча,
- И ляжет, (снится, что ли?)
- Снимая грусть-тоску,
- Рука крестьянки Оли на жесткую щеку…
– Однако ж, Григорий… – Модест Алексеевич выразительно покосился в сторону дам и детей.
Арсений Владимирович рассмеялся дребезжащим старческим смехом и по-мальчишески показал большой палец.
– Это студиозисы развлекаются? – спросил он.
– Никак нет, – улыбнулся Гриша, мотнув подбородком в сторону Пети. – Это вот Петр Николаевич сочинили. Шарман, правда?
– Петя, это… это так необычно… и хорошо, – с удивлением и удовольствием сказала Софи. – Я не думала, но ты… ты, наверное, большой поэт будешь. Я рада… честное слово… рада…
Петя засмущался под ее похвалами как гимназист-приготовишка, Наталья Андреевна возмущенно фыркнула, и тут же перевела взгляд на кошку, а Мария Симеоновна недовольно нахмурила густые мужские брови.
– Стишки – это… – помещица покрутила в воздухе толстыми, унизанными кольцами пальцами, но, видимо, не сумела сыскать достойного и достаточно емкого определения. Поэтому перешла к другой теме. – Делом надо заниматься, вот что я вам скажу, господа, делом! В этом и смысл, и лекарство от всех хворей, и красота, и молодость, ежели пожелаете. Вот так я думаю, и никто меня переубедить не сможет! – Мария Симеоновна выжидающе оглядела всех выпуклыми, зеленоватыми с коричневыми крапинками глазами, но желающих ее переубеждать в зале не обнаружилось. Наоборот, Модест Алексеевич с удовольствием подхватил тему:
– А я вот тут как раз машинку хотел выписать… Мирон! – окликнул он лакея. – Принеси-ка мне из кабинета «Ведомости», что на бюро лежат! Поживее! Вот здесь… Еще утречком хотел с Вами посоветоваться, Мария Симеоновна, да как-то к слову не пришлось. Вот, вот: «Департамент торговли и мануфактуры объявляет, что такого-то числа поступило в оный прошение от инженеров компании «Брандага и сын» о выдаче трехлетней привилегии гражданину Сигизмунду Оппенгейму на машину для чистки кишок». Вот! Перспективная вещь, я так понимаю!
Гриша расплылся в улыбке и подмигнул Софи, Аннет тяжело вздохнула, как недоенная корова в стойле, а Мария Симеоновна достала лорнетку и внимательно изучила объявление.
– Я так понимаю, ввиду производства колбас… – Модест Алексеевич кивнул. – Следует – на паях. Вы думали? – Модест Алексеевич покачал головой. – В наше время надо мыслить экономически. Бельдерлинга – отметаем, он все под себя гребет, остаемся мы с вами, Березины и Кроммы. Старый Кромм как раз весной удачно прикупил трех йоркширских свиноматок, помните, я вам говорила? Он, верно, заинтересуется. Обсудим… Сейчас, мне думается, другим наши беседы неинтересны…
– М-м, голубушка Мария Симеоновна! – ласково прищурилась Наталия Андреевна. – Что ж поделать! Не все так прогрессивны, чтоб находить машину для чистки кишок лучшей темой для послеобеденной беседы…
– Провинция… Лень…Старосветские помещики…Лишние люди… – пробормотала себе под нос Мария Симеоновна.
Гриша, услышавший ее, не выдержал, рассмеялся и тут же выбежал, сделав вид, что подавился кофеем. Вслед за ним выбежали Ирен, мальчики и степенно удалился гувернер. Заметив открытую дверь, за всеми пустилась наевшаяся кошка. Снова очнувшийся Арсений Владимирович улюлюкнул ей вслед и стукнул об пол резной ореховой палкой. Кошка подпрыгнула на бегу и выгнула спину.
Глава 5
В которой Софи Домогатская снова встречается с Михаилом Тумановым, Леша Домогатский призывает сестру покаяться, а Элен Головнина принимает у себя подруг детства
Октября 10 числа, 1889 г. от Р. Х.
имение Калищи, Лужский уезд.
Здравствуй, моя дорогая подруга, милая Элен!
Дела мои продвигаются таким образом, что неопределенность положения моего не разрешается, а лишь запутывается все больше и больше. Одна радость: начались занятия в школе, и теперь промеж ежедневных многочисленных дел и делишек мне нет времени на всякие раздумья и терзания. Лишь за письмом к тебе я могу подумать о своей странной доле и сомнениях, которые по этому поводу испытываю. Знаю: ты уж и имени Туманова слышать не хочешь, а все ж буду опять писать о нем. Прости. Но это после.
Справили именины Сережи. Собралось наше «дружное» семейство, да Арсений Владимирович, да Петр Николаевич с маменькой, да еще несколько гостей. Нападали на меня за мою литературную часть: мол, что дельного может написать столь молодая особа, которая и жизни не знает? Наш вечный Арсений Владимирович ловко мою молодость защищал. Ты все спрашивала меня про Гришу: что ж он не влюбляется? Могу порадовать: влюбился, да так, что язык не поворачивается выговорить, в кого, и при каких обстоятельствах. Надеюсь, что все остынет само собой. Для курьеза могу сказать, что и тут косвенно приложил руку Туманов.
Огорчил меня разговор с маменькой. Даже не сам разговор (в нем все то же, что и прежде), сколько какие-то печальные флюиды, вокруг него проистекающие. Ты знаешь, несмотря ни на что, я маменьку люблю, и за нее переживаю. Она женщина еще нестарая, но как-то последнее время опустилась, поблекла, словно исчез какой-то источник, ее питающий. В чем дело, как разгадать? Странно, но что-то похожее происходит и с Аннет. Очень странный у меня с ней случился разговор, путаный, нервический. Она словно обвиняет меня в чем-то, ее касающемся. Я не могу этого понять, не могу помочь и оттого еще больше мучаюсь. Ты, Элен, женщина замужняя, семейная, может, тебе легче разобрать – что здесь? С Модестом Алексеевичем у них по-видимости все в порядке, племянник-крошка – здоров и прелестен. Насупротив меня, никаких приключений Аннет никогда не ждала и не искала. Что ж с сестрой? Чего она вянет?
Ирен же, напротив, (ей уж исполнилось 14) смотрит на меня, как на оракула, и ждет, по праву младшей сестры, каких-то наставлений. Откуда я ей их возьму, если со своей жизнью не могу разобраться?!
Итог «семейного вечера»: отчаянная ссора с Гришей, непонимание с сестрами и маман, тяжелое и бессмысленное объяснение с Петром Николаевичем, и, в довершение всего, слезы младшего брата Алешеньки, который как-то не по-детски глубоко верует в Спасителя, и очень страдает от моего атеизма. Воистину, я словно Роком уготована на роль этакого возмутителя спокойствия, нарушителя всех и всяческих канонов и уложений. Кто бы знал, как меня это все тяготит, и как бы я хотела стать обладательницей если не твоей душевной гармонии (на это я, зная себя, не рассчитываю ни в коей мере), а хотя бы спокойствия и выдержки, как у моей петербургской подруги и наставницы Матрены…
Утомившись от всего этого, чувствуя себя совершенно вымотанной и на грани нервного припадка, я вознамерилась уехать в тот же вечер по-английски, предупредив Модеста Алексеевича, как хозяина дома, что мне нездоровится. Муж Аннет, несмотря на все его недостатки, человек весьма здравомыслящий, и едва глянув на меня, не стал уговаривать остаться, а лишь велел кучеру взять меховую полость, чтоб унять лихорадку, и дал мне в дорогу бутылку яблочной наливки из своих погребов. Я, ты знаешь, вина почти не пью, потому что действует оно на меня не лучшим образом, но в тот момент его участие показалось мне едва ли не умилительным. Он один ничего не хотел от меня, не требовал, чтоб я немедленно изменилась, а просто принимал все как есть, и пытался, сообразно со своим разумением, облегчить мое состояние.
Меж тем еще со второй половины дня погода была тягостной, словно отвечающей моему настроению и чувствам. В воздухе будто разлили густой холодный сироп, и он томил, и пачкал горизонты, и мешал вздохнуть полной грудью. Еще до того, как мы с Тимофеем переехали плотину, природа разрядилась от этой тяжести, и разразилась ужаснейшая осенняя гроза, с ледяным дождем и диким ветром, срывающим листву и даже ветви с деревьев. Справа слышался рев озерных волн, слева – завывания ветра в деревьях старого парка, по крыше кареты безостановочно стучали капли дождя, ветки, каштаны и желуди с дубов. Лошади ржали, пугаясь всплесков молний и ударов грома, а Тимофей, мужик положительный и богобоязненный, непрерывно крестился и предлагал вернуться в усадьбу. Я и сама склонялась к тому же, как вдруг, перед самым въездом на плотину… Ах, Элен! У меня и сейчас, когда я пишу тебе, мурашки бегают по коже и ладони становятся противно влажными, так, что приходится откладывать перо и протирать их салфеткой.
Возле плотины путь нашему экипажу преградил всадник. Его конь, видимо, взбешенный ожиданием и буйством природы, увидев нас, взвился на дыбы. В раскатах и голубых разливах холодного огня молний он выглядел поистине мефистофельски. От увиденного меня затрясло еще сильнее, пришлось закусить зубами вонючую шкуру, чтоб не сорваться в припадок.
Всадник меж тем спешился, струи дождя буквально лились с его шляпы и куртки странного покроя, расшитой кожаной бахромой. Тимофей слез с передка и угрожающе покачиваясь, направился к нему.
– Софья! Ты здесь? – крикнул незнакомец. Я тотчас же узнала в нем Туманова, и, не удержавшись, застонала от досады.
– Как вы здесь? Почему? – закричала я в ответ, сделав знак Тимофею, чтоб не вмешивался.
Туманов готов был впрыгнуть ко мне в карету, но мне вдруг показалось это неприличным, и я выскочила под дождь сама.
Разговор, который состоялся между нами, можно было бы назвать бредовым, как будто вели его два сумасшедших из лондонского Желтого Дома. Гроза, которая все никак не утихала, добавляла театральности и грохота. Чтобы услышать друг друга, нам приходилось почти кричать, хотя мы стояли вплотную, и я чувствовала кожаный запах его странной одежды, спиртного и его собственный запах, который запомнила еще с той ужасной ночи, когда Туманова ранили, и я тащила его через трущобы Васильевского острова. Конь Туманова непрерывно ржал, Тимофей что-то бормотал (должно быть, ругался, прикидывая, как будет отчитываться за происходящее перед Модестом).
Касательно содержания (которое тебе, конечно, крайне любопытно) могу сообщить следующее: Туманов, который привык добиваться своего любыми путями, задет тем, что я сбежала от него, и хочет непременно меня вернуть. В любом качестве и за любую возможную плату. С точки зрения психологии и физиологии мне такой тип мужчин ясен абсолютно, и так же абсолютно неинтересен. О чем я ему и сообщила, а так же о том, что он меня очень разочаровал, ибо изначально представился мне личностью более значительной. Он был в бешенстве, и в какой-то момент мне показалось, что он сейчас набросится на меня, невзирая на присутствие Тимофея. Однако, когда разговор коснулся Гриши (подробности этой истории я сообщу тебе как-нибудь в другой раз), все сразу изменилось. Здесь я и сама не все поняла, но, к моему счастью, он вдруг почувствовал себя чем-то задетым (хотя мне уж казалось, что я никогда от него не избавлюсь), вскочил на своего бешеного коня и ускакал в ночь, обрызгав мне грязью подол.
После Тимофей мне что-то говорил, но я наконец сдалась на волю припадку, и только визжала:
– Домой! Домой!!!
В конце концов, он согласился и повез меня в Калищи, к моему милому домику, где и сдал прямо на руки кудахтающей, как наседка, Ольге.
Два дня меня не отпускала нервическая лихорадка, но я не велела Ольге звать доктора, потому что верю в то, что человек сам может справиться с болезнью такого происхождения. И правда: не прошло и недели, как моя школа и мои ученики полностью излечили меня от этого недуга. Права маман ненаглядного Петеньки: «Делом надо заниматься, господа, делом! Дело все болезни лечит!» – Прикупить, что ли, машину для чистки кишок?
Итог: человек этот страшит и тревожит меня. Я не понимаю его чувств, мотивов его поступков. Он не похож ни на «людей из общества», к общению с которыми я привыкла с детства, ни на «простых» людей, с которыми я тоже почти всегда находила общий язык. Хорошо, если это демонически-театральное его появление в моей жизни – последнее. Тогда можно надеяться, что я забуду его, как забывают ночные кошмары. А если он, не получив желаемого, и дальше будет преследовать меня? Что ж мне делать?
Вразуми меня, только не говори, что я должна немедленно обвенчаться с Петром Николаевичем. Сама понимаешь, какая у меня реакция на замужество, как на способ разрешения всех жизненных проблем. Будь снисходительна.
Приветы и поцелуи всем.
Навсегда твоя. Софи Домогатская.
В тысячный, наверное, раз Софи устыдилась своих мыслей. – «И вовсе сестрица не похожа на моль! – строго сказала она себе и тут же подумала с любопытством. – Интересно, это у всех людей в головах столько гадостей или только у меня? Вот, к примеру, у Модеста или у маменьки – как? И что обо мне на самом деле Пьер думает? На что я ему кажусь похожей? Должно, после сегодняшнего, на мегеру…»
Аннет нахмурила и без того невысокий лоб. Из всех детей Натальи Андреевны и Павла Петровича высоколобыми получились через один: Софи, Гриша, Сережа. Темные волосы отца и светлые глаза матери унаследовали почти все, лишь Аннет до замужества носила косу цвета выбеленной соломы, да Сережа имел цыганистые, лукавые глаза отца.
– Что, у вас с маменькой опять разговор был?
Софи молча кивнула.
– И что ж?
– А что ты ждешь, Аннет? Чего хотела?
– Тебе как, правдивый ответ или, как выражается твой любимый Арсений Владимирович, политесный?
– Помилуй, Аннет! – удивилась Софи. – На что мне от тебя политесный ответ?! И что ж за правда?
– Изволь. Я жду, когда ты, наконец, перестанешь надрывать маменькино сердце и позорить семью…
– Позорить семью?! Я?! – Софи, не удержавшись, вскочила с кресла, уронив расшитую крестом думочку, которую держала на коленях. Аннет продолжала сидеть с прежним унылым видом. Никаких чувств не отражалось на ее бледном, словно полинявшем лице. – Чем же это я позорю? Кто сказал? Объяснись, сестра! Я учу детей, сама себя содержу, пишу, ни в каких постыдных делах не замешана… Изволь!
– Вот! Вот! – шепотом закричала Аннет. Ее голос как никогда напомнил Софи шипение некрупной, но ядовитой змеи. Из-за того, что она по-прежнему не поднимала головы, казалось, что воздух и слова выходят через ноздри. – Я содержу! В этом все! А мы, значит, не содержим, мы все – хуже тебя! Ты и Гришу, которого говорила, что любишь, не преминула пнуть. Этим же… Кто содержит… Он, если хочешь знать, плакал сегодня в диванной. Плакал! Говорил, что бросит Университет, работать пойдет… Ты этого хотела, да?!
– А что ж дурного в том, если кто-то работает? – холодно уронила Софи, которой, хотя и с трудом, но все же удалось совладать с собой. – Пусть даже и Гриша. В нашем положении ему давно взрослеть пора…
– Что тебе до нашего положения, Софи! – с искренней горечью воскликнула Аннет. – Ты ведь ни о ком, кроме себя, сроду не думала. Как и отец, – правильно маменька говорит. Ты всегда на него похожа была. Внутри, как снаружи.
– Допустим, – холодный, отстраненный тон нелегко давался Софи, но так казалось правильным. – Я похожа на отца. Я думаю только о себе. Но что ж с того? Мы с тобой и Гришей – взрослые люди. Нам и следует думать о себе. Кто ж другой будет о нас думать? В чем ты меня обвиняешь? В том, что в шестнадцать лет я не захотела ради благосостояния семьи пожертвовать своей судьбой и выйти замуж за человека, который годился мне в деды? В этом может винить меня маман, но не ты…
– Отчего же не я? – Аннет казалась обескураженной. – Ты же знаешь…
– Что спустя два года этот «подвиг» совершила ты? Знаю. Но это был твой выбор. Ты могла поступить так, как сочтешь нужным, мой пример показал тебе это…
– А как же маменька, дети?…
– Ты хочешь теперь убедить меня в том, что принесла себя в жертву семье? Я не верю тебе, Аннет. Я же помню, что тебе самой хотелось замуж. Неплюев просто оказался самой выгодной из возможных партией. Конечно, ты не могла его любить. Но тебе, да и маменьке, так хотелось опять быть богатыми, хотелось управлять имением, иметь свой выезд, слуг… иметь то, к чему вы привыкли, то, что вы считали нужным иметь. Я, как ты видишь, сделав свой выбор, всего этого не имею. И признайся: ты, Аннет, ни за что не поменялась бы со мной… В чем же я теперь перед вами виновата?
– Ты… ты ни в чем не виновата, Софи. Ты во всем права… Ну, так и подавись этой своей правотой! – из прозрачных глаз Аннет брызнули прозрачные слезы, словно клоун в цирке сжал резиновую грушу.
– Аннет! Аннет! Что с тобой? – всполошившись, Софи подбежала к сестре, попробовала положить руку ей на плечо. Аннет резким движением отбросила ее. – Ну, Аня, что же это? Что ж ты так плачешь? Что-то случилось? Скажи мне! Модест Алексеевич обидел тебя?
– Модест Алексеевич никогда меня не обижает, – всхлипывая, пробормотала Аннет, и Софи, обрадовавшись, что сестра отвечает, тут же задала следующий вопрос:
– Может, с Николашей чего?
– Здоров…
– Так что же, Анюта?
– Ты не понимаешь, не понимаешь! – Аннет по-детски терла глаза сжатыми кулачками. На скулах ее тут же выступили красные, неровные пятна. – Ты не хотела никогда знать! Тебе бесполезно… Ты говоришь, я по расчету замуж пошла… А сама… У тебя есть идеи, ты по ним все делаешь… Так ведь не сама же ты это придумала. С чужого голоса! Эта твоя ужасная подруга! Она про все знает, как надо, а у самой на чулке дыра! Она как сноповязальная машина у Марии Симеоновны… Хлоп! Хлоп! Повязали, сложили! Хлоп! Хлоп! Следующий! А люди? Человек где, я тебя спрашиваю? Разве вы… ты когда-нибудь думала про то, как Петр Николаевич чувствует, как маменька, как я…
– Но причем ты-то?! – не выдержала, наконец, Софи. – Аннет, милая, я и впрямь не пойму тебя. Мы сестры по крови, это да, но у нас давно разная жизнь, разные взгляды, мы ж с тобой и не разговариваем почти. Я же тебя не обсуждаю. Тут ты права, я и не думаю об этом. Зачем? И как тебя касается моя жизнь, мои идеи, мои подруги? Бедная Матрена, ты ее и видела-то раз с четвертью, а уж готова на нее всех собак понавешать…
– Я ж говорю – с тобой бесполезно! – Аннет всхлипнула в последний раз и распрямилась так резко, словно ее развернуло судорогой. Узкие плечи подались назад и в вырезе платья стали видны белые вершинки ключиц и голубая впадинка между ними. – Ладно, как знаешь. Пусть так. Только помни: тебе тоже воздастся. Я знаю, ты ни во что не веруешь, но это все равно, потому как Он все видит…
– Ах, Аннет, оставь! – Софи досадливо махнула рукой, такой оборот разговора казался ей наиболее докучным. – Кстати, я хотела сказать… про Алешу… Не стоит его смущать рассказами о моем неверии. Он, невесть за что, любит меня, и Бога любит, и вы с маменькой лишь ему страданий добавляете… Пожалейте, не втравливайте его в наши разборы, он ведь еще совсем малыш…
– Сама пожалей хоть кого-нибудь, а потом других призывай! – резко ответила Аннет, поднялась и вышла из комнаты, покачивая плечами.
Некоторое время Софи сидела, опустив лицо в сложенные лодочкой ладони. Откуда-то пришла кошка, урча, потерлась об ноги, потом запрыгнула на диван и попыталась просунуть усатую головку меж согнутых локтей. Софи погладила кошку. Та заурчала громче, выгнув спину, и явно наслаждаясь лаской. Кошкина настойчивость отчего-то показалась неприятной, Софи почувствовала, как по спине под платьем побежали противные холодные мурашки.
– А жалела ли я и впрямь хоть кого-нибудь? – подумала она. – Детей, животных… Пожалуй. А взрослых? Похоже, что и нет. Они представляются мне сами ответственными за то, что с ними происходит. Значит, и жалеть не за что. Выходит, Аннет права? Когда ж так случилось? Неужели я родилась такой бесчувственной? Нет, наверное, все началось с папы… Я тогда не сумела его пожалеть… И никто не пожалел меня… И… Впрочем, что теперь вспоминать! Прошлого не вернешь, надо жить сегодня, завтра… Сегодня… У меня уж больше нет сил, а еще может Гриша прийти… Или Петя… И надо будет с ними опять разговаривать… Уехать разве? Прямо сейчас… Взять вещи, сослаться на нездоровье…
Решившись, Софи взяла свечу и направилась наверх, в «свою» комнату, которую ей всегда отводили для ночлега в Гостицах. В комнате горничная Агаша стелила постель.
– Не трудись, Агаша, – сказала Софи. – Я сейчас уезжаю.
– Сейчас?! – изумилась Агаша и выпрямилась, уперев кулаки в крутые бока. – Почто ж так? Нехорошо задумали, барышня! Нехорошо! Гроза будет, у меня с утра все кости ломит. Да и ночь скоро… Нехорошо!
– Я ж не советуюсь с тобой, – Софи пожала плечами. Она знала, что прислуга в доме Неплюева относится к ней без особого уважения. Знатная барышня, которая выбрала долю нищей земской учительницы и тянет с выгодным замужеством, казалась им… глуповатой, что ли? Впрочем, у них свой взгляд на мир, и – Бог им судья!
– Я просто сообщаю, чтоб ты лишней работы не делала. Иди вниз, Агаша, вещи я сама соберу.
Когда Агаша ушла, и Софи принялась складывать нехитрые пожитки в кожаный саквояж, который всегда возила с собой, в дверь осторожно постучали. Неужто Гриша?! – нешуточно испугалась Софи. За дверью оказалась Ирен. Она стояла на пороге и молчала. В мерцающем свете свечей Софи разглядывала сестру. За последний год она вытянулась и, пожалуй, подурнела. Рукава синего домашнего платья с детскими оборочками были ей коротки. Нос казался слишком длинным по сравнению с невысоким лбом и небольшим подбородком. Губы, впрочем, были полные и яркие, красивой формы.
– Что ж, Ирен. Видишь, я уезжаю, – не выдержала Софи. – Голова ужасно разболелась. Боюсь припадка. Дома Ольга заваривает какую-то траву, мне сразу легчает. Придется ехать…
– Не ври мне пожалуйста, Софи, – голос у Ирен тоже сменился, стал низким и шел теперь словно откуда-то из оформившейся груди. – Я знаю: они тебя все вынудили. Но я – за тебя. Скажи: что мне делать? Я хочу ехать учиться, но они говорят: не надо. Есть учительница, и гувернер уроки дает, и фортепиано, и все… Модест Алексеевич… Он, знаешь, наверное, согласился бы. Он ведь хороший человек, добрый. Ты знаешь? Он не только с сыном, с нашими мальчиками занимается больше, чем папа. Я же помню все. А он радуется, говорит: наконец-то Бог семью послал. И дети сразу готовые. Я думаю, Аннет повезло. Правда. Если б со мной так, я бы постаралась его полюбить, понять, чем он живет. А Аннет себя изводит, от злости чахнет. Злится на меня, на тебя, на братцев, на Марию Симеоновну даже, что он с ней все время проводит…Бог с ней! Но матушка и Аннет… Они хотят меня здесь держать, а потом – замуж. Мальчики поедут учиться, а я… Они боятся, что я стану как ты… Софи! Мне… Мне душно здесь! Если б ты знала, как душно! Что ж делать?!
– Ирен, рассуди, – Софи старалась говорить осторожно, чтоб не спугнуть младшей сестры. Разница в годах меж ними считалась велика, Ирен с младенчества была молчалива, а после смерти отца и исчезновения Софи и вовсе замкнулась в себе. Так что никакой близости, как, к примеру, с Гришей, у них никогда не было. Сейчас она смотрела на длинные, узкие ступни и кисти Ирен, на ее бледный лоб как на что-то чужое, неясное. – Тебе теперь не надо решать ничего окончательно. Расти, умней, читай книги, наблюдай жизнь. Она сама подскажет. Ты сейчас сама себе противоречишь. Гляди, твой совет Аннет: постараться понять, полюбить человека, с которым свела судьба. Говоришь, что на ее месте поступила бы так. И тут же: не могу, душно! Учиться, поверь, можно по-разному. Если такое будет твое окончательное решение, кончишь курсы, никто тебе помешать не сумеет. Но ведь это не один путь…
– Хорошо, я подожду, – кротко вздохнула Ирен, сразу напомнив Софи себя прежнюю – молчаливую, тихую девочку с толстой темно-русой косой. – Только можно тебя попросить…
– Конечно, Ирен! – горячо откликнулась Софи.
Сочувствие к этой, в сущности, незнакомой ей девочке вдруг затопило ее всю, чуть ли не слезы на глаза навернулись. Бедняжка! Ведь она же не привыкла, не может ни с кем поговорить, и так и живет, страдая от этого выдуманного ею удушья. «Кого ж это мне жалко? – тут же строго вопросила себя Софи. – Ирину? Или себя?» – Ответа не нашлось.
– Конечно же! Сделаю все, что в моих силах.
– Ты не могла бы составить мне список книг… таких, которые надо прочесть… для развития… Я бы прочла. Я же сама не знаю, и спросить не у кого… Может быть, у тебя или твоих… знакомых что-то найдется…
– Разумеется, разумеется, Ирен!
– Спасибо! И ты… ты, Софи, приезжай сюда, пожалуйста, иногда. И… говори со мной. Я понимаю, это не может быть тебе интересно, но мне… мне очень надо, если… Или хочешь, я к тебе приезжать буду, тайком…
– Нет, нет, Ириша, не надо этого! – испугалась Софи, представив, как Ирен тайком бежит из Гостиц, матушка с Модестом и Аннет ее разыскивают и в конце концов обнаруживают у Софи… А если она заблудится или с ней что-то случится по дороге… – Я буду, буду приезжать. И разговаривать мы будем, обо всем, обо всем…
– Хорошо. Я буду ждать, – Ирен потупилась и впервые улыбнулась. – А сейчас я уйду. Тебе уж ехать невтерпеж, я вижу. Езжай. Я маменьке скажу, что у тебя голова разболелась, ты велела проститься. И Тимофея… Сказать, чтоб запрягал? Он только Модеста Алексеевича слушает, но я его упрошу. Он у меня в должниках…
– Тимофей? У тебя?! Как это? – нешуточно удивилась Софи.
– Потом, – Ирен махнула тонкой рукой с длинным запястьем и вышла.
Софи пожала плечами и быстро собрала в саквояж оставшиеся вещи. Уже на лестнице остановилась, уловив за спиной, у притолоки какое-то шуршание. Крыса? Закрутила головой, неуверенно спросила:
– Кто здесь?
И сразу же в ноги, путаясь в ночной рубашке, метнулся Алеша, прижался горячим мокрым лицом, целовал руки, бессвязно бормотал что-то.
– Покайся, Сонечка, молю тебя, покайся! – с трудом удалось разобрать Софи. Она проглотила подкативший к горлу комок, подняла тяжелого мальчишку на руки, погладила по голове. Он вжался лицом в ее плечо, больно придавив носом ключицу.
– Все будет хорошо, Алеша, – сквозь зубы сказала Софи. – Не слушай никого и верь: все будет хорошо!
Внизу в гостиной нервно ходил вокруг Модест Алексеевич, и Софи поняла, что Агаша не удержала новость в себе.
– Что это ты задумала, Софи? – строго спросил Неплюев. – Маменька, сестрицы с братьями расстроены будут…
– Переживут, – буркнула Софи, не в силах больше сдерживаться.
– Случилось что? – Модест Алексеевич подошел ближе, склонился, тревожно заглянул в глаза.
– Голова… – Софи потерла виски.
– Прилегла бы…
– Не поможет. Только настроение всем испорчу. Надо домой.
– Ну, тебе виднее, – неожиданно согласился Модест Алексеевич, и Софи испытала огромное облегчение. – Сейчас распоряжусь. Что твоим-то сказать?
Тимофей, зрелый, красивый мужик лет сорока с лишком, с сединой в густой, окладистой бороде, смотрел неодобрительно, как смотрят на нерадивых хозяев умные лошади или собаки.
Софи избегала его взгляда и, не в силах остановиться, все терла руками виски. «Сколько ж еще можно? Сколько? Отчего так все? – непонятно к чему спрашивала она себя. – Почему ж все у меня так нескладно выходит? Я, верно, все неправильно делаю. Но что же будет правильно? Как узнать?»
Начавшийся дождь бил по верху кареты, в маленькую дырочку наливалась вода. Софи подставила под нее палец, потом облизнула. Дождевая вода показалась горькой и терпкой, как шампанское-брют. Внутри кареты сразу стало промозгло, запахло мокрой шерстью.
Софи зябко повела плечами и упрямо вздернула подбородок. При мысли, что скоро она окажется дома, в своем единственном настоящем убежище, на душе легчало и теплело.
– Эй! Не балуй! Почто это?! Куда?! – послышался крик Тимофея, мало не заглушаемый разрядами грома.
Софи выглянула наружу, и ничего еще не видя в сполошной грозовой кутерьме, душой, морозным ознобом почувствовала присутствие того жизненного явления, о котором так хотела позабыть все эти дни. Звалось это явление – Туманов.
Словно во сне или бреду, подчиняясь как бы чужой воле, чужому сценарию, она вышла под дождь, жестом удалила со сцены Тимофея. Оркестр! Туше! Занавес! Может быть, она произнесла это вслух, потому что на отчаянном, залитом водой лице Туманова мелькнуло недоумение.
Они стояли почти рядом, но видели друг друга лишь при вспышках молний, погружаясь в промежутках в беспросветную тьму, потому что ослепленные зрачки не ловили призрачный вечерний свет.
– Зачем вы здесь? Как? Почему?
– Я тебя ждал, Софья. Я писал, ты не ответила.
– Что ж отвечать? Но как вы знали, что я поеду?
– Я был в деревне, мне Ольга сказала, что ты к родным, в Гостицы уехала. Как назад ехать, нельзя плотину миновать. Вот, я здесь.
– Я могла бы и завтра…
– Я б подождал.
– Здесь, у плотины, в грозу?!
– Что мне? У меня внутри гроза.
– Отчего?
– Ты обиду простила? Или нет? Чего мне сработать, чтоб простила?
– Зачем вам? Мало девушек в городе? Замужних дам? Грушенька вот тоже, очень ничего, если подкормить ее… – Софи понимала, что говорит невозможное, неприличное, стыдное, то, чего не должна говорить ни при каких обстоятельствах, но само нелепое присутствие Туманова раздражало ее до крайности, вызывало говорить и делать глупости.
– Ты не про меня? Так? – волнуясь или забывшись, Туманов начинал говорить на языке городских низов. Литературный язык давался ему лишь сознательным усилием. – Культурная да родовитая, так? Возле таких барынек лишь порядошные рядиться могут? Где же женишок твой? Что ж провожаться-то не поехал?
– Не ваше это дело! – с силой выкрикнула Софи.
– А коли мое? – Туманов сдернул шляпу, приблизил к ней мокрое лицо с прилипшими ко лбу волосами. Глаза с расширившимися зрачками дышали безумством. – Коли мое?
Как в детстве, после няниных сказок, показалось вдруг, что сейчас придет диво дикое, страшное, черное, сгребет ее в охапку, и утащит за синие леса, за высокие горы…
– Подите! Я боюсь вас! – вскрикнула Софи. – Вы мне противны!
Туманов отшатнулся, словно она ударила его по лицу.
– Противны! – Софи топнула ногой, разбрызгивая грязь. – Вы думаете, что вам все можно! У вас деньги, власть, вы мужчина, вы можете добиться, чего хотите. Так?
Туманов помотал головой, не то отрицая что-то, не то просто стряхивая воду с волос.
– Так знайте: не будет по-вашему! Хотите силой, как там, в клубе? Что ж – попробуйте еще раз. Только знайте – Тимофей, он не Иннокентий, он изувечить может… Да и я буду сопротивляться изо всех сил!
– Я не боюсь Тимофея, – тихо сказал Туманов. Слова его приходилось почти читать по губам, между вспышек получались промежутки. – Я… насильничать… не умею… пусть, коли так… зря Грушу послал… самому…
– Это да! – Софи с удовольствием вклинилась в его сбивчивый монолог. Зубы ее стучали от холода, и от этого голос получался как бы дробным, похожим на перестук колес. Растерянное, любимое лицо Гриши стояло перед глазами. – Только вашей Груши в нашей жизни и не хватало! Чего теперь с этим делать – ума не приложу!
– Что ж Груша? – удивился Туманов и повысил голос. – Она милая, тихая девушка. Жизнь у нее тяжело сложилась. Но как она…
– Милая? Тяжело сложилась?! – голос Софи сорвался на визг. – Оставьте! Оставьте, пожалуйста, эту достоевщину! Милые, тихие уличные женщины…Не верю! Чтоб от тяжелой жизни человек стал падшим, или негодяем, внутри должно быть, внутри!
– Понятно, – от шрама на лице Туманова, покрасневшего, точнее, почерневшего от холода, разом отлила кровь. Лицо его от этого стало еще страшнее, напомнив Софи вурдалака из детских сказок. – Я понял, наконец. Тот, кто был там, – негодяй или падший, с гнилью внутри. Неважно, почему. Неважно, как и что потом. Но – оставь надежду. Я понял.
– О чем вы? – в свою очередь удивилась Софи.
– Позвольте откланяться, – Туманов шутовски поклонился и снова надел шляпу, из которой пролились по вискам струйки воды.
– Что у вас за наряд такой? – растерявшись, невпопад спросила Софи. – Никогда такого не видела.
– Это одежда скотоводов из Северо-американских штатов, – холодно-вежливо ответил Туманов. Он уже полностью взял себя в руки, недавнее безумие словно стекло с него вместе с дождем. – Многое в фасоне позаимствовано от местных индейских племен. Очень удобна для верховой езды… Итак…Прощайте!
Он вскочил на коня, который тут же удовлетворенно заржал и взвился на дыбы.
– Туманов! Михаил… – прошептала Софи вслед скачущей среди молний черной фигуре. – Зачем же вы приезжали?
– Охота приличной барышне с сумасшедшими разговаривать! – с явным осуждением проворчал Тимофей. – Весь наряд измочили… Домой повертаемся? В Гостицы?
– Нет, нет! – Софи стиснула руки у груди. Капли дождя, теплея, стекали за пазуху, по спине, бокам, щекотали остывшую кожу. – Ко мне! Быстрее! Домой! Домой, Тимофей, или я сейчас умру!
– Вот напасть-то! – бормотал Тимофей, нахлестывая храпящих, пугающихся грозы лошадей. – Божье наказание для дома – молодые девицы. Да особливо если грамотные. Такое в головах начинается, что ни Боже мой… Одна тогда дорога отцу – быстрее взамуж отдавать… А ежели отец в могиле? Ох-те-те, грехи наши тяжкие…
Элен Головнина никогда не любила, да и не умела выставлять напоказ своих чувств, но сейчас любому видно было, что она до крайности рада гостям. Обычно плавная и вовсе несуетливая в движениях, она нынче торопилась, совершая множество моторных неловкостей, и то ставила чашку мимо блюдца, то опрокидывала табуреточку, то спотыкалась об жирненькую тушку ласкавшегося к девушкам мопса.
Софи и Оля Камышева смотрелись в роскошной гостиной Головниных весьма инородно. Обе были одеты в простые шерстяные платья (у Софи – синее, у Оли – серое), не носили украшений и не пользовались румянами и помадой. Софи с улыбкой наблюдала за подругой и время от времени призывала ту сесть и перестать суетиться, Оля молча поджимала тонкие губы.
Все трое происходили из одного круга, и в детстве и ранней юности были очень дружны. После их пути разошлись.
Блеклая, некрасивая Оля очень рано увлеклась передовыми идеями, мечтала отдать жизнь за «благо народа», и нынче практически порвала с богатой и знатной семьей, уйдя жить в коммуну единомышленников.
Правильная, положительная Элен в семнадцать лет вышла замуж за своего единственного поклонника – Василия Головнина, родила в браке двоих детей и была вполне счастлива своей участью. Ее тонкая, не слишком заметная, несколько меланхолическая девическая красота после родов обратилась в тихую плотскую успокоенность. Элен пополнела, ее лицо округлилось, а чистая кожа весь год сохраняла белоснежность с каким-то едва уловимым медовым оттенком. В юности Софи сравнивала ее с курицей, а нынче во всем облике подруги ей виделось что-то булочно-съедобное.
Сама Софи после самоубийства отца, открытия его долгов и полного разорения семьи уехала в Сибирь за романтическим приключением в лице мелкого мошенника Сержа Дубравина. Благополучно пережив выпавшие на ее долю испытания и явственно ощутив на себе шкуру законченной авантюристки, она спустя полтора года вернулась в Петербург и, по настоянию Элен и на основе присланных ей из Сибири писем, написала роман, который имел неожиданный для Софи успех.
После возвращения Софи из Сибири подруги виделись редко. Софи и Элен переписывались, сохраняя друг к другу детскую симпатию, но далеко не всегда понимая друг друга. Оля же вращалась в кругах настолько радикальных, что даже либерализм Софи казался ей недостаточным. Впрочем, и у них находились общие знакомые, в их числе была, например, Матрена Агафонова, которая так не полюбилась Аннет.
Теперь Элен пыталась развлечь подруг миндальными пирожными и светскими новостями. Ее мелодичный голос и не слишком острый, но последовательный и наблюдательный ум делали забавными и милыми даже грязноватые петербургские сплетни. Софи слушала охотно, и по своей всегдашней привычке коротко записывала что-то в маленький блокнот.
Оля морщилась все сильнее и в конце концов прервала хозяйку.
– Да полно, Элен, – сказала она. – Будет об этих бездельниках толковать. Что нам до них? Расскажи лучше о себе, мы сто лет не видались. Что – ты? Чем живешь, о чем думаешь?
– Я? – Элен видимо растерялась, отыскивая в своей жизни нечто, что могло бы заинтересовать Олю. Софи смотрела на подругу с ироническим сочувствием, в полной мере осознавая безнадежность задачи. – У меня… У меня вот Петечка намедни весь пятнами пошел и щечки шелушились, мы кори боялись, а доктор сказал, что сыпь у детей бывает, если цитрусов поесть. Я же не знала, у Ванечки такого никогда не бывало, сколько б не съел. Доктор сказал, хоть и братья, а природная конституция разная. Теперь я Петечке цитрусов не даю, а Ванечка его нарочно дразнит. Прямо не знаю, что делать…
– Да-а, проблема… – протянула Оля. – А в нечерноземных губерниях – голодный тиф. Сто тысяч детей, по статистике, досыта ест лишь раз в неделю…
Элен страшно смутилась, опустила голову так низко, что стал целиком виден безукоризненный пробор. Софи взглянула на Олю с неодобрением. Мопс, сопя, встал на задние лапки и принялся проситься на руки к Софи, царапая подол розовыми тупыми коготками.
– Ну какая лапочка! – сказала Софи, проворачивая по часовой стрелке сопливый кожаный нос мопса. – До чего ж у него морда дурацкая!
– Ну да! – торопливо подхватила Элен. – Ужасно глупая псина! Прямо не знаю, чего в нем так Васечке нравится. Вот давечи Петечка покакал в горшочек, няня отвернулась ему попку вытереть и штанишки надеть, а этот дурак мордатый, представляете, подбежал и все съел. Ужасный конфуз!
– Наверное, ему не хватает веществ каких-нибудь, – деловито сказала Софи. – У нас Леша, когда маленький был, мелки ел и землю иногда. Доктор велел ему скорлупу яичную в ступке толочь и в творог добавлять. Он сразу перестал…
– Верно? – удивилась Элен. – А я и не подумала, сочла, что это он по глупости своей… Хорошо, что ты сказала. Я велю Маняше, чтоб она ему еду поменяла. Он вообще-то ест плохо, хотя и жирный… – Элен встретилась глазами с Олей, замолчала и мучительно покраснела.
– Элен, дорогая! – решительно сказала Софи. – Не будь дурой! Если где-то под Пензой или, допустим, в Африке голодает ребенок, то это вовсе не значит, что ты теперь должна уморить с голоду своего дурака-мопса.
– Я понимаю, Софи…
– Мне странно вас слышать, – горячо произнесла Оля, вставая. – Если бы это кто другой был, так я с определением не затруднилась бы. Но вас я с детства знаю. Вы обе более чем не глупы, хотя у Элен нынче уж мозги слегка жиром заплыли… Как будто сегодня это можно забыть или уж как-нибудь не заметить: мир устроен несправедливо, и единственно достойно для человека нашего круга сейчас все силы отдать, чтоб эту несправедливость исправить. Иначе нам не простят…
– Но как же возможно… – начала Элен, но ее перебила Софи.
– Видишь ли, Оля, – сказала она, накручивая на палец локон. – Я отчего-то не хочу и не жду, чтоб меня прощали. Мне это отчего-то не нужно, понимаешь?
– Ты не осознаешь своей личной вины перед народом? – почти с испугом спросила Оля.
– Не осознаю, – Софи отрицательно помотала головой. – Я работаю, учу детей. Муж Элен тоже служит…
– Служба! Сидеть в присутствии, с 11 до трех часов, с перерывом на чай! Ха! Тяжелая работа! – с презрением воскликнула Оля. – Рабочие на иных фабриках и мануфактурах до сих пор борются за одиннадцатичасовой рабочий день. Вы услышали? Одиннадцатичасовой!
– Но Оля! – кроткая Элен, смиренно переживающая нападки личного характера, не выдержав, вступилась за мужа. – Каждый же свое дело делать должен. Если Васечка получил образование, понимает в законах, зачем же ему – землю пахать или заборы красить? Это даже не рационально…
– Вот! – закричала Оля. – Ты сама сказала! Образование! А какое образование может у нас получить сын кухарки? Дочь фабричного рабочего? Дети уличной девки?
Элен моляще взглянула на Софи, ища поддержки. Софи промолчала, вспомнив Туманова, который, несмотря на все свои миллионы, так и не научился грамотно писать. Потом вздохнула.
– Знаете, девушки, давайте о бритвах больше говорить не будем, а лучше о музыке.
– О музыке? – удивилась Элен, прекрасно осведомленная о полной и окончательной немузыкальности подруги.
– О бритвах? – Оля подняла белесые брови.
– Не знаете? – рассмеялась Софи. – Слушайте тогда. Девицу учат, как обольстить кавалера. Объясняют ей: когда останетесь наедине, сначала надо поговорить о погоде. Потом о чем-нибудь возвышенном, например о музыке. Ну уж а после надо сказать что-нибудь остренькое, чтоб он понял, что ты не окончательная дура. Вот девица с кавалером. Он ждет. Она все помнит, выпаливает одним духом: «Какая чудная погода! Училась музыке три года… Бритва!»
Рассмеялись все трое. Мопс изловчился и залез-таки на колени к Оле. Девушка рассеянно гладила его кремовую шерстку и мяла жирный загривок. Мопс закатывал шоколадные глаза и сладострастно сопел.
– Ну, а как ты поживаешь, Софи, расскажи же, я знать хочу? –
Обращаться с таким же вопросом к Оле Элен опасалась, так как жизнь коммуны едва ли не наполовину состояла из каких-то тайных собраний, обсуждений и подготовки загадочных «акций», про которые нельзя было рассказывать никому, тем более таким ярким представителям «эксплуататорских классов», какими, несомненно, являлись супруги Головнины.
Софи не очень хотелось говорить при Оле, но и удержаться она не могла. Когда-то еще доведется повидаться с Элен?
– Я к тебе писала, что Туманова там, на плотине прогнала окончательно. Помнишь? Так вот. Он более на глаза мне не являлся, но третьего дня прислал с посыльным вот это…
Софи протянула подруге большую, прекрасно изданную книгу, остро пахнущую клеем и дорогой бумагой. Элен перелистала ее, задерживаясь взглядом на иллюстрациях.
– Какая прелесть! – воскликнула она и передала книгу Оле. – Я хочу себе такую иметь. Но как…
– Я не знаю. Я даже боюсь спрашивать, потому что не уверена, что хочу знать. Есть какие-то юридические вещи, права… Скорее всего, он просто дал издателю Алмазову деньги… Понимаешь, в том разговоре он действительно обещал мне издать мой роман на роскошной бумаге… Крупным шрифтом, с картинками… Ты их видела? Это Срезневский рисовал, он модный сейчас и дорогой, русские народные сказки иллюстрировал…
– Чудесные иллюстрации, – согласилась Оля. – Такие дремучие все, совершенно сказочные. Машенька в ледяном дворце хороша, а Печинога – так просто чудище аксаковское… А кто этот Туманов?
– Владелец модного игорного дома на островах, – сухо сказала Софи.
– А! Дом Туманова? Слыхала, слыхала, – Оля отчего-то оживилась. – Так он же богат несметно. С ужасной репутацией и родом откуда-то из самых низов. Как же ты с ним познакомилась?
– Случайно, абсолютно случайно, – Софи упрямо выпятила подбородок.
– Так ли? – спросила Оля и о чем-то задумалась.
Глава 6
В которой Оля Камышева и Софи Домогатская беседуют о революции, а Михаил Туманов рассказывает Иосифу Нелетяге кое-что о своей юности
На улице решили не брать извозчика, пройтись пешком до Олиной коммуны, которая располагалась в доходном доме на 4-Рождественской улице, недалеко от Овсянниковского сада. Шли не торопясь. Софи кидала вокруг внимательные, профессионально цепкие взгляды, часто оглядывалась. Оля горестно всплескивала руками:
– Обидно! Обидно мне за Элен, право! Вот так люди гибнут. Перестают мыслить, опошляются, погружаются в этот обывательский засасывающий быт. Не видят дальше собственного носа, забывают обо всех возвышенных целях, о чужом горе…
– Мне кажется, что Элен счастлива, – флегматично заметила Софи.
– Тем хуже! – темпераментно вскричала Оля. Прохожие оборачивались на нее, но она этого не замечала. – Тем хуже для нее, если это мелкое, сиюминутное счастье заслонило для нее все великие перспективы мировых задач, которые стоят перед нынешним поколением. Для настоящего дела она погибла. Но что ж осталось? Сыпь, цитрусы? Какашки, которые слопал раскормленный мопс?! Какая гадость!
Софи слушала задумчиво, наматывая на палец локон, а потом серьезно спросила:
– А что, Оля, настоящие борцы за народное дело, они что же – вовсе не какают?
На несколько секунд Оля онемела.
– Знаешь, – использовала паузу Софи. – Я как раз хотела с тобой посоветоваться. Это глупость, конечно, но мне кажется, что за мной следят.
– Следят?! За тобой? – Оля мигом подтянулась, даже сама походка ее стала более четкой и экономной в движениях. – Когда ты заметила? Отвечай, голову к земле опусти… Они, некоторые, могут по губам читать, их специально учат…
– Уж несколько дней. Как в Петербург приехала. Всегда один и тот же. Он даже не прячется. Вон, сейчас сзади идет, оглянись – увидишь. Большой такой, с русой бородой, в сапогах… Видишь?
– Вижу! – ответила Оля, тоже внимательно разглядывая плиты тротуара. – И ничего не понимаю. Он вовсе на шпика не похож. Те серые, незаметные, а этот… такого в любой толпе разглядишь… И отчего же за тобой? Ты у себя литературу какую-нибудь запрещенную хранишь? Листовки, прокламации?
– Да нет! Зачем мне?
– Не понимаю… Что ж, он так за тобой и ходит?
– Вот так и ходит… Вроде ничего плохого. Но… жутковато как-то…
– Понимаю… это опасно может быть… Вдруг у него мания какая-нибудь…
– Да не пугай ты меня еще! Я и так боюсь!
– Я сейчас! – решительно сказала Оля, и, прежде, чем Софи успела ей помешать, развернулась на каблуках и направилась к могучему русобородому мужику, который неторопливо шел вслед за девушками по улице и глазел на витрины магазинов.
– Зачем вы за моей подругой ходите? – остановившись вплотную к преследователю, Оля задрала вверх треугольный подбородок. – Ее это пугает. Это бестактно и невозможно. Я в полицию обращусь. Кто вы такой?
– Я? – мужчина слегка попятился, видимо смущенный неожиданным напором. – Я – Калина Касторский. А вы кто же будете?
– Я – Ольга Камышева. Настоятельно прошу вас оставить Софи в покое.
– Никак невозможно, – вздохнул Калина. – Деньги вперед уплачены, я уж их проел-пропил почти. Никак невозможно, уж простите покорно, и барышня пусть простит, коли ей в докуку…
– Как – деньги? Какие деньги?! – теперь уж запаниковала сама Оля. – Кто вам платил? За что?
– А этого вам знать не велено, – Касторский смущенно пожал могучими плечами. – Никак не могу сказать, хоть вы меня на куски режьте…
– И что ж – вы так и будете ходить?
– Так и буду, – подтвердил Калина. – А вы, барышня Ольга, – идите, идите, не мешайте мне здесь. А я вам мешать не стану. Так и миром выйдет…
Крайне обескураженная Оля вернулась к Софи и рассказала о результатах переговоров с преследователем. Калина между тем с внимательным интересом рассматривал витрину магазина, в котором продавались дамские корсеты.
– Знаешь, он не кажется опасным, – закончила Оля свой рассказ. – Но все это крайне глупо. Может быть, это твой Петр Николаевич нанял его за тобой следить?
– Да нет, что ты! – воскликнула Софи. – Пьеру такое и в голову никогда не придет!
– Тогда просто не знаю, – вздохнула Оля. – По крайней мере он не филер, за это я, пожалуй, могу поручиться.
– Ну ладно, – подумав, сказала Софи. – Если избавиться от него нельзя, то пусть ходит… Как, ты говоришь, он назвался-то?
Оля повторила и тут же, сочтя тему исчерпанной, снова заговорила о болоте бытовой пошлости, которое засасывает образованных женщин и не дает им посвятить себя борьбе за освобождение трудового народа. Впрочем, через некоторое время какая-то новая мысль пришла ей в голову.
– А что ж у тебя с Тумановым-то? Расскажи, – попросила она.
– Ничего! Зачем тебе? – разом ощетинилась Софи.
– Просто интересно, – примирительно сказала Оля. – Может такое быть? Или ты полагаешь, что я, кроме идейных вещей, уж и чувствовать ничего не могу? Я ж, как и ты, девица. Идеи идеями, а любопытство-то девичье за пояс не заткнешь. А тут еще такая фигура экзотическая… Объяснила ли?
– Пожалуй, да, – подумав, согласилась Софи.
– Так расскажи мне. Опасаться тут тебе нечего совершенно. Знаешь ведь, насколько я неболтлива. И по природе так, а уж нынче, в условиях сплошной конспирации… Скоро и вовсе говорить разучусь…
– Ну, уж это-то тебе не грозит! – искренне рассмеялась Софи. – В крайнем случае будешь молчать от собрания до собрания и от митинга к митингу…
– Я тебе сто раз говорила, Софи, – Оля нахмурилась. – Ты зря так легкомысленно ко всему этому относишься. Это не доведет до добра. Оттого, что наше с тобой сословие делает вид, будто не замечает симптомов болезни, излечения не наступит. Болезнь надо лечить. Если придется для спасения жизни больного, то и хирургическим путем…
– Оля, ты знаешь, я не верю в то, что бомбами и убийствами случайных людей можно вылечить общественную болезнь.
– Я тоже не считаю революционный террор панацеей. Его можно применять в очень ограниченных дозах. Но, если ты, как и я, не приемлешь радикальных форм борьбы, то это не значит, что не существует других способов, если угодно, терапевтических, и я могла бы познакомить тебя…
– Оля, уволь! – с досадой воскликнула Софи. – Не станем опять!
Этот разговор с теми или иными вариациями повторялся практически при каждой встрече подруг, и теперь Софи вовсе не хотелось бежать по давно известному кругу. К тому же ей вдруг показалось, что строгая, идейно-рациональная Камышева скорее, чем сдобно-карамельная Элен, непоправимо утонувшая в пуховой перине счастливой семейной жизни, примет и поймет историю ее диких отношений с владельцем Дома Туманова. К тому же Оля, фактически порвавшая с семьей и своим кругом, подчеркнуто отказалась от всех сословных предрассудков, видя носителя окончательной, базовой истины и правды в каком-то абстрактном (и совершенно непонятном Софи) народе. А Элен, как ни крути, живет и действует в рамках своего сословия и соответствующего ему мировосприятия. Туманов же явно выпадает за рамки Элен. А за рамки Оли? Это вопрос, на который нет ответа.
– Лучше я тебе про Туманова расскажу, – решительно сказала Софи.
– Я слушаю, – тут же перестроилась Оля и взглянула на подругу с внимательной и искренней заинтересованностью.
– Иосиф здесь? Знаешь? Видал его? – Туманов задал вопрос и отвернулся.
Все равно представилось отчетливо, какую гримасу состроил Иннокентий. Если сдержанный управляющий кого ненавидел, так это безобидного Иосифа Нелетягу – вечного нищего студента и доморощенного философа. Причем причины этой ненависти казались всем окружающим абсолютно иррациональными – Иосиф никогда и ничего дурного Иннокентию Порфирьевичу не сделал и даже держался с ним с несвойственной ему почтительностью.
– У девочек в номерах. Где ж ему быть, охальнику? И охота вам…
– Порфирьич, у нас тут не монастырь! А я – не настоятель. Ты не позабыл ли? – усмехнулся Туманов.
Иннокентий хотел было плюнуть, но удержался, провел по губам маленькой, сухокожей ручкой.
Соседний с клубом двухэтажный флигель любому прохожему показался бы стоящим отдельно. В нижнем этаже его помещалась шляпная мастерская Прасковьи Березкиной. В двух обширных витринах на гипсовых головках красовались замысловатые, вычурные шляпки, напоминавшие зрителю то корзину с фруктами, то клетку с тропическими птицами, а то – цветущую клумбу. Наверху в комнатах жили девушки-мастерицы. Две из них действительно умели изготовлять шляпки и с удовольствием занимались этим в свободное от прочих дел время. Из клуба на второй этаж мастерской шла тайная для большинства галерея, по которой нуждающиеся могли попасть к мастерицам, не выходя на улицу.
По этой галерее и проследовал Туманов. Одна из девушек, выразительно стреляя глазками и явно на что-то рассчитывая, указала ему комнату, где видела Нелетягу. Туманов в благодарность ущипнул девицу за тощую задницу (девица польщено взвизгнула) и помахал ей рукой: иди, мол. Вышколенная Прасковьей девица моментально испарилась. Туманов, который, несмотря на свои размеры, умел ходить абсолютно бесшумно, подошел к двери, приоткрыл щелочку (хорошо смазанные петли не издали не звука) и осторожно заглянул внутрь.
Значительную часть небольшой, но уютной комнаты занимала обширная, практически квадратная кровать. Из прочей мебели имелись умывальник, трельяж и пуфик к нему. Дебелая раскормленная девица в ночной кофточке и панталонах с кружавчиками лежала на кровати на животе, ела с блюдца орешки в сахаре и листала модный журнал. Положив голову на ее обширные, туго обтянутые панталонами ягодицы поперек кровати спал относительно молодой худощавый мужчина в нательной несвежей рубахе и без штанов. Поза у него была совершенно детская – тощие колени подтянуты к животу, ладони спрятаны между бедер, так, что видны лишь узкие запястья, поросшие густым черным волосом.
– Иосиф, так тебя разэтак! – гаркнул Туманов.
Девица с испуганным придушенным писком скатилась за кровать. Нелетяга, разом лишившийся своей подушки, поднял голову, одновременно попытавшись натянуть рубашку на чресла. Потом спустил босые ноги на пол и, хлопая спросонья темными, удивительно длинными ресницами, недовольно уставился на Туманова.
– Михаил, ну чего тебе от меня надо? – капризно спросил он.
– Р-развратничаешь?! На дармовщинку? – прорычал Туманов, тщетно пытаясь изобразить возмущение.
– А что тебе-то? – удивился Иосиф. – Заботишься о прибыли заведения? Нельзя быть таким жадным. Слыхал о верблюде и игольном ушке? Вот то-то! Мы с Дашей полюбовно договорились и… А, может, ты, Михаил, ревнуешь, а? – Нелетяга кокетливо улыбнулся во весь рот. Половины зубов у него не хватало. – Признайся наконец! Когда я предлагал тебе свою любовь, ты меня с презрением отверг, а теперь одумался, а? Ведь все бабы дуры от природы, и только мужик может по-настоящему понять мужика. В том числе и в постели…
– Пошел к черту! – абсолютная моральная всеядность Нелетяги не то, чтобы раздражала Туманова (он и сам был таким), а как-то обескураживала. Так, вероятно, может обескуражить собственное отражение в зеркале, увиденное в неожиданном ракурсе или обрамлении. – Прикрой срам и пошли со мной. Дело до тебя есть.
– А здесь нельзя? – жалобно спросил Нелетяга. Ему явно не хотелось вставать, одеваться и куда-то идти. – Дашка уши заткнет.
– Здесь нельзя, – категорически заявил Туманов.
Умный Иосиф легко улавливал окончательные нотки в голосе хозяина заведения. Вздохнув, он почесал заросший темной шерстью пах и, откинувшись назад, заглянул за кровать.
– Дашка, ты вылезай теперь и, сделай милость, отыщи мои брюки…
В кабинете Туманов вытащил из ящика пыльную бутылку вина, содрал сургуч, вывинтил пробку, разлил в стаканы, разом отхлебнул половину. Иосиф осуждающе покачал головой.
– Михал Михалыч, что ж ты делаешь-то! Это же не бражка тебе. Коллекционное вино, понимать надо.
– Ты и понимай, – ответил Туманов. – Вон там мясо на закусь лежит, да конфекты в бумажках. Мух только сгони. Вот напасть! Везде они уж подохли, а у меня в заведении – живы, бодры…
– Мухи, они, сам знаешь, природным предрасположением ведают, куда лететь, на что садиться… В твоем же заведении душок-с…
– Будет тебе! А не то по морде схлопочешь… – равнодушно предупредил Туманов.
– Сироту всякий обидеть норовит, – обиделся Иосиф. – Зачем звал?
– Сказал же – дело есть. Сам разобраться не могу, надобно со стороны поглядеть. Как ты говорил – анализ и сантализ?
– Синтез, – поправил Нелетяга.
– Да мне едино!
– Ну рассказывай тогда.
– Только учти – если кто узнает…
– Да что ты меня пугаешь-то?! – Иосиф явно разозлился. – Я тебя за язык тяну? Нет! Нужны мне твои тайны, как солдату воши. Хочешь – говори, не хочешь – не говори. Когда Нелетяга лишнее разболтал?
– Ладно, не злись, – Туманов примирительно помахал рукой и допил из стакана рубиновое вино. – Это я так, по привычке. Мир таков – никому верить нельзя…
– Мне – можно, – сказал Иосиф Нелетяга.
Туманов усмехнулся.
– Тогда слушай. Началась эта история шестнадцать лет назад. Я обретался тогда в Лондонском порту, куда только что приплыл на шхуне «Морская жемчужина» из Северо-Американских штатов…
– Интере-есно ты жил, – с завистью протянул Иосиф.
– Куда там! – согласился Туманов. – Все заработанные деньги я к тому времени уже пропил и пробавлялся драками возле одного из кабаков. За каждую победу в кулачном бою (англичане называют это боксом), кабатчик кормил меня и давал эля. Забава казалась хозяину очень привлекательной и выгодной, потому что каждый вечер в его кабаке собиралось много народу поглазеть, как английские портовые грузчики будут пытаться меня убить. Все знали, что я иностранец и, естественно, все, кроме кабатчика, блюдущего свой прибыток, желали победы моему противнику.
Именно в порту я и познакомился с женщиной по имени Саджун. Ей указали на меня, как на русского, а она как раз хотела попасть в Россию. Она подобрала меня после одной из неудачных для меня драк, дала денег кабатчику (он не хотел меня отпускать) и увела к себе. Я был так избит и измучен, что едва держался на ногах. Когда она уложила меня на кровать и раздела (у меня просто не было сил сопротивляться ее рукам), то заплакала и сказала, что человек не может так обращаться со своим телом, потому что тело – это сосуд божественной энергии Шакти. На мне не было живого места от ссадин и синяков и, наверное, я действительно выглядел не очень. Я ничего не понял про Шакти, но никто никогда не проливал надо мной слез. Кажется, я тогда тоже заплакал (едва ли не первый раз в жизни).
Она быстро поставила меня на ноги какими-то восточными снадобьями и своей любовью. Каждый раз, когда мы с ней соединялись, она говорила мне, что в нас воплощается пара каких-то божеств, и в процессе слияния мы наново творим мир. Кроме того, в постели она указывала мне, куда смотреть, что делать, как дышать и о чем думать. Она была старше и куда умнее меня. И наконец, она, как я понял, была жрицей какого-то бога, а я – неверующим безродным бродягой. Я подчинялся ей во всем. И, поверь, мне еще никогда в жизни не было так хорошо.
– Завидую, право, – серьезно сказал Иосиф. – Теперь, после твоего рассказа, я, пожалуй, понимаю, почему ты к нашим шляпницам почти не ходишь.
– Да, это невозможно сравнить. И вот, когда я совсем поправился и окреп, она сказала, что ей нужна моя помощь в очень сложном и опасном деле. Сам понимаешь, что к тому времени я готов был, не раздумывая, отдать за нее жизнь. Она стала мне сестрой, матерью, любовницей и другом. При этом надо учесть, что в реальности никого из приведенного списка у меня никогда не было.
Я заверил ее в своей готовности помочь и попросил ее рассказать подробнее. На первый взгляд дело показалось мне простым. Нужно было поехать в Россию и украсть у князей Мещерских огромный сапфир, которому молва уже присвоила кличку «Глаз Бури»… Я потом видел его. Он действительно очень большой и редкого окраса. По краям такая глубокая синь, а в самом центре – светлая голубизна. Удивительно красиво и… страшно, пожалуй. Я же и в «глазе» настоящей бури бывал…
– Ничего себе! – присвистнул Иосиф.
– Воровать мне доводилось и раньше. Правда, по сравнению с «Глазом» – по мелочи и преимущественно в одиночку. Но теперь со мной была мудрая и любящая Саджун, и я был бодр и уверен в успехе. Я даже не просил ее рассказать, зачем ей этот сапфир. Тебе, наверное, трудно поверить, но мне это было неинтересно.
– Я верю, – сказал Нелетяга. – «Глаз Бури» был нужен Саджун, а остальное не имело значения.
– Так и было, – согласился Туманов и взглянул на философа с удивлением и признательностью. – Но Саджун сказала, что я должен знать. Я не буду подробно рассказывать тебе эту историю, потому что и сейчас не слишком уверен в ее полной достоверности. Я до сих пор думаю, что Саджун рассказала мне лишь то, что захотела, а вовсе не то, что случилось на самом деле. Но это, как ты понимаешь, было ее право.
В ее родной стране, Бирме, люди поклоняются разным богам. Но большинство поклоняются богу по имени Будда. Для этого Будды они строят храмы и делают его золотые статуи. Ее страна – очень бедная, и люди там нищие даже по нашим меркам. Но золотые статуи Будды украшены огромными самоцветами. Это важнее всего, потому что здешняя жизнь, по их мнению, это что-то вроде одного из мелких полустанков на пути к какой-то сияющей цели, хранителем и поручителем которой этот самый Будда как раз и является. Прислуживают в храмах монахи с бритыми головами. За Бирму долго воевали французы и англичане. Но как-то монахам удавалось большинство этих статуй сохранить от разграбления и поругания. Они полагают, что им помогал Будда. Согласись, что любой монах на их месте думал бы так же. Потом англичане победили. В Бирме есть свой король и королевский двор. Но реально там правят англичане и их резидент. Я забыл, как это называется… Протекторат, вроде бы так…Формально и сами бирманцы, и английское правительство охраняют все эти сокровища и, если кто-нибудь что-то оттуда сворует, то ему придется отвечать по закону. Закон законом… но даже англичане остаются людьми и им кажется несправедливым, что какой-то ложный дикарский бог присвоил себе столько красивых и полезных камней, которые можно превратить в полновесные фунты и шиллинги. Много-много фунтов и шиллингов…
В общем, шестнадцать лет назад один из английских офицеров провернул довольно ловкую операцию, втемную задействовав свою любовницу из местных (ею и была юная Саджун) и ее брата – монаха одного из местных храмов. В результате из короны самого здорового Будды исчез огромный сапфир. Доказать никто ничего не мог, а молодые люди чувствовали себя… ну, право, я не знаю, как чувствуют себя люди, оскорбившие своего бога, но могу предположить, что это чувство не из приятных…
– Слушай, Михаил, ты что, всю эту историю на бумажке записал и наизусть выучил? – с интересом спросил Иосиф.
– Почему это? – удивился Туманов.
– Да говоришь так, как будто урок отвечаешь.
– Ну… не знаю… Может быть. Я много думал об этом, слова подбирал. Ты же знаешь, я двумя способами говорить могу – для простых и для знатных…
– А я у тебя, значит, в знатных числюсь? – Иосиф польщенно ухмыльнулся.
– Ща я тебя разом в другое обчество переметну и звездану в придачу промеж наглых зенок, штоб в другой раз не по делу хайло вонючее не раскрывал, – кровожадно пообещал Туманов.
– Нет, нет, Миша, не надо! – торопливо замахал руками Нелетяга. – Рассказывай дальше. Мне очень интересно.
– Так я про то, получается, уже все и рассказал. Дальше было просто. Молодой монах снесся с сестрой и повинился перед своим храмовым начальством. Сначала Саджун пыталась выведать, где англичанин хранит украденный сапфир и украсть его обратно. Но он, видать, дураком не был, и в своем жилище сокровище не хранил. Понятно было, что продавать камень и обращать его в деньги он будет уже в Англии. Тогда они все вместе придумали план. Когда офицер собрался ехать домой, Саджун умолила его взять ее с собой.
– Вот в это трудно поверить, – вставил Иосиф. – Зачем ему такая обуза?
– Видишь ли… – Туманов впервые затруднился с объяснением. – Некоторые бирманки, вроде Саджун, они по своим верованиям владеют искусством… искусством любви, если хочешь… Саджун жила с этим офицером два года, а он был уж немолод и…
– И он уж привык к этим восточным философски-постельным излишествам, о которых ты говорил, а в Англии на подобное обслуживание рассчитывать никак не мог, верно? – легко сформулировал Нелетяга.
– Да… верно, – облегченно вздохнул Туманов. – Саджун поехала с ним, а ее брат вскорости нанялся матросом еще на одно судно, которое шло следом. Все у них должно было получиться, но на беду Саджун чем-то заболела, видимо, от непривычной пищи, слегла, команда и пассажиры опасались заразы, и англичанин, который торопился домой, высадил ее на берег в каком-то промежуточном порту. К его чести надо сказать, что денег он ей оставил и тамошнему врачу за лечение заплатил.
Когда Саджун поправилась и добралась до Лондона, было уже поздно. Англичанина-то она отыскала, да сапфира при нем уже не было. Понимая, что долго хранить у себя такую вещь опасно, он немедля продал ее на Лондонском аукционе, разумеется, через подставных лиц. Купил же «Глаз», как ты, наверное, уже догадался, старый князь Мещерский, находившийся в Лондоне с миссией от двора или по каким-то другим делам. Тогда-то вновь повстречавшиеся брат и сестра и принялись искать пути в Россию.
– А что же англичанин, который заварил всю эту кашу? – с интересом спросил Иосиф. – Твоя Саджун его отравила? Или придушила во время любовных утех?
– Не думаю, хотя она мне ничего не говорила на этот счет, – Туманов пожал плечами. – Буддисты вообще не мстят, потому что это ужасно отягощает дхарму мстителя. По их вере, возмездие само находит человека. Не в этой жизни, так в следующей…
– Это, значит, я нынче кошелек спер, а в кутузке в следующей жизни сидеть буду? Неплохо… – задумчиво протянул Нелетяга. – Не податься ли мне теперь в буддисты? Католиком я уже был, мусульманином был, иудеем вроде тоже был… И везде от меня требовалось как-то себя ломать… Грех, грех! Нервные они какие-то все, к человеку недобрые… А вот если Будду взять…
– Прохиндеем и бездельником ты был, остался, им же и помрешь! – припечатал Туманов, безжалостно обрывая рассуждения Иосифа. – Слушай дальше.
Порешили, что в Россию поедет одна Саджун, а брат будет ее ждать в Лондоне. Он вовсе дик, в Европах за версту виден, как клоп на простыне, а она-то за жизнь с англичанином пообтесалась, способности у нее к языкам обнаружились…
В общем, приехали мы с ней в Россию вдвоем. Жили как бы семьей, но не высовывались особо. Я грузчиком работал, на фабрике, она хозяйство вела, училась по-русски говорить. Хорошо это у нее получалось, быстро.
После стали придумывать, как бы к Мещерским подобраться. С улицы в дом влезть – об этом и подумать не моги, одних слуг человек двадцать, да и где сапфир искать?
Я бы сам отступился, наверное. Но у Саджун такого и в заводе не было. Придумала она довольно сложный и долгий план. Но иначе-то и не вышло бы ничего. Сперва мы с ней разошлись, будто и не знакомы, и не встречались никогда. Потом я устроился к Мещерским на кухню. Принеси, брось, подай. Я тогда по-русски чуть не хуже Саджун говорил. Все меня дураком считали, больным слегка на голову. Впрочем, я был сильный дурак, услужливый, со всеми ладил.
А Саджун заделалась гадалкой и ясновидицей. Как уж там это у нее все шло, не знаю, потому что не видал ее тогда вовсе, встречаться с ней она мне запретила категорически. Как же я по ней тогда тосковал! Но слово ее ни разу не нарушил. Хоть и хотелось иногда сбегать, одним глазком поглядеть, одним пальцем потрогать…
У хозяев моих, князей Мещерских, тогда как раз многое решалось. Замуж они выдавали единственную дочь – Ксению. И брак наклевывался такой… ну, как бы сказать… сомнительный, в общем… Хоть и был жених знатен и собой хорош… душок за ним нехороший тянулся… Но Ксении он нравился, да и замуж хотелось.
Саджун какими-то их восточными ухищрениями с детства владела. Я доподлинно знаю, на своей шкуре пробовал. Благовония всякие, да шарики серебряные качаются, да колокольчики… В общем, умела сделать так, что уж и понять нельзя, на каком ты свете и что вообще происходит… Вот все это искусство она и применяла в гадальном ремесле и скоро стала в петербургском свете модной и очень известной. Не сразу, но ее расчет оправдался, и Мещерские на эту известность клюнули, как рыбы на червяка. Старый князь тогда в отъезде был, а княгиня и княжна тайком пригласили Саджун в свой особняк провести гадательный сеанс в смысле благополучия будущего брака. Саджун поломалась немного и пришла. Я к тому времени уже все потребное выведал и даже тайник старого князя за портретом подглядел (на меня в доме и внимания особого не обращали – что с дурака возьмешь? – но, если надо было что-то тяжелое поднять, передвинуть, мебель там или еще что – всегда звали).
В общем, тайна, благовония, Саджун в золотой накидке и золотых сандалиях, бормочет что-то по своему, потом, вроде, танцевать начала… шу-шу-шу! – все собрались в дубовой гостиной на сеанс, слуги на цыпочках бегают вокруг, подглядывают, подслушивают…
Кто будет за дураком приглядывать? А дурак-то как раз в это время сапфир из тайника и унес.
– А еще там что-то было? Ну, кроме сапфира? – спросил Иосиф, заворожено слушавший рассказ хозяина клуба.
Он знал Туманова почти десять лет, с того самого дня, когда Михаил на Лиговке влез в кабацкую драку и вытащил из нее избитого до полусмерти Иосифа. Как это ни смешно, но драка оказалась исходом философского диспута, в котором Нелетяга умудрился довести до белого каления все стороны без исключения. В согласном порыве его били временно помирившиеся между собой студенты-нигилисты, которых он выводил из себя рассуждениями о природно-дарвинистическом и одновременно божественном происхождении монархии; отпрыски мелких купчиков, которым он внятно объяснил, что они есть паразиты на теле трудового народа; и мастеровые судо-ремонтного завода, которые не без основания подозревали его в пристрастии к содомитскому греху. Задор молодого Иосифа был таков, что, вопреки собственному разумению и профессиональным обязанностям, к потасовке присоединился даже платный шпион охранки, подряженный полицией следить за студентами и запоминать их крамольные разговоры.
– Ты зачем влез? – спросил Туманова Нелетяга, когда слегка пришел в себя. – Я тебя не знаю.
– Забей на это. Я сам себя не знаю, – отвечал Туманов. – И чего они все на одного? Неладно так-то.
Более никаких объяснений Нелетяге тогда получить не удалось, но их случайное знакомство удивительным образом не прервалось. Какой-то род симпатии надолго связал этих совершенно разных людей.
Туманов знал всю нелепую жизнь Иосифа, за штофом водки терпеливо выслушивал его путаные философические построения, следил за его приключениями и после не раз выручал его деньгами или иным образом. Однако сегодня, впервые за все десять лет, сам Михаил что-то рассказывал о себе. Нелетяга слушал, затаив дыхание.
– Конечно, было. Ассигнации, бумаги, еще какие-то украшения в футлярах, – я не смотрел… Мне «Глаз» был нужен.
– А чего ж ты? – Иосиф облизнул тонкие пересохшие губы. – Раз уж все равно… Забрал бы все…
– Нет, так нельзя было, Саджун меня специально предупредила, чтоб я никаких следов не оставлял. Все дело в том, что она говорила про «Глаз Бури» в своем предсказании, и его исчезновение получалось как бы… колдовством, что ли…
– Ну… это глупо было… Кто ж в наш просвещенный век в такие шутки поверит? – удивился Иосиф. – Это все равно, что самому полицию по следу пустить…
– А вот и нет! – Туманов торжествующе ухмыльнулся, и на мгновение его некрасивое, перечеркнутое шрамами и складками лицо помолодело, стало почти мальчишечьим. – Саджун все верно рассчитала. Поверить до конца, может, никто и не поверил, но замешательство было страшное, и расследование все свидетели путали почем зря, пересказывая гадалкины соображения и угрозы. Гадалку, ты понимаешь, подозревать было никак невозможно, потому что она каждый миг была у всех на глазах и никуда, кроме прихожей и гостиной, не заходила.
– А ты? Тебя тоже допрашивали?
– Разумеется. Всех домашних слуг подозревали в первую очередь. Я изображал из себя полного дурака и, кажется, вполне убедил следователя в том, что не только ничего не знаю о сапфире, но и вообще не способен уяснить суть произошедшего.
– А дальше?
– Дальше все понимали, что никаких случайных совпадений в этом деле быть не может, и за Саджун установили слежку, надеясь, что она приведет полицию к сапфиру. Я же поработал у Мещерских еще четыре месяца, а потом почти на глазах у экономки украл из буфета серебряную вилку. Был с позором изгнан. Поехал в Лондон, там отыскал брата Саджун, отдал ему «Глаз Бури». Он отправился обратно в Бирму, повез сапфир своему Будде. Я вернулся в Россию, к Саджун. Ее карьера гадалки была, как ты понимаешь, этой историей загублена, так что нам пришлось искать другие способы заработка… Но это уже другая, неважная для тебя история…
– Ну и для чего же ты мне все это рассказал? – спросил Иосиф. – То есть, мне, конечно, очень интересно было послушать про то, как бурно ты начинал свою деловую жизнь, но все-таки я не понял, зачем ты именно теперь стащил меня с Дашкиной задницы… Дела давно минувших дней…
– Все дело в том, что именно теперь кто-то хочет вытащить на свет всю эту историю…
– С чего ты взял?
– Саджун угрожали. Меня пытались не то убить, не то покалечить.
– Саджун! Она что, до сих пор здесь?! И ты с ней…
– У нее теперь другое имя. Мы… мы просто друзья…
– Ну да. Ты говорил, она старше тебя… Но почему ты думаешь, что это связано с тем давним делом? За истекшие года ты успел наворотить такого…
– На это прямо указано. Поверь.
– Верю. Что ж ты полагаешь?
– Ничего, потому и говорю с тобой. У меня есть деловой нюх, другие способности, но здесь… К тому же я жутко боюсь за Саджун и от этого теряю последнее соображение. Если ты можешь понять, она единственный близкий мне человек…
– Я все понимаю. Успокойся, друг. Нелетяга, как всегда, тебя выручит. Тебе повезло, потому что я – гений по части распутывания запутанных ситуаций. Сперва анализ, потом – синтез. Все будет в шляпе. Но я должен знать некоторые подробности.
– Спрашивай. Что угодно, – решительно сказал Туманов.
Узнать что-либо о происхождении и загадочном прошлом Туманова представлялось неслыханной удачей. Но Нелетяга считал недостойным пользоваться минутной слабостью приятеля, и не без сожаления подавил в своей душе соблазн любопытства.
– Предавалось ли дело огласке или его постарались замять в семейном кругу?
– Конечно, замяли. Накануне венчания такой скандал… К тому же с нехорошим, колдовским душком. Кому это надо? Все гости дали клятву молчать. Всех слуг строго предупредили. Впрочем, слуги и не знали о пропаже сапфира…
– Значит, исключая вас с Саджун, полную информацию о случившемся имели только те, кто присутствовал на сеансе? Так? И сколько, кстати, их было?
– На сеансе присутствовало шесть человек. Одного из них, княгини Анны Мещерской, уже нет в живых. Она умерла шесть лет назад.
– Значит, осталось пятеро, – констатировал Иосиф.
– Шестеро, – поправил Туманов. – Все досконально обстоятельства дела знал и полицейский следователь, который его вел.
– Поправку принимаю. Шестеро. Огласи весь список. И дай бумагу и карандаш, я буду записывать.
Изрядно покопавшись в бюро, Туманов нашел листок бумаги и обгрызенный карандаш. По времени поисков видно было, что частые записи – вовсе не привычная вещь для хозяина апартаментов.
– Следователь и княгиня, но она умерла. Дочь княгини – Ксения Мещерская, невеста, ради которой все это и было затеяно. Племянница княгини, ныне графиня К., в то время совсем юная девушка едва ли шестнадцати лет отроду, наперсница и младшая подруга невесты. Константин Ряжский, тогда молодой повеса, друг дома. Баронесса Шталь со своим младшим сыном, подруга княгини Мещерской. Сын баронессы рассматривался в качестве возможного жениха для К. Впоследствии брак не состоялся. Все.
– Как зовут сына?
– Если не ошибаюсь, его зовут Ефим.
– Какое странное имя для аристократа из немцев, тебе не кажется?
– Согласен, но у богатых свои причуды.
– Несомненно. Итак, от кого-то из этих шестерых тянется ниточка к твоим сегодняшним неприятностям.
– Ты думаешь? Но ведь они могли кому-то рассказать… Прошло столько лет…
– Если эти снобы когда-то давали слово никому не говорить, то это, разумеется, не значит, что они действительно не скажут. Но! – Иосиф поднял вверх кривой палец. – Но они непременно запомнят, кому именно рассказывали. К тому же, учти: наш загадочный злодей 1) знает о теперешней судьбе Саджун, несмотря на перемену имени. 2) каким-то образом вычислил твою причастность к делу и опознал в миллионщике Туманове кухонного дурачка Мещерских. Исходя из этого, я думаю, что мы имеем дело со свидетелем первого звена, то есть с одним из шестерых участников вышеприведенного списка.
Здесь сразу же возникают два вопроса, на которые у тебя, как я понимаю, ответа нет.
1) Почему все это началось лишь спустя шестнадцать лет после кражи сапфира? Что послужило спусковым механизмом для начала событий?
2) Что, собственно, нужно тому, кто все это проделывает? Украденный сапфир – в Бирме и недосягаем ни для кого из участников. Так какова же цель?
– Ловко ты все разложил, – сказал Туманов, с уважением глядя на исписанный Нелетягой листок. – Ответов у меня нет, это ты правильно сказал, но предположения – есть. На первое – может быть, он денег хочет? Я теперь богат, а он узнал и… Второе – он же может и не знать, где сапфир, и думать, что он все еще у меня. Камень заметный, легко узнать, что на аукционах он за эти 16 лет не всплывал…
– И то, и другое принимается. Но это лишь гипотезы, сам понимаешь, доказательств у нас никаких. Самое для нас главное, это узнать – кто из шестерых. Именно это и станет печкой, от которой мы станем плясать. После ты мне подробно расскажешь все, что знаешь об этих людях, и о своих с ними пересечениях. Ну и я, конечно, свои сведения соберу… Это все у нас будет анализ. А потом настанет время и для синтеза. И еще… Тут такой деликатный вопрос… – Иосиф подмигнул Туманову и потер пальцы друг об друга.
– Денег я тебе сейчас дам, – сухо сказал Туманов. – Сколько тебе надо?
– Ну… – Иосиф кокетливо улыбнулся. – Деньги – субстанция тонкая, почти эфирная, так сказать, мистически овеществленный труд, если по трудам господ экономистов судить…
– Сколько?! – рявкнул Туманов.
Нелетяга быстро показал четыре растопыренных пальца, а Туманов достал из-за пазухи кошель и протянул ему четыре ассигнации, каждая достоинством в десять рублей. Иосиф довольно улыбнулся, подобрал исписанный листок и собрался уходить.
– Скажи, Иосиф, – неожиданно обратился к приятелю Туманов. – Тебе мои апартаменты – как? Хорошо ли сделаны?
– Я думал, тебе так нравится…
– Я понять хочу.
– Отвратительно, коли ты спрашиваешь, – поморщился Иосиф.
– Отчего?
– Да сам не знаю. Бестолково. Как в кладовке навалено все… И что это за сочетание для дома – коричневое, багровое и золото… В этом же жить невозможно, сбеситься зараз можно.
– Вот я и бешусь, – Туманов почесал подживающие на лице шрамы, ковырнул пальцем в расплющенном носу.
– Михаил, сколько раз тебе говорить, – наставительно заметил Иосиф. – Ковырять пальцем в носу неприлично.
– Так я ж дома, а ты – свой, не обчество какое-нибудь, – пожал плечами Туманов.
– Вообще неприлично, – уточнил Иосиф.
– А как же тогда козявки доставать? – серьезно спросил Туманов.
Нелетяга картинно всплеснул руками.
Глава 7
В которой читатель знакомится с Дуней Водовозовой, а купленный на ужин сиг после удивительных и ужасных приключений возвращается в родную стихию
Объятый пламенем корабль заката медленно, бесшумно и величественно вплывал в город. Жители, впрочем, не замечали его, продолжая заниматься своими делами и делишками, торопясь закончить их до наступления окончательной темноты или, напротив, готовясь к достойному, на их взгляд, проведению вечерне-ночной части суток.
Софи Домогатская и Евдокия Водовозова без всякой особенной цели прогуливались по набережным Петровской стороны, беседовали и наблюдали готовящуюся к недалекой зиме речную жизнь. Владельцы пароходов, пристаней, барж, дебаркадеров выбирали для зимовки места, где было медленное течение и предпочитали близость мастерских и заводов для осуществления ремонта. Суда заводились в устье реки Охты, толпились у левого берега Малой Невы между Биржевым и Тучковым мостами, их угловатые, темные абрисы виднелись у Канонерского острова, у красных корпусов Семянниковского завода. Деревянные баржи, которые требовали лишь плотничьего ремонта и осмолки, в близости заводов не нуждались и приставали в любом месте. Впрочем, большинство их строилось «на одну воду» и после последней разгрузки они разбирались на «барочный» лес. Этот лес считался очень низкого качества, так как был сырой и весь в дырах от деревянных нагелей. Он задешево продавался на месте на временные постройки, дешевые дома на окраинах и частично на дрова. Дуня уже подсчитала потребность в топливе на нынешнюю зиму и деньги, которые они с матерью могут на это выделить. Нынче Софи и Дуня в нескольких местах приценились и остались довольными совпадением своих возможностей и стоимости «барочного» леса. Веселые, туго подпоясанные продавцы с русыми чубами призывали девушек осуществить покупку немедленно и именно у них, скалили белые зубы, отпускали двусмысленные комплименты, бросали оземь картузы и обещали скидку на доставку. Дуня краснела и смущалась, а Софи беззлобно отшучивалась.
После, по настоянию Дуни, зашли на баржу с живорыбными садками и купили к ужину небольшого сига. Софи прогулка со снулым сигом казалась не слишком уместной, но Дуня уверила подругу, что медленно шевелящая хвостом рыбина ей совершенно не помешает, а экономия, если покупать именно в этом садке, получается существенная – не менее четырех копеек. «Ты самая умная, Сонечка, но я просто лучше считаю, поверь!» – сказала Дуня и Софи, пожав плечами, не стала более возражать. Экономические вопросы не давались ей, и дело, как она подозревала, было вовсе не в отсутствии склонности к арифметике. Разночинка Дуня, выросшая в благородной бедности, временами переходящей в откровенную нищету, буквально носом чувствовала малейшую возможность выгоды и экономии и, чтобы ее не упустить, начисто забывала о своей робости и стеснительности. Софи же до 16 лет жила в атмосфере богатства и роскоши и просто не имела в своем небедном словаре самого слова «экономить». Несмотря на произошедшие с тех пор события, прежние привычки так и не удавалось победить до конца. Впрочем, по счастью для себя, Софи была урожденно непритязательна в быту, и, когда не было денег (она никак не могла научиться рассчитывать свой бюджет), легко обходилась чаем без сахара и хлебом с вареньем. Разнообразное варенье в избытке и совершенно бесплатно поставляли ей родные из Гостиц, а также, в качестве подарка от маменьки, привозил во время нечастых визитов Петр Николаевич. Бывало, что ученики из богатых крестьянских или однодворских семей приносили учительнице натуральные подношения, завернутые в чистые тряпицы. Называлось это почему-то «благодарствуйте». «Софья Павловна, я вам тут «благодарствуйте» принес. Извольте не побрезговать,» – краснея, говорил недоросль, оставляя сверток на низком столике у печки, предназначенном для размещения учебных пособий. Никакой для себя обиды в «благодарствуйтях» Софи не видела и вечером охотно поедала свежие яйца, мед и пироги. Справные крестьяне умели считать не хуже Дуни Водовозовой, и прекрасно понимали, каково молодой девушке жить и содержать прислугу Олю на 20 рублей в месяц. Впрочем, Софи всегда честно предупреждала родителей и учеников, что на успеваемость недорослей количество принесенных ими «благодарствуйтей» не влияет никаким образом. Родители и ученики кланялись и соглашались.
Евдокии Водовозовой недавно исполнилось 20 лет. Она закончила акушерские курсы и уже второй год работала в Максимилиановской лечебнице. Природа ни в чем не обделила Дуню, и каждая черта ее облика по отдельности была очень мила. Пушистые светло-русые волосы, высокий чистый лоб, мягко блестящие карие глаза, стройная фигурка с несколько длинноватой талией, но приятно округлыми бедрами. Все было при ней, однако ж, чего-то явно не доставало, и безусловным доказательством недостачи служило то, что каждый мужской взгляд, случайно наткнувшийся на Дуню, безразлично скользил дальше и совершенно не задерживался на ее очевидных достоинствах. (Возможно, Дуня была напрочь лишена того, что спустя сто лет назовут сексапильностью – прим. авт.) Евдокия знала об этой своей особенности и смирилась с ней, чего никак нельзя было сказать о ее старшей подруге и наперснице – Софи Домогатской.
Знакомы девушки были давно. Покойный дядя матери Дуни, вдовый и бездетный Поликарп Николаевич, учил Софи математике и пользовался ее полным доверием. Именно он ссудил ее деньгами для побега в Сибирь, не надеясь дождаться ее возвращения и наказав возвратить долг своей внучатой племяннице – Дуне Водовозовой. Растроганная бескорыстной щедростью старичка, Софи дала слово не только вернуть деньги, но и оказывать Дуне всевозможное покровительство, если последней оно понадобится. К великой печали Софи, добрый Поликарп Николаевич оказался провидцем. Ко времени возвращения Софи из Сибири он уже четыре месяца лежал в могиле.
Прошло еще почти два года, прежде чем Софи, лишенная поддержки родных и вынужденная сама зарабатывать себе на жизнь, сумела собрать нужную сумму. На покрытие долга пошла значительная часть гонорара от издания «Сибирской любви».
К тому времени Дуня с больной матерью буквально бедствовали. Доставшееся им от Поликарпа Николаевича небольшое наследство все ушло на лечение матери Дуни. Иногда Мария Спиридоновна роптала на Бога за то, что деньги кончились, а облегчение в болезни не наступило, и лучше б Господь сразу забрал ее к себе, чтоб ей не мучиться, а денежки для дочкиного приданого сохранить. Иногда, напротив, – благодарила Создателя, что не оставил дочку одну. Дуня в противоречия не впадала, и все происходящее с ней принимала с тихой, животной покорностью. Была она при этом весьма смышлена, начитана, к тому же, как и Поликарп Николаевич, имела наследственную склонность к математике и любила в часы досуга всласть порешать задачи из учебников, оставшихся от покойного дяди. В целом две женщины жили тихо и скучно, получали мизерную пенсию за отца, вязали на продажу салфетки, экономили каждый грош, рассчитывая на удачное замужество Дуняши и с каждым годом теряя на него надежду. Они очень обрадовались и деньгам, и вторжению в их однообразную жизнь энергичной Софи, которая своей бодростью, быстротой движений и умозаключений составляла разительный контраст робкой и несколько медлительной Дуне. Известие же о том, что Софи – настоящая, живая писательница, привело обеих Водовозовых в состояние тихого, млеющего восторга.
Заметив эту радость и потребность в себе, Софи, со свойственной ей уверенностью в своей правоте, тут же принялась перекраивать жизнь Водовозовых на рациональный, как ей казалось, лад.
– Нечего от мира ждать милости, – объяснила она краснеющей от смущения Дуне. – Никто не придет и не облагодетельствует. Надо самой строить свою судьбу…
– Но не все же могут как вы, Софья Павловна, – робко попыталась возразить Дуня. – Не всех Бог талантом наградил…
– Полная чушь! К тому же я для тебя – Софи, а не Софья Павловна, и мы с тобой на «ты» договорились. Талантов у любого довольно, желание надо иметь, остальное приложится…
– Откуда ж тогда несчастных столько? – резонно заметила Дуня. – Небось, желание-то у каждого счастливым быть…
– Желание только тогда становится движущей силой, когда человек не просто хочет, но и осмеливается на то, что составляет предмет его вожделения. Ты поняла?
– Нет, – Дуня отрицательно помотала головой. – Как это?
– Ну вот гляди. Все юные девицы хотят большой, неземной любви. Длиною и ценою сравнимой с жизнью. Так?
– Да, разумеется, так, – подумав, Дуня энергично кивнула.
– Ну так за все же надо платить. И цены, если себя не обманывать, всем нормальным людям известны. Ты у Шекспира «Ромео и Юлию» читала? Вот, это оно. Длиною и ценою… А потом про такое песни поют, сказки рассказывают. Ну и скажи мне теперь: многие ли на такое всерьез отважатся? Не лучше ли в живых остаться и весь век в именьишке варенье варить, детишек нянчить, да с мужниной лысины мух отгонять? А? Теперь поняла?
– Да, – серьезно согласилась Дуня. – Теперь поняла. Исполняются те желания, на которые осмеливаются. Пусть так. Но вы мне теперь, Софи, вот что скажите: как же узнать – на что мне нынче осмелиться надо? Я не знаю.
– Погоди, подумать надо, – Софи накрутила на палец локон, потом деловито потерла узкие ладони. – Пошли чаю попьем. А я пока обмозгую все и тебе скажу…
Никаких сомнений в том, может ли она решать и на свой лад кроить судьбу еще недавно совершенно незнакомой ей девушки, Софи не испытывала. Ни тогда, ни после.
Дуня же относилась к своему Пигмалиону с полным доверием. Тому было несколько причин: деньги, которые Софи вернула наследникам, не побуждаемая к этому ничем, кроме данного когда-то обещания; готовность Софи самостоятельно, без малейшей поддержки строить собственную жизнь. К тому же Поликарп Николаевич, бывший для обеих Водовозовых непререкаемым авторитетом, при жизни несколько раз с восхищением отзывался о решительности и жизненной силе Софи Домогатской. Всего этого для робкой и совершенно не знающей мира Дуни было более чем достаточно.
С тех пор прошло несколько лет. Девушки оставались подругами. По совету Софи Дуня закончила акушерские курсы и поступила на работу в больницу. После Софи случайно обнаружила математические склонности девушки (сама Дуня не говорила о них, как о предмете малозначащем), и настояла на том, чтобы Дуня брала уроки. Поговорив спустя некоторое время с преподавателем (Софи выдала себя за старшую сестру Евдокии), она выяснила, что Дуня обладает ярко выраженными математическими способностями, которые грех было бы загубить. В нынешний момент Софи находилась на распутье. По идее, надо было отправлять Дуню за границу, например, в Германию, где женщин принимают в университеты, и она могла бы учиться математике. Но как это сделать? Выход подсказала Оля Камышева. Нужно выдать Дуню замуж за передового человека, сочувствующего идее женской эмансипации. Даже если этот брак будет фиктивным, положение замужней женщины позволит Дуне ехать за границу учиться. Многие девушки нынче так делают, объяснила Оля. Можно поискать подходящего мужчину. «Ищи!» – распорядилась Софи. Но сомнения не оставляли ее. За несколько лет общения с девушкой Софи поняла, что Дуня слишком слаба, чтобы жить в одиночку и без поддержки и опоры сражаться с обстоятельствами. Может быть, лучше было бы найти ей обычного, не фиктивного мужа? Как правильнее поступить? Самое интересное, что все это решалось практически без участия Евдокии. Дуня знала об этом, но никаких протестов с ее стороны не поступало.
Более того. По-детски обожая Софи, Дуня копировала ее словечки и гримаски, походку и манеру одеваться. В ее исполнении все это смотрелось слегка карикатурно, но ни одна, ни другая этого не замечали. Дуня делала это бессознательно, а Софи не была достаточно внимательной к младшей подруге, и больше любила действовать, чем анализировать и рассуждать. Даже в ее нашумевшем романе почти не было рассуждений – лишь действия и наблюдения. Критики, из числа недоброжелательно настроенных к роману, говорили о том, что «Сибирская любовь» именно этим и привлекает невзыскательного читателя – легкостью и полным отсутствием привычных умственных упражнений. Следить за размышлениями героев не надо – за полным отсутствием этих самых размышлений. Впрочем, многие снисходительно списывали этот недостаток на счет юности автора.
Меж тем быстрые осенние сумерки сгущались. Призрачный зеленовато-лиловый свет газовых фонарей окутал город.
– Гляди, Дуня! – позвала Софи. – Солнце уже за дома зашло, а огонечки остались.
– Как это?
– Ну ты смотри же – человеческие глаза. Они по природе блестят, но ведь у каждого же свой блеск. Вот, на тротуаре справа, видишь? – пара мещан с дочкой гуляет. Глаза ровно светятся, спокойно, как свечи в церквушке. Куда спешить? Все правильно. А вон у юнца в шинели очи горят, как электрические фонари в саду «Аквариум». Он, должно, влюблен отчаянно. А вот старушка в салопе – тусклые огонечки, зеленые, как гнилушки на кладбище, куда и ей скоро пора… Понимаешь теперь?
Воображение Дуни было не слишком развито. Но за то она и ценила Софи – ее энергия и фантазия раз за разом пробивали пыльный кокон сниженных Дуниных эмоций. Вот и теперь Дуня отчетливо представила себе темный ночной город, по которому с неопределенным таинственным гомоном передвигаются тысячи бродячих огоньков. Среди них бельмастые нищие, воры, преступники, убийцы… Дуня поежилась. Ощущение оказалось не слишком приятным.
– Пойдем, Сонечка, домой, – предложила она. – Темно уж, маменька ждет нас, волнуется…
– Чего ж волноваться-то? – удивилась Софи. – Мы – взрослые люди, что ж с нами будет?
– Да она газет начиталась, – виновато пояснила Дуня. – Не надо было мне покупать, но ведь жалко ж ее – я на работе, а она целый день в четырех стенах, со своей болезнью, даже пойти никуда не может. А там пишут, что у нас как раз нынче объявился разбойник по образцу лондонского Джека-потрошителя, присылает девицам угрожающие письма с подписью «Джекъ» и все такое. Понятно, что это шутки такие дурацкие, и градоначальник Гессер опровержение в «Ведомостях» дал, я ей читала, но все равно, ты ж понимаешь…
– Понимаю, – вздохнула Софи. – Хорошо, что мне отчитываться не перед кем. Давай тогда, что ли, извозчика возьмем?
– Ну нет, Соня, к чему такие деньги тратить?! – сразу же возмутилась Дуня. – Тут меньше получаса ходу, а я и не устала вовсе.
Вдова Водовозова с дочерью проживали в северо-восточной стороне Петровской части, в милом деревянном домике с башенкой и фасадом на пять окон. В свой нынешний приезд Софи, уступая настойчивым просьбам, жила у них, хотя обычно избегала останавливаться у знакомых. Никакой особой чувствительностью Софи не страдала и опасениями обеспокоить людей себя не изводила. Просто ей, подобно вольному дикому зверю, привыкшему вести одиночный образ жизни, было удобнее во всякий миг располагать собой так именно, как ей пожелается.
Прошли много не по-петербургски запутанных улиц. Многоэтажные доходные дома, часто уродливые, с какой-то неживой архитектурой, сменялись ветхими деревянными домишками, напоминающими кучу дров. Оживляя их, в низких окошках горели ласковые теплые огоньки.
– Соня, неловко! – каждый раз говорила Дуня, когда Софи, изловчившись, заглядывала в эти окошки и как рыбак рыбу, ловила мгновения чужой жизни.
Позже потянулись длинные серые заборы с набитыми по верху черными гвоздями, дровяные склады. Оскальзываясь на деревянных мостовых, девушки невольно ускорили шаг. Поднялся тревожный ночной ветер. Из распахивающихся дверей чайных и распивочных падали на улицу быстрые лохмотья дымного света, летели обрывки песен и пьяных выкриков. Откуда-то запахло водорослями и мокрым песком. На фоне почти окончательно стемневшего неба проносились поджарые, жемчужно подсвеченные облака и чернели фабричные трубы.
Внезапно послышался стук и металлическое скрежетание подъехавшей коляски. Возница закричал на лошадей грубым голосом, и они встали. Закрытая черная карета смотрелась в этих местах чужеродной, и Софи с любопытством взглянула на нее и подошла на шаг поближе к человеку, который показался из распахнутой дверцы и вежливо обратился к ней с каким-то незначащим вопросом.
Далее все произошло стремительно. Выскочивший из коляски мужчина в черном плаще, полностью скрывающем фигуру, обхватил девушку за шею рукой и с помощью еще одного человека, прячущегося в карете, втянул ее внутрь. Софи не издала ни звука. Дуня, не веря своим глазам, застыла в полном ошеломлении, прижав к груди все еще слабо трепыхающуюся рыбину. Возница поднял кнут, взревел, как пароходный гудок, и карета собралась тронуться. Однако русобородый мужик, доселе лениво следующий за гуляющими девушками, не то мастеровой, не то крестьянин, в два прыжка оказался рядом с каретой и с воинственным воем схватился за дышла, мешая движению. Удар кнутом не произвел на мужика никакого впечатления. На крики из ближайшего трактира выглянула пара любопытных пьяниц. Из кареты торопливо выскочил кто-то из седоков (уже без плаща) и со всего размаху опустил на голову мужика что-то вроде дубинки, отчего тот рухнул, как подкошенный. Дуня, которая уже немного пришла в себя, отчаянно завизжала и с помощью несчастного сига закатала пробегавшему мимо разбойнику ужасную оплеуху. Тот пошатнулся, но нашел в себе силы молча влезть в карету и захлопнуть дверцы.
– Полицию и врача! – крикнула Дуня вышедшему на шум половому и бросилась бежать за каретой.
Силы окончательно оставили ее на Тучковом мосту. Цепляясь за перила, Дуня сползла на деревянный настил, заглянула вниз, туда, где холодные воды Малой Невы бурлили у быков моста. Какая-то жуткая тяга проснулась в ней. Сиг шевельнулся. Размахнувшись что было сил, Дуня жертвенным жестом швырнула рыбину в реку и разрыдалась с непонятным облегчением.
Оглушенный сиг долго плыл по течению кверху брюхом, потом родная стихия оживила его, он развернулся на бок, взмахнул хвостом и ушел в глубину.
Глава 8
В которой Дуня ищет Софи и обращается за содействием ко всем подряд. Сама же Софи, оказавшись в неизвестном ей месте, немедленно вступает в борьбу за свою свободу
Туманов с интересом смотрел на стоящую перед ним девушку. Сесть она упорно отказывалась, выпить или съесть что-нибудь – тоже. При этом говорила, не останавливаясь, уже без малого четверть часа.
Большую часть сказанного Туманов пропустил, хотя смотрел и слушал внимательно. Он уж давно привык, что слова редко бывают главными, и не удивлялся этому. Главного словами не скажешь.
От девушки пахло сушеными сливами. Запах, пожалуй, приятный, но неожиданный, характерный скорее для стариков. В тускловатых глазах с перламутровыми белками иногда взблескивали короткие бегучие огоньки, явно искусственно разжигаемые. Утонченная скромность наряда, манера держаться, речь – все выдавало принадлежность девушки к высшему классу. Попытки скрыть все это добавляли в картину несвойственное ей высокомерие.
– Так что ж вы с Софьей? – спросил Туманов.
– Мы с детства дружим, я ж говорила, – сказала девушка, тряхнув маленькой головой и нетерпеливо переступив с ноги на ногу, как это делают породистые жеребята. – У нас секретов нет, оттого я и про вас знаю…
– Что, она тебя ко мне послала?
– Нет, так сказать нельзя, – девушка смущенно потупилась. – Видите ли… Для нас с Софи одинаково очевидны проблемы современного российского общества, но вот цели и задачи образованного сословия на данном этапе мы понимаем по-разному. Софи, как вы знаете, служит в земстве…
– А вы со товарищи что ж? Бомбы кидаете?
– Ну почему вы так? – в голосе девушки послышались слезы незаслуженно обиженного ребенка. – Я же вам объяснила все, как могла, подробно. Полагала, вам это понятнее будет, чем мне самой. Я в имении родилась, титул, деньги, светская жизнь. Чтоб из этой паутины вылезти…
– А зачем же вылезать? – с интересом спросил Туманов. – Что, скажи, для девицы плохого, когда о куске хлеба думать не надо, развлечения, кавалеры…
– Но есть же ответственность, долг перед народом…
– Перед каким народом, дура ты блажная?! – внезапно озлился Туманов. Оля вздрогнула, сделала шаг назад, прижалась спиной к муаровой драпировке. – Федька! Федька, поди сюды!
В дверь осторожно просунулась широкая физиономия тумановского лакея.
– Прикажете чай подать, Михал Михалыч? Или кофею? – спросил он, не показываясь, впрочем, целиком, и внимательно наблюдая за движениями рук хозяина.
– Нет! Скажи-ка нам теперь, Федька, ты – народ?
– Ну-у дак… – Федька помолчал в замешательстве, потом нашел выход. – Если вы приказать изволите, то – народ!
– Ладно, значит народ. А теперь скажи, вот эта барышня тебе чего-нето должна?
– Барышня?! Мне?! – изумился Федька и, на мгновение позабыв о должной почтительности, молча потряс головой. – Ни в коем разе. Да я и вижу ее в первый раз в жизни. Как же можно?
– Ладно. Пошел вон, болван, – Федькина голова исчезла. – Вот видишь…
– Это ничего не доказывает, – тут же возразила Оля. – Федор – лакей. Его внутреннее устройство извращено близостью к…
– К кому? Ко мне, что ли? – усмехнулся Туманов. – Федька – как раз мой лакей, да и то недавно, а до того в порту каталем работал, а еще раньше – в деревне жил… Самый, что ни на есть, народ… А я – что же?
– Именно поэтому я к вам и пришла, – горячо заговорила Оля. – Вы, сами поднявшись из низов, лучше других знаете, какая несправедливость и эксплуатация царят там, сколько людей гибнут во мраке угнетения и невежества. Но там же зреют и зерна протеста. В наши дни единственная достойная цель людей, которые имеют ум и средства – всемерно способствовать пробуждению этой народной души и направлять ее…
– Послушай, Ольга, и постарайся понять, – Туманов устало вздохнул. – Я давно уже не могу вообразить себе не только достойной, но даже и недостойной цели, к которой я мог бы стремиться… Все, что ты говоришь касательно цели – чепуха и опасный бред. Но это по цели. По сути я тебя понимаю, потому что страсть и накал обновления – это вещи, которые действительно могут волновать и волнуют даже меня. Что ж ты от меня хочешь?
– Денег, – спокойно сказала Оля. – Если вы не разделяете наших целей и не готовы работать с нами рука об руку ради справедливого переустройства общества, дайте хотя бы денег. Этим вы внесете свой вклад. И Софи…
– Что ж, Софья тоже в это твое «дело» верит?
– Вам лучше с ней самой об этом потолковать, – уклончиво сказала Оля и лукаво улыбнулась, переводя разговор в другое русло. – Но вот вы говорили об отсутствии у вас интересов. А что ж Софи? Я ее подруга, мне знать важно…
– Ольга! Ты это брось! – Туманов погрозил девушке пальцем. – Иначе, так и знай, гроша ломаного на свою гребаную революцию не получишь.
Оля пятнисто покраснела.
– Значит, так, – откровенно усмехаясь, продолжал Туманов. – Здесь я подумать должен. Все-таки дело это, как ни крути, противозаконное, а я – честный коммерсант и прочая петрушка… И ты права. Желаю на эту тему с Софьей лично потолковать. Сюда она больше не пойдет, могу вас обеих в любой ресторан пригласить, по вашему выбору. Выберите уж поприличней, все равно эксплуататор, то есть я, платит. В «Донон» можно, «Кюба», «Аркадия» или уж в новый, к Федорову…
Оля кусала губы. Противоречивые чувства боролись в ней, прямо отражаясь на лице.
– Простите, Михаил Михайлович, – наконец, сказала она. – Мы с Софи девицы и не посещаем рестораны. Тем более…
– Тем более, в сопровождении такой швали, как я. Это ты хотела сказать, – не спросил, а скорее утвердил Туманов. – Достойная позиция. Так тебя и воспитывали. Просто в имении жить скучно, и ты на волю рвешься. Только не надо из себя теперь любовь к народу корчить, ладно? Но давай напрямики. Я шваль, ублюдок и денежный мешок в одном лице. Ты аристократка и революционерка. Заключим сейчас честную сделку. Ты уговариваешь Софью поужинать со мной в ресторане. Сама будешь тут же и сможешь проследить за соблюдением приличий и конфидентом – я закажу отдельный кабинет и ничем Софьиной репутации не поврежу. На твою, госпожа карбонарка, мне, уж извини, плевать. А после, тем же вечером, когда ты свою роль исполнишь, я даю тебе денег на твою агитацию, печатание листовок, манифестов и прокорм идейных идиотов, которые ни к какому иному делу себя приспособить не сумели… Согласна?
Некоторое время Оля молчала, и Туманов подумал, что вот сейчас она обожжет его каким-нибудь последним словом и уйдет, вздернув подбородок. Но Оля заговорила по-другому.
– Вы честны по крайней мере, – медленно произнесла она. – Это, если разобраться, дорогого стоит.
– Честным меня еще никто не называл, – польщенно усмехнулся Туманов. – Ты первая.
– Пускай, – Оля кивнула, и Туманов не сразу понял, что это и есть согласие на сделку. – Я вам сообщу. Но за Софи никто решить не может. Ждите.
После ухода Оли Туманов велел Федьке принести из подвала вина. Налил в мутный стакан, выпил длинными медленными глотками. Вино имело вкус растворенных в холодной воде осенних листьев. Туманов снова наполнил стакан.
«Что ж ей подарить? – пробормотал про себя. – Побрякушки – не возьмет, наряды – тоже… Что ж?»
Он развернул газету «Новое время», нашел отдел торговой рекламы, и почти сразу же отыскал то, что, как ему казалось, и было нужно: «Во! – «мопсики механические, бегают как живые»»
– Федька! – взревел Туманов. – Пошли кого-нибудь сейчас же на Большую Морскую, тридцать. Там магазин «Парижские игрушки». Пусть купят пару – нет, пять! – мопсиков. Они бегать должны, слышишь, болван?!
Федька округлил глаза, но промолчал. Если хозяину надо теперь пять механических мопсиков, значит, так тому и быть. «Ежели у тебя столько денег, так и желания должны быть какие-нибудь… с подковыркой… Ну не хотеть же в таком разе щей с капустой, хромовые сапоги со скрипом или голубую жилетку из парчи…» – так или приблизительно так рассуждал Федор, спускаясь по лестнице.
Между тем Туманов допил вино, взял тупой и широкий нож, которым разрезал книги и журналы, и принялся методично обдирать со стен шелковые обои с золотыми медальонами из алых роз и багровых георгинов на коричневом фоне. За этим занятием и застал его Иннокентий Порфирьевич, перед отправкой слуги зашедший уточнить потребное количество мопсиков.
Доселе Дуне не случалось бывать в полицейском участке.
Поначалу впечатление образовалось самое гнетущее. Низкие потолки, грязные полы, какой-то жир на скамьях, скрипучие ободранные двери. Из-за двери в кутузку несутся пьяные крики, ругательства, плач:
– Звери! Звери! Душегубы проклятые!
– Артюшка, Артюшенька мой…
– Па-азвольте, вы известным порядком пра-ава не имеете, как я есть достопочтенный гражданин…
По коридору вдоль дверей расхаживает городовой в черной суконной шинели с шашкой-«селедкой» на черной портупее, часто заглядывает в глазок, грубо рявкает: «Не ори! Не то…»
Впрочем, к Дуне в участке отнеслись хоть и с недоверием, но и с сочувствием тоже. Пожилой дежурный, усатый, как морж в зоологическом саду, раз за разом спрашивал у растерявшейся девушки, может ли она быть совершенно уверена в том, что сидящие в карете люди были барышне Домогатской не знакомы, и она не уехала с ними по собственной воле.
– Может быть, она вас на помощь звала? – интересовался он, зная уж из Дуниных рассказов, как было дело. – Или отбивалась от них? Или после из кареты крикнула что-то?
– Да нет же, нет! – едва не плача от обиды и страха, отвечала Дуня. – Поймите ж, времени и возможности у нее не было…
– Ну, время крикнуть чего-нибудь у жертвы всегда есть, – рассудительно заметил пристав. – Не зарезали ж они ее сразу… Да и тогда какой-нето звук человек завсегда издаст. Я, поверьте, по опыту знаю…
Дуня чувствовала, как дрожь буквально пронизывает ее тело, и стискивала зубы до противного хруста, чтобы они не стучали друг об друга.
– Вы бы ехали сейчас домой, – сочувственно заметил полицейский. – Отдохнули б, чаю с мятой напились. Ночь же уже. Матушка ваша, наверное, теперь изводится, все глаза проглядела. Вот вы уж и успокойте ее. А там, глядишь, и подруга ваша объявится… Что ж, девицы нынче совсем свободных правил стали, отсюда и безобразия умножились… А не найдется, так мы ее искать станем, не извольте беспокоиться. И человек тот, которого возле чайной по башке-то шандарахнули, Бог даст, к завтрему в память придет, и чего-нето нам порасскажет. Глядишь, картина-то и прояснеет… Верьте, барышня Евдокия Матвеевна, моему полицейскому опыту: обыкновенно все ерунда какая-нибудь оказывается. Это вам нынче с испугу, да с устатку мнится: ах, черный плащ, ах, черная карета, ах разбойники! А поутру-то все и просветлеет, и обнаружится у вашей отчаянной приятельницы какое-нибудь романтическое приключение или уж жизненный скандал, к ведению полиции, увы! – никакого касательства не имеющий.
– Да, да, вы, быть может, правы, – убито пробормотала Дуня, понимая уже, что никто ночью Софи искать не станет. – Мне бы домой теперь…
– Не извольте беспокоится, барышня, – ласково откликнулся дежурный. – Сейчас извозчика найдем и все обозначим в лучшем виде…
Всю ночь Дуня и Мария Спиридоновна не спали, вскакивали с кроватей на малейший шум, бежали к двери или окну. Вдруг Софи возвернулась?
В домыслы дежурного полицейского Дуня не поверила ни на минуту. Какие романтические знакомые могли затащить Софи в карету?! Чушь и бред!
К утру стало окончательно ясно, что Софи попала в беду. Провожаемая причитаниями матери, Дуня, с синяками под глазами и запавшими висками, отправилась на конке в больницу. Почти ничего не соображая от волнения, как-то проработала первую половину дня.
– Что с вами, Дуняша? На вас лица нет! Не захворали ли сами? – заботливо спросил у девушки пожилой доктор Иван Гаврилович.
С трудом удерживаясь, чтоб не разрыдаться, Дуня прерывающимся голосом сказала, что, действительно, голова с утра раскалывается и вроде бы даже тошнит…
– Поноса не было? – деловито поинтересовался врач. – Рвоты?
– Н-нет, – запинаясь, ответила Дуня.
– Идите, немедленно идите домой! – твердо сказал Иван Гаврилович. – Выпейте чаю с медом и липовым цветом, накройтесь одеялом и хорошенько пропотейте. Инфекция с кишечным синдромом – это, знаете ли, милочка, штука коварная. Да что мне вам объяснять? Вы сами к медицине причастны. Но я – старше и опытнее. Поэтому, повторяю, мои рекомендации – немедленно домой!
– Спасибо, Иван Гаврилович! – не глядя в глаза, поклонилась Дуня и, скоро переодевшись, вышла из больницы, с удовольствием вдыхая морозный, пахнущий дымом (а не карболкой!) воздух.
Идти домой она не хотела. Увы! – никакой надежды на скорое возвращение Софи у нее не осталось. Людей не увозят ночью, насильно, в черной карете лишь для того, чтобы отпустить наутро – это Дуня прекрасно понимала. Но что ж теперь делать? К кому пойти?
Друзей и подруг Софи Дуня видела не раз (Софи сводила их для того, чтобы Дуня «развивалась»), но накоротке ни с кем не зналась, и где они квартируют, не имела представления. Да и как с ними говорить? Все они мало того, что были старше Дуни, образованнее и свободнее в привычках и разговоре, но и принадлежали к совершенно другому кругу. Сословный пиетет Мария Спиридоновна воспитала в дочери по полной программе еще в раннем детстве, и никакие усилия позднее присоединившейся к Дуниному воспитанию Софи не могли изменить этот аспект ее миропонимания. У каждого в этом мире свое место, и если тебе не случилось родиться аристократом, так нечего свою рожу на чужую колодку натягивать, так говорила Марья Спиридоновна (дочь сапожника), и Дуня была с нею по этому вопросу совершенно согласна. Исключение девушка делала лишь для Софи Домогатской, да и то с некоторыми оговорками (которых сама Софи, впрочем, никогда не замечала).
Внезапно Дуня вспомнила про брата Софи, Гришу Домогатского, который учился в Университете и напополам с товарищем за 25 рублей в месяц снимал комнату в пансионе неподалеку от Максимилиановской больницы. Пару раз Гриша заходил к ним, навещая Софи, и еще один раз они заходили к Грише с товарищем и вместе с молодыми людьми пили чай с плюшками. Бойкий Гриша весь вечер подтрунивал над робкой Дуней, а она смущалась и не могла толком произнести ни одного слова. Товарищ Гриши, широколицый Аркадий, показался ей тогда более милым и обстоятельным, чем нервный, порывистый Гриша, который, казалось, и минуты не мог просидеть спокойно. Со слов Софи и на основании собственных наблюдений, Дуня знала, что между братом и сестрой всего год разницы в возрасте и отношения между ними с детства теплые и короткие.
Надо идти к Грише! – решила Дуня. Уж он-то точно озаботится судьбой исчезнувшей сестры и придумает, что предпринять.
Хозяйка пансиона, белолицая и явно скучающая женщина лет сорока пяти, внимательно обсмотрела Дуню со всех сторон, расспросила, кто она и откуда (Дуня отвечала кратко, все более замыкаясь в себе), и лишь потом соизволила сообщить, что Григорий Павлович и Аркадий Петрович с утра ушли на занятия в Университет и обещались вернуться только поздно вечером.
Дуня закусила губу, но не дала хозяйке рассмотреть ее отчаяния.
Не очень представляя себе свои дальнейшие действия, девушка снова села на конку, забралась по лесенке на империал, опустилась на скамью и замерла, бездумно глядя на проплывающие мимо городские виды. На крутом подъеме к плашкоутному мосту у Зимнего дворца вагон остановился, прицепили дополнительно две лошади со своим кучером. Остановка, крик и свист вожатых (к ним по обычаю присоединилась публика, стоящая на площадке вагона), щелчки кнута и отчаянный звон колокола пробудили Дуню от забытья, и она поняла, что уже практически подъехала к зданию Двенадцати Коллегий, где помещался Университет. Что-то или кто-то внутри решил за нее.
Но как же попасть на территорию Университета? Наверняка туда нужен какой-то пропуск. Да и вообще – пускают ли женщин, ведь они студентками быть не могут?
У входа в длинное, известное каждому петербуржцу здание бывших петровских Коллегий было многолюдно. Студенты в черных двубортных шинелях и фуражках с синим околышем выходили из высоких застекленных дверей, прибывали пешком с набережной, подъезжали в экипажах, стояли поодиночке и группами, разговаривали. На Дуню никто не обращал внимания. Девушка сначала замешкалась, закусила губу (она всегда так делала, когда волновалась. Софи боролась с этой ее привычкой – некрасиво. Вспомнив о подруге, Дуня опять едва удержалась от слез). Потом решительно направилась к одинокому студенту с добрым, круглым лицом. Он стоял возле чугунной ограды, по-видимому поджидал кого-то и временами рассеянно листал конспект, поднося тетрадь близко к глазам.
– Простите! – сказала Дуня, остановившись перед ним и привлекая к себе внимание молодого человека. – Мне очень надо туда попасть (девушка указала пальцем на дверь), найти там одного студента, но я не знаю – как. Помогите мне, пожалуйста, это очень важно… Тут… сестра его в беду попала…Надо, чтоб он срочно узнал.
– Как фамилия коллеги? – спокойно спросил студент, доброжелательно оглядывая Дуню мягкими близорукими глазами.
– Домогатский, Григорий Павлович Домогатский, – быстро ответила Дуня.
– Не знаю такого, – подумав, с сожалением сказал студент. – Я на физико-математическом факультете учусь, а он, должно быть, на другом…
– Да, он праву обучается, – вспомнила Дуня.
– На юридическом, стало быть… Ну что ж… Чтобы попасть на территорию Университета, следует на входе предъявить матрикул, которого у вас, естественно, не имеется… Но не волнуйтесь, милая…
– Евдокия…
– Стало быть, не волнуйтесь, милая Евдокия… Любая задача имеет свое решение. Дело, как вы говорите, срочное, не терпящее отлагательства?
– Не терпящее! – энергично кивнула Дуня и улыбнулась впервые после исчезновения Софи в глубине кареты. Неизвестно почему она испытала вдруг безграничное доверие к близорукому, серьезному студенту.
– Ergo, мы сейчас станем вашу задачу решать. Стойте здесь и ждите, а я с коллегами переговорю.
Спустя пять минут Дуню окружили пятеро молодых людей с чистыми, серьезными лицами, задали два вопроса, вручили потертый кожаный портфель и объяснили ей порядок действий. По плану единственная Дунина задача заключалась в том, чтобы молча кивать и улыбаться. Она казалась девушке вполне посильной.
Пожилому швейцару на входе сообщили, что девушка – помощник фельдшера из Максимилиановской больницы, и по договоренности принесла экстраординарному профессору Николаеву потребные для его лекции препараты. И вот один из студентов естественнонаучного отделения физико-математического факультета специально послан профессором для того, чтобы встретить посланницу. Кроме того, профессор желал бы лично, без лишних посредников, сообщить девушке свои пожелания, касающиеся дальнейшего сотрудничества с больницей, каковое имеет целью процветание естественной науки с одной стороны и грядущее на этой основе облегчение страданий страждущих пациентов – с другой. Студенты говорили слаженно и столь замысловато, что у Дуни даже слегка закружилась голова. Швейцар-отставник тоже впечатлился внушительностью объяснений и пропустил Дуню на территорию Университета без всяческих дальнейших осложнений. В высоком вестибюле, по разные стороны которого размещались шинельная, химическая лаборатория и две широкие лестницы, устланные красной дорожкой и ведущие на второй этаж, студенты приняли у Дуни портфель, вежливо раскланялись, называя Дуню коллегой (все они уже знали, что ее работа в больнице – сущая правда), и отправились по своим делам, указав напоследок, где и как искать обучающихся на юридическом факультете.
Заглянув в гардеробную, где немолодой, но румяный сторож принимал у студентов шинели и тут же торговал за комиссию подержанными учебниками, пособиями и конспектами, девушка не без робости поднялась по мраморной лестнице на второй этаж.
Конец длиннющего коридора, проходящего через все здание, терялся в голубоватой дымке. Сам коридор был заставлен шкафами с книгами, стены завешаны объявлениями и расписаниями лекций. По коридору какими-то волнами ходила толпа одинаково одетых студентов. Стоял страшный шум, но Дуня, которая при иных обстоятельствах испугалась бы подобной обстановки до дрожи в коленях, нынче слишком волновалась за Софи и не думала о своих страхах. К тому же первая встреча с исполненными доброжелательства «коллегами» вдохновила ее настолько, что от присущей ей по конституции робости почти не осталось следа. Все же, чтобы слегка успокоиться и настроиться на дальнейшие действия, Дуня перевела дух, прочитала несколько объявлений, и, в числе прочего, узнала, что университетский яхт-клуб закрыл сезон, атлетическое общество, напротив, приглашает студентов из интересов собственного здоровья стать его действительными членами, а грузинское землячество назначает очередной сбор на 5 часов пополудни возле дверей 141 аудитории.
На поиски Гриши ушло не более получаса. Дуня уже почти без стеснения обращалась к студентам, выбирая тех, которые выглядели постарше и попроще. К ее удивлению, среди студентов в форменных тужурках встречались и совсем немолодые люди, даже с сединой на висках. Среди них были и умышленно небрежно одетые, с длинными волосами и кудлатыми бородами, в которых тоже пробивалась седина. Встречались и явные щеголи, в сюртуках на белой подкладке, со шпагой на боку. Всех означенных крайностей Дуня избегала, так как интуитивное понимание восточного понятия «срединного пути» было прочно усвоено ею буквально с молоком матери.
Все, к кому она обращалась, готовы были помочь серьезной, встревоженной девушке, и вскоре, сопровождаемая очередным доброхотом, из дверей одной из аудиторий чуть ли не бегом показалась знакомая фигура, вся сшитая из порывистых движений. Следом шел медленно улыбающийся Аркадий. Иным, знавшим Гришу недостаточно близко (в их число входила и Дуня), совершенно невозможно было бы представить себе молодого человека в состоянии покоя. Казалось, само его существование – суть движение, и стоит ему остановиться и опустить руки, как он попросту пропадет, растает в воздухе наподобие утреннего петербургского морока.
– Что ж? Что ж?! Мне сказали – сестра! Вы – Дуня, я помню! Ну, не молчите же! – речь Гриши, негромкая, скачущая, вся какая-то переменная, напоминала о несильных порывах прихотливого приморского ветра. – Что – Софи?! Я знаю, вы не стали б попусту! Ну скорее же!
– Софи пропала! – выпалила Дуня, торопясь вставить слово.
– Как пропала? Когда? При каких обстоятельствах? – несмотря на усилившуюся до шторма жестикуляцию, вопросы Гриши были точными и вполне осмысленными.
Буквально за пять минут Дуня рассказала все, что знала, включая разговор в полицейском участке. Спустя еще четверть часа Дуня, Гриша и присоединившийся к ним Аркадий ехали на извозчике в сторону Адмиралтейской части.
До пяти лет Софи сосала во сне большой палец и спала только и исключительно, свернувшись в плотный клубок и перекрестив голени. Старая нянька Федосья видела в этом непорядок, и потому каждый вечер разворачивала господское дитё, вынимала из рта покрасневший пальчик, вытягивала ручки и ножки, и снова укрывала Софи одеялом. Немедленно, прямо на глазах старухи, худенькое тельце опять сворачивалось в комок.
О непорядке Федосья докладывала барыне Наталье Андреевне. Барыня родила почти подряд троих детей (Софи, Гришу и Аннет), в результате чего имела расстроенные нервы, бинтовала грудь, лечилась от мигрени, непрерывно бранилась с мужем, кормилицами и прислугой, и слышать ничего о детях не желала. Впрочем, семейный доктор, почти непрерывно пользовавший слабенькую Аннет и саму Наталью Андреевну, как-то заглянул по ее просьбе к Софи, расспросил старую няньку, посмотрел образовавшуюся на пальчике кожистую мозоль, сделал козу подвижной, ясноглазой малышке, которая, как и младший брат-погодок, казалась ему удивительно живой и симпатичной. О результатах визита его расспросить забыли, и доктор сам, своим желанием, при случае растолковал Наталье Андреевне, что ничего страшного у Софи он не нашел, странная позиция, в которой любит спать ребенок, в точности повторяет позу, в которой зародыш находится в утробе матери, а в совокупности с сосанием пальца все это может означать, что малышке не хватает внимания и тепла.
– Значит, она ничем не больна? – уточнила Наталья Андреевна, внимательно выслушав врача.
– Очень здоровый ребенок, – подтвердил доктор. – Среди петербургских малышей редко такого встретишь.
– Ну и слава Богу! – вздохнула Наталья Андреевна. – А внимание пусть ей Федосья уделяет. За то ей и жалованье платят.
После пяти лет, когда Софи уже вовсю проказничала, неизменно привлекая к этому делу младшего брата, и бойко болтала по-русски и по-французски, ее существование наконец заметил отец, Павел Петрович.
Все и всегда говорили, что Софи удивительно похожа на него. Когда Софи пошел шестой год, он вдруг понял, что ему приятно это слышать. Павел Петрович полюбил разговаривать с ней, охотно читал ей немецкие сказки и стихи, купил смирного немолодого пони, и стал проводить со старшей дочерью достаточно много времени. Когда к Павлу Петровичу приходили гости, Софи бесстрашно заходила в кабинет, залезала к отцу на колени и сидела там, иногда вмешиваясь в разговор с неожиданными, часто смешными репликами.
В это же время Софи перестала сосать палец и стала спать обычным манером, на животе, вытянувшись под одеялом.
После смерти Павла Андреевича поза вернулась. Софи сама себе удивлялась, но только свернувшись под одеялом в плотный клубок и обхватив руками колени, она чувствовала себя в безопасности. Старенькая Федосья умерла, семейный доктор по-прежнему пользовал Домогатских, но с Софи практически не встречался, так как она по-прежнему ничем не болела. А больше и некому было рассказать ей о ее ранних детских привычках и рассеять недоумение. Впрочем, особенно задумываться о вещах, из которых не проистекало немедленных следствий, требующих каких-то действий, Софи не любила и не имела привычки. В Сибири и после возвращения из нее она спала так, как ей было удобно.
Теперь Софи проснулась оттого, что узкий щекотный лучик полз по ее правому веку, согревая глаз и правую же сторону носа. Софи чихнула, дернула головой и сразу уткнулась подбородком в колени, так, что лязгнули зубы. Колени были обтянуты подолом платья. В платье никто не ложится спать. Значит…
Софи разом вспомнила все, что с ней случилось, и плотнее, до хруста в переплетенных пальцах сжала кисти рук.
Где бы она ни очутилась и что бы ни произошло, нельзя показывать свой страх. Почему? Софи затруднилась бы ответить. Она просто знала, что так надо. Бедная Дуня! Как она, должно быть, напугалась, оставшись одна на улице, после того, как Софи увезли в неизвестном направлении. Думать о Дуне и тревожиться за ее состояние было проще и спокойнее, чем раздумывать о собственном положении и искать из него выход. Впрочем, как ни оттягивай этот момент, а просыпаться и вставать все равно придется.
Но отчего ж я заснула?
Софи осторожно покрутила носом, потом поднесла к лицу кисти рук. Запах почти выветрился, но все еще чувствовался. Эфир. Дуня как-то рассказывала ей, что в больнице его иногда используют для погружения пациента в бессознательное состояние, когда делают операции. Впрочем, эфир в этом отношении очень ненадежен, действует на всех по-разному, дает всякие неожиданные осложнения, и настойку опия по-прежнему применяют для обезболивания куда чаще.
Софи сначала села на кровати, а потом и встала, придерживаясь за спинку одной рукой. Голова слегка кружилась, ноги казались ватными, но в целом – самочувствие было вполне пристойным и никаких ужасных последствий действия эфира не наблюдалось. В комнате было темно и никого не было. Разбудивший Софи солнечный луч пробивался сквозь щель в закрытых ставнях.
В романах, которые Софи любила читать в детстве и ранней юности, обязательно кого-нибудь похищали или пленили. С тех пор она помнила, что, оказавшись в плену, романные герои очень любили подробно (страниц на пять) разглядывать место, в котором их заточили, замечая мельчайшие, зачастую самые неожиданные детали, вроде трещины на боку кувшина с водой или паучка, пробиравшегося среди соломинок подстилки. Впрочем, ни глиняных кувшинов, ни охапки соломы в месте, где очутилась Софи, не было и в помине. Обстановка в полутьме казалась (или на самом деле была?) богатой и изысканной, но Софи не собиралась ее разглядывать на манер романных героев. По ее мнению, человека, которого куда-то засунули против его воли, должны по настоящему интересовать только два предмета обстановки – дверь и окно.
Подойдя к двери, Софи подергала ее, убедилась, что она заперта, и начала стучать сначала кулаками, а потом и ногами. С двери посыпались кусочки белой и золотой краски. Никто не отозвался. Софи прислушалась. Откуда-то неслись звуки рояля и, кажется, пение. Играли Вагнера. Софи от рождения была немузыкальна, но Вагнера и немецкие марши любил Павел Петрович, а маменька, напротив, считала этого композитора слишком тяжеловесным и излишне напыщенным. Софи в пику Наталье Андреевне полагала, что музыка Вагнера ей близка. От ее стука в дверь игра на рояли не прекратилась. – «Что ж, – Софи пожала плечами. – Тем лучше для меня. Или хуже. Увидим.»
Она подождала еще немного, потом подняла изящную табуретку с изогнутыми ножками, подошла с ней к окну и ударила ножками по стеклу. Осколки посыпались на пол и между рамами почему-то не со звоном, а с тревожным шелестом. Не особенно заботясь о своих руках и понимая, что времени у нее не много, Софи обломила острые торчащие края, залезла на подоконник и потянулась к ставням. Они были заперты снаружи, что было возможно в одном-единственном случае: покои, в которых томилась Софи, находились на первом этаже. Софи снова подняла табуретку двумя руками и изо всех сил ударила в ставни, надеясь сбить задвижку, замок или хотя бы привлечь чье-нибудь внимание. Одновременно с ударами она пронзительно вопила:
– Спасите! Помогите! Режут! Убивают!
В дверном замке провернулся ключ, изогнутая бронзовая ручка наклонилась к полу. Софи, которая все время оглядывалась на дверь, заметила это, быстро отбежала от окна к двери, отошла в сторону и подняла табуретку над головой, намереваясь обрушить ее на голову тому, кто войдет.
Дверь распахнулась резко, как от сильного толчка, но никто не появился. Не расставаясь с табуреткой, Софи осторожно выглянула в темный коридор. Тут же сильные руки подхватили ее и куда-то поволокли. Софи выронила табуретку, но продолжала вопить и отбиваться. В промежутках между воплями она пыталась укусить или оцарапать мучителя, и по-видимому, достигала цели, потому что с его стороны раздавалось глухое шипение и еле слышные ругательства.
Глава 9
В которой читатель знакомится с обитателями коммуны на Рождественской, Туманов получает письмо от Недоброжелателя, а Софи обретает свободу с помощью бронзового кувшина
Коммуна располагалась в сером и мрачном доходном доме на 4й Рождественской улице. Вход из двора-колодца. Дородный пожилой дворник проводил Дуню и двух молодых людей явно неодобрительным взглядом. На лестнице пахло керосином, рыбьей требухой и пригоревшей пшенной кашей.
Последний, пятый этаж. Дверь не заперта. Две смежные комнаты с потертыми, кое-где ободранными обоями, прихожая с натоптанной осенней грязью и крохотная кухня. На столе, полу, полках – книги, журналы, стаканы, статистические листки, какие-то записи, сделанные разными подчерками. Две кровати, застеленные тонкими суконными одеялами. На одной из них сидит сутулая женщина с папиросой в руке и делала какие-то пометки в журнале. Волосы у нее давно немытые или больные, плотно зачесанные назад и стянутые на затылке.