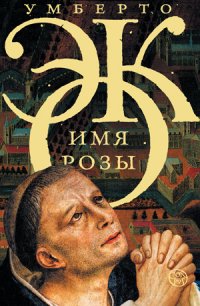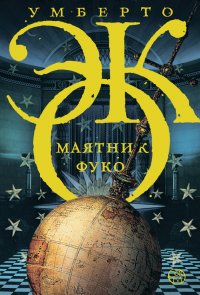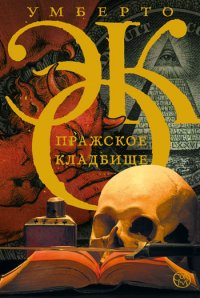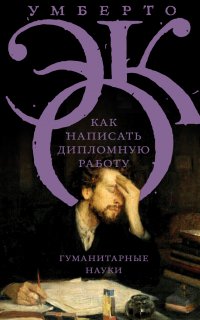Читать онлайн Сказать почти то же самое. Опыты о переводе бесплатно
- Все книги автора: Умберто Эко
Umberto Eco
Dire Quasi la Stessa Cosa
Esperienze di Traduzione
© RCS Libri S.p.A. – Milano Bompiani 2003
© А. Коваль, перевод на русский язык, комментарии, 2006. Наследники, 2015
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2015
© ООО “Издательство АСТ”, 2015
Издательство CORPUS ®
Введение
Что значит «переводить»? Первый ответ, и притом обнадеживающий, мог бы стать таким: сказать то же самое на другом языке. Правда, при этом мы, во-первых, испытываем немалые затруднения, пытаясь установить, что́ означает «сказать то же самое», и недостаточно ясно осознаем это в ходе таких операций, как парафраза, определение, разъяснение, переформулировка, не говоря уж о предполагаемых синонимических подстановках. Во-вторых, держа перед собою текст, подлежащий переводу, мы не знаем, что такое то́. Наконец, в некоторых случаях сомнительно даже значение слова сказать.
Мы не намерены подчеркивать центральное положение переводческой проблемы во многих философских дискуссиях и потому не станем приниматься за поиски ответа на вопрос о том, существует ли некая Вещь в Себе в «Илиаде» или в «Ночной песни пастуха, кочующего в Азии»{♦ 1}[1]* (та Вещь в Себе, которая, казалось бы, должна просвечивать или проблескивать вне и поверх всякого языка, на который они переводятся), – или же, напротив, ее не достичь никогда, несмотря на все усилия, к которым станет прибегать другой язык. Залетать так высоко нам не по силам, и на дальнейших страницах мы неоднократно будем спускаться пониже.
Положим, в английском романе некий персонаж говорит: it’s raining cats and dogs. Плох будет тот переводчик, который, думая, что говорит то же самое, переведет это буквально: «дождь льет собаками и кошками» (piove cani е gatti). Это надо перевести «льет как из ведра» (piove а cantinelle или piove соте Dio la manda). Но что́, если это роман фантастический, и написал его приверженец так называемых «фортианских» наук{♦ 2}, и в нем рассказывается, как дождь действительно льет кошками и собаками? Тогда нужно переводить буквально. Согласен. А что́, если этот персонаж идет к доктору Фрейду, дабы поведать ему, что испытывает необъяснимый маниакальный страх перед кошками и собаками, которые, как ему кажется, становятся особенно опасны, когда идет дождь? Переводить опять же нужно будет буквально, но утратится некий оттенок смысла: ведь этот Кошачий Человек озабочен также идиоматическими выражениями.
А если в итальянском романе персонаж, говорящий, что дождь льет кошками и собаками, будет студентом школы Берлица{♦ 3}, не способным удержаться от искушения украсить свою речь вымученными англицизмами? Если перевести буквально, несведущий итальянский читатель не поймет, что этот персонаж употребляет англицизм. А если затем этот итальянский роман нужно будет перевести на английский, то ка́к передать эту привычку уснащать свою речь англицизмами? Неужели придется изменить национальность героя и сделать его англичанином, направо и налево сыплющим итальянизмами, или лондонским рабочим, безуспешно демонстрирующим оксфордское произношение? Это было бы непозволительной вольностью. А если фразу it’s raining cats and dogs произносит по-английски персонаж французского романа? Как перевести ее на английский? Видите, как трудно сказать, что такое то́, которое должно передаться через текст, и как сложно его передать.
В этом и заключается смысл нижеследующих глав: попытаться понять, каким образом, даже зная, что то же самое никогда не говорится, можно сказать почти то же самое. При таком подходе проблема состоит уже не столько в понятии того же самого и не столько в понятии того же самого, сколько в понятии этого почти[2]. Насколько растяжимо это почти? Все зависит от точки зрения: Земля почти такая же, как Марс, поскольку обе эти планеты вращаются вокруг Солнца и обе они шарообразны. Но Земля может быть почти такой же, как любая другая планета, вращающаяся в какой-то другой солнечной системе; она почти такая же, как само Солнце, поскольку речь идет о небесных телах; она почти такая же, как хрустальный шар предсказателя, как мяч или апельсин. Чтобы установить пределы гибкости, растяжимости этого почти, требуются известные критерии, о которых предварительно ведутся переговоры. Сказать почти то же самое – это процедура, которая, как мы увидим ниже, проходит под знаком переговоров.
* * *
Пожалуй, впервые я стал теоретически заниматься проблемами перевода в 1983 г., объясняя, как я переводил «Упражнения в стиле» Раймона Кено{♦ 4}. В дальнейшем я, кажется, не уделял этому особого внимания вплоть до девяностых годов, когда состоялся ряд моих выступлений по разным случаям на тех или иных конференциях; кроме того, как будет видно в дальнейшем, однажды я изложил часть своего опыта автора, переведенного на другие языки[3]. Проблему перевода нельзя было обойти в моем исследовании «В поисках совершенного языка» (Eco 1993b); к тщательному анализу переводов я обращался, говоря об одном переводе Джойса (Eco 1996), а также о моем собственном переводе «Сильвии» Жерара де Нерваля{♦ 5} (Eco 1999b)[4]
Однако в 1997–1999 гг. в Болонском университете проходили два годичных семинара, где обсуждались докторские работы по семиотике. Семинары были посвящены теме интерсемиотического перевода, то есть всем тем случаям, когда перевод осуществляется не с одного естественного языка на другой, а из одной семиотической системы в другую, от нее отличную: когда, например, роман «переводят» в фильм, эпическую поэму – в комиксы или же пишут картину на тему стихотворения. В ходе обсуждений я обнаружил, что не согласен с частью докторантов и коллег по вопросу об отношениях между переводом «в собственном смысле слова» и переводом, называемым «интерсемиотическим». Предмет спора можно уяснить себе со страниц этой книги; точно так же можно уяснить себе, какие стимулы и побуждения я получил, в том числе (и даже особенно) от тех, с кем расходился во мнении. Мои тогдашние отклики, равно как и выступления других участников, появились в двух специальных номерах журнала VS 82 (1999) и VS 85–87 (2000).
Между тем осенью 1998 г. Торонтский университет пригласил меня на курс лекций в честь профессора Эмилио Годжо, в ходе которых я стал пересматривать свои мысли по этому вопросу. Итоги этих докладов были затем опубликованы в томике «Опыты о переводе» (Eco 2001).
Наконец, в 2002 г. я прочел в Оксфорде восемь Вайденфельдских лекций, все на ту же тему, где в конце концов развил понятие перевода как переговоров[5].
В этой книге воспроизводятся очерки, написанные по вышеуказанным поводам, со множеством новых рассуждений и примеров, поскольку я уже не связан обязательным временем отдельных докладов или выступлений на той или иной конференции. Тем не менее, несмотря на эти значительные прибавления и на иную организацию материала, я попытался сохранить разговорный тон, в котором были выдержаны мои прежние тексты.
* * *
Разговорный тон объяснялся и объясняется тем, что на нижеследующих страницах, где, несомненно, вступают в игру различные аспекты теории перевода, я всегда исхожу из конкретного опыта. Можно сказать иначе: опыт может вспомниться в связи с какими-либо теоретическими проблемами, которыми занимаются сегодня в исследованиях по переводоведению, но эти теоретические проблемы всегда возникают благодаря опыту, по большей части личному.
Тексты по переводоведению зачастую не удовлетворяли меня именно потому, что в них богатство теоретических рассуждений не облечено в надежные латы примеров. Конечно, это относится не ко всем книгам или очеркам на эту тему, и я думаю, например, о том, какое богатство примеров собрано в книге Джорджа Стайнера «После Вавилона» (Steiner 1975). Но во многих других случаях у меня возникало подозрение, что теоретик перевода сам никогда не переводил и потому говорит о том, в чем не имеет непосредственного опыта[6].
Как-то раз Джузеппе Франческато обронил такое замечание (пересказываю по памяти): чтобы изучать явление билингвизма, а значит, собрать достаточно опыта о формировании двоякой языковой компетенции, нужно час за часом, день за днем наблюдать за поведением ребенка, которому приходится испытывать двойственное лингвистическое побуждение.
Такой опыт может быть приобретен только: (1) лингвистами, (2) имеющими супруга или супругу другой национальности и / или живущими за рубежом, (3) имеющими детей и (4) способными регулярно следить за своими детьми с самых первых моментов их языкового поведения. Соблюсти все эти требования удается не всегда, и именно поэтому исследования билингвизма развивались медленно.
Я задаюсь следующим вопросом: быть может, для того, чтобы разработать теорию перевода, необходимо не только рассмотреть множество примеров перевода, но и произвести, по крайней мере, один из трех следующих опытов: сверять переводы, выполненные другими, переводить самому и быть переведенным (или, что еще лучше, быть переведенным, сотрудничая с собственным переводчиком)?
Тут можно было бы заметить, что вовсе не обязательно быть поэтом, чтобы разработать дельную теорию поэзии, и можно оценить текст, написанный на иностранном языке, даже зная этот язык преимущественно пассивно. Однако это возражение верно лишь в известной мере. На деле даже тот, кто никогда не писал стихов, обладает опытом собственного языка и мог хоть раз в жизни попытаться (и всегда может попытаться) написать одиннадцатисложник, найти рифму, метафорически изобразить тот или иной предмет или событие. И тот, кто обладает лишь пассивным знанием чужого языка, по крайней мере, испытал на опыте, насколько сложно строить на нем складные фразы. Мне кажется также, что критик-искусствовед, не умеющий рисовать, способен (причем именно поэтому) отметить сложности, кроющиеся в любом виде зрительного изображения; равным образом критик-музыковед, обладающий слабым голосом, может по прямому опыту понять, какое умение нужно для того, чтобы мастерски взять высокую ноту.
Поэтому я полагаю так: чтобы заниматься теоретическими размышлениями над процессом перевода, небесполезно обладать его активным или пассивным опытом. С другой стороны, когда никакой теории перевода еще не существовало, т. е. от святого Иеронима{♦ 6} до XX в., единственные интересные наблюдения на эту тему были сделаны именно теми, кто переводил сам, и хорошо известно, какие герменевтические затруднения испытывал святой Августин, вознамерившись рассуждать о верных переводах, но обладая при этом слабыми познаниями в иностранных языках (еврейского он не знал совсем, а греческий – очень слабо).
Добавлю, что в жизни мне пришлось сверять множество переводов, сделанных другими людьми, – как в ходе продолжительного издательского опыта, так и в качестве руководителя серий научных очерков; что я перевел две книги, потребовавшие немалых усилий, – «Упражнения в стиле» Раймона Кено и «Сильвию» Жерара де Нерваля, – посвятив обеим долгие годы; и, как автор научных и художественных произведений, я работал в тесном контакте со своими переводчиками. Я не только контролировал переводы (по крайней мере, на те языки, которые я в той или иной степени знаю, и именно поэтому буду часто цитировать переводы Уильяма Уивера, Буркхарта Кребера, Жана-Ноэля Скифано, Элены Лосано и других), но предварительно и в ходе работы вел с переводчиками долгие беседы, так что обнаружил: если переводчик или переводчица смекалисты, они могут объяснить проблемы, возникающие в их языке, даже тому автору, который его не знает, и даже в этих случаях автор может выступить сотрудником, предлагая свои решения или же указывая, какие вольности они могут допустить в своем тексте, дабы обойти препятствие (так у меня часто случалось с Еленой Костюкович, переводчицей на русский, с Имре Барна, переводившим на венгерский, с Йондом Буке и Патти Кроне, переводившими на нидерландский, с Масаки Фудзимура и Тадахико Вада, переводившими на японский).
Вот почему я решил говорить о переводе, отталкиваясь от конкретных проблем, которые по большей части касаются моих собственных сочинений, и ограничиться упоминаниями решений теоретических только на основе этого опыта in corpore vili[7]*.
Приняв такое решение, я подвергаю себя двоякой опасности: во-первых, проявить нарциссизм, а во-вторых, полагать, будто мое истолкование моих книг возобладало над их истолкованием другими читателями, в числе которых in primis[8]** – мои переводчики. А ведь с этим принципом я сам полемизировал в таких книгах, как «Роль читателя»{♦ 7} и «Пределы интерпретации». Первая опасность неизбежна – но, по сути дела, я веду себя как те носители опасных для общества болезней, которые соглашаются открыто рассказать людям и о своем нынешнем состоянии, и о принимаемых ими мерах лечения, дабы принести пользу другим. Что же касается второй опасности, надеюсь, что на нижеследующих страницах будет видно, что я всегда указывал своим переводчикам на критические места своих текстов, способные породить двусмысленности, советуя им обратить на это внимание и не пытаясь оказать влияние на их истолкование. В иных случаях я отвечал на их прямые просьбы, когда они спрашивали меня, какое из различных решений я принял бы, если бы мне пришлось писать на их языке; и в этих случаях мое решение обретало силу закона, поскольку в конечном счете на обложке книги стоит мое имя.
С другой стороны, в своем опыте автора, переводимого на другие языки, я постоянно ощущал конфликт между необходимостью в том, чтобы перевод был «верен» написанному мною, и волнующим открытием того, как мой текст мог (а подчас и должен был) преобразиться, облекаясь в слова другого языка. И, хотя порой я понимал, что перевод невозможен (правда, такие случаи всегда тем или иным образом разрешались), еще чаще я замечал возможности: иначе говоря, я замечал, как при соприкосновении с другим языком текст выказывал потенциалы истолкования, которые не были известны мне самому, и как подчас перевод мог улучшить оригинал (я говорю «улучшить» именно в отношении к тому намерению, которое сам текст внезапно проявлял, независимо от того исходного намерения, которое было у меня как у эмпирического автора).
* * *
Эту книгу, исходящую из личного опыта и родившуюся из двух циклов лекций, я не выдаю за книгу по теории перевода (и она лишена соответствующей систематичности) по той простой причине, что неисчислимые проблемы переводоведения она оставляет открытыми. Я не говорю об отношениях с греческими и латинскими классиками просто потому, что никогда не переводил Гомера и мне не доводилось выносить суждение о том или ином гомеровском переводе для серии классических авторов. О так называемом интерсемиотическом переводе я говорю лишь от случая к случаю, поскольку никогда не снимал фильм по роману и не ставил балет по стихотворению. Я не касаюсь постколониальных тактик и стратегий приспособления того или иного восточного текста к восприятию других культур, поскольку не мог ни следить за переводами моих текстов на арабский, персидский, корейский или китайский, ни обсуждать эти переводы. Мне никогда не приходилось переводить тексты, написанные женщиной (и не потому, что по привычке перевожу только мужчин: за всю свою жизнь я перевел лишь двоих из них), и не знаю, с какими проблемами мне пришлось бы столкнуться. В отношениях с некоторыми моими переводчицами (на русский, испанский, шведский, финский, нидерландский, хорватский, греческий) с их стороны я встречал такую готовность примениться к моему тексту, что не сталкивался ни с какой волей к «феминистскому» переводу[9].
Несколько абзацев я уделил слову «верность», поскольку автор, следящий за своими переводчиками, всегда исходит из подразумеваемого требования верности. Понимаю, что это слово может показаться устаревшим ввиду высказываний отдельных критиков, утверждающих, что в переводе в счет идет лишь результат, реализующийся в тексте и языке прибытия – особенно в определенный исторический момент, когда предпринимается попытка актуализовать текст, созданный в другие эпохи. Но понятие верности связано с убеждением в том, что перевод представляет собой одну из форм истолкования и, даже исходя из восприятия и культуры читателя, он всегда должен стремиться к тому, чтобы воспроизвести намерение – не скажу «автора», но намерение текста: то́, что текст говорит или на что он намекает, исходя из языка, на котором он выражен, и из культурного контекста, в котором он появился.
Предположим, в каком-нибудь американском тексте один персонаж говорит другому: you are just pulling my leg. Переводчику не следует передавать это буквально: «ты только тянешь меня за ногу» или «да ты водишь меня за ногу»; правильно будет «ты пытаешься обвести меня вокруг пальца» (mi stai prendendo in giro) или, еще лучше, «ты меня за нос водишь» (mi stai prendendo per il naso). При буквальном переводе получится оборот, в итальянском настолько непривычный, что мы вынуждены будем предположить, будто персонаж (а вместе с ним и автор) изобретают какую-то дерзкую риторическую фигуру, – а это не так, поскольку персонаж использует то, что в его языке является устойчивым выражением. Напротив, если заменить «ногу» – «носом», итальянский читатель окажется в той же ситуации, в которую автор текста хотел бы поместить читателя английского. Итак, вот пример того, как кажущаяся неверность (текст не переводится буквально) оказывается в конце концов актом верности. Об этом почти теми же словами говорил святой Иероним, покровитель переводчиков: при переводе нужно non verbum е verbo sed sensum exprimere de sensu[10]* – хотя мы увидим, что это утверждение тоже может приводить ко многим двусмысленностям.
Итак, переводить – значит понять внутреннюю систему того или иного языка и структуру данного текста на этом языке и построить такую текстуальную систему, которая в известном смысле может оказать на читателя аналогичное воздействие – как в плане семантическом и синтаксическом, так и в плане стилистическом, метрическом, звукосимволическом, – равно как и то эмоциональное воздействие, к которому стремился текст-источник[11]1.
«В известном смысле» – потому что любой перевод намечает окраины неверности вокруг ядра предполагаемой верности, но решение о местоположении этого ядра и о ширине этих окраин зависит от целей, поставленных перед собой переводчиком.
Тем не менее я не собираюсь сейчас развивать эти утверждения, поскольку все нижеследующие страницы представляют собой их истолкование. Хочу лишь повторить, что многие концепции, имеющие ныне хождение в переводоведении (эквивалентность, приверженность цели, верность или инициатива переводчика) для меня выступают под знаком переговоров.
* * *
В последние десятилетия появилось много трудов по теории перевода, в том числе и потому, что увеличилось число исследовательских центров, курсов и отделений, посвященных этой проблеме, а также школ письменного и устного перевода. Причины роста интереса к переводоведению многочисленны, но они сходятся воедино: с одной стороны, это явления глобализации, все теснее сближающие друг с другом как целые группы людей, так и отдельных представителей рода человеческого, говорящих на разных языках; затем – развитие интереса к семиотике, благодаря которому понятие перевода становится центральным, даже если оно не выражается напрямую (вспомним хотя бы дискуссии о смысле высказывания, который должен «выживать» при переходе с одного языка на другой), и, наконец, распространение информатики, побуждающее многих к попыткам создания и дальнейшего совершенствования моделей искусственного перевода (и здесь переводоведческая проблема становится решающей – не столько в том случае, когда модель «работает», сколько именно в том, когда она не «работает» в полную силу).
Кроме того, в первой половине XX в. и позже были разработаны такие теории структуры языка (или динамики языков), которые делали упор на явлении радикальной невозможности перевода. Это крепкий орешек и для самих теоретиков, которые, разрабатывая эти теории, отдавали себе отчет в том, что на деле люди переводят, причем уже в течение тысячелетий.
Возможно, переводят они плохо – и здесь действительно, можно подумать о дискуссиях, все время будоражащих среду библеистов, склонных постоянно критиковать прежние переводы священных текстов. Тем не менее, сколь бы несостоятельны и неудачны ни были переводы, в которых тексты Ветхого и Нового Заветов дошли до миллиардов верующих, говорящих на разных языках, в этой эстафете от одного языка к другому, от одной вульгаты к другой значительная часть человечества пребывала в согласии относительно основных фактов и событий, переданных этими текстами, от Десяти заповедей до Нагорной проповеди, от историй о Моисее до Страстей Христовых, – и, хотелось бы сказать, относительно духа, животворящего эти тексты.
Поэтому, даже когда с почти юридической категоричностью утверждается тезис о невозможности перевода, на практике мы всегда сталкиваемся с парадоксом об Ахилле и черепахе: теоретически Ахилл никогда не догонит черепаху, но в действительности, как учит опыт, он ее обгоняет. Положим, теория вдохновляется той чистотой, без которой опыт вполне может обойтись; однако интересная проблема состоит в том, насколько и в чем именно опыт может обойтись без нее. Отсюда мысль о том, что перевод основан на чем-то вроде переговоров, поскольку они – именно такой базовый процесс, в ходе которого, дабы нечто получить, отказываются от чего-то другого; и в конечном счете договаривающиеся стороны должны выйти из этого процесса с чувством разумного и взаимного удовлетворения, памятуя о золотом правиле, согласно которому обладать всем невозможно.
Здесь можно было бы спросить, каковы же договаривающиеся стороны в этом процессе переговоров. Их много, даже если порою они лишены инициативы: с одной стороны, есть текст-источник со своими автономными правами, а порою и фигура эмпирического автора (еще живого) с его возможными притязаниями на контроль, а также вся та культура, в которой рождается данный текст; с другой стороны, есть текст прибытия и та культура, в которой он появляется, с системой ожиданий его предполагаемых читателей, а порою даже с издательской индустрией, предвидящей различные критерии перевода в зависимости от того, для чего создается текст прибытия: для строгой филологической серии или для подборки развлекательных книг. Издатель может даже потребовать, чтобы в переводе детективного романа с русского были убраны диакритические знаки, используемые при передаче имен персонажей, чтобы читателям было легче отождествлять и запоминать их. Переводчик выступает как лицо, ведущее переговоры между этими реальными или потенциальными сторонами, и в таких переговорах прямо выраженное согласие сторон предвидится не всегда.
Однако некоторые подразумеваемые переговоры имеют место и в пактах о достоверности, а они различны для читателей, берущихся за книги по истории, и для тех, кто читает романы: в силу соглашения, существующего уже тысячу лет, последним можно предоставить временное освобождение от обязанности проявлять недоверчивость.
* * *
Поскольку я исхожу из личного опыта, ясно, что предмет, меня занимающий, – это перевод в собственном смысле слова, т. е. тот, что практикуется в издательствах. Так вот, хотя теоретик может утверждать, что не существует никаких правил, позволяющих считать, будто один перевод лучше другого, издательская практика учит нас, что, по крайней мере в случае явных и неоспоримых ошибок, достаточно легко установить, был ли перевод неверен и подвергся ли он исправлениям. Это всего лишь вопрос здравого смысла, но здравый смысл нормального редактора издательства позволяет ему вызвать переводчика и с карандашом в руке указать ему на те случаи, в которых его работа неприемлема.
Конечно, при этом нужно разделять убеждение в том, что «здравый смысл» – не ругательство, а, напротив, такое явление, которое многие философские учения принимали вполне всерьез. С другой стороны, предлагаю читателю проделать элементарный, но внятный мысленный эксперимент: предположим, мы дали переводчику распечатку по-французски – формат A4, шрифт Times и 12-й кегль, объем 200 страниц; и вот переводчик приносит в качестве результата своей работы распечатку: тот же формат, тот же шрифт и кегль, но объем – 400 страниц. Здравый смысл подсказывает, что этот перевод, скорее всего, никуда не годится. Думаю, такого переводчика можно было бы отстранить, даже не раскрывая его работы. С другой стороны, если мы дадим кинорежиссеру стихотворение Леопарди «К Сильвии»{♦ 8}, а он принесет нам ленту продолжительностью в два часа, у нас еще не будет критериев, позволяющих судить о том, приемлема его работа или нет. Нам нужно будет сначала посмотреть фильм, чтобы понять, в каком ключе режиссер истолковал поэтический текст и переложил его в зримые образы.
Уолт Дисней сделал из «Пиноккио» мультфильм. Конечно, поклонники Коллоди жаловались на то, что Пиноккио выглядит там как тирольская марионетка, что он не такой деревянный, каким преподнесли его коллективному воображению первые иллюстрации Маццанти{♦ 9} или Муссино, что некоторые элементы сюжетной схемы были изменены, и так далее.
Однако, стоило бы только Уолту Диснею приобрести права на экранизацию (правда, в случае «Пиноккио» эта проблема уже не стояла), никто не мог бы привлечь его к суду за эти проявления неверности – негодовать и полемизировать с режиссером могли бы в лучшем случае живые авторы книги, запроданной Голливуду. Но если продюсер предъявляет контракт об уступке прав, тут уж ничего не поделаешь.
Если же французский издатель поручает сделать новый перевод «Пиноккио», а переводчик отдает ему текст, начинающийся словами Longtemps je те suis couché de bonne heure[12]*, издатель вправе отвергнуть рукопись и заявить, что переводчик недееспособен. В переводе в собственном смысле слова царит молчаливый принцип, обязывающий юридически уважать высказывание другого лица[13]1, хотя это интересная проблема юриспруденции: установить, что понимается под уважением к высказыванию другого лица в тот момент, когда совершается переход из одного языка в другой.
Ради ясности скажу: давая определение переводу в собственном смысле слова, прежде чем (или вместо того чтобы) прибегать к мистическим умозрительным рассуждениям о некоем должном чувстве общности между автором оригинала и переводчиком, я принимаю критерии экономические и профессионально-деонтологические и очень надеюсь, что это не возмутит некоторых прекраснодушных людей. Когда я покупаю или ищу в библиотеке перевод великого поэта, сделанный другим великим поэтом, я не ожидаю обрести что-нибудь сильно схожее с оригиналом; напротив, обычно я читаю перевод, поскольку уже заранее знаю оригинал и хочу увидеть, как художник-переводчик встречается (будь эта встреча вызовом или данью почтения) с переведенным им художником. Положим, я иду в кино, чтобы посмотреть «Проклятую путаницу» Пьетро Джерми{♦ 10}. Конечно, я знаю, что этот фильм снят по роману Карло-Эмилио Гадда «Дохлый номер на виа Мерулана»{♦ 11}, – правда, в начальных титрах режиссер предупреждает, что фильм всего лишь снят по мотивам романа. Тем не менее я вовсе не считаю, что можно, посмотрев фильм, воздержаться от чтения книги (если, конечно, речь не идет о зрителе малообразованном).
Я уже загодя знаю, что найду в фильме элементы фабулы, психологические характеристики персонажей, некую атмосферу романа, – но, конечно, никак не эквивалент языку писателя. Я не жду, что увижу в зримых образах такие фразы, как{♦ 12}: «Спарашютил с облаков и взмолился: нет, мол, неправда это ни хрена; но схлопотал так, что убиться можно» или «Град, особенно во время приступов благопристойности и ментованного федералита…».
Но если я покупаю итальянский перевод иностранного произведения, будь то трактат по социологии или роман (зная конечно же, что во втором случае я рискую больше, чем в первом), я надеюсь, что перевод даст мне максимально верное представление о том, что́ написано в оригинале. И я сочту надувательством сокращения отдельных кусков или целых глав, наверняка испытаю раздражение из-за очевидных ошибок перевода (что, как мы увидим, случается с проницательным читателем даже в том случае, если он читает перевод, не зная оригинала), и с еще бо́льшим основанием вознегодую, если обнаружу затем, что переводчик (по неопытности или в силу намеренной цензуры) заставил того или иного героя сказать или сделать нечто прямо противоположное тому, что тот сказал или сделал. В замечательных томах издания «Scala d’Oro Utet», которые мы читали мальчишками, нам «пересказывали» великих классиков, но при этом зачастую приспосабливали их ad usum delphini[14]*. Помню, что в таком «дайджесте» романа Гюго «Отверженные» Жавер, разрываясь между своим долгом и признательностью Жану Вальжану, вместо того чтобы покончить с собой, подал в отставку. Речь шла о переложении. Когда я дознался до правды, прочтя оригинал, оскорбленным я себя не почувствовал (даже напротив, я отметил, что переложение во многих отношениях хорошо передало и фабулу, и дух романа). Но, если бы нечто подобное произошло в каком-нибудь переводе, я заговорил бы о нарушении одного из моих прав.
Здесь можно будет возразить, что это именно издательские условия, коммерческие требования и такие критерии, мол, не имеют никакого отношения к философии или семиотике различных типов перевода. Однако я ставлю перед собой такой вопрос: действительно ли эти юридическо-коммерческие критерии чужды суждению эстетическому или семиотическому?
Думаю, когда Микеланджело поручили спроектировать купол собора Святого Петра, подразумеваемое требование заключалось не только в том, чтобы купол был красив, гармоничен и грандиозен, но и чтобы он стоял прямо, – и то же самое потребуется сегодня, скажем, от Ренцо Пьяно{♦ 13}, если ему поручат спроектировать или сконструировать музей.
Это будут критерии юридическо-коммерческие, но не внехудожественные, поскольку часть ценности произведения прикладного искусства составляет также совершенство его функций. Интересно было бы узнать: тот, кто заказал Филиппу Старку{♦ 14} сконструировать для него соковыжималку, оговорил в контракте, что одна из функций соковыжималки – не только выцеживать сок, но и задерживать семечки? А ведь соковыжималка Старка пропускает семечки в бокал – возможно, потому, что дизайнеру какой-нибудь выступ, задерживающий семечки, показался «неэстетичным». Если бы в контракте уточнялось, что новая соковыжималка, независимо от своей новой формы, должна обладать всеми характеристиками традиционной, тогда у заказчика было бы право вернуть объект дизайнеру. Если этого не случилось, так именно потому, что заказчик желал получить не настоящую соковыжималку, а произведение искусства и conversation piece[15]*, которая будет желанна потенциальным покупателям как абстрактная скульптура (впрочем, на вид очень красивая и тревожащая, как глубоководное чудище) или как престижный предмет, а не как бытовой прибор, подлежащий практическому использованию[16]1.
С другой стороны, я всегда вспоминаю одну историю, которую слышал ребенком, когда еще свежа была память об итальянском завоевании Ливии и о длившейся несколько лет борьбе с отрядами повстанцев (те, кто принимал в ней участие, были еще живы). Рассказывали об одном итальянском авантюристе, который последовал за оккупационными войсками и выдал себя за переводчика с арабского, на деле этого языка не зная. Если брали в плен предполагаемого повстанца и подвергали его допросу, итальянский офицер задавал ему вопрос по-итальянски, мнимый переводчик произносил несколько фраз на своем вымышленном арабском, а спрошенный не понимал и отвечал неизвестно что (возможно, что ничего не понимает). Переводчик переводил на итальянский по своему усмотрению, уж не знаю как: что допрашиваемый, например, отказывается отвечать или же, напротив, во всем признается, – и обычно повстанца вешали.
Допускаю, что раз-другой этот негодяй даже поступил милосердно, вложив в уста своим злосчастным собеседникам фразы, которые их спасли. Как бы то ни было, не знаю, чем эта история закончилась. Возможно, в дальнейшем этот «переводчик» жил припеваючи на денежки, причитавшиеся ему за службу; может быть, его разоблачили, и тогда худшее, что с ним могло случиться, – это отставка.
Однако, вспоминая эту историю, я всякий раз думал, что перевод в собственном смысле слова – дело серьезное, что он обязывает к некой профессиональной деонтологии, отменить которую никакая деконструктивная теория перевода не сможет никогда.
Поэтому отныне и впредь, когда я буду пользоваться словом перевод (если оно не будет взято в кавычки или как-либо уточнено), я всегда буду подразумевать перевод с одного естественного языка на другой, то есть перевод в собственном смысле слова.
* * *
Конечно, в нижеследующих главах я буду говорить и о так называемом интерсемиотическом переводе именно для того, чтобы показать, в чем он схож с переводом в собственном смысле слова, а в чем – отличен от него. Ясно поняв возможности и пределы одного из них, мы сможем лучше понять также возможности и пределы другого. Я бы не хотел, чтобы это истолковали как форму недоверия или отсутствия интереса к интерсемиотическим переводам. Например, Нергор (Nergaard 2000: 285) называет мою позицию по отношению к интерсемиотическим переводам «скептической». Но что́ это значит – утверждать, будто я скептичен? Разве я не верю в существование экранизаций романов или музыкальных произведений, вдохновленных картинами, в то, что некоторые из них обладают высокой художественной ценностью, дают сильнейший интеллектуальный стимул, оказывают значительное влияние на все культурное окружение? Разумеется, это не так. Я скептичен, самое большее, относительно возможности называть их переводами: скорее они, как мы увидим ниже, представляют собою трансмутации или адаптации. Но это не скептицизм! Это терминологическая разборчивость, чувствительность к различиям: ведь подчеркивать культурные и этнические различия между итальянцем и немцем – не значит быть «скептичным» по отношению к существованию немцев или к их роли в развитии западной цивилизации. Интерсемиотический перевод – тема захватывающая, и я отсылаю к статьям в журнале VS 85–87 (2000), изобилующим размышлениями, способными вдохновить читателя. Мне хотелось бы обладать сведениями и необходимой тонкостью, чтобы внести более весомый вклад в аналитический подход, применяемый в этих статьях, и в теоретические выводы, к которым они приходят.
Именно в ходе этих дискуссий (а настоящая книга является их расширенным изложением) я счел, что важно провести различия, и я это сделал. Если эти различия прояснены, открывается широкий путь к поиску подобий, аналогий, общих семиотических корней.
* * *
Напоминаю также, что тексты эти родились как доклады, а в докладе не следует злоупотреблять библиографическими отсылками, которые в одно ухо влетают, а в другое вылетают (если, конечно, речь не идет о трудах канонических). Кроме того, несистематическая природа моего дискурса не обязывала меня учитывать всю библиографию по теме. Тому же критерию я следовал и в этой книге: я вынес библиографические отсылки (а не общую библиографию) в конец книги, чтобы указать тексты, к которым я действительно отсылаю. Далее, я составил некоторое количество постраничных примечаний: порою потому, что в той или иной мысли другого лица я нашел подтверждение своим мыслям, а порою для того, чтобы заплатить непосредственные долги и не выдавать мысли, подсказанные мне другими, за свои собственные. Несомненно, заплатил я не по всем долгам, однако это зависит прежде всего от того, что некоторые мысли о переводе сейчас имеют хождение в качестве общего достояния. По этому поводу см. «Энциклопедию переводоведения» под редакцией Моны Бейкер (Baker 1998).
* * *
Чуть не забыл. Всякий заметит, что, хотя эти страницы не обращены к строго специализированной аудитории, они, как представляется, требуют от читателя слишком многого, будучи пересыпаны примерами по меньшей мере на семи языках. Но, с одной стороны, я не скуплюсь на примеры именно для того, чтобы читатель, недостаточно хорошо знакомый с одним языком, мог обратиться к другому – и тогда он сможет пропустить те примеры, расшифровать которые ему не удастся. С другой стороны, это книга о переводе, и потому предполагается, что тот, кто ее открывает, заранее знает, с чем ему предстоит встретиться.
Глава первая
Синонимы «Альтависты»
Видимо, дать определение понятию «перевод» – дело нелегкое. В «Словаре итальянского языка», изданном Треккани, читаю: «Действие, операция или деятельность по переводу письменного или также устного текста с одного языка на другой» – определение несколько тавтологическое, которое ничуть не проясняется, если перейти к словарной статье «переводить»: «перекладывать письменный или устный текст с одного языка на другой, отличный от языка оригинала». Учитывая, что в статье «перекладывать» (volgere) приведены все возможные значения этого слова, кроме того, что имеет отношение к переводу, в конце концов я узна́ю то, что и так уже знал.
Немногим больше проку и от словаря Дзингарелли, согласно которому перевод – это деятельность по переводу, а переводить – значит «перелагать, переносить с одного языка на другой», хотя сразу же за этим предлагается следующее определение: «давать эквивалент текста, высказывания, сло́ва». Но проблема (причем не только данного словаря, но и настоящей книги, да и всего переводоведения) именно в этом и состоит: что же это значит – «давать эквивалент»?
Должен признать, что более научным кажется мне «Новый Вебстеровский словарь» (Webster New Collegiate Dictionary), который в числе прочих определений глагола «переводить» (to translate) принимает и такое: «to transfer or turn from one set of symbols into another»[17]*. По-моему, такое определение безупречно подходит к тому, что мы делаем, когда пишем азбукой Морзе, решив заменить каждую букву алфавита различными последовательностями точек и тире. И все же код Морзе дает правило «транслитерации», и точно так же происходит, когда решают, например, что кириллическая буква я должна передаваться латиницей как ja. Эти коды могут использоваться также человеком, который, не зная немецкого, транслитерирует азбукой Морзе послание, написанное по-немецки, или же корректором, который, даже не зная по-русски, знает правила расстановки диакритических знаков, – и, в конце концов, процессы транслитерации можно было бы доверить компьютеру.
Однако различные словари говорят о переходе с одного языка на другой (включая Вебстеровский словарь: a rendering from one language into another[18]**), а язык пускает в ход совокупности символов, несущих те или иные значения. Если бы нам пришлось принять определение Вебстера, нам следовало бы представить, что при наличии ряда символов а, b, с… z и ряда символов α, β, γ… ω для перевода необходимо заменить единицу из первого ряда единицей из второго, но лишь при том условии, что, согласно какому-либо правилу синонимии, а обладает значением, синонимичным α, b – β, и так далее.
Беда всякой теории перевода состоит в том, что эта теория должна исходить из внятного (и притом вполне надежного) понятия «эквивалентности сигнификата», в то время как нередко случается, что на многих страницах по семантике и философии языка сигнификат определяется как то, что остается неизменным (или эквивалентным) в процессе перевода. Порочный круг, да еще какой!
1.1. Эквивалентность сигнификата и синонимия
Мы могли бы решить, что эквиваленты по значению, как убеждают нас словари, – это синонимичные слова. Но мы сразу заметим, что именно вопрос синонимии ставит перед каждым переводчиком серьезные проблемы. Конечно, мы считаем синонимами такие слова, как англ. father, фр. père, ит. padre («отец») и даже англ. daddy, ит. papà («папа») и так далее – во всяком случае, так уверяют нас разговорники для туристов. Однако нам прекрасно известно, что бывают различные ситуации, в которых англ. father не выступает синонимом к англ. daddy (так, говорят не God is our daddy, a God is our father[19]*. И даже фр. père («отец») не всегда является синонимом ит. padre, мы понимаем, что на итальянский язык французское père X («отец X») переводится как papà X («папаша X»), так что заглавие романа Бальзака Le père Goriot мы переводим как Papà Goriot («Папаша Горио»), – и, однако же, англичане не решаются переводить это как Daddy Goriot («Папаша Горио»){♦ 15}, предпочитая оставлять оригинальное французское заглавие. Теоретически перед нами тот случай, когда эквивалентность референциальная (разумеется, англ. John’s daddy, «папаша Джона», – это ровно то же самое лицо, что и фр. le père de John или ит. il papà di John) не совпадает с эквивалентностью коннотативной; а эта последняя относится к тому, как слова или составные выражения могут пробуждать в душе слушателей или читателей одни и те же ассоциации и эмоциональные реакции.
Но предположим, что эквивалентность значения становится возможной благодаря чему-то вроде однозначной синонимии и что первая инструкция, которую надлежало бы дать машине для перевода, – это межъязыковой словарь синонимов, позволяющий даже машине при переводе добиваться эквивалентности значения.
Я задал системе автоматического перевода, предлагаемой в интернете «Альтавистой» (называется эта система Babel Fish, «Вавилонская рыба»), ряд английских выражений, потребовал от нее переводов на итальянский, а затем попросил заново перевести итальянский перевод на английский. Только в последнем случае я совершил также переход с итальянского на немецкий. Результаты таковы:
(1) The Works of Shakespeare («Сочинения Шекспира») = Gli impianti di Shakespeare («Предприятия Сакеспеаре») = The systems of Shakespeare («Системы Шекспира»).
(2) Harcourt Brace («Харкурт Брэйс», название одного американского издательства) = Sostegno di Harcourt («Подпорка Аркоурта») = Support of Harcourt («Поддержка Харкурта»).
(3) Speaker of the chamber of deputies («Спикер палаты депутатов») = Altoparlante dell’allogiamento dei delegati («Громкоговоритель жилья делегатов») = Loudspeaker of the lodging of the delegates («Громкоговоритель жилья делегатов»).
(4) Studies in the logic of Charles Sanders Peirce («Исследования по логике Чарльза Сандерса Пирса{♦ 16}») = Studi nella logica delle sabbiatrici Peirce del Charles («Исследования по логике шлифовальных машин Пейрче Карлеса») = Studien in der Logik der Charlessandpapierschleifmaschinen Peirce («Исследования no логике карлесопескобумагошлифовальных машин Пайрсе») = Studies in the logic of the Charles of sanders paper grinding machines Peirce («Исследования no логике Чарльза шлифовальных бумагополировальных машин Пирса»).
Ограничимся рассмотрением случая (1). «Альтависта», разумеется, держала «в уме» (если, конечно, у «Альтависты» есть хоть какой-нибудь «ум») словарные определения, поскольку англ. слово work можно перевести на ит. как impianti, а ит. impianti можно перевести на англ. как plants («предприятия», «заводы») или systems. Но тогда нам следовало бы отказаться от мысли о том, что «переводить» означает всего лишь «перелагать или перекладывать из одного ряда символов в другой», поскольку, за исключением случаев простой транслитерации одного алфавита другим, у определенного слова какого-либо естественного языка Альфа зачастую бывает более одного соответствия на каком-либо естественном языке Бета. Кроме того, даже если оставить в стороне проблемы перевода, это затруднение встает и перед самим человеком, говорящим по-английски.
Что означает слово work на его языке? Вебстер сообщает, что work может означать деятельность, task («задача»), duty («обязанность»), результат такой деятельности (как в случае произведения искусства), инженерное устройство (как в случае крепости, моста, туннеля), место, где протекает промышленная деятельность (как предприятие или фабрика), – и много чего другого. Таким образом, даже если принять идею эквивалентности по значению, придется сказать, что слово work является синонимом и эквивалентом по значению как для выражения literary masterpiece («литературный шедевр»), так и для слова factory («завод»).
Но когда одно слово обозначает две различные вещи, мы говорим уже не о синонимии, а об омонимии. Синонимия имеет место тогда, когда два различных слова обозначают одно и то же, а омонимия – когда одно и то же слово обозначает две различные вещи.
Если бы в лексике некоего языка Альфа были только синонимы (и сама синонимия не была бы столь двусмысленным понятием), этот язык был бы богатейшим и позволял бы по-разному формулировать одно и то же понятие. Например, в английском для одной и той же вещи или понятия зачастую есть как слово, восходящее к латинскому этимону, так и слово, восходящее к этимону англосаксонскому, – например, «ловить»: to catch (англосакс.) и to capture (лат.); «изъян», «недостаток»: flaw (англосакс.) и defect (лат.). При этом можно даже обойти молчанием тот факт, что употребление одного синонима вместо другого может соотноситься с различиями в образовании или социальном происхождении, так что, если, например, в романе вложить в уста некоего персонажа именно этот определенный синоним, а не какой-либо другой, это может помочь обрисовать интеллектуальный склад данного персонажа и потому скажется на общем смысле или значении того события, о котором повествуется в романе. Итак, если бы существовали слова-синонимы в двух различных языках, перевод был бы возможен – даже для «Альтависты».
Напротив, весьма беден был бы язык, содержащий слишком много омонимов, в котором, например, многоразличные объекты называются одинаково: «штуковина». Так вот, из немногих примеров, рассмотренных выше, явствует, что зачастую, дабы найти слова-синонимы в двух различных языках, нужно сначала избавиться от двусмысленности омонимов в пределах того языка, с которого предстоит переводить (как это делает человек, для которого данный язык – родной). А «Альтависта» на это, видимо, неспособна. Напротив, способен на это человек, говорящий по-английски, когда он решает, как следует понимать слово work в зависимости от того контекста, в котором оно появляется, или от внешней ситуации, в которой оно произносится.
Слова принимают различные значения в зависимости от контекста. Прибегну к известному примеру: англ. bachelor («холостяк») можно перевести как исп. soltero, ит. scapolo, фр. célibataire в контексте, где речь идет о людях и, возможно, связанном с брачными вопросами. В контексте университетском и профессиональном это слово может относиться к лицу, получившему степень бакалавра, а в контексте средневековом – к пажу рыцаря. В контексте зоологическом это – самец (например, тюленя), в период спаривания остающийся без самки.
Теперь понятно, почему «Альтависта» в любом случае обречена на провал: у нее нет словаря, содержащего то, что в семантике называется «контекстуальным отбором» (см.: Eco 1975, § 2. 11). Или же она получила инструкцию о том, что слово works в литературе означает ряд текстов, а в технологическом контексте – ряд предприятий, но оказалась не способна решить, к какому контексту относится фраза, упоминающая Шекспира, – к литературному или к технологическому. Иными словами, у нее не было ономастического словаря, который установил бы, что Шекспир – знаменитый поэт. Возможно, неудача произошла из-за того, что «Альтависта» была «вскормлена» словарем (вроде тех, что дают туристам), а не энциклопедией.
1.2. Понимать контексты
Попробуем теперь выдвинуть следующее предположение: то, что мы называем значением слова, соответствует всему тому, что в словаре (или в энциклопедии) написано в известной «словарной статье», заглавие которой обычно набрано жирным шрифтом. Все, что определяется в этой словарной статье, составляет выраженное содержание этого слова. Читая определения, приводимые в словарной статье, мы отдаем себе отчет в том, что (1) она включает в себя различные значения или смыслы этого самого слова и (2) эти значения или смыслы зачастую могут быть выражены не однозначным синонимом, а определением, парафразой или даже конкретным примером. Лексикографы, понимающие толк в своем ремесле, не только снабжают словарные статьи определениями, но и дают инструкции по их контекстуальному «раздвусмысливанию», и это весьма помогает решить вопрос о том, каким может быть синонимичное слово (в определенном контексте) на другом естественном языке.
Можно ли представить себе, что «Альтависта» не снабжена такого рода лексикографическими сведениями? Может быть, предложенные ей выражения были слишком краткими для того, чтобы дать ей возможность определить подходящий контекст?
Вот почему я предположил, что «Альтависте» знакомы правила контекстуального «раздвусмысливания», и поэтому, если ей предложат английский текст вроде: John, a bachelor who studied at Oxford, followed a PhD program in natural sciences in Berlin and wrote a doctoral dissertation on the North Pole bachelors[20]*, — «Альтависта» не переведет его на итальянский так: «Джованни, тюлень без пары, учившийся в Оксфорде, закончил докторантуру в Берлине и написал докторскую диссертацию о выпускниках университета Северного полюса»[21].
Я решил дать «Альтависте» достаточно пространный контекст и выбрал начало Книги Бытия в английском переводе по так называемой «Библии короля Иакова» (King James Version):
In the beginning God created the heaven and the earth. And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light: and there was light. And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness. And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day. And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so.
[В начале Бог сотворил небо и землю. И земля была безо́бразна и пуста, и тьма была на лице бездны. И Дух Бога двигался над лицом вод. И Бог сказал, Да будет свет: и стал свет. И Бог увидел свет, что он хорош: и Бог отделил свет от тьмы. И Бог назвал свет Днем, а Тьму назвал ночью. И вечер и утро были первым днем. И Бог сказал, Да будет твердь посреди вод, и пусть она отделяет во́ды от вод. И Бог создал твердь и отделил во́ды, которые были под твердью, от вод, которые были над твердью. И стало так.]
Затем я поручил «Альтависте» перевести этот отрывок на испанский и получил следующий результат (жирным шрифтом выделяю самые разительные случаи недопонимания):
En el dios que comenzaba creо́ el cielo y la tierra y la tierra estaban sin forma, y vacio; y la oscuridad estaba sobre la саrа del profundo. Y el alcohol del dios se moviо́ sobre la саrа de las aguas. Y el dios dijo, dejо́ all ser luz: y había luz. Y el dios vio la luz, de que que era bueno: y el dios dividiо́ la luz de la oscuridad. Y el dios llamо́ el día ligero, y la oscuridad que él llamо́ a Noche. Y la tarde y la mañana eran el primer día. Y el dios dijo, dejо́ allí ser un firmament en el medio de las aguas, y lo dejо́ dividir las aguas de las aguas. Y el dios hizo el firmament, y dividiо́ las aguas que estaban bajo el firmament de las aguas que estaban sobre el firmament. Y estaba tan.
[† В боге, который начинал, сотворил небо и землю, и земля была без формы, и пустота; и темнота была на лице глубины. И алкоголь бога двигался над лицом вод. И бог сказал: я позволил, чтобы там был свет: и был свет. И бог увидел свет, что что был хорош: и бог отделил свет от темноты. И бог назвал день легким, и темнота, которую он назвал Ночью. И вечер и утро были первым днем. И бог сказал: я позволил, чтобы там был небосво посреди вод, и позволил ему отделять во́ды от вод. И бог сделал небосво, и отделил во́ды, которые были под небосво, от вод, которые были над небосво. И было так. (исп., «Babel Fish»)][22]*.
С точки зрения лексической «Альтависта» не допустила искажений, несмотря на то, что слова́ God called the light Day («Бог назвал свет Днем») превратились в историю некоего бога, который назвал день «легким» (в смысле: «призвал легкий день», llamó el día ligero), а прилагательное void («пустая») «Альтависта» поняла как существительное (ναcíο, «пустота»), И почему бы ей не понять слово face («лицо») как саrа («лицо»), что по-английски скорее было бы countenance («внешний облик»), а не surface («поверхность»)? Почему у бездны должна быть поверхность, а не лицо, как у луны? В крайнем случае «Альтависта» могла бы понять, что слова that it («что он») не переводятся как que que («что что»). Однако она поняла слово beginning («начало») как причастие («начинающий»), а не как существительное, поскольку она не снабжена библейско-богословскими сведениями и не видит существенной разницы между Богом, стоящим в начале, и Богом, что-то начинающим. С другой стороны, даже с точки зрения богословской и космогонической слова «Бог, который начинал» оказываются трогательны и убедительны. Судя по тому, что мы о Нем знаем, Он действительно создавал мир впервые, и это, возможно, объясняет многие несовершенства вселенной, в которой мы живем, – включая и трудности перевода.
Это внушает нам подозрение, что перевод зависит не только от лингвистического контекста, но и от чего-то внешнего по отношению к тексту, что мы называем сведениями о мире или энциклопедическими сведениями.
Так вот, «Альтависта», видимо, снабжена богатыми сведениями о мире, а также терпением, но, кажется, лишена способности производить даже простейший контекстуальный отбор, поскольку она выказывает незнание того, что слово spirit получает различные смыслы в зависимости от того, где оно произносится, – в церкви или в баре.
Когда я поручил «Альтависте» перевести испанский текст обратно на английский, я получил следующие результаты:
In the God that began created the sky and the Earth and the Earth was without form, and emptiness; and the dark was on the face of the deep one. And the alcohol of the God moved on the face of waters. There and the God said, let be light: and there was light. And the God saw the light, that that was good: and the God divided the light of the dark. And the God called the slight day, and the dark that it called to Night. And afternoon and the morning was the first day. And the God said, there it let be firmament in means of waters, and it let divide it waters of waters. And God did firmament, and divided the waters that were under firmament of the waters that were on firmament. And it was so.
[† В Боге что начинал сотворил небо и Землю, и Земля была без формы, и пустота; и тьма была на лице глубокого. И алкоголь Бога двигался на лице вод. Там и Бог сказал, пусть быть свет: и был свет. И Бог увидел свет, что что был хорош; и Бог отделил свет тьмы. И Бог назвал небольшой день, и тьму что оно назвало к Ночи. И послеполуденное время и утро были первым днем. И Бог сказал, вот да будет небосвод в средстве вод, и он, пусть он отделяет воды вод. И Бог сделал небосвод, и отделил воды что были под небосводом вод что были на небосводе. И это было так. (англ., «Babel Fish»)]
Этот текст в большей или меньшей степени пал жертвой ошибок предыдущего, если не считать перевода испанского medio («середина») как means («средство») – простительная лексическая ошибка, – а также перевода de las aguas («от вод») как of waters («вод») в силу отсутствия энциклопедических сведений о том, что waters of waters («во́ды вод») не существуют. Но эту проблему исправляет следующий перевод на немецкий:
Im Gott, der anfing, stellte den Himmel und die Masse und die Masse war ohne Formular und emptiness her; und die Dunkelheit war auf dem Gesicht vom tiefen. Und der Spiritus des Gottes verschob sich auf dem Gesicht des Wassers. Dort und der Gott sagte, lassend Sie, Licht zu sein: und es gab Licht. Und der Gott sah das Licht, das, das gut war: und der Gott teilte das Licht der Dunkelheit. Und der Gott benannte den geringfüguigen Tag und die Dunkelheit, die sie zur Nacht benannte. Und Nachmittag und der Morgen waren der erste Tag. Und der Gott sagte, dort lieβ er firmament in den Mitteln des Wassers sein, und er lieβ es teilen wässert vom Wasser. Und der Gott tat firmament und teilte das Wasser, das unter firmament des Wassers waren, das auf firmament waren. Und es war so.
[† В Боге, который начинал, изготовил небо и толщу и толща была без формуляра и эмптинесс, и тьма была на лице глубокого. И Дух Бога передвигался на лице воды. Там и Бог сказал, позволяя Вам, свету быть: и был свет. И Бог увидел свет, что, что хорош был: и Бог отделил свет тьмы. И Бог назвал ничтожный день, и тьму, которую она назвала к ночи. И послеполуденное время и утро были первым днем. И Бог сказал, там Он позволил небосводу быть в средствах воды, и позволил ему отделять обводняет от вод. И Бог сделал небосвод и отделил воду, что были под небосводом воды́, что были на небосводе. И было так. (нем., «Babel Fish»)]
Немецкий перевод сохраняет идею начинающего Бога, но переводит Earth («Земля») как Masse («земная толща»), form («форма») как Formular («формуляр»), повторяет прежние ошибки, в силу которых мир лишен формы и эмптинесс, а день становится маловажным или ничтожным. Алкоголь Бога по праву становится Spiritus («Духом»), that that («что что») попросту превращается в das das («что что»).
Чтобы перевести слово created («создал»), «Альтависта» нашла немецкий глагол herstellen («производить») с отделяемой приставкой, который спрягается так: Ich stelle her («Я произвожу») или Ich stellte her («Я произвел»); в силу некоторых синтаксических правил, известных программе, она должна поставить приставку her в конце фразы; но «Альтависта» не осознает, что фраза кончается словом Himmel («небо»), и ставит her слишком далеко впереди. Кроме того, если говорить о словах waters of waters («во́ды вод»), то программа понимает первое слово как глагол, а второе – как существительное. Я не устоял перед искушением поручить «Альтависте» задачу перевести этот немецкий текст обратно на английский, и вот результат:
In the God, which began, placed the sky and the mass and the mass was without form and emptiness ago; and the darkness was on the face of the deep. And the white spirits of the God shifted on the face of the water. There and the God said, leaving you, to be light: and there was light. And the God saw the light, which, which was good: and the God divided the light of the darkness. And the God designated the slight day and the darkness, which designated it to the night. And afternoon and the morning were the first day and the God said, there let it in the means of the water be firmament, and it left it divides waessert from the water. And the God did firmament and divided the water, which firmament under the water was, which were on firmament. And it was like than.
[† В Боге, что начинал, поместил небо и массу и масса была без формы и пустота тому назад, и тьма была на лице глубокого. И уайт-спириты Бога передвигались на лице воды. Там и Бог сказал, оставляя Вас, быть свету: и был свет. И Бог увидел свет, что, что был хорош: и Бог отделил свет тьмы. И Бог назначил легкий день и тьму, что назначила это к ночи. И послеполуденное время и утро были первым днем, и Бог сказал, пусть в средстве воды быть небосводу, и это оставило это отделяет вэссерт от воды. И Бог сделал небосвод и отделил воду, что небосвод под водой был, что были на небосводе. И было примерно так. (англ., «Babel Fish»)]
Интересно, что в немецком stellte… her («произвел») «Альтависта» не узнает глагола с отделяемой приставкой, понимает слово her, стоящее обособленно, как наречие ago («тому назад») и создает замечательное выражение placed… ago («поместил… тому назад»); зато в английском остаются другие немецкие конструкции с глаголом в конце фразы. Spiritus снова становится чем-то алкогольным, и конечно же «Альтависта» не может перевести wässert («обводняет»).
Наконец, полностью утратив всякое чувство меры, я поручил «Альтависте» перевести этот последний английский текст на итальянский, и вот как он был восстановлен:
Nel dio, che ha cominciato, disposto il cielo e la massa e la massa era senza forma ed il emptiness fa; e la nerezza era sulla faccia del profondo. E le acqua ragia del dio hanno spostato sulla facia dell‘acqua. Là ed il dio ha detto, lasciandoli, per essere luce: e ci era luce. Ed il dio ha visto la luce, che, che buono: ed il dio ha diviso la luce della nerezza. Ed il dio ha indicato il giorno leggero e la nerezza, che la ha indicata alla notte. Ed il pomeriggio e la mattina erano il primo giorno ed il dio detto, la lascia nei mezzi dell’acqua è firmament ed a sinistra esso divide il waessert dall’ acqua. Ed il dio ha fatto il firmament ed ha diviso l’acqua, che il firmament sotto l‘acqua era, che erano sul firmament. Ed era come quello.
[† В Боге, что начал, расположил небо и массу и масса была без формы и эмптинесс тому назад; и чернота была на лице глубокого. И скипидары Бога переместились на лице воды. Там и Бог сказал, оставляя их, чтобы быть свету: и был свет. И Бог увидел свет, что, что хорош: и Бог отделил свет черноты. И Бог указал легкий день и черноту, что указала ее ночи. И послеполуденное время и утро были первым днем и Бог сказал, оставь ее в средствах воды есть небосво и слева он отделяет вэссерт от воды. И Бог сделал небосво и отделил воду, что небосво под водой был, что были на небосво. И было примерно так. (ит., «Babel Fish»)]
Кое-кто сможет возразить, что, хотя переводчиком «Альтависты» можно пользоваться бесплатно, это всего лишь gadget[23]*, подаренная пользователям интернета, и не слишком-то притязательная. Но вот передо мной последний итальянский перевод «Моби Дика» (Милан: Фрассинелли 2001), где переводчик Бернардо Драги устроил себе такое развлечение: он задал перевести начало 110-й главы программе, которую называет «известным программным обеспечением для перевода, продаваемым ныне по цене примерно в миллион лир».
Вот оригинал, перевод Драги и перевод за миллион:
Upon searching, it was found that the casks last struck into the hold were perfectly sound, and that the leak must be further off. So, it being calm weather, they broke out deeper and deeper, disturbing the slumbers of the huge ground-tier butts; and from that black midnight sending those gigantic moles into the daylight above. So deep did they go, and so ancient, and corroded, and weedy the aspect of the lowermost puncheons, that you almost looked next for some mouldy cornerstone cask containing coins of Captain Noah, with copies of the posted placards, vainly warning the infatuated old world from the flood.
[После осмотра оказалось, что бочонки, забитые в трюм в последнюю очередь, все целехоньки и, стало быть, течь где-то ниже. И вот, воспользовавшись затишьем, они забирались все глубже и глубже, нарушая тяжелую дрему огромных кадок в нижних ярусах и отправляя этих гигантских кротов из полуночной тьмы наверх, к дневному свету. Они проникли на такую глубину, где в самом низу стояли такие древние, изъеденные временем, заплесневелые громадные бочки, что впору было приняться за поиски замшелого краеугольного бочонка, наполненного монетами самого капитана Ноя и оклеенного объявлениями, тщетно предостерегающими обезумевший старый мир от потопа][24]*.
ПЕРЕВОД ДРАГИ. A una prima ispezione, si accertò che le botti calate nella stiva per ultime erano perfettamente sane. La falla doveva quindi essere più in basso. Perciò, approfittando del bel tempo, si esplorò sempre più a fondo, disturbando il sonno delle enormi botti dello strato inferiore e spedendole come giganteschi talponi da quella nera mezzanotte alla viva luce del giorno. Ci si spinse così a fondo, e così antico, corroso e marcescente era l‘aspetto delle botti più grandi e profonde, che a quel punto ti saresti quasi aspettato di veder comparire un canterano ammuffito con il gruzzolo di capitan Noè e le copie dei manifesti invano affissi per mettere in guardia dal diluvio quell‘antico mondo presuntuoso.
[† При первом осмотре выяснилось, что бочки, спущенные в трюм последними, были совершенно целы. Значит, течь должна быть где-то ниже. Поэтому, пользуясь хорошей погодой, они пробирались все глубже, нарушая сон огромных бочек нижнего яруса и выпроваживая их, словно великанских кротов, из этой черной полуночи на белый дневной свет. Они проникли так глубоко, и такими древними, разъеденными и прогнившими выглядели самые большие бочки в самой глубине, что почти впору было ожидать появления заплесневевшего бочонка с монетами капитана Ноя и экземплярами воззваний, которые он понапрасну вывешивал, дабы предостеречь от потопа спесивый Древний мир. (ит., Драги)]
МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД. Al cerco, fu trovato che i barili durano scioperato nella presa era perfettamente suono, e che la crepa deve essere più lontano. Così, esso che è tempo calmo, loro ruppero fuori più profondo e più profonde e disturbando i sonni dell‘enorme macinato-strato le grosse botti; e da quel nero spedendo mezzanotte quelle talpe giganteschi nella luce del giorno sopra di. Così profondo fece loro vanno; e così antico, e corrose, e coperto d‘erbacce l‘aspetto del puncheons del più basso che Lei cercò pressoché seguente del barile dell angolo-pietra ammuffito che contiene monete di Capitano Noah con copie degli affissi affissi che avverte vanamente il vecchio mondo infatuato dall’inondazione.
[† При поиске было обнаружено, что бочки длятся забастовавши в захвате был совершенно звук, и что трещина должна быть дальше. Так, это что погода спокойная, они ломанулись прочь глубже и глубже и тревожат сны громадных размолото-слой огромные бочки; и из этого черного отправляя в полночь тех гигантских кротов в свете дня сверху на. Так глубоко заставил их идут; и такой древний, и прогнившие, и покрытый сорняками вид пункеонса самого низа, что Вы искали почти вслед бочки замшелого краеугольного камня, который содержит монеты Капитана Ноа с экземплярами вывешенных вывесок который тщетно предупреждает старый мир одураченный наводнением. («ит.», электронный пер.)]
Итак, однозначной синонимии не существует – за вычетом, пожалуй, ограниченного числа случаев вроде слова «муж» (ит. marito, англ. husband, фр. mari). Но и это можно было бы оспорить, если учесть, что в древнеанглийском слово husband означало также «рачительный домохозяин»; на морском жаргоне так называют человека, распоряжающегося судном по доверенности владельцев; кроме того, так могут называть (пусть и редко) самца, используемого при скрещивании.
Глава вторая
От системы к тексту
«Альтависта», конечно, снабжена инструкциями относительно соответствий между одним словом и другим (а может быть, и между одной синтаксической структурой и другой), существующих в двух или более языках. Так вот, если бы перевод касался отношений между двумя языками, в смысле двух семиотических систем, тогда основным, непревзойденным и единственным примером удовлетворительного перевода был бы двуязычный словарь. Но это, по-видимому, противоречит как минимум здравому смыслу, который считает словарь инструментом перевода, а не переводом. В противном случае студенты на экзамене получили бы высшую оценку по переводу с латинского, предъявив латинско-итальянский словарь. Но студентам не предлагают ни доказать, что у них есть словарь, ни даже продемонстрировать, что они знают его наизусть: им предлагают доказать свое умение, переведя отдельный текст.
Перевод (и теперь это вполне очевидный принцип переводоведения) происходит не между системами, а между текстами.
2.1. Предполагаемая взаимная несоизмеримость систем
Если бы перевод касался только отношений между двумя лингвистическими системами, следовало бы согласиться с теми, кто считал, что естественный язык навязывает говорящему на нем собственное ви́дение мира, что эти ви́дения мира взаимно несоизмеримы друг с другом, и потому перевод с одного языка на другой неизбежно потерпит крах. Это было бы равносильно тому, чтобы вместе с Гумбольдтом сказать, что у каждого языка есть свой собственный гений – или, еще того лучше, что каждый язык выражает особое ви́дение мира (так называемая гипотеза Сепира – Уорфа{♦ 17}).
И действительно, «Альтависта» весьма напоминает jungle linguist[25]*, описанного Куайном{♦ 18} в его знаменитом очерке «Значение и перевод» (Quine 1960). По Куайну, трудно установить значение того или иного слова (на незнакомом языке), даже если лингвист показывает пальцем на пробегающего кролика, а туземец при этом произносит: гавагай!{♦ 19} О чем хочет сказать туземец: что так называется этот кролик? все кролики вообще? что трава колышется? что мимо движется пространственно-временной сегмент кролика? Решение невозможно, если у лингвиста нет сведений о туземной культуре и если он не знает, под какие категории подводят местные жители свой опыт: называют ли они сами вещи, части вещей или события, которые в своей совокупности включают в себя также появление той или иной вещи. Поэтому лингвисту нужно начать разработку ряда аналитических гипотез, подводящих его к составлению некоего руководства по переводу, которое должно будет соответствовать целому учебнику – не только по лингвистике, но и по культурной антропологии.
Однако даже в лучшем случае лингвист, которому нужно истолковать язык джунглей, разрабатывает ряд гипотез, подводящих его к составлению возможного руководства по переводу, хотя между тем столь же возможно было бы разработать множество руководств, отличных друг от друга, каждое из которых может осмысленно объяснять выражения туземцев, но при этом противоречить всем остальным (как и все они – друг другу)[26]. Отсюда выводится принцип неопределенности перевода. Неопределенность перевода возникает в силу следующего факта: «Как мы осмысленно говорим об истине того или иного утверждения только в терминах какой-либо теории или концептуальной схемы, точно так же мы можем осмысленно говорить о межъязыковой синонимии только в терминах какой-либо частной системы аналитических гипотез» (Quine 1960: 16).
Вопреки расхожему представлению о несовместимости философии англосаксонской с так называемой континентальной, мне кажется, что этот холизм Куайна не столь уж отличается от мысли о том, что все естественные языки выражают различные ви́дения мира. В каком смысле тот или иной язык выражает некое собственное ви́дение мира, четко разъяснено семиотикой Ельмслева (Hjelmslev 1943). По Ельмслеву, язык (и вообще всякая семиотическая система) состоит из плана выражения и плана содержания, представляющего собою универсум понятий, выразимых этим языком. Каждый из этих двух планов состоит из формы и субстанции, и оба они являются результатом сегментации некоего континуума, или долингвистической материи[27].
Рис. 1
До того как тот или иной естественный язык придаст некий порядок нашему способу выражения универсума, континуум, или материя, представляет собою бесформенную и недифференцированную массу. Части этой массы лингвистически организуются, чтобы выражать другие части той же самой массы (я могу разработать систему звуков, чтобы выражать, т. е. чтобы говорить, например, о ряде цветов или живых существ). Это происходит и с иными семиотическими системами: в системе уличных знаков избираются определенные зрительные формы и определенные цвета, чтобы выражать, например, пространственные направления.
В естественном языке форма выражения избирает некоторые элементы, относящиеся к континууму, или материи, всех возможных озвучиваний, и заключается эта форма в фонологической системе, в лексическом репертуаре и в синтаксических правилах. По отношению к форме выражения могут порождаться различные субстанции выражения, так что, хотя одна и та же фраза – например, «Ренцо любит Лючию» – форму свою сохраняет неизменной, «воплощается» она в двух различных субстанциях в зависимости от того, кто ее произносит – мужчина или женщина.
С точки зрения грамматики языка субстанции выражения не важны – тогда как различия в форме имеют огромное значение, и достаточно подумать о том, что некий естественный язык Альфа считает смыслоразличительными определенные звуки, которые язык Бета игнорирует, или о том, насколько отличаются друг от друга лексика и синтаксис различных языков. Как мы увидим далее, различия субстанции могут стать решающими в случае перевода одного текста в другой.
Но пока что ограничимся соображением о том, что язык ассоциирует с различными формами выражения различные формы содержания. Континуумом, или материей содержания, будет все то, что мыслимо и поддается классификации, но различные языки (и культуры) подразделяют этот континуум порою по-разному; поэтому, как мы увидим в последней главе, цивилизации разделяют, например, цветовой континуум отличным друг от друга образом, так что кажется невозможным перевести название цвета, вразумительное в языке Альфа, на типичное название цвета в языке Бета[28].
Это, пожалуй, равносильно утверждению о том, что две системы содержания взаимно непроницаемы друг для друга или несоизмеримы друг с другом, и потому различия в организации содержания делают перевод теоретически невозможным. По Куайну, невозможно перевести на язык какого-нибудь первобытного племени такую фразу, как «у нейтрино нет массы». Достаточно также напомнить о том, как трудно перевести понятие, выраженное немецким словом Sehnsucht («тоска»): кажется, немецкая культура обладает точным понятием о таком чувстве, семантическое поле которого лишь частично может быть покрыто такими понятиями, как итальянское nostalgia или английские yearning («томление»), craving for («тоска по чему-либо») или wishfulness («переполненность желанием»).
Конечно, порою случается так, что слово одного языка отсылает к такому единству содержания, которое другие языки игнорируют, и это ставит перед переводчиками серьезные проблемы. Так, в моем родном диалекте есть замечательное выражение scarnebiè, или scarnebbiare, для обозначения особого атмосферного явления: это не туман, не иней и даже не дождь, а скорее густая изморось, слегка замутняющая взгляд и секущая по лицу прохожего, особенно если он движется со скоростью велосипедиста. Нет такого общеитальянского слова, которое успешно передавало бы это понятие или позволяло бы вскрыть соответствующий опыт, так что вместе с Поэтом можно было бы сказать: «Кто не изведал, тот постичь не сможет»{♦ 20}.
* * *
Невозможно однозначно перевести французское слово bois («лес», «древесина»). В английском это может быть wood (что соответствует как итальянскому legno «древесина», так и итальянскому bosco «лес»), timber (строительный лес, но не та древесина, из которой сделан уже изготовленный предмет – например, шкаф; в пьемонтском диалекте используется слово bosc в смысле timber, но в общеитальянском слово legno соответствует как timber, так и wood, хотя слово timber можно перевести и как legname) и, наконец, woods, как в выражении a walk in the woods «прогулка в лесу». По-немецки французскому bois может соответствовать как Holz «древесина», так и Wald «лес» (лесок – это ein kleiner Wald), хотя обычно немецкое Wald соответствует как английскому forest, так и итальянскому foresta и французскому forêt (см. Hjelmslev 1943, § 13). Но этим различия не исчерпываются, поскольку для обозначения очень густого леса экваториального типа французский пользуется словом selve, тогда как итальянское selva может относиться (я обращаюсь к словарям) к «обширному лесу с густым подлеском» (и это верно не только для Данте, но даже еще для Па́сколи{♦ 21}, который видит «сельву» в окрестностях Сан-Марино). Поэтому, по крайней мере в том, что касается растительного мира, эти четыре лингвистические системы могут показаться взаимно несоизмеримыми.
Тем не менее «несоизмеримость» не означает «несопоставимость», и доказательством этому служит то, что итальянскую, французскую, немецкую и английскую[29]* системы можно сравнить друг с другом, иначе невозможно было бы составить следующую таблицу:
Рис. 2.
На основе подобных схем мы, видя перед собой текст, где говорится о том, как по реке сплавляли строительный лес, можем решить, что здесь английское timber будет уместнее, чем wood, или, например, французское armoire en bois — это шкаф из дерева, а не шкаф в лесу. Можно также сказать, что английское слово spirit («дух» и «алкоголь») покрывает собою два семантических поля, представленных в немецком словами Spiritus и Geist, и станет ясно, почему «Альтависта», неспособная распознавать контексты и сравнивать друг с другом семантические пространства различных языков, допустила ту ошибку, которую допустила.
В итальянском языке одно-единственное слово nipote соответствует трем английским: nephew «племянник», niece «племянница» и grandchild «внук / внучка». Если же, кроме того, учесть, что в английском грамматический род притяжательного местоимения согласуется с родом владельца, а не с родом обладаемой вещи, как это происходит в итальянском, тогда при переводе фразы John visita ogni giorno sua sorella Ann per vedere suo nipote Sam возникают известные затруднения.
На английский эту фразу можно перевести четырьмя разными способами:
1. John visits every day his sister Ann to see his nephew Sam.
[Джон ежедневно навещает свою сестру Энн, чтобы повидать своего племянника Сэма.]
2. John visits every day his sister Ann to see her nephew Sam.
[Джон ежедневно навещает свою сестру Энн, чтобы повидать ее племянника Сэма.]
3. John visits every day his sister Ann to see her grandchild Sam.
[Джон ежедневно навещает свою сестру Энн, чтобы повидать ее внука Сэма.]
4. John visits every day his sister Ann to see his grandchild Sam.
[Джон ежедневно навещает свою сестру Энн, чтобы повидать своего внука Сэма.]
Как же перевести на английский эту итальянскую фразу, если два языка разделили континуум содержания столь различными способами?
Рис. 3
Итак, в итальянском одно-единственное слово действительно выражает содержание трех английских слов, однако слова nephew, niece и grandchild и слово nipote не образуют единицу содержания. К единице содержания отсылают лингвистические термины, и происходит так, что и англичане, и итальянцы опознают три единицы содержания, хотя итальянцы и передают их все одним омонимичным термином. Итальянцы не настолько глупы или примитивны, чтобы не замечать разницы между сыном / дочерью своего сына или своей дочери и сыном / дочерью своей сестры или своего брата. Мы прекрасно осознаем эту разницу, тем более что на основе различий такого рода устанавливаются строгие законы наследования.
Это означает, что столбец «Содержание» на рис. 4 относится к тому, что и англичане, и итальянцы прекрасно умеют осознавать и выражать посредством определений, парафраз или примеров, хотя у итальянцев есть одно-единственное слово для различных единиц содержания и в силу этого им может быть сложнее недвусмысленно понять некоторые высказывания, если они произносятся вне адекватного контекста.
Рис. 4
Более того, поскольку в разных культурах системы родства различны, английский также может показаться весьма примитивным в сравнении с теми языками, которые разделяют родственные отношения на сегменты куда более тонко, как видно на рис. 5:
Рис. 5
Переводчик, которому придется переводить английский текст на язык X, должен будет сделать ряд предположений относительно того смысла, в котором в некоем данном контексте используется, скажем, слово grandchild, и принять решение о том, как его переводить: термином E или термином F.
* * *
Речь шла о контексте. Действительно, ни одному переводчику не удастся перевести слово nipote, вырванное из всякого контекста. Это возможно в лучшем случае для составителя словарей (или для информатора-билингва, к которому я обращаюсь за помощью, чтобы узнать, как будет звучать то или иное слово на другом языке); но эти люди, как было видно, не переводят, а дают указания о том, как возможно перевести данное слово в зависимости от контекста. Напротив, переводчик всегда переводит тексты, то есть высказывания, появляющиеся в каких-то лингвистических контекстах или произносимые в какой-то особой ситуации.
Поэтому английскому переводчику итальянской фразы нужно знать либо тем или иным образом предполагать, говорится ли здесь: (1) о Джоне, у сестры которого Энн есть ребенок, приходящийся Джону племянником; (2) о Джоне, сестра которого Энн замужем за Биллом и по праву может считать своим племянником (но не племянником Джона) сына сестры Билла; (3) о Джоне, у сестры которого Энн есть сын, у которого, в свою очередь, родился Сэм; (4) о Джоне, сестра которого Энн приютила у себя сына сына Джона.
Последняя ситуация кажется не столь правдоподобной, как предыдущие, но достаточно предположить, что у Джона был сын Макс, у которого родился Сэм, а впоследствии Макс и его жена погибли в автокатастрофе, так что тетушка Энн решила воспитать Сэма. Еще менее правдоподобная ситуация (но не невозможная, если учесть нынешнее предосудительное падение нравов) предполагала бы, что Макс, сын Сэма, находился в половых отношениях со своей тетушкой Энн и от этой связи родился Сэм, так что Сэма можно вполне корректно назвать как grandchild, так и nephew Джона.
2.2. Перевод затрагивает возможные миры
Фраза, которую мы рассматривали, – это текст, а чтобы понять какой-либо текст (и тем более, чтобы перевести его), нужно выдвинуть гипотезу о возможном мире, который он представляет. Это значит, что в отсутствие адекватных признаков перевод должен основываться на конъектурах и, лишь выработав такую конъектуру, которая покажется приемлемой, переводчик может приступать к переводу этого текста с одного языка на другой. Иными словами, столкнувшись со всем спектром содержания, предоставляемого словарной статьей (а скорее, с дельными энциклопедическими сведениями), переводчик должен выбрать самое вероятное и резонное значение или смысл, наиболее подходящий в этом контексте и в этом возможном мире[30].
«Альтависта» (по всей вероятности, снабженная множеством словарей) вынуждена была установить синонимии внутри одного текста (причем текста особо сложного, где даже библеист не уверен в том, действительно ли английское выражение the spirit of God, «Дух Божий», из Библии короля Иакова передает смысл еврейского оригинала). Говоря лингвистически и культурологически, текст – это джунгли, где туземный носитель языка порою впервые придает смысл тем словам, которыми он пользуется, и этот смысл может не соответствовать тому смыслу, который те же самые слова могут принимать в ином контексте. Что в действительности означает слово void («пустая») в тексте Библии короля Иакова? Земля, пустая и полая изнутри, или же такая земля, на коре которой не обитает ни одного живого существа?
Мы придаем словам то или иное значение в той мере, в которой авторы словарей установили приемлемые определения этого слова. Но эти определения относятся ко многим возможным смыслам того или иного слова до того, как оно будет включено в тот или иной контекст и будет говорить о некоем мире.
Каков тот смысл, который слова действительно обретают, будучи произнесены в тексте? Сколько раз словарь совершал контекстуальный выбор, дав нам понять через английские слова face и deep, что у пропасти или бездны может быть лицо, сторона, поверхность? Почему «Альтависта» исказила смысл, переведя английское face как испанское саrа? В каком возможном мире у пропасти может быть лицевая сторона (faccia), а не лицо (viso) или голова?
«Альтависта» оказалась не способна осознать, что отрывок из Книги Бытия говорит не о «начале» Бога, а о начале вселенной, потому что она проявила неспособность выдвигать предположения относительно того типа мира, к которому отсылал оригинальный текст.
* * *
Когда я начал работать в книжном издательстве, мне довелось проверять перевод с английского, оригинал которого был мне недоступен, поскольку он остался у переводчика. Тем не менее я начал читать, чтобы посмотреть, «гладко» ли идет итальянский. В книге рассказывалась история о первых исследованиях в области создания атомной бомбы, и где-то говорилось, что ученые, собравшись в каком-то месте, начали свои труды с того, что устроили «гонки поездов» (corse di treni). Мне показалось странным, что люди, которые должны были раскрыть секреты атома, тратят время на столь нелепые игры. Потому, обратившись к своим знаниям о мире, я сделал из них вывод, что эти ученые должны были заняться чем-то другим. И здесь (уж не знаю) – то ли на ум мне пришло знакомое английское выражение, то ли, скорее, я произвел чудну́ю операцию, попытавшись плохо перевести на английский это итальянское выражение… но мне тут же стало ясно, что эти ученые устроили training courses, то есть курсы переподготовки, что было куда разумнее и куда менее разорительно для американских налогоплательщиков. Конечно, получив в руки оригинал, я увидел, что дело обстояло именно так, и позаботился о том, чтобы переводчику не заплатили за его халтуру.
В другой раз в переводе книги по психологии я обнаружил, что в ходе эксперимента пчеле (l’аре) удалось достать банан, положенный возле ее клетки, с помощью палки. Первая моя реакция была продиктована знаниями о мире: пчелы, видимо, не способны хватать бананы. Вторая реакция определялась лингвистическими познаниями: ясно было, что в английском оригинале говорилось об аре, то есть о большой человекообразной обезьяне, и мои знания о мире (подтвержденные сведениями энциклопедий, к которым я обращался) говорили мне о том, что обезьяны хватают и поедают бананы.
Это означает не только то, что по переводу, каким бы ошибочным он ни был, можно узнать текст, который он притязает переводить; это значит также, что из явно ошибочного перевода неизвестного оригинала проницательный истолкователь может прийти к заключению о том, что именно, по всей вероятности, этот текст говорил на самом деле.
Почему? Потому что в случае гонки поездов и пчелы я пришел к некоторым заключениям относительно возможного мира, описанного двумя этими текстами (предположительно близкого тому миру, в котором мы живем, или же тождественного ему), и попытался представить себе, как вели бы себя физики-ядерщики и пчелы. Придя к некоторым здравым заключениям, я совершил краткий обзор английской лексики, позволивший мне выдвинуть наиболее резонную гипотезу.
Всякий текст (даже самая простая фраза, хотя бы Ренцо любит Лючию) описывает или предполагает некий Возможный Мир – некий мир, в котором, если вернуться к нашему примеру, существуют некий Ренцо, особа мужского пола, и некая Лючия, особа женского пола, причем Ренцо испытывает любовные чувства по отношению к Лючии, тогда как еще неизвестно, отвечает ли ему Лючия тем же. Но не следует думать, что это обращение к возможным мирам имеет силу только для повествовательных произведений. Мы пускаем его в ход при всяком понимании речи другого человека, пытаясь хотя бы понять, о чем он говорит: пример итальянского слова nipote доказал нам это. Я в течение долгого времени навещал одного несчастного влюбленного, неотступно восхищавшегося своей возлюбленной, его бросившей (причем я даже не знаю, была ли она существом из плоти и крови или же порождением его фантазии); в тот день, когда он позвонил мне и прерывающимся от волнения голосом сказал: Она вернулась ко мне, наконец-то! – я попытался восстановить возможный мир воспоминаний или фантазий собеседника и сумел понять, что вернулась именно возлюбленная (и был бы я бесчувственным грубияном, если бы спросил его, о ком это он мне говорит).
* * *
Латинское слово mus невозможно перевести на английский. Латинское mus покрывает собою единое семантическое пространство, которое английский делит на два участка, отводя один из них слову mouse («мышь»), а другой – слову rat («крыса»); то же самое происходит во французском, испанском и немецком, где существует оппозиция «мышь» / «крыса»: фр. souris / rat, исп. ratón / rata, нем. Maus / Ratte. Итальянскому тоже известна оппозиция между мышью (topo) и крысой (ratto), но в повседневном употреблении словом topo называют и крысу; в лучшем случае крысу называют производными от слова topo (topone, topaccio) или даже диалектным словом pantegana, тогда как ratto употребляется только в технических контекстах (в известном смысле мы, итальянцы, еще привязаны к латинскому mus).
Конечно, в Италии тоже отмечают разницу между мышкой (topino) из амбара или погреба и мохнатой крысой (ratto), способной переносить ужасные болезни. Однако посмотрим, как словоупотребление может влиять на точность перевода. Беньямино даль Фаббро в своем переводе «Чумы» Камю говорит, что доктор Риэ как-то утром обнаруживает на ступеньках своего дома «мертвую мышь (sorcio)». Sorcio – изящное слово, служащее практически синонимом к слову topo. Возможно, переводчик выбрал слово sorcio из-за его этимологического родства с французским souris («мышь») – но если вглядеться в контекст, то животные, появившиеся в Оране, должны быть ужасными крысами. Любой итальянский читатель, обладающий хотя бы скромными металингвистическими познаниями (энциклопедического типа) и пытающийся вообразить себе возможный мир романа, вероятно, заподозрит, что переводчик допустил неточность. И действительно, если обратиться к оригиналу, мы увидим, что Камю говорит о крысах (rats). Даже если даль Фаббро побоялся использовать слово ratto, сочтя его чересчур ученым, ему, по крайней мере, следовало бы уточнить, что речь идет не о мышках.
Поэтому лингвистические системы сравнимы друг с другом, и вероятных двусмысленностей можно избежать, если переводить тексты в свете контекстов и в соотнесенности с тем миром, о котором говорит данный текст.
2.3. Тексты как субстанции
Какова природа текста и в каком смысле мы должны рассматривать его иначе, чем некую лингвистическую систему?
На рис. 1 мы видели, как язык (и вообще любая семиотика) отбирает в материальном континууме форму выражения и форму содержания, на основе которой могут производиться субстанции, то есть материальные выражения (как те строчки, что я сейчас пишу), передающие субстанцию содержания – или, говоря упрощенно, то, о чем «говорит» это специфическое выражение.
Однако немало двусмысленностей может возникнуть (и я причисляю себя к тем, кто более всего в этом виновен) из-за того, что для объяснения концепций Ельмслева, то есть ради дидактической наглядности, был предложен рис. 1.
Этот рисунок, конечно, показывает различия между разными концепциями формы, содержания и континуума, или материи, но он оставляет такое впечатление, будто речь идет о гомогенной, однородной классификации, хотя таковой она не является. При наличии одной и той же звуковой материи два языка, Альфа и Бета, расчленяют ее по-разному, производя две различные формы выражения. Комбинация элементов формы выражения соотносится с элементами формы содержания. Но это лишь абстрактная возможность, предоставляемая любым языком, и она имеет дело со структурой лингвистической системы. Коль скоро и форма выражения, и форма содержания намечены, материя, или континуум, прежде представлявшая собою бесформенную возможность, становится уже сформированной, а субстанции все еще не произведены. Поэтому в терминах системы, когда лингвист говорит, например, о структуре итальянского или немецкого языка, он рассматривает только отношения между формами[31].
Когда благодаря возможностям, предоставляемым лингвистической системой, совершается какая-либо передача вовне (звуковая или графическая), мы имеем дело уже не с системой, а с процессом, приведшим к формированию текста[32].
Форма выражения говорит нам о том, каковы фонология, морфология, лексика, синтаксис того или иного языка. Что же касается формы содержания, то мы видели, как та или иная культура перекраивает континуум содержания (ресоrа «овца» / сарrа «коза», cavallo «лошадь» / cavalla «кобыла» и так далее), но субстанция содержания реализуется как смысл, который принимает тот или иной элемент формы содержания в процессе высказывания.
Только в процессе высказывания устанавливается, что, если исходить из контекста, слово «лошадь» (cavallo) относится к той форме содержания, которая противопоставляет его другим животным, а не к той, которая противопоставляет его, в терминологии портных, как ластовицу брюк (cavallo dei pantaloni) – поясу либо отворотам. Если есть два выражения: «Но я просил этот романс в исполнении другого тенора» (Ma io avevo chiesto la romanza di un altro tenore) и «Но я хотел получить иной ответ» (Ma iо volevo una risposta di un altro tenore), то именно благодаря контексту слово tenore утрачивает двусмысленность, порождая поэтому два высказывания, несущие различный смысл (которые нужно переводить по-разному).
Поэтому в тексте – который уже является актуализованной субстанцией — мы имеем дело с Линейной Манифестацией (с тем, что воспринимается при чтении или на слух) и со Смыслом или смыслами данного текста[33]. Встав перед необходимостью истолковать Линейную Манифестацию, я прибегаю ко всем своим лингвистическим познаниям, в то время как процесс куда более сложный происходит в тот момент, когда я пытаюсь различить смысл того, что мне говорят.
С первой попытки я стараюсь понять буквальный смысл, если он не сомнителен, и, если получается, соотнести его с возможными мирами: так, если я читаю, что Белоснежка ест яблоко (Biancaneve mangia una mela), я понимаю, что индивидуум женского пола постепенно надкусывает, пережевывает и проглатывает некий плод так-то и так-то, и выдвигаю гипотезу о возможном мире, где происходит эта сцена. Тот ли это мир, в котором я живу и где считается, что an apple a day keeps the doctor away[34]*, или же сказочный мир, где, съев яблоко, можно пасть жертвой колдовства? Если бы я принял решение во втором смысле, ясно, что мне пришлось бы обратиться к сведениям из энциклопедий, в числе которых – сведения литературного характера, и к интертекстуальным сценариям (в сказках обычно случается так, что…). Конечно, я буду и дальше исследовать Линейную Манифестацию, чтобы узнать что-нибудь об этой Белоснежке и о том месте и той эпохе, в которых разворачивается это событие.
Но следует отметить, что если я прочту фразу «Белоснежка съела листок» (Biancaneve ha mangiato la foglia), то, видимо, обращусь к иному ряду энциклопедических сведений, на основе которых установлю, что человеческие существа редко едят листья; отсюда я выведу ряд гипотез, подлежащих проверке в ходе чтения, чтобы решить, не зовут ли, часом, Белоснежкой – козочку. Или же (что кажется более вероятным) я задействую набор идиоматических выражений и пойму, что «съесть листок» (mangiare la foglia) – это идиома, смысл которой отличен от буквального, ибо она означает «смекнуть, в чем дело»; в этом случае фразу Biancaneve ha mangiato la foglia я пойму так: «Белоснежка смекнула, что к чему».
Равным образом на каждом этапе чтения я буду задаваться таким вопросом: о чем говорит как отдельная фраза, так и целая глава (и тем самым поставлю перед собой проблему: каков topic, то есть тема или содержание, данного дискурса)? Кроме того, на каждом шагу я буду пытаться выявить изотопии[35], то есть однородные уровни смысла. Например, если даны две фразы: Жокей остался недоволен конем (cavallo) и Портной остался недоволен ластовицей (cavallo), то, лишь выявив однородные изотопии, я смогу понять, что в первом случае речь идет о животном, а во втором – о детали брюк (если только контекст не опровергнет эту изотопию: когда речь зайдет, например, о жокее, сильно озабоченном элегантностью своего костюма, или о портном, помешанном на верховой езде).
Кроме того, мы задействуем общие сценарии, в силу которых, если я читаю, что Луиджи отправился поездом в Рим, я полагаю само собой разумеющимся, что он должен был пойти на станцию, приобрести билет и так далее, и только поэтому я не удивлюсь, если впоследствии текст сообщит мне, что Луиджи пришлось заплатить штраф, поскольку контролер поймал его без билета.
На этом этапе я, возможно, буду в состоянии по сюжетной схеме реконструировать фабулу. Фабула – это хронологическая последовательность событий, которую текст, однако же, может «монтировать» по иной сюжетной схеме: Я вернулся домой, потому что пошел дождь и Поскольку пошел дождь, я вернулся домой. Перед нами две Линейные Манифестации, передающие одну и ту же фабулу (я вышел из дому, когда дождя не было; пошел дождь; я вернулся домой) посредством различной сюжетной схемы. Само собой разумеется, что ни фабула, ни сюжетная схема не являются вопросами лингвистическими: это структуры, которые могут воплощаться в иной семиотической системе, в том смысле, что можно рассказать одну и ту же фабулу «Одиссеи» по одной и той же сюжетной схеме, но посредством фильма или даже комиксов. В случае краткого изложения можно сохранить фабулу, изменив сюжетную схему: например, можно пересказать события «Одиссеи», начав с тех событий, которые в поэме Одиссей будет впоследствии рассказывать феакам.
Как показали два примера (о том, что я вернулся, поскольку пошел дождь), фабула и сюжетная схема существуют не только в специфически повествовательных текстах. В стихотворении Леопарди «К Сильвии» есть фабула (была одна девушка, жившая напротив поэта, поэт ее любил, она умерла, поэт вспоминает ее с любовной тоской) и есть сюжетная схема (поэт, предающийся воспоминаниям, выходит на сцену в начале, когда девушка уже мертва, и она постепенно оживает в его воспоминаниях). Насколько важно соблюдать в переводе сюжетную схему, говорит нам тот факт, что адекватно перевести стихотворение «К Сильвии» невозможно, соблюдая фабулу, но пренебрегая сюжетной схемой. Перевод, изменяющий порядок сюжетной схемы, был бы просто кратким изложением, сделанным малышом для экзаменов, и мучительный смысл этого воспоминания был бы здесь начисто утрачен.