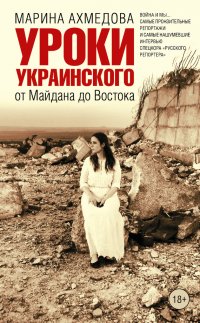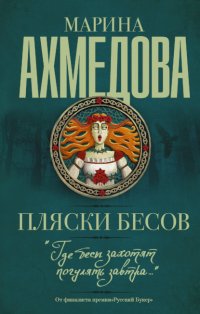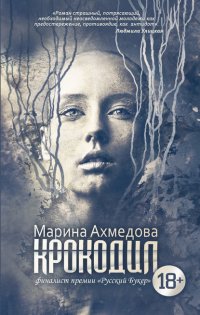
Читать онлайн Крокодил бесплатно
- Все книги автора: Марина Ахмедова
Часть первая
Яга
Яга поджала большой палец, выглядывающий из резинового шлепанца. Палец был синим. В руке она несла пакет. У аптеки было пусто. Яга пригладила жесткие волосы, сунула руки в карманы куртки и, вихляя бедрами, поднялась по лестнице.
Аптекарша кинула на нее взгляд, узнала и больше в сторону Яги не смотрела. Яга выпрямилась, спрятала пакет за спиной и пошла твердо и быстро.
Несколько секунд она сонно разглядывала витамины, презервативы, кремы и леденцы на полках за стеклом.
– Десять упаковок, – хрипло сказала Яга и назвала таблетки.
Аптекарша не пошевелилась, будто не слышала.
– И капли для глаз, – Яга посмотрела под ноги. – Йод… и еще шприцы.
Аптекарша разглядывала свою пухлую руку. Потом медленно оторвала грудь от прилавка. Достала с полки пачку таблеток, перетянутую зеленой резинкой. Пузырьки йода звякнули друг о друга в ее коротких пальцах. Следя полуприкрытыми глазами за Ягой сбоку, она выдвинула ящичек, достала шприцы. Яга обернулась на дверь.
– Семьсот тридцать два, – тихо проговорила аптекарша, выдавив слова в щелочку еле разлепленных губ. Тоже метнула взгляд на дверь.
Яга, зажав пакет коленями, вынула из кармана деньги и положила на прилавок. Как только аптекарша взяла деньги, живая и меткая рука Яги сгребла таблетки, йод и шприцы в пакет. Пригнув голову, Яга засеменила к двери.
На улице по-прежнему было пусто. Яга спустилась по лестнице и быстро пошла по асфальтированной дорожке через двор какого-то дома, бросая взгляды по бокам. С желтым пакетом в руках.
Свернув на свою улицу, состоящую из деревянных домов, Яга на секунду застыла перед лужей, тянувшейся от одного края дороги к другому. Она пошла по кромке, обходя лужу и медленно переставляя резиновые шлепанцы, поджимая пальцы и высоко поднимая ноги. Она была похожа на цаплю. Шлепанцы чавкали в черной грязи. В луже отражались деревья и кусок неба.
По обе стороны дороги стояли косые заборы и низкие дома. Мимо проехала белая «Лада», разворачивая лужу до самых внутренностей. Яга трусливо втянула голову в плечи. Свернула влево. В глаза сунулась черная верхушка яблони – отсыревшая, как все заборы в этом районе. На яблоне змеем металась зеленая лента, привязанная к ветке.
Забор гулял – падал назад, выпрямлялся и заваливался вперед. Яга застыла с поднятой ногой. Тупо уставилась на забор.
– Светка, блядь! Сука, блядь, выходи…
Услышав голос Олега, Яга быстро отвела руку с пакетом за спину.
Олег висел на заборе, раскачивая его. Залаяла собака.
Боком, крадучись, Яга начала обходить Олега.
– Свет-ка! Шлю-ха! – после каждого слога Олег сглатывал и сипло втягивал воздух. Слова выходили сухими, будто вдыхал он не весну, а плохой табак. – Мать твоя – шлюха. И сестра твоя – шлюха.
– Сестру мою не тронь! – вылетел из дома каркающий голос Светки.
Когда до калитки оставалось два метра, Яга полуприсела, как от удара под колени, боднула воздух, резко выпрямилась и побежала, размахивая свободной рукой. Олег задохнулся на полуслове.
Распахнув калитку, Яга влетела во двор. Олег прыгнул за ней, нырнув в открывшийся проем. Захлопнувшись, калитка стукнула его по спине.
У самого крыльца он схватил Ягу за капюшон. Двинул кулаком ей в спину. Яга упала на коленки, мазнув ладонями по шершавой ступени. Перекатилась на спину, села на пакет и ткнула Олега ногой в грудь. Одной рукой он сгреб ее волосы на макуше, другой дернул за пакет. Яга вжалась в землю сильнее. Замычала и засучила ногами. Шлепанцы с ее ног упали на землю.
Дверь открылась, из дома выскочила худая высокая Светка. Повисла на Олеге сзади.
– Сестру мою не тронь! – крикнула картаво.
Олег двинул локтем назад, попал Светке в живот. Светка упала. Олег выпустил Ягу, повернулся к Светке. Не вставая с земли, она подтянула к подбородку коленки. Ее глаза, не мигая, смотрели на Олега из-под тонко выщипанных бровей и дергались вместе с ресницами.
– Коза сливочная! – выдохнул Олег, скалясь широкими зубами.
Одежда болталась на его худом теле, и казалось – под ней пусто. Олег, шаркнув о землю, пнул Светку по почкам. Светка подтянула колени выше. Олег обошел ее и снова ударил в то же место. Он прыгал и пинал, трясясь на ветру тряпичной куклой. Светка, не отрываясь, смотрела на зеленую ленту, пляшущую на яблоне. Тело ее дергалось от каждого пинка.
Яга схватила пакет, рванула к крыльцу, споткнулась на первой же ступени, ухватилась за верхнюю, уперлась обеими руками в дверной проем и с силой качнулась в дом. Захлопнула дверь. Села на пол, прислонившись к двери, обнимая пакет и вслушиваясь в звуки, доносящиеся снаружи.
Скоро шея ее перестала держать голову, голова упала на грудь.
Яга открыла глаза, только когда в дверь постучали.
– Кто, блядь? – спросила она, встрепенувшись.
– Это я, – отозвалась Светка.
Яга поднялась, с трудом распрямляя затекшую спину. Открыла дверь. Посторонилась, пропуская Светку и глядя на нее, будто в первый раз.
Яга вытащила из пакета мятую пластиковую бутылку, пузырек с кислотой, таблетки, шприцы.
Из пластикового окна виднелись огород и передняя часть двора. В почерневшей стене дома белая пластиковая рама выглядела вставной челюстью на старых деснах. На грядках уже появились перья лука, росли они неровно, то там, то сям. Земля начала оттаивать в середине апреля. Сейчас, в конце месяца, она снова замерзла и держала в холодных тисках поспешившие лук и траву. Посреди огорода стояла покосившаяся теплица, закрытая мутным стеклом. За забором, отделяющим этот участок от соседского, земля была вскопана ровными грядками. Но лук там еще не рос.
Пугало хлопнуло полами старого пальто. Яга встрепенулась. Она достала из шкафа глубокую миску, налила в нее горячей воды из эмалированного чайника, поставила на стол. Села на табурет. Взяла со стола губку, макнула в воду… Мелкие черные трещины на руках Яги покраснели. Ее тело качалось то вправо, то влево, а глаза, не отрываясь, смотрели на чайное пятно на столе, словно между ним и ею была невидимая опора, не дававшая Яге упасть.
Она подняла голову и посмотрела в окно.
– Где Миша? – хрипло спросила она.
– Придет, – ответила Светка из комнаты. – Он у Вадика варится.
– Везде хочет успеть, – пробубнила Яга.
Светка ничего не ответила.
– Че, блядь, разлеглась! – крикнула Яга, словно через стену видела, как Светка лежит на кровати. – Мне одной, что ли, все надо?!
В комнате скрипнула кровать. Послышался звук вспоротой бумаги. Светка вошла в кухню со страничками, неровно вырванными из книги. Взяла со стола таблетки. Положила на табуретку листы. Верхний начинался словами «Все мы знаем, что продажа – это искусство». Выдавила таблетки из упаковок. Взяла со столешницы скалку и принялась раскатывать таблетки в порошок. Таблетки хрустели. В кофте с узкими рукавами Светкины руки выглядели совсем худыми. И Светка, и Яга поглядывали в окно.
Яга встала, зажгла конфорку, чиркнув спичкой. Сухой звук вспорол кухню, деля ее на две половины – ту, где в пятне света нависала над табуретом Светка, и ту, где в тени у плиты стояла Яга.
Яга поставила миску на огонь. Наклонилась и надолго уставилась в нее. Из миски полез сизый пар, Яга заморгала опухшими глазами, но от миски оторвалась не сразу – словно и из нее росла невидимая опора.
Она сняла миску с огня, поскребла дно лезвием. Посыпался бордовый порошок. Его частицы ударились друг о друга со звуком металлической стружки. Яга вздохнула.
Залаяла собака. Мимо теплицы шмыгнула мужская тень.
– Миша идет, – без выражения произнесла Светка.
Миша юркнул в дом и, ни слова не говоря, сразу направился к истолченным таблеткам. Аккуратно взял лист с табурета и засыпал порошок в кастрюльную крышку, уже стоявшую на плите.
– Еще Анька и Старая придут, – предупредила Яга.
– Капле´й нет? – спросил Миша, ударяя второй слог.
– Нет, – отозвалась Яга и, не удержавшись, метнула взгляд на куртку, висящую у двери на крючке. Там в кармане лежал пузырек.
Сестры уселись на табуретки и молча смотрели на Мишину спину, на то, как дергаются его лопатки, когда он крутит крышку, греющуюся на плите. На то, как серый свет, падая из окна, растворяется в спине Миши в тонком черном свитере. Внизу света не было, только тень, и худые Мишины ноги сливались с темнотой. От этого казалось, что ног у Миши нет и он просто висит в воздухе. Временами он переступал с ноги на ногу, вставал к сестрам боком, скрипя половицей. Его нижняя губа была вывернута вперед, на ее бледном внутреннем мясе отпечатались следы верхних зубов.
Яга пошевелила губами, когда Миша открыл бутылку. Пополз маслянистый запах. Миша звякнул о стол нагретой крышкой.
– Анюта идет, – сказала Светка, заметив в окне сгорбившуюся фигурку.
Анюта шла согнувшись, выставив голову вперед, как будто несла на спине что-то тяжелое. Руками она постоянно запахивала на груди куртку.
Войдя, Анюта первым делом посмотрела на плиту. Ее загораживал Миша, и на лице Анюты промелькнуло радостное выражение – еще не начинали.
– Привет, – поздоровалась она.
Никто не ответил. Она сняла с плеча дерматиновую сумку и бросила на пол. Ее темные волосы были собраны в хвост, доходивший почти до пояса. Овал лица одряб, но кожа на лбу держалась туго.
– Капли принесла? – спросила Яга.
– Нет, – быстро ответила Аня. – Лешка обещал, не принес.
– А че пришла, если нет? – хрипло спросила Яга.
Анюта промолчала.
– Вообще… – прошипела Яга.
В расстегнутой куртке Анюта стояла у двери и не двигалась дальше. В ее карих глаза появилось выражение готовности – не уходить, что бы ей сейчас ни сказали, что бы ни сделали.
– Олег приходил, – лениво прокартавила Светка в сторону Анюты, и та восприняла это как приглашение войти.
– Зачем? – коротко спросила она.
– Мириться, – ответила Светка.
– Он бухой был, – сказала Яга.
– Кричал такой на всю улицу, – добавила Светка.
– И че ты? – спросила Аня, всем видом выражая интерес.
– Ниче. Он мать мою оскорбил – шлюхой назвал.
– Анюта, – хрипло затянула Яга, – че ты там стоишь, не раздеваешься? Как бедная родственница. Садися, – глазами Яга показала на свободную табуретку.
Аня поспешно села на нее.
– Вчера знаешь че было? – спросила она Ягу пугливо и подобострастно, как будто хотела интересной новостью заменить капли, которых не принесла.
– Ну? – спросила Яга.
– Вчера Оля чуть не отъехала, – быстро начала Аня. – Она четыре куба взяла. Я ей еще говорю: «Оля, не ставь столько, отъедешь». Она такая не послушалась, половину-то загнала. А я смотрю, она уже падает. Мы в туалете были. Тут ванна, тут унитаз. Она чуть головой не ударилась. А она же в два раза больше меня. Как я ее удержу? Она так медленно сползает, синеет и не дышит.
– И че? – безучастно спросила Яга.
– Я давай ее по щекам бить, всякое разное. Привела в чувство кое-как, – договорила Аня и замолчала, поглядывая на Ягу.
– Сколько наливать? – повернулся от плиты Миша.
– На пятерых наливай – еще Старая придет.
Когда Яга произнесла эти слова, подбородок Ани дрогнул.
Яга достала из пакета шприц со светло-зеленым поршнем. Подошла к плите и потянула шприцем раствор, похожий на мочу заболевшего гепатитом. За ее спиной со своими шприцами уже стояли Светка, Аня и Миша.
Яга пошла в комнату, опустилась на узкую кровать. У стены напротив стояла Светкина – такая же узкая и накрытая таким же голубым покрывалом. Яга сняла кофту, оставшись в лифчике, расстегнула пуговицу на джинсах и легла, закинув правую руку за голову.
Побродила глазами по стене, оклеенной голубыми обоями. Над кроватью висела картинка в гипсовой рамке – речной залив, окаймленный осенними деревьями. Масляные мазки позолотили залив отражением заката. Зеркало, стоящее на подоконнике, ловило отражение этого залива, и, глядя в него, можно было подумать, что сейчас вместе весны – осень.
Слышно было, как в кладовке мягко затворилась дверь, и Яга, положив шприц на живот, закрыла глаза. Вошла Светка и постояла над Ягой, упав тенью на ее молодой гладкий живот и тенью же будто отрезав его от старого Ягиного лица. Потом Светка отошла, сняла кофту, легла на кровать, так же, как сестра, закинула руку за голову, блеснув синевой бритой подмышки.
– Еще раз подумай, – откуда-то издалека сказала Яга.
– Я подумала, – живо бросила Светка.
– Че ты подумала? – заворчала Яга. – Полгода не кололась, нахуй сейчас начинать.
– Меня никто не толкает, – отозвалась Светка.
В кладовке Миша расстегнул штаны, спустил их на колени вместе с трусами. Присел на мешок с прошлогодней картошкой. Из нее уже выросли глазки – короткие живые усики. Сами клубни, на которые опустились сморщенные Мишины яички, были пожухшими, словно глазки выпили из них всю жизнь. Миша защипнул между ног складку кожи, поросшую редкими светлыми волосами, поводил пальцами, нащупывая в скользком худом мясе вену. Та спряталась под бугорок, который оканчивался вислым отростком. Миша расслабил пальцы, вена обманулась, вышла из-под бугорка, и Миша ее ухватил. Вена вся напряглась и запульсировала. Миша прицелился и воткнул в нее иглу. Откинул голову, но до стены еще оставалось расстояние. Голова его мотнулась, губы вытянулись в нитку, глаза ушли под глазницы.
Через минуту Миша открыл глаза, встал, натянул штаны, взял с мешка пустой шприц, аккуратно закрыл колпачком и спрятал в карман.
Когда Миша коснулся легкими пальцами подмышки Яги, покрытой сосочками черных бритых волос, там проступила крупная фиолетовая вена. Яга открыла глаза. Миша взял с живота Яги шприц, снял с иглы колпачок и прошил вялую кожу подмышки. Игла уперлась в твердую глянцевую стенку вены, поскользнулась, но Миша не пустил ее в сторону, надавил, проколол. Опустил поршень до упора.
Сочно потекла кровь – темная и тугая, словно все время стояла в вене, не двигаясь. Яга почувствовала, как в пальцах забегали мурашки. И сама кровь забегала, разгоняясь. Яга сразу что-то вспомнила и что-то забыла. Тело зашевелилось, принимая позу, на которую Яга не могла посмотреть со стороны, но знала, что поза эта – главная в жизни. Наконец, кровь добежала до стоп, затекла в вечно холодный большой палец правой ноги, палец стал гибким и поведал мозгу, что он, а не мозг, тут главный. Когда палец себя осознал, Яга спустила ноги с кровати, встала и, двигаясь прерывисто, словно постоянно натыкаясь на тонкую скорлупу, которую надо ломать, пошла к окну.
Окно предстало занавеской – голубой с разводами. Яга растопырила ноги, готовая стать тем, кем уже когда-то была. Присела. Вывернула запястья. Отъехала от одного конца подоконника к другому, ухватилась за оконную ручку, чуть не упала, но упасть она не могла – от глаз до окна росла невидимая опора, которая выдержала бы десять таких, как Яга. Сдвинув колени, Яга прижала локти к бокам, подвернула кисти рук. Изумилась, застыла, не шевелясь и не падая. Кровь текла по жилам, не стояла. Точка в занавеске держала, не отпускала.
Светка смотрела на Ягу до тех пор, пока Миша, наклонившись, не загородил ее. Миша тронул подмышку Светки.
– Гонишь? – она подняла на него лицо и выгнулась, когда Миша ее проколол.
На лице Светки мелькнуло выражение – «Ах, вот оно как может быть!» и быстро исчезло, как исчезла и сама Светка. Но она вдруг вернулась.
– Яга, че расселась?! Вставай давай! – Светка поднялась, подошла к Яге и пнула ее. Яга не пошевелилась. Она сидела с закинутой головой, и по всему ее опухшему лицу разливалось тупое блаженство.
Поставив на табуретку ногу, покрытую язвами, Анюта тыкала в нее иглой. Из самых глубоких язв вытекал гной, и Анюта вытирала его концом белой кружевной косынки, повязанной на щиколотку.
Светка прошла мимо нее, прихватив с кухонного стола бутылку с бензином.
Она спустилась с крыльца. Потянулась до хруста в костях. На ее спине по всей длине обозначились позвоночные бугорки.
Подошла к яблоне.
– Я тебя садийа, я тебя йюбйю, – сказала стволу, похожему на ящерицу, застывшую и затянутую темной корой.
Яблоня росла высокая, неподрезанные ветки уходили в разные стороны. Кое-где на них висели буро-коричневые, сгнившие за зиму и высохшие за весну плоды, которых никто никогда не ел. Они и похожи были на младенцев, которых не срезали с пуповины потому, что уже в момент рождения те были мертвы.
Светка потянулась за веткой, наклонила к себе и принялась развязывать мокрый узел. Яблоня качнулась под порывом ветра, Светка выпустила ветку из рук, лента метнулась от нее. Но Светка снова поймала ветку и развязала узел.
Зеленую атласную ленту покрывали темные крапинки.
Светка пошла в теплицу. Открыла раскисшую за зиму дверь. Внутри оказалось холодней, чем снаружи. Посередине были свалены пустые коробки, в которые мать по весне сажала рассаду.
Светка положила ленту на землю, полила из бутылки бензином. Достала из кармана спички, чиркнула.
– Забирайте своего Ойега, – громко сказала она.
Светка сидела на корточках и смотрела, как огонь жрет ленту, сначала превращая ее в черную.
– Вот каким Ойег оказался, – тихо проговорила Светка. – А строий из себя… Пусть уходит.
Она резво встала, но тут же согнулась, обхватив рукой коленки, будто кто-то дернул за жилы в ногах.
Светка потрогала коленные чашечки, поплелась в дом, вошла в комнату, переступив через вытянутые ноги еще не вернувшейся Яги, открыла шкаф и долго смотрела на моток новой фиолетовой ленты.
Похабно растянув рот, Старая с закрытыми глазами сидела в кухне. Она раскачивалась, как будто находясь в полусне.
– Ты че, реально потолок недо… белила? – спросила Яга, заплетаясь языком.
– Реально все бросила, сюда побежала, – Старая открыла мутные глаза. – Хозяйка вернется, че будет… Скандал будет.
– Так невтерпячку, да? – злобно спросила Яга, но Старая из осторожности промолчала.
– Че, хата хоть крутая, скажи, Старая, – снова заговорила Яга уже другим голосом.
– Круче, чем у Анькиных родителей, – ответила та, и лицо ее дернулось.
– А че там? Такая же широкая плазма?
– Шире, – Старая шмыгнула носом.
– А кухня какая?
– С вытяжками всякими.
– Еще че там?
– Круто там.
– Была бы у меня такая хата, я б никогда не кололась, – сказала Яга. – И ребенка, может быть, родила б.
– Как можно колоться, когда у тебя своя хата есть, – вяло сказала Светка. – Хоть какая, все равно своя. Я б ремонт делать начала.
Анюта промолчала.
– Че, блядь, все такие умные! – вдруг закричала Яга. – Бляди! Я одна по точкам хожу, одна закуп делаю! Надоело всех тащить! Сами никто не встанут! Жоп не оторвут! А как сваришься, все первые лезут!
Ее злые голубые глаза остро вспарывали не только пространство вокруг, но и само ее одутловатое лицо.
– Опять ты на психах, – проворчала Старая и ушла в комнату.
За ней потянулась Светка.
– Че, блядь, все такие ранимые? – забубнила Яга. – Я тут королева, блядь. Моя кухня, блядь. Закуп – мой. Блядь. Сдохли б тут без меня… Опять, блядь, кровь не течет. Стоит, блядь, стоймя. Как хуйня пластиковая. Как болит, блядь… Миша, давай быстрей. Скоро мама придет. Говорю, мама придет. Миша, быстрей. Кому говорю – Миш-ша… Ижди-венцы, блядь.
Миша не обернулся и ничего не ответил, но начал быстрее крутить кастрюльную крышку.
– Че ты, Миша, а? – с угрозой спросила Яга. – Че ты такой Миша, а?
– Да, такой Миша, – ответил он, не оборачиваясь.
– Че ты, Миша? – заулыбалась Яга. – К Вадику ходишь. А мы тут тебя ждем.
– Нич-че, – бросил Миша.
– Анюта! – требовательно позвала Яга. – А-ню-та!
Аня показалась из комнаты. Ее лицо покрывал толстый слой тонального крема.
– Тоналку мою схватила, – сощурилась Яга, улыбаясь.
Под тональным кремом лицо Анюты казалось старше, словно она выдавила на него из чужого тюбика и чужую старость.
– Ты когда завтра у меня будешь, я тебе голову знаешь чем дам помыть? – затараторила она. – Материным кондиционером. От него волосы такие – живые.
– Мне краску для волос купить не на что, – сказала Яга. – Хожу, как пугало позорное.
Аня села на табурет. Распустила волосы – темные и густые.
– Ты этим кондиционером волосы моешь? – спросила Светка, заходя в кухню. – Они у тебя так блестят.
– Так я ж с Лешкой маленько уже не живу, – ответила Аня, проводя рукой по волосам. – Мы ж маленько поругались, я ж у родителей теперь.
– А че так? – спросила Светка.
– А у меня же это, бунт в душе. Против матери его. Она же как приехала, сразу Лешка переменился.
– В этой церкви была, протестантской, куда хотела пойти? – спросила Светка.
– В четверг была, – скромно ответила Анюта.
– И че там? – спросила Яга.
– Ничего так, – ответила Анюта. – Лекцию писали. Пастор всякое рассказывал.
– Лек-ци-ю? – растянула Яга. – Ни хуя себе, все какие вокруг умные. Че, Анюта, нам тоже расскажи, про что лекция была.
– Я так не помню, только своими словами могу.
– Давай своими, нам чужими не надо, – сказала Яга, стрельнув глазами в спину Миши.
Анюта потянулась к сумке, достала из нее тонкую тетрадь и пролистала исписанные листы.
– Там пастор как бы сказал, что слова, которые говорит Иисус, – они есть как бы жизнь для каждого из нас, – быстро заговорила она, глядя в написанные ручкой буквы.
– Че? – спросил Яга. – Какая еще жизнь?
– Это метафора, – не оборачиваясь, проговорил Миша.
– Ну давай, че там дальше, – сказала Яга.
– Он еще сказал, что Иисус знает сердце каждого из нас. Ну, типа, что мы говорим, как мы говорим. Короче, слово имеет силу, когда мы его произносим.
– Че ты толстую тетрадь не купишь? – спросила Яга. – Эта у тебя скоро закончится.
– Потому что, как бы это, толстая тетрадь пятьдесят рублей стоит. А я вчера попросила у бабушки сорок рублей, а она такая сразу отчиму позвонила – Анюта опять денег на наркотики просит. Он мне вчера скандал устроил… Вот и получается… – она запнулась, – опять двадцать пять.
– Еще че этот пастор говорил? – требовательно спросила Яга.
– Он еще, короче, вопрос поставил, на который мы… типа каждый из нас должен для себя ответить.
– Че за вопрос?
– Сейчас… – Анюта полистала тетрадь. – Короче, почему змей подошел к Еве?
– Че? Какой еще змей?
– Искуситель, – снова повернулся Миша.
– С яблоком! – подала из комнаты скрипучий голос Старая.
– Ага, – подтвердила Анюта.
– И че он к ней подошел с этим блядским яблоком?
– Я еще не нашла ответа на этот вопрос, – сказала Анюта и почесала голову. Из головы выпал волос.
– Может, влюбился? – спросила Светка.
– Она хоть красивая – Ева, что ль? – спросила Яга.
– Змей – это метафора, – произнес Миша.
– Че, блядь, заладил – метафора! – заорала Яга. – Че мне, блядь, мозги пудрите. Какие-то змеи, блядь. Яблоки какие-то. Вообще… Сейчас мама, говорю, придет!
Светка ушла в комнату, а Анюта осталась и сидела смотрела на черный волос, который, не долетев до пола, опустился на ногу и увяз в гное.
Больше ничего не было. Ягу смыло водой – теплой, прохладной и пенной. Вода была повсюду, и Яга была в ней одна. А больше ничего. Яга поняла, что когда повсюду что-то одно и его много, многажды множе тебя самой, но ты с ним – один на один, значит, то, что повсюду, – это ничто. Поняв это, Яга распустилась в ничем, как будто в ней открылись разные створки. Как будто у ней по всему телу были такие узенькие полосочки – жабры. Она ими в воде дышала, а когда надышалась, они ожили окончательно и начали раскрываться, как лепестки цветка. Наверное, большой розы. Роза была тяжелее, чем ничто, но именно потому, что она дышала ничем, она как бы тоже обезвесилась, сохранив при этом вес. И этот вес потянул розу вниз, на дно ничто. Внизу, как ни странно, Яга почувствовала себя еще невесомее. Раскрылась всеми жабрами ему навстречу, хоть оно и было повсюду, и куда ни поплыви – везде оно. Даже если просто будешь колыхаться на месте, оно тоже – везде. Дна не было, потому что у ничто дна быть не может. Яга об этом не догадывалась, но роза с самого начала знала об отсутствии дна. Телом Яга чувствовала, куда она движется – вверх или вниз. Яга двигалась вниз – к самому сердцу.
Она еще не дошла до низа, потому что низа не было и дойти до него было невозможно, но ничто ее уже обняло и пенно убаюкало. У Яги между ног потекла нега, и она поняла, чем мужчина отличается от женщины. Чем Ева принципиально отличается от Адама. Яга погружалась в негу, погружалась, жабры дышали сами по себе, а нос тонул. Нос задыхался. Носу нужен был кислород. Нос потянул наверх, Яга разозлилась и вынырнула.
– Нахуй, блядь? – хрипло спросила она, имея в виду нос, который был, и она не могла этого изменить.
Яга встала с кровати и пошла к зеркалу, висящему на стене. Так они и стояли друг против друга – Яга и Яга. На выпуклом лице другой Яги, которая появилась, оспорив право этой Яги на единоличное присутствие в разлитом повсюду ничто, опухшие веки прорисовывались скобками. Из них выглядывали зрачки – голубые, как вода и ничто. Яга подняла руку и, кажется, хотела потрогать макушку, но бросила руку вниз на полпути, потрогала между ног под джинсами.
– Конец, нахуй… – прохрипела она. – Конец – всему пиздец…
Яга повернулась к окну. Посмотрела на занавеску. Ее ноги подогнулись, она упала, растопырила ноги. Хотела расстегнуть джинсы. Поковырялась в пупке. Бессильно вывернула запястья.
Мать откинула голову, будто с порога ей нанесли прямой удар в лицо. На секунду прикрыла глаза. По лицу как будто прошла судорога, поделив его на две половины.
Замерев, Яга смотрела на мать с пола так, словно та не рожала ее. Словно сама Яга никогда не была младенцем. Словно никогда между ними ничего не было и эта посторонняя женщина случайно вошла в эту кухню.
Лицо Яги стало злым. Мать посмотрела дочери в глаза, быстренько отвела взгляд, медленно повернулась к мойке, в которой стояла миска с бордовой фосфорной водой. Прижала руку груди, будто там сильно жгло, отвернулась совсем и вышла в распахнутую дверь.
Яга посмотрела в окно. Мать шла мимо покосившейся теплицы, мимо первых перьев лука. Яга перевела взгляд на свою руку. Рука опухла от фосфора.
Стеклянная дверь «Гринвича» шумно распахивалась, пропуская покупателей. Яга стояла сбоку, засунув руки в карманы.
Ветер подул снизу.
– Че, уже весна, – пробубнила Яга.
Через дорогу виднелся другой магазин – маленький, но тоже продуктовый.
Из супермаркета выезжали тележки, нагруженные продуктами. Яга постояла еще немного и, вихляя бедрами, пошла к двери.
– Столько, блядь, всего надо сделать, – пробубнила она, входя в разъехавшуюся дверь.
В овощном отделе пахло пластиком. Фрукты и овощи, лежавшие на прилавке, отливали глянцем. Яга шла по проходу между лотками, а увидев женщину с тележкой, выскочила впереди нее.
Тележка завернула в молочный отдел. Из-за стеллажа с кефиром показался мужчина в синем пальто и розовом галстуке. Яга, глядя в сторону от него, поправила волосы и укусила губу.
Тележки столкнулись в узком проходе. Яга, оказавшись рядом с мужчиной, повернулась к полке с кефиром и зашевелила губами, беззвучно читая названия упаковок. Рукой она сделала колесо по карману пальто – прижалась тыльной стороной согнутой ладони и прокатилась по нему. В чужом кармане хрустнули деньги. Руки Яги затряслись, как бывает от сильного страха или азарта. Она скользнула пальцами по шершавым ворсинкам пальто. Пальцы юркнули за отворот кармана. Яга поддела указательным и средним пальцами купюру, подтолкнула ее под большой, плавно потянула руку, не сгибая пальцев. Сжала деньги в ладони и, не отрываясь глазами от кефирных полок, обогнала тележку.
На повороте она на миг разжала кулак, мелькнул голубой уголок. Яга сунула кулак в карман.
Возле темной застекленной полки с бутылками коньяка Яга покрутилась, ловя то отражение, в котором меньше были видны припухлости на лице. Их стало меньше, только когда она откинула голову и посмотрела на себя сверху вниз.
В рыбном отделе Яга застыла перед лотками со льдом, где были разложены куски розовой семги. Она вытянула лицо, как это делала Старая, ее отчего-то передернуло.
– Супер-блядь-маркет, – пробубнила она.
Она потрясла ногой, как будто разгоняя кровь. Пошла в сырный отдел. Взяла с полки камамбер в холодной упаковке, понюхала. Лицо снова стало как у Старой. Вернула сыр на полку, походила, изучая и трогая, ушла в хлебный отдел. Вернулась. Дрожащими руками взяла три головки камамбера, сунула за пазуху.
Идя к выходу, Яга сделала разочарованное лицо. Когда она поравнялась с охранником, стоявшим у стеклянных дверей, лицо ее стало злым. Ноги дрогнули в коленках. Охранник на Ягу не смотрел.
Вынырнув из супермаркета, Яга расправила плечи и, виляя худыми бедрами, пошла через дорогу в продуктовый магазин – относить сыр.
Яга скатала трубочкой пять сторублевок, полученных за сыр, и закрыла их в кармане на молнию. Тысячную сунула во внутренний карман куртки. Пошла по тротуару. Ветер дул сзади, разделяя волосы на затылке прямым пробором.
Дома, ударенные весенним солнцем, отдавали каменный холод. Яга съежилась. Ее мотало и качало. Она остановилась возле двухэтажного здания с кирпичной облицовкой. Над стеклянной дверью было написано желтыми буквами: «Солярий». «О» была обведена короткими лучами.
– Жестоко, – протянула Яга. – Как, блядь, жестоко…
Она открыла дверь и вошла в узкое светлое помещение. На стойке стоял горшок с живой орхидеей. За стойкой сидела администратор – девушка с белым лицом, темными волосами и голубыми глазами. Свет, падавший из стеклянной двери, казалось, играл с тонкими костями, из которых было составлено ее лицо.
Зазвонил телефон. Девушка повернулась к нему, оказавшись к Яге полубоком.
– Салон красоты «Орхидея», добрый день, – прожурчала она в трубку.
Как бы свет ни играл с ее лицом, на нем не проступало ни впадин, ни опухлостей. Глаза Яги загорелись злостью. Она поправила волосы, потрогала пирсинг на пупке и посмотрела на администраторшу сверху вниз.
– Извините, кха… – кашлянула она. – Ой, вы не подскажете, сколько пять минут солярия стоят?
Говоря, Яга отводила глаза от белого лица администраторши, словно оно обжигало их.
– Сто рублей, – ответила девушка таким голосом, как будто у нее в горле правда тек ручей.
– Спасибо, – протяжно ответила Яга, доставая из кармана трубочку сторублевок.
Яга положила деньги на стойку. Администраторша взглянула в лицо Яги, и глаза у нее стали слезливыми – как у кошки, которой сломали хвост. Яга придвинулась и задержала руку, покрытую черными трещинами, на деньгах. Администраторша отпрянула.
Яга сняла руку со стойки.
Белый солярий, похожий на саркофаг, стоял у стены. Яга сняла куртку, свитер и лифчик. Из-за тонкой перегородки доносились телефонные трели и журчание администраторши: «Салон красоты “Орхидея”, добрый день».
– Орхидея, блядь, еще какая-то, – проворчала Яга и стянула трусы. Пощупала их. Почесала волосы между ног. Понюхала руку.
Открыла солярий, подтянула колено к его плоскому стеклу. Другая нога задрожала в икре. Напрягая зад, Яга подтянула и ее. Встала на колени. Села. Ягодицы растеклись по стеклу. Легла. Опустила крышку. Нажала на кнопку. Солярий загудел. И Яга лежала неподвижно, расставив большие ступни, вся пронзенная фиолетовыми лучами.
Оперевшись о стойку локтями, Яга, как завороженная, разглядывая орхидею. Администраторша куда-то ушла. Все тот же свет из двери просвечивал молочную белизну лепестков, на которые словно капнули бледно-фиолетовыми чернилами.
Зазвонил телефон. Яга встрепенулась, выпростала из кармана руку, приблизила к орхидее два тугих, покореженных фосфором пальца, взяла лепесток и дернула. Лепесток скрипнул.
Она поспешно вышла из салона. Двинулась по тротуару, качаясь. Налетела на дерево, остановилась.
– Я что ли на заправке не работала? – сказала она дереву. – Я что ли не знаю, как с клиентами надо? Да я в эти солярии каждую неделю ходила. У меня по три тысячи в день чаевых было. Я сумки себе покупала за восемь тысяч. Я сколько этих педикюров сделала. А все такие жестокие, блядь. Без… душные.
Яга разжала кулак, и из него вылетел лепесток орхидеи. Покружив, он упал у корней дерева и казался бабочкой, хотя для бабочек было еще рано.
Яга срезала дорогу дворами. У некоторых домов были вскопаны палисадники. В одном из дворов мать качала ребенка на качелях. Качели скрипели на весь двор. Яга остановилась и стала вертеть головой вслед за движениями качелей. Вздрогнула и снова пошла. Солнце скоро должно было сесть, но перед этим набросало пятен на асфальт, как будто выдавливая из себя последние капли неиспользованного света. Яга шла, наступая аккуратно в них.
Вошла в подъезд одного из домов. Заковыляла по лестнице. Поднялась на третий этаж и постучала в железную дверь – два раза и еще два.
За дверью было тихо. Яга постучала еще.
– Ванька! – позвала она шипящим на весь подъезд шепотом. – Вань, это я!
Никто не ответил.
– Опять, блядь, двадцать пять! – взорвалась Яга и пнула дверь ногой.
Подождала.
– Ваня! – позвала ласково. – Ван-ня…
Наконец, с той стороны заворочался замок. Дверь приоткрылась, и Яга сразу втиснулась в проем.
Ванька стоял, уперев руки в бока, и мутно щурился на Ягу.
– Где Ирка? – хрипло спросила она.
– Какая на хуй Ирка? – спросил Ванька, отступая.
– Такая на хуй Ирка, – Яга скинула шлепанцы и пошла в комнату.
Неразложенный диван был прикрыт голубым стеганым одеялом.
– Какая на хуй Ирка? – повторил вопрос Ванька, появившись у нее за спиной.
Яга схватила одеяло, тряхнула и отшвырнула в угол к стене. На дивне осталась только подушка. Яга схватила ее и задушила.
– Че попутала, блядь? – с угрозой спросил Ванька.
Яга бросилась на кухню, по дороге расталкивая воздух руками. На кухне тоже было пусто. День за окном пожелтел и, казалось, раздел бледную кухню догола, подсинив известку на стенах и грязно-белый стол с пачкой рафинада на нем.
По бокам от стола стояли две табуретки. В углу – газовая плита. На ней – перевернутая кастрюльная крышка. Яга улыбнулась.
– Капли принесла? – спросил Ванька.
– Завтра принесу, – мягко проговорила Яга.
– А че пришла? – спросил Ванька.
– Че ты сразу?
Ванька встал между ней и плитой. Ухмыльнулся. Из уголка рта выглянул металлический зуб. Яга сначала смотрела на него, как бы играя с ним в гляделки, потом не выдержала и отвернулась. За окном день почти закончился.
– Че, Вань, завтра никогда не настанет, да? – обиженно спросила она.
Ванька еще шире осклабился и отошел от плиты. Яга вытащила из кармана шприц и трясущимися руками набрала в него из кастрюли желтую жидкость.
– Я ж люблю тебя, Вань, – сказала она.
Ванька стоял сзади и насмешливо смотрел ей в спину. Закат выжимал из его глаз красивый медовый оттенок. Уперев руки в бока, Ванька раскачивался, и лицо у него было такое, будто он собирается пнуть Ягу сзади или плюнуть ей в спину.
– Я ж тебя конкретно так люблю, – сказала Яга, не отрываясь от плиты. – Че ты меня унижаешь, Вань?
– Блядь ты скатившаяся, – сказал он, что-то перекатывая во рту.
– Вмажешь? – робко спросила Яга.
– Ну пошли, – Ванька развернулся и повел ее в комнату.
Яга сняла кофту, лифчик и легла на диван. Закинула руку за голову.
– Че ты, Ванек? – с хриплой лаской спросила Яга.
Ванька залез ногами на диван, сел ей на живот, вошел в нее иглой и повел поршень вниз.
– Че ты? Че ты? Че-ты-че-ты? – приговаривала Яга.
Снизу она ласково смотрела на сосредоточенное лицо Ваньки. На его четко очерченные губы и твердый подбородок с ямочкой. Она вдруг отвернулась к стенке и закрыла рукой свое опухшее лицо, на котором начал проступать красный загар. Поджала большие ступни.
– Я в солярии, Вань, была. Поэтому опухшая, – кротко сказала она.
– Пошла ты на хуй со своим солярием, – Ванька вынул иглу из вены и швырнул шприц ей на живот.
Яга развела ноги.
– Че-ты-че-ты? – она приоткрыла рот.
Она свела колени и сжала Ваньку.
– Пошла ты на хуй, – Ванька слез с нее и сел в противоположном конце дивана. Яга подсунула свои стопы под него. Ванька похабно ухмылялся ей в лицо, и Яга снова отвернулась к стене. Из стены приподнялось одеяло. И потекло. Одеяло подтянулось к дивану. Обступило его. Плеснулось на Ягу. Заползло в ее открытый рот. Затекло ей между ног. Яга захлебнулась, вытаращилась.
– Давай трахаться, – сказала она, раздвигая ноги перед лицом Ваньки.
– Не сегодня, – ухмыльнулся он.
– Давай, Вань.
– Я усталый.
– Че ты такой? – Яга потянулась к нему.
– Пошла на хуй, Яга позорная, – оттолкнул ее Ванька.
Яга вышла из подъезда и оказалась во времени, которое трещиной проходит по суткам, деля их на день и ночь, поселяя вокруг тревожность.
Согнув ногу, Яга подняла ее и постояла недолго, как цапля. Шлепанец отвис. Подул ветер, Яга встрепенулась и пошла к проему, открывавшемуся между двумя домами. Дойдя до него, она снова остановилась. И было ей явлено чудо.
Сквозь черное на небе все равно проглядывала синева – глубокая и нездешняя. Плыли облака – крупные, с формами. Непонятно было, синева подсвечивает их или они синеву. В каждом облаке будто горел слабо мерцающий светильник. Будто кто-то забыл закрыть небо декорациями. Будто на небе каждые сутки свершалось нечто – в миг, когда день переходил в ночь, и тогда только на нем можно было увидеть настоящее. Не игру. Будто кто-то специально закрывал настоящее картонками, разрисованными звездами, от тех, кто смотрит снизу. Будто кто-то хотел, чтобы настоящее было тайной.
Но сегодня декорации убрать забыли, и Яга познала тайну.
Ей явлен был человек, собранный из кучевых облаков, – мужчина с выпирающим задом. Руками он держал за оба крыла летящую птицу. И непонятно было – продолжает ли птица лететь, неся за собой человека, или стоит, потому что человек, ухватив ее, не движется с места. Непонятно было, движение это или стояние.
Ягу пронзило ощущение, что сейчас все закончится. И больше никогда ничего не будет. Что сейчас момент порвется. Человек не пересилит птицу. Птица не пересилит человека. На грани разрыва момента Яге было послано ведание: птица – ни хорошая, ни плохая, человек – ни хороший, ни плохой. Добра и зла нет. Есть только среднее – между ними. И оно зальет все вокруг, когда птица и человек раздерут небо и землю напополам. И Яга упадет в разлом, и с тех пор больше ничего не будет.
Яга уже почти ступила в проход, но снова остановилась – пришло еще одно ведание. Она сама и есть трещина мира. А нет Яги, нет и разлома. И будет мир стоять, бултыхаясь в добре и зле, и пока она, Яга, того не захочет, ничто не придет. Птица так и зависнет в полете, а человек – в держании за крылья.
Злобно хихикая, Яга развернулась и пошла в другую сторону – от чуда. Она шла мимо окон, в которых уже зажгли электрический свет, хихикая и унося свою трещину прочь.
А значит, стоять этому миру, и будь он проклят.
Анюта плюхнулась в кресло, ударив подлокотником стоявший рядом диван. Голова матери мотнулась по подушке. Мать не издала ни звука. Анюта поджала ноги, поерзала. Мать смотрела на желтые обои.
На полу лежал темно-синий палас. Кроме полированной стенки, кресла и дивана, мебели в комнате больше не было.
Анюта сначала просто бегала глазами по материному лицу, улыбаясь. По ее лбу, желтому как воск. Анютины глаза забегали в ее морщины, проходили по ним вдоль. Поперек.
Кожа на материном лице болталась, словно совсем отстала от черепа, и ее можно было отщипнуть и скатать.
Под Анютиным взглядом восковые черты матери заострились и, как всегда, напряглись. Но глаз от стены она не оторвала. Анюта тоже принялась смотреть на обои, прислушиваясь к звукам из кухни. Оттуда доносилось сопение спящего Лешки.
Точка, куда смотрела мать, блестела, выделяясь на стене, словно мать засалила стену глазами. Или пятно было отражением материного лба.
Обои были разрисованы ромбами с закругленными концами. Внутри ромбов сидели равномерные палочки и кружки. В зависимости от угла зрения они то представлялись слонами с попонами, то переливались в человечков с антеннами, то в женскую голову, а то в животастого мужика.
Анюта вытянула ногу вперед. Губы ее растягивала улыбка – тоже сальная. А может, обойное пятно отражалось на ее губах. Анюта выпустила из носа комок горячего воздуха, прикрыла глаза и как будто начала вспоминать.
Анюта лежала на этом самом диване животом вниз. На кухне Лешка открыл окно, и вместе с запахом сигарет в комнату потянуло новым днем. Из дверцы шкафа торчал подол свадебного платья. Он одним своим защемленным уголком придавал всей комнате праздничный вид.
Лешка зазвенел бутылками в холодильнике. Стеклянный звон разбил атмосферу сна. Сон прошел.
Окончательно раннее утро прогнал неожиданный и от того тревожный дверной звонок.
– Это кто, бля? – услышала Анюта тихий бас Лешки, и потом – как одна бутылка стукнула о другую и как Лешка пошел в коридор.
Послышался женский голос. Анюта оторвала голову от подушки, вслушиваясь.
– Че, правда, что ли? – долетел Лешкин голос.
Лешка вошел в комнату. Ладонями он ерошил волосы.
– Мама приехала, – сказал он и судорожно улыбнулся.
– Какая еще мама? – Анюта села.
– Моя мама…
Его грудная клетка бугрилась под несвежей майкой.
В комнату бочком вошла женщина. Анюта исподлобья осмотрела ее с ног – смуглых, заплывших, с высоким подъемом, как у Лешки, – до коротко стриженной головы. Женщина сделала несколько шагов и остановилась, как будто нерешительно. Ее живот, обтянутый сиреневой футболкой с бледно-розовыми узорами, сильно выдавался вперед. На животе лежали груди, объемные и, судя по всему, потные. Анюта выпустила пивную отрыжку.
– Мама, что вы стоите? Идите, садитесь, – торжественно сказал Лешка, показывая на кресло.
Женщина села боком к Анюте.
– Вот жена моя, Анюта, – сказал Лешка, глотнув воздуха. – А это – мать моя…
– Какая мать, я не поняла! – повысила голос Анюта.
– Рот закрой! Я кому сказал, рот закрой! – заорал Лешка высоким голосом.
– А че я рот должна закрывать?! Какая мать, спрашиваю!
– Рот, я сказал, закрой!
– Свой, я сказала, закрой!
– Ты че, блядь такая… Ты че, блядь, за разговоры тут при матери моей?! – Лешкин голос поднялся почти на женскую высоту.
– Какая мать? Ты ее первый раз видишь!
– Твое какое дело? Твое собачье какое дело? Я спросил, твое, блядь, какое дело? – на Лешкиной груди появились розовые пятна, похожие на узоры с материнской футболки.
– Такое мое дело! – крикнула Анюта.
Женщина молчала, а Анюта переводила возмущенный взгляд с нее на Лешку. Щеки у Анюты покраснели, и она начала задыхаться.
– Какое твое, блядь, дело?! – крикнул Лешка и потряс в воздухе руками.
Анюта промолчала. Женщина опустила голову ниже, чуть наклонив вбок. Она раскачивалась – с усилием и внезапно откидывая голову, которая все равно клонилась вниз, словно на спине у нее лежал камень.
– Какое твое дело собачье? – повторил Лешка, поперхнувшись.
– Никакого, – мрачно ответила Аня.
– Тогда пасть заткни!
Все замолчали, тишина сделалась давящей, как будто на комнату тоже лег камень. Мать не шевелилась. Лешка подошел к окну и отдернул занавеску. Свет впрыснулся и потек, но до противоположной стены не дошел, остановившись у ног женщины. Она отдернула их, как обожженная. Дневной свет смягчил ее надутый живот. Разводы на Лешкиной коже поползли по плечам и вниз – по рукам.
– Че ты тогда на мать мою наезжаешь? Ты кто такая, чтоб мать мою попрекать? – крикнул Лешка, встав к матери спиной.
Лешкины глаза выпучились. Как будто он просил Анюту о чем-то. Зрачки расширились и светились. Словно Лешка, отдернув занавеску с окна, впустил в глаза весь дневной свет, и только остатки потекли по комнате, захватив Анюту, но материных ног едва коснулись.
– Какая она тебе мать?! – истерично закричала Анюта. – Приперлась, такая умная, на все готовое! Где она раньше была?
– Че ты мне? – Лешка присел, словно колени его внезапно ослабли, выставил в стороны пятнистые руки. – Че ты мне… – он захлебнулся и шевелил губами, как будто хотел сказать слишком много, но слишком много за раз не выходило. – Че ты мне, сука, блядь…
– Сам такой!
– Ах ты, сука… Ах ты, блядь… – задыхался он и глотал воздух. – Ах ты, блядь, тварь последняя… Задохнись, я кому сказал! – Лешка смотрел на Анюту так, будто это ее, а не мать свою, видел в первый раз.
– Как за воровство отмазывать, так сразу мой папа! Теперь пусть тебя твоя мать отмазывает! Мой отец больше палец о палец для тебя не ударит!
– Че ты – воровство? Че ты – при матери моей? А? Че ты – отец? Какой отец, бля? Где ты своего отца видела? Ты когда своего отца видела?
– Папа Петя любит меня, как родную! – голос Анюты сорвался.
– Он Маринку любит, как родную, – Лешка снова присел и хохотнул. – Маринку он любит, че, не знала? Ты им нахуй не нужна. Че, не знала? Вот они тебе покажут, – он ткнул в сторону Анюты фигу. – Вот, видела? – тыкал он. – Вот тебе папы Петина квартира. А вот тебе машина. Папа Петя… Да папа Петя… – Лешка хлебнул воздуха, – Маринке своей квартиру купил, когда она замуж выходила. А че, если он тебя так любит, тебе не купил?
– Да потому что ты бы все пропил! – крикнула Анюта и зарыдала. Увидев ее слезы, Лешка прояснился лицом. – Ты и женился на мне, надеялся, тебе что-то перепадет!
– Че мне перепадет от твоих родственников-крохоборов? Они тебя даже на Кипр с собой никогда не брали. Че, забыла, как они тебя бабушке оставляли, сами с Маринкой ехали? Забыла, да? Сама ко мне прибежала – Лешка, женись на мне, не могу с ними. Че, не было? Че, выкусила, да? Выкусила? – Лешка еще раз показал Анюте фиг, из которого сильно высовывался большой напряженный палец.
– Уйду я, если так, – проскулила Анюта.
– Уебывай на хуй! – Лешка потер руками виски и захохотал – высоко, истерично. – Че расселась тогда? Уебывай давай к своему папе Пете! Пошла вон! Давай, вали отсюда.
– И уйду! – взвизгнула Аня, не вставая с дивана.
– Сына… – женщина метнула взгляд на Лешку и снова опустила голову. – Сына, тут кафе через дорогу. Я уже договорилась, сына, туда меня берут – посудомойкой. Я – еще рабочая, сына…
– Ма, ты че? – задохнулся Лешка. – Ма, ты че сразу – через дорогу? Ты че, ма, отдыхай. Ты че сразу – рабочая? У нас все есть…
– Ты в жизни никогда не работал! Что у тебя есть? – крикнула Анюта.
– Пасть закрой! Задохнись, сказал! Работная, бля…
Анюта замолчала.
– Че, деньги где? – спросил Лешка, почему-то успокоившись.
– Какие деньги?
– В магазин, сказал, пойду! Деньги где?!
– Вчера четыре бутылки пива я на что купила?!
– Ты че, бля, все мои деньги потратила?!
– Сына, сына… – женщина засуетилась, поднимаясь из узкого кресла. – Сына, деньги есть…
Она встала и, прижимаясь икрами к креслу, сунула руку через горловину в лифчик. Вынула прелую пачку пятисотрублевок, сложенных вдвое.
– Деньги есть, сына… – она взяла из пачки сверху две бумажки – самые потные – и протянула их Лешке.
Лешка смотрел на деньги, не трогаясь с места.
– Не надо… – вяло сказал он.
– Бери, сына. Я ж для вас копила.
Лешка приблизился и, не глядя женщине в лицо, взял деньги.
– В магазин пойду, – тихо сказал он.
Вышел из комнаты, недолго возился с обувью. Входная дверь открылась и закрылась. Аня смотрела вбок – на желтые ромбы. Свет из окна вышибал из них золотистый оттенок, хотя никакой золотой краски на обоях не было. Женщина сделала глубокий вдох, на полпути судорожно его прервала, словно испугавшись, что нарушает чужую тишину. Повернулась к Анюте задом, ссутулилась и пошла на кухню. Оттуда донеслась струя из крана и звон посуды.
– Если б ты, сына, знал, какую твоя мать жизнь прожила, ты б меня сейчас не стал попрекать…
– Ма, да я ж тебя не попрекаю. Я ж слова не сказал.
На кухне повисло недолгое молчание, звякнувшее в конце бутылками. Аня по-прежнему сидела на диване и прислушивалась.
– Давай выпьем, мам… За встречу, – послышался голос Лешки.
Они сидели на кухне за столом, с которого, пока Лешка был в магазине, мать убрала грязную посуду. Лешка – на табурете, скособочившись, подобрав одну ногу. На мать не смотрел. Говорил, глядя поверх бутылки и только иногда бросая косые взгляды исподлобья. Мать тоже не поднимала на Лешку глаз, не смотрела открыто ему в лицо. Она смотрела на только что протертую клеенчатую скатерть, на которой еще высыхали тонкие разводы воды. Камень, который лежал у нее на спине, как будто не давал поднять голову. Но когда она бросала на сына такие же быстрые взгляды исподлобья, то вся застывала, как будто от внезапной и незнакомой боли в спине.
– Барон-то меня выгнал, с этого все и началось, – снова заговорила мать.
– Какой барон, мам? – спросил Лешка.
– Ихний барон, с этого же и началось, говорю. Я ж пять лет у цыган прожила…
– В таборе? – Лешка поставил рюмку и бросил в мать короткий взгляд.
– Да ты что? Какой табор? В доме. В общем, там, неважно, – мать махнула рукой и отпила из рюмки, опустила голову, подперла ее рукой и закачала, будто причитая про себя беззвучно. – В семье его домработницей. А потом он меня погнал – барон-то. Там история получилась такая… неприглядная, – она подняла голову, скривилась.
– Ма, ты че, не плачь, – сказал Лешка.
– А куда мне идти, сына, как не к сыну родному…
– Правильно сделала, мам, что пришла, – сказал Лешка басцом.
Женщина тихо заголосила.
Аня отвела длинные пряди темных волос за уши. Щеки у нее горели.
– Так ты уж меня не гони, сына… – сказала женщина, перестав скулить.
– Ты че, мам, ты че вообще такие вещи говоришь… Правильно сделала, что пришла. К кому тебе еще идти, ма…
Мать выпила еще, и Лешка подлил ей в опустевшую рюмку. И она снова выпила, запрокинув голову. Пила она водку с каким-то смирением, с видом каким-то – раз налили, надо испить.
– Я ж тогда еще к бабке ходила, сына… Когда беременная тобой была, – слово «беременная» мать произнесла тихо, вскользь, как будто не хотела, чтобы его было слышно. Как будто слово было лишним. И получилось оно у нее съеденным и неполноценным – «бременная». – Матери своей я сильно боялась. Хотела на аборт пойти. Но до консультации не дошла, к бабке сходила – она на воду смотрит. Она в миску с водой посмотрела и сразу говорит… А там еще такая рябь по воде пошла, как бы молочная… – мать провела по воздуху толстой рукой. – И говорит: «Вижу. Сын у тебя будет. Родишь. Не можешь прокормить, оставь кому-нибудь. А через тридцать лет он сам тебя найдет. Бизнесменом будет. Найдет тебя и озолотит», – мать улыбнулась, из самого уголка растянутых губ выглянула тусклая золотая коронка. Она, словно луч света, упавший на старый медный поднос, подсветила коричневую желтизну материнской кожи, которая, судя по Лешкиной бледной груди, от природы смуглой не была.
– Ты че, мам, какой из меня бизнесмен? – проговорил он, двигая кадыком, словно желая проглотить каждое слово.
– А никто не знает! – мать впервые повысила голос, и слова ее очень хорошо дошли через стену. – А никто не знает, сына, кем ты еще станешь. Я ж тебя в восемьдесят девятом родила. Я посчитала, что к две тысячи девятнадцатому ты станешь бизнесменом.
– Ты че, мам? У меня же образования нет… – сказал Лешка, косо глядя в стену. А женщина теперь смотрела на него, сверлила его прямо глазами, и вид у ней был, как у торговки, которую хотят обмануть.
– А ты верь, сына, – она потянулась к сыну рукой, но, дойдя до Лешкиной рюмки, остановилась и положила руку на стол, а по столу прошло дребезжание бутылок – уже не слабое, не просительное, но как бы говорящее: «Не трогай. Мое».
Лешка посмотрел на материнскую руку – широкую, смуглую. На кольцо, впившееся в материн палец – некрасивое, с тусклой овальной серединой. Поднял глаза к ее шее, где в складках пряталась тонкая цепочка. Женщина оторвала зад от табурета, навалилась на стол обеими руками, отчего у нее на запястье вздулись рыхлые вены, пристально посмотрела Лешке в лицо. Смотрела долго, сощурившись и с усмешкой мотая головой, будто говоря: «Кого ты хочешь обмануть?» Лешка задвигал кадыком, сглотнул. Сглотнул еще раз. Мать оторвала руки от стола, взяла бутылку за пузо и налила – сначала Лешке, потом себе.
– Сглотни, сына, – сказала она. – Я же слова этой бабки двадцать три года с собой проносила. Чего только я не пережила, сына. Рассказать тебе – нет, пожалею тебя. Не знай, не знай, какую твоя мать жизнь несправедливую прожила. Не буду я этот камень на тебя вешать. Сама понесу. А я же, как жизнь совсем прижмет, притиснет к краю, сразу бабкины слова вспоминала – сын мой станет бизнесменом, сам меня найдет. И так сразу – тю-ю-ю… – она снова провела рукой гладко по воздуху, – сразу все, что всколыхнулось, успокоится. В норму придет. И я снова готова терпеть. Терпеть и ждать… А потом думаю – чего ждать? Тридцать лет – срок. А я ж не знаю, сына, сколько мне еще осталась.
– Ты че, мам? Ты еще молодая, – пробубнил Лешка.
Они помолчали. Мать отпила еще. Лешка выпил за ней следом. Поджав губы, мать покрутила рюмку в пальцах, глядя в нее так, словно в остатках водки читала всю свою жизнь.
– А то, что я тебя тогда в подъезде оставила, так это я тебе добра желала, – давящим шепотом заговорила она. – Дома-то вот ни кусочка ничего не было, – она отмерила большим пальцем кончик указательного. – А ты еще спасибо мне скажи, что аборт не сделала. Я ж тебя убить могла, а не убила…
Она смотрела на Лешку сощурившись, почти с вызовом. Лешка всхлипнул и порывисто крутанулся на табурете к стене, взломав локти над головой, обхватив теплыми ладонями затылок, как будто построив над собой прочную крышу.
– Ой, сыночка, – запричитала женщина, – ты только не плачь, только бы слезок мне твоих не видеть.
Она встала и твердым шагом, от которого заскрипел линолеум, пошла к Лешке. Со словами «Дай я тебя приголублю» схватила Лешкину голову растопыренными пальцами, как берут вазу с водой, и прижала к своему животу. Лешкина голова провалилась в мягкий живот, отодвигая собой материны внутренние органы, и заняла там место, как будто давно приготовленное для него и подходящее по размеру тютелька в тютельку, словно заранее с его головы были сняты мерки.
Анюта подскочила, но осталась сидеть на диване. И уши ее, и щеки горели, пока она слушала всхлипы, доносящиеся из кухни.
Вжимая в себя голову сына, женщина стояла, будто изваянная из меди, с высоко поднятой головой. А Лешка слушал материно дыхание, дышал ее животом – кислым и мягким. Сначала он сдерживал всхлипы, потом перестал.
– А то, что я тебя оставила тогда, так ты никого не слушай, сына, – заговорила она, из уголков ее глаз вышли две слезы, недостаточно крупные, чтобы скатиться по щеке. Слезы застряли в морщинах у глаз. Мать вытерла нос тыльной стороной ладони, шмыгнула. – Ты еще не знаешь, сына, какие матери бывают. На холоде детей бросают. Убивают, душат. А я же, сына, как тебе полтора годика исполнилось, пособие на тебя перестала получить. Пошла в кассу, последнее получила и в тот же день от безысходности отвела тебя в тот подъезд. Как сегодня помню, – она запрокинула голову, продолжая держать Лешку за виски. Улыбнулась, приветствуя какое-то видение из далекого прошлого. – Помнишь, голубая курточка на тебе была и коричневые штанишки, – полузакрыв глаза, она качала головой и улыбалась горько-сладкой улыбкой. – Не помнишь? А я помню, сына, еще как помню. Сколько дней и ночей потом мне слезы глаза застилали, и ты маленький в этой курточке все… маячил. А я не сразу ушла, сына. Я ж спряталась там под лестницей, подождала. А ты стоишь, маленький такой, и плачешь беззвучно…
Плечи Лешки напряглись – он насильно прервал всхлип. Открыв рот, он дышал запахом матери – сначала кислым на поверхности, а потом каким-то другим – глубоким, желтым, похожим на аромат моченых яблок. Он хотел отстранить голову, вытащить ее из живота, но мать погладила его по волосам, и по хребту Лешки прошла дрожащая волна.
– Тю-у-у, – потянул он.
– А то, что тебе будут говорить, так ты не слушай, – снова заговорила мать. – Осень была, тепло еще было, и подъезд я выбрала теплый на кодовом замке… Сколько раз меня, сына, жизнь припирала. Столько всего я в этой жизни перенесла, что ни одна святая, может быть, такого не испытывала. Но я, как за ниточку, за тебя держалась. Как за ниточку путеводную. А потом, как эта история с цыганами вышла, так я…
До Лешки голос матери доходил из глубины и темноты, будто это органы ее говорили. Слова шмякались в живот, как куски горячего сала.
– А ты никого не слушай, сына, – сказала мать. – Пусть они языками своими говорят, а ты одно знай – не было такого, чтоб я, мать родная сыну родному… чтоб судить меня. Вот такая вот моя исповедь перед тобой. А те, кто судят, пусть они сначала вовнутрь себя заглянут. А ты суди меня, сына, ты суди, потому что виновата я перед тобой. Бог простит, и ты прости.
– Я ж это… ма, я ж тоже ждал тебя, – проговорил Лешка слюняво и глухо, и губы его всосали ткань материнской футболки, а когда она отняла голову сына от себя, на ее животе остались мокрые разводы.
Анюта решительно встала с дивана, вдела ноги в шерстяные тапки и пошла в кухню, ступая твердо и шумно, словно собиралась на скандал.
– А вот и Анюта пришла, – мать обернулась на Анюту. – Садись, садись, – заворковала она, выдвигая из-под стола еще одну табуретку и как бы приглашая Аню.
Анюта села. Мать пододвинула к ней полную рюмку. Анюта взяла рюмку, опрокинула и потянулась еще за бутылкой, воровато поглядывая на мать.
– Еще? – хлебно спросила та. – Так давай я тебе, Анюточка, сейчас налью. Давай поухаживаю за тобой.
Мать спала на диване. Лешка тоже – в кухне на дерматиновом уголке.
Мутными глазами Анюта обвела стол. На тарелке – остатки нарезанной колбасы и сыра с заветренными краями. Из-под тарелки торчало несколько сторублевок. Анюта потянулась за ними и спрятала в карман. Постояла еще, глядя на колбасу. Тихо жирно выругалась и сама вздрогнула, опустила глаза, сжалась, как если бы ее в этой кухне не было и сказала эти слова не она.
Из открытого рта Лешки повисла слюна. Анюта выпустила отрыжку, которая прошла рвотной волной по всей кухне.
– Вот че за человек такой? – тихо и с сожалением спросила она.
Свет падал выше Лешкиной головы. Его приоткрытый рот казался глубокой дыркой, и, глядя в ее темноту, можно было подумать, что Лешка пустой.
Анюта взяла пустую бутылку со стола. На дне еще болталась водка – пронзительно прозрачная. Аня потрясла бутылкой над рюмкой. Несколько капель упали на стекло, поползли резко, как живые. Она опрокинула рюмку на язык, и, чмокая, начала высасывать из него горечь.
Вышла из кухни. Остановилась у зеркала, висящего в коридоре. Оно смотрело в противоположную стену. Свет, идущий из кухни, растворялся в полумраке коридора. Анюта заглянула в темное зеркало, как в Лешкин рот. Высунула язык. На языке сидело коричневое пятно, казалось, оставленное теми словами, которые она только что произнесла.
Анюта тихо, стараясь не скрипеть полами, прошла в комнату. Взяла со стенной полки псалтырь и, не удержавшись, обернулась на мать. Та спала, коротко похрапывая и завалившись на бок. Бесформенный ее живот утек вниз. Прижав псалтирь к груди, Анюта сощурились и зашевелила беззвучно губами. Со стороны можно было подумать – она причитает или проклинает.
Анюта шла по улице Восьмого марта, по узкой кромке, отделявшей жилой дом от проезжей части. Мимо нее проносились машины, блестящие на солнце боками. Плечом она касалась шершавой штукатурки дома. От дома пахло тенью.
Большой зеленый супермаркет остался за спиной. Там же – вход в метро. И купол цирка – белый, ребристый, похожий на костяной остов большой рептилии.
Анюта шла и видела все – дома, людей и машины, но как бы на каком-то завихрении мысли переносилась в другое время – когда Аня была большой. Когда ногой могла попрать всю ширь пространства. Когда видела пространство выпуклым и многогранным. Когда в ней тяжелым яйцом билось большое сердце. Когда ноги были холодны, а голова – вертка. Когда вокруг была девственность. А Анюта была первой. Когда она была как бы младенцем с хвостом, чешуей и тонной мяса. И как бы ведала, что не повзрослеет никогда – потому что первые не стареют, ведь не знают, что жизнь кончается. Когда другие рептилии умирали вокруг, – но она не знала главного: что она – тоже рептилия. И потому умереть не боялась. И было это время, когда под ее тяжелой ногой дрожала земля. Когда твердокаменная голова поднималась на длинной шее, смотрела вдаль, но дали не было. Когда она видела свое отражение в озерах, блестящих на солнце водяными подносами, но не знала, что это – она. Когда она сама несла опасность. Тем, кто меньше нее. Когда ее саму окружала опасность – от тех, кто больше нее. Когда она не ведала жалости и никому не было жалко ее. Когда она, сотрясая ширь, убегала, нутром чуя: мир – это зло. А родивший его – не отец. Когда ведала, что мир есть добро, – глядя на тех, кого родила сама. Когда засыпала, не зная, что завтра будет. И каждое утро, просыпаясь, удивлялась, что она есть.
Пройдя Восьмое марта и поравнявшись с телебашней, Анюта сделала благостное лицо. Уже виднелись ворота Новотихвинского монастыря.
Время шло к закату.
От этого дня было чувство – время как бы вскользь по нему прошлось. Только он все равно еще не закончился. Но как бы чего теперь куда ни повернулось, все пойдет по-другому. Предчувствие какое-то в этом дне носилось. Неприятное.
По небу ползли скученные облака. И хотелось уйти с простора, забиться вглубь и ждать нового дня. Все вокруг было плоским и покатым, кроме белых башен Новотихвинского монастыря.
Калитка, вырезанная в цельном куске коричневого железа, была настежь открыта. Анюта остановилась в нескольких шагах от нее, перекрестилась и нагнулась, чтоб поклониться.
Нагнутая Анюта приподняла подбородок и посмотрела на лицо Христа над калиткой. В его позолоте мелькали первые признаки заката. И зачем-то Анюта стояла так, не распрямляясь, напрягая позвонки, с затвердевшим подбородком, без смирения, но с каменным горбом, точь-в-точь маленькая рептилия, не ведающая, чье лицо перед ней. Не ведающая, что у Бога есть Сын, а у Сына – Отец, просто смотрящая, чтоб по игре позолоты определить, когда солнце сядет.
И за калиткой монастыря все выглядело покатым – как будто с земли можно было скатиться. Во дворе, усаженном розами, на скамейках сидели женщины в платках с благостными лицами.
Анюта зашла в церковную лавку. Христос в серебряной раме на полке встретил ее бесстрастным взглядом. К нему была прикреплена бумажка: «Господь – 1200 рублей».
– На что я тебя куплю, ты думал? – сказала Анюта про себя, глядя строго ему в глаза.
Она наклонилась к стеклу, под которым лежали золотые и серебряные крестики и цепочки. И еще амфорка в виде кулона для ношения святой воды на груди. С яркой красной крышечкой.
– Мне одну свечку за двадцать и ладан, – сказала Анюта продавщице, придыхая.
Продавщица так легко и проворно подала Анюте длинную тонкую свечку и пакетик с ладаном, будто ее под руки держали порхающие благодатные силы. Лицо у нее было постным и безжизненным, словно в ее желудке давно не было ни жиринки.
Анюта расплатилась взятыми на кухне деньгами и вышла из лавки. Остановилась на верхней ступеньке, раскрыла пакетик с ладаном и высыпала несколько горошин себе на ладонь. Они были похожи на мертвые яйца. Пахли терпко и постно.
Прямо напротив ступенек за ажурным столиком сидели монахини в черных рясах и покрывалах. Скамейки из свежего лакированного дерева были взяты в черные металлические рамы с гнутыми ножками. Одна из монахинь сидела к Анюте лицом – сцепив руки на столе и подавшись головой вперед. Вокруг росли розы и даже небольшие фруктовые деревца.
Шум города если и перелетал через белую каменную ограду, то особо далеко не шел. На зеленой площадке, усаженной цветами, непонятным образом чувствовалась осень. И если вспомнить лицо Христа над калиткой, то и оно о том же говорило – об осени.
И все жужжало вокруг, звенело как бы траве. Монахини молчали. Из их пальцев змеями ползли черные ниточные четки. И казалось, что все эти жужжания, шорохи и звон воздуха исходят от них. Как будто журчало и звенело под рясами.
За спиной Анюты краснела кирпичная стена. Арочная дуга обнимала головки окна. Их было как бы три окна – в одном. Дуговое центральное стояло на двух полукруглых столбцах. К нему с боков жались окна пониже, тоже дуговые. Окно было похоже на складень, где посередине – Христос, а по бокам – Мария и Николай Чудотворец.
Оконные дуги шли ступенчато – тремя рядами кладки, спускавшейся вовнутрь, к деревянной раме. Рамы делились перекладинами на десять прямоугольных окошек, и сверху на них сидело еще одно – сферическое. В пыльных окошках отражались монастырский двор и небо.
И вдруг солнце брызнуло в стекла, напоследок выдавливая из себя золотой осадок, скопившейся за день. Анюта расслабила подбородок, ее губы мягко открылись, выпуская кисло-сладкое дыхание. Она смотрела в стекла, как в телевизор. В каждом стекле была своя картинка, хотя все они смотрели на одно. Картинка удлинялась в глубину, выпячивалась, оживляя в потустороннем пространстве золотой клен, растущий напротив кирпичной стены. И сразу стало понятно, что уже девятый час.
Монахиня, сидевшая лицом к Анюте, поднялась и отправилась по дорожке, перекатывая под рясой плотный зад. Анюта спустилась с лестницы и пошла за ней на расстоянии.
Они вошли в церковь, которая своей тишиной, приглушенностью, иконами и подсвечниками как бы говорила: в какую церковь ни войдешь, она всегда будет одной и той же.
Монахиня прошла к гробовому ларю на красном бархатном постаменте. Коснулась его лбом. Анюта подошла и тоже коснулась лбом ларя. Под затягивающим его стеклом на темной ткани лежали косточки, похожие на просмоленные курительные трубки.
Монахиня отошла к стене и приложилась к иконе святого – с головой коричневой и треснутой, будто печеная картошка. Анюта потянулась за монахиней, все заглядывая ей в лицо, но не поворачивалась и держалась в тени.
Монахиня молилась. Анюта безмолвно стояла у нее за спиной. Наконец, та подошла к иконе Николая Чудотворца, под которой стояла застекленная деревянная шкатулка. Анюта пошла за ней. Приложившись к шкатулке, та повернулась и встала перед Анютой. Ее лоб был усыпан гнойными прыщиками. Анюта отстранилась от нее.
– Одна монахиня старенькая в Масленицу захотела поесть блинчиков, – ни с того ни с сего заговорила монахиня сильным молодым голосом. – Время было советское. Скудность. Блинов ей никто испечь не мог. Она по привычке начала молиться о блинах Иоанну Крестителю, покровителю монашества. Иоанн Креститель явился к ней во сне и говорит: «Что ты меня о блинах просишь? Я же в пустыне жил. Как блинчики выглядят, даже не знаю. Ты лучше Николая Чудотворца попроси. Он все время вас утешает и балует». А через несколько минут стук в дверь, – улыбнулась монахиня. – Пришла соседка с блинами. Говорит: «Блины пекла. И вдруг мысль так настойчиво – надо матушке отнести».
Анюта подошла к шкатулке. За стеклом лежала одинокая косточка, неотличимая от сгнившего корешка. Анюта поцеловала уголок стекла, не задевая середины, потому что посередине лоб монахини оставил жирный отпечаток, круглый, как блин.
Монахиня развернулась и подошла к иконе, за которой начиналась солея. Анюта двинулась за ней.
Икона стояла на деревянной подставке. Над ней на цепях висела круглая двухъярусная люстра с лампадками – красными, зелеными, синими, словно драгоценности в золотой короне.
Взглянув на икону, Анюта сильно вздрогнула.
Написанная краской женщина в монашеском платье как бы зависала в воздухе над монастырем с белыми башнями и зелеными куполами. И непонятно было – то ли женщина такая большая, то ли монастырь маленький. У нее было молодое лицо и брови темные, как у Анюты. Кожа смуглая, как у Анюты. В руке она держала длинную свечу. Анюта тоже держала такую. Щеки у нее были набухшие и румяные. Подбородок – острый. А во лбу, прикрытом черным покрывалом, горела точечка красная, издалека на яблоко похожая. И вся она – в целом если смотреть – пугала и отталкивала. Особенно ноги пугали – торчащие из-под подола острыми носками черных ботинок. Пугали тем, что упирались в воздух властно и торжествующе, и пощады быть не могло.
– Кто это? – шепотом спросила она монахиню.
– Божья Матерь в одеянии игуменьи, – ответила та, и ее голос раскатился во всю ширь. – Сестры ее писали с другой иконы. А когда ту икону вынули из оклада, увидели, что образ Богородицы на стекле отпечатался – лоб, нос, губы.
Монахиня перекрестилась.
Свеча в Анютиных пальцах нагрелась и согнулась, словно была живой. У Анюты в голове случилось завихрение, и ей захотелось сорваться с места, выбежать на солею и там потоптаться, попрыгать перед царскими вратами.
Богородица с иконы на свечу смотрела, будто знала, зачем Анюта пришла и о чем попросить хочет. Будто знала, зачем все приходят.
Желание выбежать на солею в Анюте окрепло. Даже в лицах святых виделись ей сообщники, которые не подначивали, но ждали. И Богородица в платье игуменском как бы тоже специально сюда прилетела и над монастырем повисла, чтобы посмотреть, как Анюта будет прыгать. Не потому, что им всем нравилось или хотелось, чтобы Анюта запрыгала на солее, а просто потому, что так должно было быть.
Монахиня снова перекрестилась, и Анюта за ней – через силу, будто не сложенными пальцами к себе прикасалась, а иголки втыкала. Заплакала и отошла к Христу – распятому на кресте и принимающему молитвы за мертвых. В квадратном подсвечнике со множеством лунок не горела ни одна свеча.
– Умер кто? – спокойно спросила монахиня.
– Да, – всхлипнула Анюта.
Монахиня коротко кивнула, опустила голову. Заспешила из храма.
Анюта осталась одна. Она хватала мягкими губами церковный сладковатый воздух. Ребра Христа натягивались под кожей. Чем-то похожие на белый каркас цирка. Анюта разрыдалась.
– За что они тебя? За что? – спросила сквозь всхлипы.
Успокоившись, она глубоко вздохнула, словно поняла – все правильно было. Она подняла руку, судорожно перекрестилась. Распрямила свечу. Поднесла головкой к лампаде. Кончик белой нити радостно загорелся. Анюта воткнула свечу в пустую лунку – поближе к Христу – и прошептала:
– Прими, Господи, душу рабы твоей Лешкиной матери, свекрови моей. И упокой.
Монастырский двор потемнел и опустел. Только все та же монахиня стояла у маленького деревца – яблоневого. Читала из черной книжицы, которую держала в руках перед собой. Казалось, она молится деревцу, – из-за того, что она странно голову держала – почти прямо, не сгибая шею, а книгу ни разу выше не подняла, чтоб глазам помочь.
Черное покрывало иногда поднималось за ее спиной от ветра и мягко хлопало концами. Казалось, когда темнота совсем зачернеет, а ветер подует сильней, монахиню поднимут бесовские силы. Она хлопнет черными крыльями, подлетит вверх и повиснет над бело-зеленым монастырем.
Анюта спустилась с лесенки, пошла по дорожке мимо скамеек. Они тоже были пусты. Дошла до закрытой калитки и загадала:
– Если калитка заперта на замок, меня без наказания не отпустят.
Она спокойно толкнула калитку, и та открылась без скрипа.
Шелковая простыня съехала, и Анюта ворочалась на голом матрасе. Она то садилась и растирала холодные ступни, то снова ложилась.
Анюта перевернулась на живот, закряхтела. Укутала ноги одеялом. По всей ноге тянуло жилу, которая начиналась в животе, а заканчивалась в ступнях.
Встала и на согнутых ногах пошла в ванную.
Электрический свет с потолка грел кафель розовым теплом. Глянцевая ванна ослепляла белым. Анюта подставила руку под кран. Из крана потекла горячая вода. Анюта убрала руку, и вода прекратилась.
В белом шкафчике за стеклом кремы и лосьоны блестели золотыми головками. Из теплого зеркала на Анюту ласково и с состраданием смотрели ее же глаза. Она поморщилась, открыла рот в беззвучном стоне и отвернулась переждать судорогу.
Она пустила в ванну горячую воду. Струя вспенилась, ударившись о гладкое дно. Анюта залезла в ванну и стояла, пока вода размягчала и согревала ее маленькие стопы. Анюта села, заткнула отверстие в ванне прозрачной пробкой на золотой цепочке. И сидела, обнимая себя за плечи и раскачиваясь, пока вода не дошла до груди. Выключила воду. Тишина сделалась очевидной. Такой, какая бывает в квартирах, где живут семьями, и тишину всегда сопровождает ожидание – скоро кто-то придет.
Анюта поплакала. Зачерпнула пригоршню воды и умыла лицо. Ее длинные волосы расползлись по воде и сначала лежали на ее поверхности, потом намокли и упали, прилипнув к спине.
Анюта вдруг вскочила, подняв брызги воды, плеснувшие через бортик. На трясущихся ногах вышла из ванной. Сделала шаг к унитазу. Откинула крышку, плюхнулась на него скользким телом.
Натужилась. Закряхтела. Замерла. Выдохнула. Закрыла лицо руками и натужилась еще раз. Из заднего прохода с тихим свистом вышел вихрящийся воздух. Анюта еще посидела. Встала. Оторвала кусочек туалетной бумаги. Сунула ее между ног.
– Ай! – она отдернула руку, наткнувшуюся на что-то мягкое и теплое. Ее ноги, обхватывающие гладкие стенки унитаза, задрожали.
– Мамочки… – выдохнула она, глядя в наполненную ванну так, словно на ее дне лежал покойник.
Потрогала пальцами то, что висело между ног. За секунды оно успело похолодеть.
– Мамочки… что это? – прошептала Анюта.
Сделала глубокий вдох, задержала дыхание и потянула несильно. Оно на чем-то держалось. Она пошла по нему пальцами вверх, нащупала влажную нитку, идущую из промежности. Обхватила ее клочком туалетной бумаги, надула ноздри, сделала решительное лицо и дернула. Подставила другую руку и поймала оторванное. Выдохнула.
Что-то мягко опустилось на ладонь и как бы обняло ее. Анюта подняла руку, чтобы посмотреть. На ладони лежало уродливое, похожее на внутренний орган. Студенистое, как желе, сваренное из крови.
Анюта брезгливо дернулась. Обвела глазами чистую ванную. Глянцевый кафель на полу. Белые полочки. Гладкие бортики ванны. Все сияло чистотой.
Она отстранилась от унитаза. По его стенкам растекалась свежая кровь. Анюта занесла руку над унитазом. Накренила ее. Оно не падало, успев присосаться к ладони. Накренила сильней. Встряхнула.
Оно упало в темную воду. Дрожащей рукой Анюта потянулась к кнопке смыва и, пристально глядя внутрь слива, нажала.
Вода вырвалась из бачка с напором, вспенилась, на миг приподнимая выброшенное. Оно приблизилось, и Анюта его снова увидела. Унитаз заревел, глотая. Вода бросилась в слив.
Анюта поднесла к лицу покрасневшую от крови ладонь. Сунула ее под кран.
Унитазный бачок журчал, наполняясь водой.
– Мать где? – Яга подобрала ноги и воткнула подбородок между колен.
– В бане, – точечными движениями Светка оттирала фосфорные пятна со стола.
– Давно? – спросила Яга.
– Уже час как ушла, – Светка покосилась на часы над дверью.
– Че-то долго, – сказала Яга. – Олег больше не приходил?
– Нет.
– Сама к нему сходи, – сказала Яга проникновенно.
Светка перестала тереть. Яга, оттянув уголки рта, продолжала критически изучать пальцы ног.
– Зачем мне к нему ходить? – спросила Светка. – Между нами все кончено.
– Иди, блядь, к Олегу. К Олегу иди, – через нос заныла Яга.
– Че ты меня к нему тойкаешь? Вот че ты меня тойкаешь?
Яга подняла на Светку узкие голубые щелки, раздула ноздри, сжала губы зло.
– Тебе же лучше будет, – сказала почти с угрозой.
– Он меня избий! – крикнула Светка, опершись рукой на тряпку, прижатую к столу. – Избий!
– Слова правильно говори! – прикрикнула Яга. – Ты че такая тупая, блядь? Сейчас мать услышит, догадается, что ты опять вмазывалась. Ты о матери подумала?!
– Ты сама когда о матери думайа? – Светка тоже повысила голос. – Раньше надо быйо о матери думать!
– Я всегда, блядь, думала! – Яга опустила ноги. – Вот так, блядь, всю жизнь тут просидела в этом, блядь, курятнике, замуж, блядь, ни хуя не вышла, только, блядь, о матери и думала.
– Кто тебя держай? Вечно на мать свои неудачи списываешь.
– А кто мне говорил: за этого не выходи, он – нищий?! За того не выходи – нищий?! Че-то Валерка сейчас на «Шевроле Крузе» ездит. А я тут, блядь, сижу, потому что мать слушала. И нахуй я теперь Валерке не нужна. На улице встретит, не узнает. Как опустилась я! Еб вашу мать. Докатилась, бля, до этих таблеток позорных! Вообще, блядь!
Светка подошла к раковине, включила воду, прополоскала тряпку под струей, хорошенько выжала ее двумя руками и вернулась к столу. Яга наблюдала за ее движениями тяжелым тупым взглядом, как за мухой, ползающей по столу.
– Че, ты пойдешь к Олегу или нет? – низким голосом спросила она.
– Ийи нет! – голос Светки прошила истеричная нота.
– А че ты, блядь, делать будешь, если к Олегу не пойдешь? – растягивая слова, с интересом спросила Яга.
– Я все знаю, зачем ты меня к Ойегу гонишь! – визгнула Светка.
– Ну че, блядь, если ты такая всезнайка, скажи мне тоже. Удиви меня, блядь.
– Есйи б мать умейа, ты бы тойко рада быйа! Меня к Ойегу спихнешь, мать – в могийу, а сама тут хозяйка, со своим Ванькой, да?
– Ты базар свой отключи нафиг!
– За дурочку меня держишь! Думаешь, я ничего не понимаю?
– Иди работай, если понимаешь!
– Оставь меня в покое. Не бойся, мне ничего от тебя не надо.
– А че ты такая, если не надо, сегодня вставлялась?
– Больше не попрошу, себе оставь.
– Кто тебе даст, даже если попросишь?
– А кто возьмет?
– Я посмотрю, как ты не возьмешь.
– Посмотри, посмотри.
– Я посмотрю.
– Давай смотри.
– Че ты самая борзая стала, да? Че распелась? Мать дома, осмелела? Овца тупорылая.
– Сама ты овца.
– Я тебе за овцу пасть порву.
– Давай.
– Сейчас дам.
– Ну, давай. Че ты пугаешь. Давай.
– Сказала, сейчас дам. Сейчас так, блядь, дам. Полетишь, блядь, отсюда верх тормашками, полетишь.
– Ну, давай.
– Ов-ца. Веди себя по-человечески. Ты слышишь, овца?
Яга бубнила, сидя на табуретке, злыми глазами прилипнув к Светкиному животу. Светка терла стол нервно, короткими штрихами.
– Я – не овца! – Светка вдруг выпрямилась и кинула в Ягу тряпкой.
Попала ей в лицо. Яга лениво дернулась. Застыла, тупо глядя на Светку, и, казалось, раздумывая, отрываться ей от табурета или нет. Светка часто моргала, ее пустые красные руки прижимались к плоскому животу.
Поднимаясь, Яга медленно загребла рукой назад. И хотя двигалась медленно, ее движения с такой силой рассекали воздух, что злости в них и энергии было больше, чем в резком прыжке. Светка отступила на шаг. Яга толкнула ее в плоскую грудь. Светка качнулась.
– Ты че? – крикнула она и ткнула Ягу в ответ.
Яга ударила Светку в живот – прямыми твердыми пальцами. Светка визгнула и вцепилась Яге в волосы. Яга мотнула головой, сбрасывая Светкины пальцы, ухватила хвост на ее затылке, дернула, словно хотела оторвать Светке голову, а потом запустила обе руки в волосы на ее висках.
Светка упала спиной на стол, выгнулась. Яга навалилась на нее. Светка подняла коленку и ударила Ягу в твердый живот. Яга шумно выдохнула, сопя, приподняла Светкину голову и опустила ее на стол с глухим стуком.
– Мамочка! – Светка влажной теплой ладонью оттолкнула лицо Яги от себя.
На нем проступило противное, злое, почти мужское выражение. Яга раздувала ноздри, на подбородке под кожей проступила железная шишка. Яга сопела. Светка шлепала ее по лицу. Яга мотала головой, отбрасывая влажные шлепки. Ее пружинистые волосы рассыпались.
– Овца, бля, – выдохнула Яга и схватила Светку за шею.
Светка шмыгнула носом и закричала:
– Пусти!
Яга засопела громче, злоба с лица ушла, уступив место интересу. Светка снова закричала. А Яга только приникла к ней ближе, давя руками сильнее, словно хотела поскорее закончить дело, которое началось, когда она не по своей воле встала с табуретки.
Светка гибко изогнулась. Оскалилась, натянув тонкие губы над желтоватыми зубами, и впилась Яге в руку, почти у сгиба, там, где мясо было рыхлым, как вата. Прикусила.
– Блядь! – взвизгнула Яга и сбросила Светку на пол. На толстой коже Яги проступил зубатый круг.
Светка, скрючившись, дергала одной ногой и собакой скалилась на Ягу. Яга обошла Светку, прицеливаясь.
– Мама… – заскулила Светка.
Дверь открылась, и на пороге встала распаренная мать с красными пятнами на щеках. Тонкие кольца мокрых волос с затылка липли ей шею. Запахло водой из кадушки и березовым веником. Яга обернулась.
– Марина… Марина, – мать позвала с надрывом, будто они были в лесу – ломали березы, а Яга заблудилась, но отошла недалеко, и материн голос ей был еще слышен.
– Она первая начала, – моргнула Яга и спрятала от матери лицо. – Она тряпкой в меня вообще кинула. Я тут сидела, никого не трогала. Вообще…
Светка заплакала громко, задыхаясь.
– Доченька, – сказала мать и повторила снова издалека: – До… чень… ка…
Яга лежала вытянувшись, задевая ступнями спинку узкой кровати. В комнате было темно. У соседей через двор свет уже не горел. От обоев, которые при свете дня были голубыми, отходила синеватая дымка.
На кровати, стоящей у другой стены, скрючилась Светка. Яга могла протянуть руку и дотронуться до ее ног.
По дороге за домом проехала машина. Судя по звуку, прошла медленно и осторожно – то ли объезжала лужу, то ли водитель полуспал. Свет фар прошел по стене, высветив звезды, наклеенные поверх обоев. Яга проследила за ним глазами: свет двигался медленно и вязко, потом оборвался.
– Светка… – позвала Яга негромко.
Светка не пошевелилась.
– Свет… – снова позвала Яга.
– Че? – грубо отозвалась Светка.
– Замуж тебе надо выйти, вот че, – сказала Яга примирительно.
– Ага, – хрипло отозвалась Светка. – Кому я нужна?
– Слышь че, – Яга приподнялась на локте и уставилась на Светкину спину. – Слышь че, тебе в порядок надо себя привести.
– Чтоб в порядок себя привести, деньги нужны, – огрызнулась Светка.
– Че ты, Свет? – хрипло заворковала Яга. – У тебя же внешность, как у модели.
– А сколько мне лет, ты забыла?
– Теть Анина дочка в тридцать один замуж вышла. Ты видела, на какой машине ее муж возит?
– Ты откуда видела?
– Я, короче, возле «Гринвича» стояла, они за продуктами такие подъехали, – зачастила Яга горячим шепотом. – Меня, короче, не узнали, мимо прошли.
– Мать говорила, они еще на Кипр отдыхать ездили, – отозвалась Светка, тоном давая понять, что ввязывается в разговор.
Они помолчали. Яга смотрела на звезды и улыбалась.
– Свет… – позвала Яга.
– Че? – отозвалась Светка.
– А я ж на море ни разу не была, – мечтательно сказала Яга.
– А-то я была.
– Может, поедем, Свет?
– На какие шиши? – грубо спросила Светка, и Яга замолчала.
Яга смотрела, смотрела на звезды, наконечники которых временами поблескивали, хотя за окном не горело ни одного фонаря, и небо тоже было темным.
– Только знаешь че, Свет? – снова заговорила она. – Я ночью на море купаться не пойду. Ночью вода страшная. Еще утянет кто-нибудь за ногу. Боюсь я…
Светка промолчала.
– Свет… – с мягкой хрипотцой позвала Яга и подождала. – Свет…
– Ну че еще?
– А я ж решила… – сказала Яга и снова подождала, глядя на Светкину спину и по ней проверяя эффект, произведенный словами.
– Ну че ты решила? – не выдержала Светка.
– Короче, я обратно на заправку пойду работать…
– Кто тебя возьмет? – Светка усмехнулась в стену.
– Ты че, дура, что ли? – забасила Яга. – Фадик ко мне вчера такой, короче, подходит, говорит: «Про тебя Глеб Борисович спрашивал». Я же там какие продажи делала. Я же этот… дипломированный сотрудник.
– Че ты этому Фадику веришь? Он же сам на тебя стукнул, что ты на работе вмазываешься, – сказала Светка.
– Свет, ты че, блядь! – обиженно сказала Яга. – Я тебе говорю, Глеб Борисович спрашивал про меня. Делюсь с тобой. А ты мне – бу-бу, бу-бу. Я че, сама не знаю про Фадика все?
Светка замолчала. А Яга, приподнявшись на локте, тянула шею и смотрела обиженно.
– И ты пойдешь? – наконец спросила Светка.
– Пойду, – кивнула Яга.
– Когда пойдешь?
– Завтра, как встану, так и пойду.
– Че, правда, что ли? – Светка повернулась к Яге.
Яга надувала щеки и одновременно улыбалась. Темнота замазывала одутловатости на ее лице, складки на длинной шее. Темнота как будто расчесала и уложила патлатые волосы Яги.
– Конечно, правда, – ответила Яга. – Помнишь, я еще за два дня восемь тысяч сделала.
– Помню, – отозвалась Светка.
– Еще сумку за семь пятьсот купила себе, помнишь?
– Помню.
– В «Заре». Потом еще на нее скидки были.
– У Алинки такая же.
– Че за Алинка?
– Олега двоюродная сестра.
– Да мы себе таких сумок купим – ни одна Алинка с нами рядом не стояла… Свет?
– Че?
– Я тебе сумку куплю.
– Че, правда, что ли?
– Оденем тебя, Свет. Че всякие лохушки лучше нас одеваются. У нас от природы фигуры. Нам повезло, Свет.
– Да, – сказала Светка.
– Жилетку кожаную тебе купим. Ты же хотела жилетку кожаную, – сказала Яга.
– Это когда было – сто лет назад. Сейчас жилетки не в моде.
– Мы тебе то, что в моде, купим. И телефон.
– Сенсорный?
– А какой еще?! Сенсорный, конечно…
– Еще я видела на одной такую юбку типа брюки широкую. Ее с майкой надо носить.
– Короче, мы тебе купим такую юбку. Еще знаешь че сделаем?
– Че?
– На море поедем. В Турцию. Или в Сочи.
– Лучше в Турцию. Там иностранцев много. Замуж можно выйти.
– Короче, в Турцию поедем, – согласилась Яга. – Я еще в одном журнале смотрела, там можно это… как его… бля-я-ядь, слово забыла… А, во, бунгало целое можно снять.
– А ты правда пойдешь завтра на заправку?
– Ты че, Свет? Я же сказала. Я еще Фадику сказала – короче, ждите меня, я приду.
– С утра пойдешь?
– С утра, как встану, пойду.
Светка улыбалась. Яга смотрела на нее и улыбалась тоже.
Яга щупала мясо – плечи, локти, бока, ноги. Оно слоилось, отделялось от костей и болело, как разодранная скотина на прилавке. Болело не на руках, ногах и плечах, а в красной точке в голове, укрытой жирным мозгом.
Яга поковыряла лоб. Двинула ногой и заковыляла в сторону заправки.
Дождь пошел мелкий – капли с иголочную головку. Все та же черная лужа не рябилась, не вздрагивала и скорее сама сотрясала сброшенные с неба капли, чем сотрясалась ими. Яга ковыляла по вспаханной машинами дороге без асфальта. От волос, усыпанных нелопнувшими каплями, запахло перхотью.
Одна нога хорошо гнулась, а другую, прямую как палка, Яга с трудом отрывала от земли.
В конце улицы Яга свернула влево на асфальт и пошла – руки в карманы. На запястье у нее болтался потертый пакет с нарисованными желто-красными розами и надписью «Райский сад». Мимо проносились машины, но асфальт еще не был мокрым. Яга приостановилась, потому что отчетливо увидела, как мелкие, с иголочную головку капли проходят по черным затвердевшим лабиринтам желобков асфальта, спотыкаются, растекаются, разбиваются, но какие-то, может, доходят целыми до земли. А закатанная земля чмокает, влажно всасывает. Яга замерла на пустом тротуаре, засосала воздух, зачмокала. А потом стала скрести руку ногтями, как будто сдирая с себя что-то твердое. На руке появились царапины. Яга встряхнула рукой и даже отступила, словно боясь испачкать ноги тем, что могло посыпаться с руки.
Уже было слышно, как дождь барабанит по гладкой крыше заправки. Мелкие капли стали крупными. На темени у Яги, в непромокаемых волосах собралось озеро. Она подняла руку, тронула макушку, и озеро заструилось по шее, за воротник.
Возле самой заправки Яга замедлила шаг. Заправка была большой и такой блестящей, что ее бликующая серым крыша даже без солнца отражала дождливое небо и безлюдье. Яга приостановилась, пропуская машину, шорох которой послышался по асфальту сзади. Но машины не было – это шумела от дождя молодая листва на деревьях, растущих у трассы.
Резиновые рукава изгибались на синих бензоколонках. Яга почмокала мокрыми губами, как будто высасывая из них бензин на расстоянии.
На заправке было пусто. Крупный дождь перестал, только редко какая-нибудь тяжелая капля из любопытства бросалась с неба головой вниз и разбивалась о железную гладкую крышу, заставляя ее гудеть. Сзади наплывал шелест, будто за спиной – синее море, пеной подбирающееся к заправке.
Яга, виляя задом, пошла к колонкам. Она высоко поднимала пятки, словно боялась замочить ноги. Зеркальное окошко будки опрокинулось. Из проема выглянули большой нос и глаз, густо поросший бровью. Яга сделала еще несколько шагов. Окошко нервно захлопнулось, и пока оно поднималось, вместе с ним поднималось отражение асфальта, деревьев и колонок.
Из будки выскочил Фадик – на коротких кривых ногах, обтянутых вареными джинсами, в куртке с меховым воротником и красной кепке.
– Ты че, русского языка совсем не понимаешь, да? – крикнул он.
Яга отступила на шаг.
– Давай, пошла отсюда. Пошла! – крикнул Фадик харкающим голосом и махнул рукой.
– Че ты, Фадик, – обиженно сказала Яга. – Че, тебе пол-литра жалко?
– Бля, задолбала! Тебе когда сказали – дорогу сюда забудь! Пошла отсюда, давай двигай!
Фадик дернул толстой шеей вбок, красная кепка на миг прижалась к плечу и резко встала на место. Он фыркнул и еще раз размял шею. Глаз от Яги не отрывал.
– Че, тебе пол-литра жалко? – тише повторила Яга и отступила еще на шаг.
– Я твой дом труба шатал! – заорал Фадик, фыркая. – Ноги тебе поломаю, еще раз здесь увижу! Еще близко сюда подойди, пизду порву!
– Че ты, Фадик… – еще тише сказала Яга.
– Пошла отсюда! – Фадик подпрыгнул и, завалившись коротким туловищем набок, прижав ухо к плечу, поднял одну ногу, согнул ее и резко выпрямил в сторону Яги, задев кроссовкой ее куртку.
Яга отскочила.
– Ты че, Фадик? – заплакала она. – Куртку мне новую испортил. Я же тебя на эту заправку привела. Че ты мне даже спасибо не сказал.
– Пошла на хуй отсюда! Порву! – заорал Фадик, и Яга, вжав голову в плечи, затрусила в сторону деревьев.
Фадик развернулся, сунул руки в карманы джинсов, встряхнул курткой на плечах и, раскачивая квадратными плечами, вразвалку пошел к будке.
Яга дошла до деревьев, растущих на обочине, и спряталась за одним, прилипнув к нему боком. Джинсы намокли, и постепенно она начала ощущать бедром глубокие узоры на сырой коре.
Устав, Яга переступила с ноги на ногу, оторвав бедро от ствола. Теперь она прижималась к дереву правой стороной груди. И сердце сразу стало стучать. Яга застыла надолго, как будто тоже стала деревом. Она пристально следила за пустой молчаливой заправкой.
Скоро она услышала, как стучат другие деревья, будто на них сидят дятлы, – но птиц не было.
Яга встрепенулась. Темно-синяя машина притормозила у заправки. Из нее вышел мужчина – высокий и стройный. В светло-розовой рубашке.
– Светке бы такого, – сказала Яга и, сорвавшись с места, как птица с дерева, понеслась, на ходу вынимая мятую пластиковую бутылку из пакета.
– Мужчина! – хрипло закричала она, подбегая. – Мужчина!
Мужчина бросил короткий взгляд через плечо и снова повернулся к колонке. В руках он держал рукав шланга.
– Мужчина! – Яга схватила его за рукав рубашки. – Не бойтесь, мужчина, у меня руки чистые, это грязь въелась, я на огороде работала.