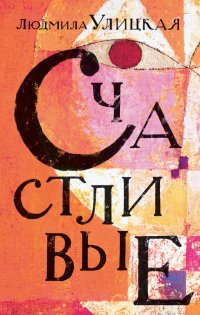
Читать онлайн Счастливые (сборник) бесплатно
- Все книги автора: Людмила Улицкая
Сонечка
Повесть
От первого детства, едва выйдя из младенчества, Сонечка погрузилась в чтение. Старший брат Ефрем, домашний острослов, постоянно повторял одну и ту же шутку, старомодную уже при своем рождении:
– От бесконечного чтения у Сонечки зад принял форму стула, а нос – форму груши.
К сожалению, в шутке не было большого преувеличения: нос ее был действительно грушевидно-расплывчатым, а сама Сонечка, долговязая, широкоплечая, с сухими ногами и отсиделым тощим задом, имела лишь одну стать – большую бабью грудь, рано отросшую да как-то не к месту приставленную к худому телу. Сонечка сводила плечи, сутулилась, носила широкие балахоны, стесняясь своего никчемного богатства спереди и унылой плоскости сзади.
Сострадательная старшая сестра, давно замужняя, великодушно говорила что-то о красоте ее глаз. Но глаза были самые обыкновенные, небольшие, карие. Правда, редкостно обильные ресницы росли в три ряда, оттягивая припухший край века, но и в этом особенной красоты не было, скорее даже помеха, поскольку близорукая Сонечка с раннего возраста носила очки.
Целых двадцать лет, с семи до двадцати семи, Сонечка читала без перерыва. Она впадала в чтение как в обморок, оканчивавшийся с последней страницей книги.
Был у нее незаурядный читательский талант, а может, и своего рода гениальность. Отзывчивость ее к печатному слову была столь велика, что вымышленные герои стояли в одном ряду с живыми, близкими людьми, и светлые страдания Наташи Ростовой у постели умирающего князя Андрея по своей достоверности были совершенно равны жгучему горю сестры, потерявшей четырехлетнюю дочку по глупому недосмотру: заболтавшись с соседкой, она не заметила, как соскользнула в колодец толстая, неповоротливая девочка с медленными глазами.
Что это было – полное непонимание игры, заложенной в любом художестве, умопомрачительная доверчивость невыросшего ребенка, отсутствие воображения, приводящее к разрушению границы между вымышленным и реальным, или, напротив, столь самозабвенный уход в область фантастического, что все, остающееся вне его пределов, теряло смысл и содержание?
Сонечкино чтение, ставшее легкой формой помешательства, не оставляло ее и во сне: свои сны она тоже как бы читала. Ей снились увлекательные исторические романы, и по характеру действия она угадывала шрифт книги, чувствовала странным образом абзацы и отточия. Это внутреннее смещение, связанное с ее болезненной страстью, во сне даже усугублялось, и она выступала там полноправной героиней или героем, существуя на тонкой грани между ощутимой авторской волей, заведомо ей известной, и своим собственным стремлением к движению, действию, поступку…
Выдыхался нэп. Отец, потомок местечкового кузнеца из Белоруссии, самородный механик, не лишенный и практической сметки, свернул свою часовую мастерскую и, преодолевая врожденное отвращение к поточному изготовлению чего бы то ни было, поступил на часовой завод, отводя упрямую душу в вечерних починках уникальных механизмов, созданных мыслящими руками его разноплеменных предшественников.
Мать, до самой смерти носившая глупый паричок под чистой гороховой косынкой, тайно строчила на зингеровской машинке, обшивая соседок незамысловатой ситцевой одеждой, созвучной громкому и нищему времени, все страхи которого сводились для нее к грозному имени фининспектора.
А Сонечка, кое-как выучив уроки, каждодневно и ежеминутно увиливала от необходимости жить в патетических и крикливых тридцатых годах и пасла свою душу на просторах великой русской литературы, то опускаясь в тревожные бездны подозрительного Достоевского, то выныривая в тенистые аллеи Тургенева и провинциальные усадебки, согретые беспринципной и щедрой любовью почему-то второсортного Лескова.
Она окончила библиотечный техникум, стала работать в подвальном хранилище старой библиотеки и была одним из редких счастливцев, с легкой болью прерванного наслаждения покидающих в конце рабочего дня свой пыльный и душный подвал, не успев насытиться за день ни чередой каталожных карточек, ни белесыми листками требований, которые приходили к ней сверху, из читального зала, ни живой тяжестью томов, опускавшихся в ее худые руки.
Многие годы она рассматривала само писательство как священнодействие: второразрядного писателя Павлова, и Павсания, и Паламу считала в каком-то смысле равнодостойными авторами – на том основании, что они занимали в энциклопедическом словаре место на одной странице. С годами она научилась самостоятельно отличать в огромном книжном океане крупные волны от мелких, а мелкие – от прибрежной пены, заполнявшей почти сплошь аскетические шкафы раздела современной литературы.
Прослужив отрешенно-монашески несколько лет в книгохранилище, Сонечка сдалась на уговоры своей начальницы, такой же одержимой чтицы, как и сама Сонечка, и решилась поступать в университет на отделение русской филологии. И стала готовиться по большой и нелепой программе и совсем уж было собралась сдавать экзамены, как вдруг все рухнуло, все в один момент изменилось: началась война.
Возможно, это было первое событие за всю ее молодую жизнь, которое вытолкнуло ее из туманного состояния непрестанного чтения, в котором она пребывала. Вместе с отцом, работавшим в те годы в инструментальной мастерской, она была эвакуирована в Свердловск, где очень скоро оказалась в единственном надежном местообитании – в библиотеке, в подвале…
Неясно, была ли это традиция, угнездившаяся с давних пор в нашем отечестве – помещать драгоценные плоды духа, как и плоды земли, непременно в холодное подполье, – или была это предохранительная прививка для будущего десятилетия Сонечкиной жизни, которое ей предстояло провести именно с человеком из подполья, будущим ее мужем, который появился в этот беспросветно тяжкий первый год эвакуации.
Роберт Викторович пришел в библиотеку в тот день, когда Сонечка заменяла заболевшую заведующую на выдаче книг. Он был ростом мал, остро-худ и серо-сед и не привлек бы внимания Сони, если бы не спросил ее, где находится каталог книг на французском языке. Книги-то французские были, но вот каталог на них давно затерялся за ненадобностью. Посетителей в этот вечерний час, перед закрытием, не было, и Сонечка повела необычного читателя в свой подвал, в дальний западноевропейский угол.
Долго и ошеломленно стоял он перед шкафом, склонив голову набок, с голодным и изумленным лицом ребенка, увидевшего блюдо пирожных. Сонечка стояла за его спиной, возвышаясь над ним на полголовы, и сама замирала от передававшегося ей волнения.
Он обернулся к ней, поцеловал неожиданно ее худую руку и голосом низким и богатым мерцаниями, как свет синей лампы из простуженного детства, сказал:
– Чудо какое… Какая роскошь… Монтень… Паскаль… – И, все еще не отпуская ее руки, со вздохом добавил: – И даже в эльзевировских изданиях…
– Здесь девять Эльзевиров, – с гордостью кивнула растроганная Сонечка, отлично усвоившая книговедение, и он посмотрел на нее странным взглядом снизу вверх, но как бы сверху вниз, улыбнулся тонкими губами, показал щербатый рот, помедлил, как будто собираясь сказать что-то важное, но, передумав, сказал другое:
– Выпишите мне, пожалуйста, читательскую карточку, или как это у вас называется?
Соня вытянула свою руку, забытую в его сухих ладонях, и они поднялись вверх по хищно-холодной лестнице, отбиравшей и малое тепло от всяких ног, ее касающихся… Здесь, в тесном зальчике старого купеческого особняка, она впервые написала своей рукой его фамилию, совершенно ей дотоле неизвестную и которая ровно через две недели станет ее собственной. А пока она писала неловкие буквы чернильным карандашом, мелко крутящимся в штопаных шерстяных перчатках, он смотрел на ее чистый лоб и внутренне улыбался ее чудному сходству с молодым верблюдом, терпеливым и нежным животным, и думал: «И даже колорит: смуглое, печально-умбристое и розоватое, теплое…»
Она кончила писать, подняла указательным пальцем съехавшие очки. Смотрела доброжелательно, незаинтересованно и выжидательно: он не продиктовал своего адреса.
Он же был в глубоком замешательстве от напавшего на него внезапно, как ливень с высоты безмятежно-ясного неба, сильнейшего чувства совершения судьбы: он понял, что перед ним – его жена.
Накануне ему исполнилось сорок семь лет. Он был человеком-легендой, но легенда эта благодаря внезапному и, как считали друзья, немотивированному возвращению на родину из Франции в начале тридцатых годов оказалась отрезанной от него и доживала свою устную жизнь в вымирающих галереях оккупированного Парижа вместе с его странными картинами, пережившими хулу, забвение, а впоследствии воскрешение и посмертную славу. Но ничего этого он не знал. В черном прожженном ватнике, с серым полотенцем вокруг кадыкастой шеи, счастливейший из неудачников, отсидевший ничтожный пятилетний срок и работающий теперь условно художником в заводоуправлении, он стоял перед нескладной девушкой и улыбался, понимая, что в нем совершается сейчас очередная измена, которыми столь богата была его поворотливая жизнь: он изменял и вере предков, и надежде родителей, и любви учителя, изменял науке и порывал дружеские связи, жестко и резко, как только начинал чувствовать оковы своей свободе… На этот раз он изменял твердому обету безбрачия, принятому в годы раннего и обманчивого успеха, отнюдь не связанному, впрочем, с обетом целомудрия.
Был он женолюбом и потребителем, многую пищу получал от этого неиссякающего источника, но бдительно оберегался от зависимости, боялся сам превратиться в пищу той женской стихии, которая столь парадоксально щедра к берущим от нее и истребительно-жестока к дающим.
А безмятежная душа Сонечки, закутанная в кокон из тысяч прочитанных томов, забаюканная дымчатым рокотом греческих мифов, гипнотически-резкими звуками флейты Средневековья, туманной ветреной тоской Ибсена, подробнейшей тягомотиной Бальзака, астральной музыкой Данте, сиреническим пением острых голосов Рильке и Новалиса, обольщенная нравоучительным, направленным в сердце самого неба отчаяньем великих русских, – безмятежная душа Сонечки не узнавала своей великой минуты, и мысли ее были заняты только тем, не совершает ли она рискованного шага, отдавая на руки читателю книги, которые имеет право отпускать лишь в читальный зал…
– Адрес, – кротко попросила Сонечка.
– Я, видите ли, прикомандирован. Я живу в заводоуправлении, – объяснил странный читатель.
– Ну паспорт дайте, прописку, – попросила Сонечка.
Он порылся в каком-то глубоком кармане и вынул мятую справку. Она долго смотрела сквозь очки, потом покачала головой.
– Нет, не могу. Вы же областной…
Кибела показала ему красный язык. Все пропало, показалось ему. Он сунул справку в глубину кармана.
– Мы сделаем так: я возьму на свой формуляр, а вы перед отъездом принесете мне книги, – извиняющимся голосом сказала Сонечка.
И он понял, что все в порядке.
– Я только прошу вас, очень аккуратно, – ласково попросила она и завернула в лохматящуюся газету три малоформатных томика.
Он сухо поблагодарил ее и вышел.
Пока Роберт Викторович с отвращением размышлял о технологии знакомства и тяготах ухаживания, Сонечка неспешно закончила свой долгий рабочий день и собиралась домой. Она уже нимало не беспокоилась о возврате трех ценных книг, которые беспечно выдала незнакомцу. Все мысли ее были о дороге домой через холодный и темный город.
* * *
Те особые, женские глаза, которые, подобно мистическому третьему глазу, открываются у девочек чрезвычайно рано, не то что были у Сони вовсе закрыты – скорее они были зажмурены.
В ранней юности, по четырнадцатому году, словно повинуясь древней программе рода, тысячелетиями выдававшего замуж девиц в этом нежном возрасте, она влюбилась в своего одноклассника, миловидного курносенького Витьку Старостина. Влюбленность эта выражалась исключительно в нестерпимом желании на него смотреть, и ее ищущий взгляд вскоре был отмечен не только обладателем кукольной мордочки, но и всеми остальными одноклассниками, обнаружившими этот интересный аттракцион раньше, чем Соня отдала себе в этом отчет.
Она старалась с собой справиться и все пыталась найти иной объект для глаза – прямоугольник доски ли, тетради, пыльного окна, – но взгляд с упорством компасной стрелки сам собой возвращался к русому затылку, все искал встречи с этим голубым, холодным, притягательным… Уже и сострадательная подруга Зоя шепнула ей, чтобы она так не таращилась. Но Сонечка с этим ничего не могла поделать. Глаз жадно требовал русоголовой пищи.
Кончилось все это самым ужасным и незабываемым образом. Брутальный Онегин, изнемогший под тяжестью влюбленного взора, назначил своей молчаливой поклоннице свидание в боковой аллее скверика и не больно, но убийственно оскорбительно шлепнул ее два раза под одобрительный гогот четырех засевших в кустах одноклассников, которых можно было бы порицать за душевную грубость, если бы все эти юные соглядатаи поголовно не погибли в первую же зиму грядущей войны.
Воспитательный урок тринадцатилетнего рыцаря был между тем настолько убедительным, что девочка заболела. Пролежала две недели в сильном жару. Очевидно, огонь влюбленности покидал ее таким классическим способом. Когда же, поправившись, она пришла в школу в ожидании нового унижения, трагикомическое ее приключение было совершенно заслонено самоубийством школьной красавицы Нины Борисовой, повесившейся в классе после окончания вечерней смены.
Что же касается жестокосердного героя Витьки Старостина, он, к Сониному счастью, тем временем переехал с родителями в другой город, и Сонечка осталась при горьком сознании полной и окончательной исчерпанности женской биографии, что на всю жизнь освободило ее от старания нравиться, увлекать и очаровывать. Она не испытывала к своим удачливым сверстницам ни разрушительной зависти, ни изнуряющего душу раздражения и вернулась к своей рьяной и опьяняющей страсти – к чтению.
…Роберт Викторович пришел через два дня, когда Сонечка уже не работала на выдаче. Он вызвал ее. Она поднялась из подвала, в три приема вырастая из темной дыры, близоруко и долго узнавала его, потом закивала как хорошему знакомому.
– Сядьте, пожалуйста, – придвинул он стул.
В маленьком читальном зале сидели несколько тепло одетых посетителей. Было холодно – едва топили.
Сонечка присела на край стула. Расползающийся матерчатый треух лежал на краю стола рядом со свертком, который мужчина неторопливо и очень тщательно распаковывал.
– Давеча я забыл у вас спросить, – своим светящимся голосом проговорил он, а Сонечка улыбнулась хорошему слову «давеча», которое давно ушло из общепринятого обихода в просторечье, – забыл я спросить ваше имя. Простите?
– Соня, – коротко ответила она, все поглядывая, как он разворачивает сверток.
– Сонечка… Хорошо, – как бы согласился он.
Наконец обертка отшелушилась, и Соня увидела женский портрет, написанный на рыхлой грубоволокнистой бумаге нежной коричневой краской, сепией. Портрет был чудесный, и женское лицо было благородным, тонким, нездешнего времени. Ее, Сонечкино, лицо. Она вдохнула в себя немного воздуху – и запахло холодным морем.
– Это мой свадебный подарок, – сказал он. – Я, собственно, пришел, чтобы сделать вам предложение. – И он выжидательно посмотрел на нее.
И тут Сонечка впервые разглядела его: прямые брови, нос с тонкой хребтиной, сухой рот с выровненными губами, глубокие вертикальные морщины вдоль щек и блеклые глаза, умные и угрюмые…
Губы ее дрогнули. Она молчала, опустив глаза. Ей очень хотелось еще раз посмотреть в его лицо, такое значительное и притягательное, но призрак Витьки Старостина промелькнул за спиной, и она, уставившись в легкие извилистые линии рисунка, вдруг переставшего обозначать женское, а тем более ее собственное лицо, выговорила еле слышным, но холодным и отстраняющим голосом:
– Это что, шутка?
И тогда он испугался. Он давно уже не строил никаких планов: судьба завела его в такое мрачное место, в преддверие ада, его звериная воля к жизни почти исчерпалась, и сумерки посюстороннего существования не казались уже привлекательными, и вот теперь он видел женщину, освещенную изнутри подлинным светом, предчувствовал в ней жену, удерживающую в хрупких руках его изнемогающую, прильнувшую к земле жизнь, и видел одновременно, что она будет сладкой ношей для его не утружденных семьей плеч, для трусливого его мужества, избегавшего тягот отцовства, обязанностей семейного человека… Но как он подумал… как не пришло ему в голову раньше… может, она уже принадлежит другому, какому-нибудь молодому лейтенанту или инженеру в штопаном свитере?
Кибела снова дразнила его красным острым языком, и ее веселая свита, составленная из непотребных, страшных, но все сплошь знакомых ему женщин, кривлялась в багровых отсветах.
Он хрипло и принужденно засмеялся, придвинул к ней лист и сказал:
– Я не шутил. Я просто не подумал, что вы можете быть замужем.
Он встал, взял в руки свою немыслимую шапку:
– Простите меня.
И по-староофицерски резко поклонился, бросив вниз стриженую голову, и двинул к выходу. И тогда Сонечка крикнула ему в спину:
– Постойте! Нет! Нет! Я не замужем!
Сидящий за читальным столиком старик с подшивкой газет неодобрительно посмотрел в ее сторону. Роберт Викторович обернулся, улыбнулся ровными губами и от своей недавней растерянности, когда было заподозрил, что женщина от него ускользает, перешел к еще более глубокой: он совершенно не знал, что же говорить и делать он должен теперь.
* * *
Откуда взялись у истощенного Роберта Викторовича и хрупкой от природы Сонечки силы, чтобы посреди бедственной пустыни эвакуационной жизни, посреди нищеты, подавленности, исступленного лозунга, едва покрывающего подспудный ужас первой военной зимы, выстраивать новую жизнь, замкнутую и уединенную, как сванская башня, однако вмещающую без малейших купюр все их разъединенное прошлое: ломаную, как движение ослепленной ночной бабочки, жизнь Роберта Викторовича с молниеносными и радостными поворотами от иудаики к математике и, наконец, к важнейшему делу его жизни, бессмысленному и притягательному размазыванию краски, как он сам определил свое ремесло, и Сонечкину жизнь, питавшуюся чужими книжными выдумками, лживыми и пленительными.
Теперь же Сонечка вкладывала в их совместную жизнь какое-то возвышенное и священное отсутствие опыта, безграничную отзывчивость ко всему тому важному, высокому, не вполне понятному содержанию, которое изливал на нее Роберт Викторович, сам не переставая дивиться, каким обновленным и переосмысленным становится его прошлое после долгих ночных разговоров. Наподобие касания к философскому камню, ночные беседы с женой оказывались волшебным механизмом очищения прошлого…
Из пяти лагерных лет, вспоминал Роберт Викторович, особенно тяжелыми были первые два, потом как-то обмялось – стал писать портреты начальственных жен, делал по заказу копии с копий… Сами оригиналы были нищенскими образчиками падшего искусства, и Роберт Викторович, выполняя их, обычно развлекал себя каким-нибудь формальным способом, например, писал левой рукой. Попутно он сделал открытие об изменившемся в связи с временной леворукостью цветовосприятии.
По внутренней организации Роберт Викторович был человеком аскетического склада, всегда умел обходиться минимальным, но, лишенный в течение многих лет того, что сам считал необходимым – зубной пасты, хорошего лезвия и горячей воды для бритья, носового платка и туалетной бумаги, – он радовался теперь каждой малой малости, каждому новому дню, освещенному присутствием жены Сони, относительной свободе человека, чудом освобожденного из лагеря и обязанного всего лишь в неделю раз отмечаться в местной милиции…
Они жили лучше многих. В подвале заводоуправления художнику выделили безоконную комнату рядом с котельной. Было тепло. Почти никогда не отключали электричества. Истопник варил им картошку, которую приносил Сонечкин отец, добывающий дополнительное питание своим безотказным мастерством.
Однажды Соня с легким оттенком пафоса, вообще ей не свойственного, сказала мечтательно:
– Вот мы победим, кончится война, и тогда заживем такой счастливой жизнью…
Муж прервал ее сухо и желчно:
– Не обольщайся. Мы прекрасно живем – сейчас. А что касается победы… Мы с тобой всегда останемся в проигрыше, какой бы из людоедов ни победил. – И мрачно закончил странной фразой: – От воспитателя моего я получил то, что не стал ни зеленым, ни синим, ни пармутарием, ни скутарием…
– О чем ты? – с тревогой спросила Соня.
– Это не я. Это Марк Аврелий. Синие и зеленые – это цвета партий на ипподроме. Я хотел сказать, что меня никогда не интересовало, чья лошадь придет первой. Для нас это не важно. В любом случае гибнет человек, его частная жизнь. Спи, Соня.
Он накрутил себе на голову полотенце – была у него такая странная, в лагере нажитая привычка – и мгновенно заснул. А Сонечка долго лежала в темноте, мучаясь от недоговоренности и отодвигая от себя еще более ужасную, чем эта недоговоренность, догадку: муж ее обладал знанием столь опасным, что лучше было этого не касаться, – и она уводила свою тревожную мысль в другое место, к томным и тонким переборам внизу живота, и пыталась представить себе, как пальчики размером в четверть спички в такой же темноте, которая окружает сейчас и ее, легко проводят по мягкой стенке своего первого жилища, и улыбалась.
А Сонечкино дарование яркого и живого восприятия книжной жизни отуманилось, как-то одеревенело, и оказалось вдруг, что самое незначительное событие по эту сторону книжных страниц – поимка мышки в самодельную ловушку, распустившаяся в стакане заскорузлая и сплошь мертвая ветка, горсть китайского чая, случайно добытая Робертом Викторовичем, – важнее и значительнее и чужой первой любви, и чуждой смерти, и даже самого спуска в преисподнюю, той крайней литературной точки, где совершенно сходились вкусы молодых супругов.
Еще на второй неделе их скоропалительного брака Соня узнала от своего мужа нечто для нее ужасное: он был совершенно равнодушен к русской литературе, находил ее голой, тенденциозной и нестерпимо нравоучительной. Для одного только Пушкина неохотно делал исключение… Завязалась дискуссия, в которой Сонечкиной горячности Роберт Викторович противопоставил строгую и холодную аргументацию, Сонечкой не вполне понятую, и кончилась эта домашняя конференция горькими слезами и сладкими объятиями.
Упрямый Роберт Викторович, оставлявший всегда последнее слово за собой, в глухом предутреннем часу успел еще сказать засыпающей жене:
– Чума! Чума все эти авторитеты, от Гамалиила до Маркса… А уж ваши… Горький, весь дутый, и Эренбург, насмерть перепуганный… И Аполлинер тоже дутый…
Сонечка на Аполлинере встрепенулась:
– А ты и Аполлинера знал?
– Знал, – нехотя отозвался он. – Во время той войны… Я с ним два месяца жилье делил. Потом меня в Бельгию перевели, под город Ипр. Знаешь такой?
– Да, иприт, помню, – пробормотала Сонечка, восхищенная неисчерпаемостью его биографии.
– Ну, слава Богу… Я как раз и попал в эту газовую атаку. Но я был на холме, с подветренной стороны, потому и не был отравлен. Я ведь везучий… счастливчик… – И чтобы еще раз удостовериться в своем исключительном, избранническом везении, просунул руку под Сонины плечи.
К русской литературе они больше не возвращались.
* * *
За месяц до рождения ребенка срок неопределенной командировки Роберта Викторовича, которую он длил до последней возможности, кончился, и он получил предписание немедленно вернуться в башкирское село Давлеканово, где и надлежало ему дотягивать ссылку в надежде на будущее, которое все еще представлялось Сонечке прекрасным и в чем сильно сомневался Роберт Викторович.
И отец, и совсем разболевшаяся легкими мать Сони уговаривали ее остаться в городе хоть до родов, но Сонечка твердо решила ехать вместе с мужем, да и сам Роберт Викторович не хотел разделяться с женой. На этом самом месте и проскользнула единственная тень недовольства зятем со стороны старого часовщика. Старик, потеряв к этому времени сына и старшего зятя, бессловесно и близко сошелся с Робертом Викторовичем: различие в их социальном уровне теперь, в перевернутом мире, оказалось не то чтобы несущественным, а, скорее, выявляло все мнимые преимущества интеллигента перед пролетарием. Что же касалось всего прочего, подводная часть культурного айсберга была у них единой.
Семья собирала Соню сутки – столько времени отвели Роберту Викторовичу для окончания всех его дел. Мать, роняя желтые слезы, стремительно подрубала пеленки, тонкой заветной иглой нежно обметывала распашонки, выкроенные из собственной старой рубахи. Старшая сестра Сони, недавно потерявшая на фронте мужа, вязала из красной шерсти маленькие носочки, глядя перед собой неподвижными глазами. Отец, добывший пуд пшена, пересыпал его по маленьким мешочкам и все поглядывал с недоверием на Соню, которая хоть и была на девятом месяце, но так похудела за последнее время, что даже пуговицы на юбке не переставила, а беременность ее угадывалась скорее не по изменению фигуры, а по расплывшемуся лицу и припухшим губам.
– Девочка, девочка будет, – тихонько говорила мать. – Дочери, они всегда материнскую красоту пьют…
Сестра Сони безучастно кивала, а Сонечка растерянно улыбалась и все твердила про себя:
«Господи, если можно, девочку… – если можно, беленькую…»
* * *
Ночью знакомый железнодорожник посадил их в маленький, трехвагонный состав, стоявший в полутора километрах от станции, в вагон, сохранивший следы благородного происхождения в виде добротных деревянных панелей. Впрочем, мягкие диваны и откидные столики давно были выломаны и пульмановская роскошь заменена дощатыми скамьями.
От Свердловска до Уфы ехали больше полутора суток в туго набитом вагоне, и всю дорогу почему-то вспоминалась Роберту Викторовичу его шальная юношеская поездка в Барселону, куда рванул он, получив первые крупные деньги, году в двадцать третьем или двадцать четвертом знакомиться с Гауди.
Сонечка доверчиво спала почти все время их путешествия, упершись ногами в пышный узел одеяла и привалившись плечом к худой груди мужа, а он все вспоминал кривую, ползущую вверх улицу, на которой стояла его гостиница, круглый наивный фонтанчик перед окном, смуглое лицо с вырезанными ноздрями необыкновенно красивой проститутки, с которой он купечески кутил всю ту барселонскую неделю. Он шарил в памяти и легко находил в ней мелкие и яркие детали: совершенно совиную морду официанта в гостиничном ресторане, чудесные плетеные туфли из палевой телячьей кожи, купленные в магазине с огромной синей вывеской «Гомер», и даже имя этой барселонской девчонки вспомнил – Кончетта! Итальянка она была, приезжая, родом из Абруцци… А Гауди ему совершенно не понравился… Во всех подробностях теперь, через четверть века, он видел перед собой эти странные сооружения, совершенно растительные, сплошь надуманные и неправдоподобные…
Сонечка чихнула, полупроснулась, что-то пробормотала. Он прижал к себе ее сонную руку, вернулся в окрестности Уфы, в дикую Башкирию, и улыбнулся, качая седой головой и недоумевая: «Да я ли был там? Я ли теперь здесь? Нет, нет никакой реальности вообще…»
* * *
Родильный дом, куда на исходе женского срока при первых же знаках приближающихся родов повел Роберт Викторович Сонечку, стоял на окраине большого плоского села, в безлесном растоптанном месте. Само строение было из глиняных, вымешанных с соломой кирпичей, убогое, с маленькими мутными окнами.
Единственным врачом был легко краснеющий немолодой блондин с тонкой белой кожей, пан Жувальский, беженец из Польши, в недавнем прошлом модный варшавский доктор, светский человек и любитель хороших вин. Он стоял спиной к вошедшим посетителям, сверкая голубоватой белизной халата, неуместной, но успокаивающей, кусал концы светлых усов и протирал замшевой тряпочкой стекла своих крупных очков. Сюда, к этому окну, он подходил несколько раз в день, смотрел на бесформенную, в грязных клочьях травы землю, вместо стройной Ерусалимской аллеи, куда выходили окна его варшавской клиники, и промакивал слезящиеся глаза красным, в зеленую клетку английским платком, последним из сохранившихся.
Он только что осмотрел приехавшую за сорок верст верхом немолодую башкирку, крикнул санитарке: «Подмойте даму!» – и стоял теперь, унимая невольную дрожь оскорбления в груди и с тоской вспоминая своих атласных пациенток, молочно-сладковатые запахи их выхоленных дорогостоящих гениталий.
Он обернулся, почувствовав чье-то присутствие у себя за спиной, и обнаружил сидящую на скамье крупную молодую женщину в светлом поношенном пальто и остролицего седого мужчину в залатанной тужурке.
– Я осмелился побеспокоить вас, доктор, – заговорил мужчина, и пан Жувальский, с первых звуков голоса почуяв в нем принадлежность к своей касте, к попранной европейской интеллигенции, двинулся навстречу с улыбкой узнавания.
– Прошу вас… Пожалуйста. Вы с супругой? – полувопросительно произнес пан Жувальский, отметив их большую разницу в возрасте, допускавшую и какие-то иные отношения между этими по виду мало подходящими друг другу людьми. Он указал на занавеску, где был выгорожен для него крохотный кабинетик.
Еще через пятнадцать минут он осмотрел Сонечку, подтвердил приближение родов, однако велел набраться терпения часов до десяти, если все пойдет правильно и своевременно.
Соню положили на кровать, покрытую каляной холодной клеенкой, пан Жувальский похлопал ее по животу жестом скорее ветеринарским и отошел к башкирке, которая, как выяснилось, три дня назад родила мертвого ребенка, и все было хорошо, а теперь вот стало нехорошо.
Через два с половиной часа доктор с большими слезами на чисто выбритых щеках вышел на крыльцо, где сидел, никуда не отходя, сумрачный Роберт Викторович, и громко, трагически зашептал ему в ухо:
– Меня надо расстреливать. Я не имею права оперировать в таких условиях. У меня ничего, буквально ничего нет. Но не оперировать я не могу. Через сутки она умрет от сепсиса!
– Что с ней? – одеревеневшим языком спросил Роберт Викторович, представив себе умирающую Сонечку.
– Ах, боже мой! Простите! С вашей женой все в порядке, идут схватки, я про эту несчастную башкирку…
Роберт Викторович хрупнул зубами, выматерился про себя: он терпеть не мог нервических мужчин, одержимых желанием ежеминутно выговаривать свои переживания. Он зажевал губами и посмотрел в сторону.
Маленькая двухкилограммовая девочка, которую родила Соня в те пятнадцать минут, пока пан Жувальский разговаривал на крыльце, была беленькой и узколицей, точь-в-точь такой, какой Соня ее задумала.
* * *
Все у Сонечки изменилось так полно и глубоко, как будто прежняя жизнь отвернулась и увела с собой все книжное, столь любимое Соней содержание и взамен оставила немыслимые тяготы неустроенности, нищеты, холода и каждодневных беспокойных мыслей о маленькой Тане и Роберте Викторовиче, которые попеременно болели.
Семье не выжить бы, если б не постоянная помощь отца, который ухитрялся добывать для них и посылать все самое необходимое, чем они жили. На все уговоры родителей переехать с ребенком в Свердловск на это самое тяжелое время Соня отвечала одним: мы с Робертом Викторовичем должны быть вместе.
После дождливого, похожего на нескончаемую осень лета без всякого перехода наступила суровая зима. В зыбком домике из сырых саманных кирпичей подвальная комната в заводоуправлении вспоминалась как тропический райский сад.
Главной заботой было топливо. Школа комбайнёров, где Роберт Викторович служил бухгалтером, давала иногда лошадь, и он еще с осени довольно часто уезжал в степь, чтобы нарезать сухостойных высоких трав, похожих на камыш, названия которых он так и не узнал. С верхом груженной телеги хватало на двое суток топки, это он знал по опыту той зимы, которую провел в селе до отъезда в Свердловск.
Он прессовал траву, забивал самодельными брикетами пристройку. Поднял часть пола, который сам и настелил в свое время, не подумав о необходимости хранилища для картошки. Вырыл подпол, осушил его, укрепил ворованными досками. Он построил уборную, и его сосед старик Рагимов качал головой и усмехался: в здешних краях деревянную доску с вырезанным очком считали излишней роскошью и обходились испокон веку тем недальним местом, что называлось «до ветру».
Он был вынослив и жилист, и физическая усталость была утешительна его душе, страдающей острым отвращением к бессмысленному счету фальшивых цифр, составлению ложных сводок и фиктивных актов о списании разворованного горючего, украденных запчастей и проданных на местном базаре овощей с подсобного хозяйства, которым ведал пройдоха огородник, веселый и бесстыжий хохол с искалеченной правой рукой.
Зато каждый вечер он отворял дверь своего дома и в живом огнедышащем свете керосиновой лампы, в неровном мерцающем облаке он видел Соню, сидящую на единственном стуле, переоборудованном Робертом Викторовичем в кресло, и к заостренному концу ее подушкообразной груди была словно приклеена серенькая и нежно-лохматая, как теннисный мяч, головка ребенка. И все это тишайшим образом колебалось и пульсировало: волны неровного света и волны невидимого теплого молока, и еще какие-то незримые токи, от которых он замирал, забывая закрыть дверь. «Двери!» – протяжным шепотом возглашала Сонечка, вся улыбаясь навстречу мужу, и, положив дочку поперек их единственной кровати, доставала из-под подушки кастрюлю и ставила ее на середину пустого стола. В лучшие дни это был густой суп из конины, картошки с подсобного огорода и пшена, присланного отцом.
Просыпалась Сонечка на рассвете от мелкого копошения девочки, прижимала ее к животу, сонной спиной ощущая присутствие мужа. Не раскрывая глаз, она расстегивала кофту, вытягивала отвердевшую к утру грудь, дважды нажимала на сосок, и две длинные струи падали в цветастую тряпочку, которой она сосок обтирала. Девочка начинала ворочаться, собирать губы в комочек, чмокать и ловила сосок, как маленькая рыбка большую наживу. Молока было много, оно шло легко, и кормление с маленькими торканьями соска, подергиванием, легким прикусыванием груди беззубыми деснами доставляло Соне наслаждение, которое непостижимым образом чувствовал муж, безошибочно просыпаясь в это предутреннее раннее время. Он обнимал ее широкую спину, ревниво прижимал к себе, и она обмирала от этого двойного груза непереносимого счастья. И улыбалась в первом свете утра, и тело ее молчаливо и радостно утоляло голод двух драгоценных и неотделимых от нее существ.
Это утреннее чувство отсвечивало весь день, все дела делались как бы сами собой, легко и ловко, и каждый божий день, не сливаясь с соседствующими, запоминался Сонечкой в своей отдельности: то с полуденным ленивым дождем, то с прилетевшей и усевшейся на ограде крупной кривоногой птицей ржаво-железною цвета, то с первой ребристой полоской раннего зуба в набухшей десне дочки. На всю жизнь сохранила Соня – кому нужна эта кропотливая и бессмысленная работа памяти – рисунок каждого дня, его запахи и оттенки и особенно, преувеличенно и полновесно – каждое слово, сказанное мужем во всех сиюминутных обстоятельствах.
Много лет спустя Роберт Викторович не раз удивлялся неразборчивой памятливости жены, сложившей на потаенное дно весь ворох чисел, часов, деталей. Даже игрушки, которые во множестве и с давно забытой творческой радостью мастерил для подрастающей дочери Роберт Викторович, Сонечка помнила все до единой. Всякую мелочь – вырезанных из дерева животных, скрученных из веревок летающих птиц, деревянных кукол с опасными лицами – Сонечка увезла потом в Москву, но никогда не забыла и того, что было оставлено рагимовским детям и внукам, дружной стайке одинаковых тощих воробышков: раздвижную крепость для куклы-короля с готической башней и подъемным мостом, римский цирк со спичечными фигурками рабов и зверей и довольно громоздкое сооружение с ручкой и множеством цветных дощечек, способных двигаться, трещать и производить смешную варварскую музыку…
Затеи эти много превосходили игровые возможности маленького ребенка. Остропамятливая девочка, сохранившая, как и мать, множество воспоминаний этого времени, не запомнила этих игрушек, может быть, отчасти и потому, что уже в Александрове, куда переселилась семья с Урала в сорок шестом году, Роберт Викторович строил ей целые фантастические города из щепок и крашеной бумаги, богатые подходы к тому, что впоследствии назвали бумажной архитектурой. Хрупкие эти игрушки исчезли в многочисленных переездах семьи в конце сороковых и начале пятидесятых.
Если первая половина жизни Роберта Викторовича проходила в крупных и шальных географических бросках из России во Францию, потом в Америку, на Балканы, в Алжир, снова во Францию и, наконец, опять в Россию, то вторая половина, отбитая лагерем и ссылкой, проходила в мелких перебежках: Александров, Калинин, Пушкино, Лианозово. Так целое десятилетие он снова приближался к Москве, которая отнюдь не казалась ему ни Афинами, ни Иерусалимом.
Эти первые послевоенные годы семью кормила Сонечка, унаследовавшая материнскую швейную машинку и невинную дерзость самоучки, способной пристрочить рукав к вырезу проймы. Заказчики ее были нетребовательны, а сама мастерица старательна и без запроса.
Роберт Викторович работал на каких-то полуинвалидных работах, то сторожем в школе, то счетоводом в артели, производящей чудовищные железные скобы неизвестного назначения. Вскормленный на вольных парижских хлебах, Роберт Викторович и помыслить не мог о профессиональной работе на службе у скучного и унылого государства, даже если бы и смог примириться с его тупой кровожадностью и бесстыдной лживостью.
Свои художественные фантазии он удовлетворял на белоснежных планшетах, сооружая третье поколение бумажно-щепочных строений, которыми когда-то занимал дочь. Мимоходом в нем открылось особое качество видения разверток, точное чутье на пространственно-плоскостные отношения, и глаз нельзя было отвести от причудливых фигур, которые он вырезал из цельного листа и потом, где-то чуть промяв, где-то согнув и вывернув наизнанку, складывал предмет, не имеющий имени и никогда доныне не существовавший в природе. Игра, выдуманная когда-то для дочери, стала его собственной.
Женская доверчивость Сони не знала границ. Талант мужа был однажды принят на веру, и она в благоговейном восхищении рассматривала все, что выходило из его рук. Она не понимала ни сложных пространственных задач, ни тем более элегантных решений, но она чуяла в его странных игрушках отражение его личности, движение таинственных сил и счастливо проговаривала про себя свой заветный мотив: «Господи, господи, за что же мне такое счастье…»
Живопись Роберт Викторович, можно сказать, забросил. Из его прежних развлечений с Танечкой вышло новое ремесло. Покровительствовал, как всегда, случай: в александровской электричке он столкнулся с известным художником Тимлером, знакомым ему еще по Парижу и поддерживавшим с ним отношения после возвращения в Москву вплоть до ареста. Художник этот с репутацией формалиста – кто и когда объяснит, что имела в виду под этой кличкой зарвавшаяся и узаконенная бездарность, – укрывался в те годы в театре. Он приехал к Роберту Викторовичу, полтора часа простоял в дощатом сарае перед несколькими композициями, подписанными рядами арабских цифр и еврейских букв, и, сын местечкового плотника, два года проучившийся в хедере, оценив их исключительное качество, постеснялся спросить автора о значении этих странных рядов, а самому Роберту Викторовичу и в голову не пришло пускаться в объяснение этой несомненной для него связи каббалистической азбуки, сухого остатка его юношеского увлечения иудаикой и дерзких игр с разъятием и выворачиванием пространства.
Тимлер долго молча пил чай, а перед отъездом хмуро сказал:
– Здесь очень сыро, Роберт, вы можете перевезти свои работы в мою мастерскую.
Предложение это означало полное признание и было весьма благородным, но Роберт Викторович им не воспользовался. Вызванные к случайному существованию необозначенные предметы вернулись в небытие, сгнив в одном из последующих сараев и не переживя многих переездов.
Здесь же, в сарае, знаменитый Тимлер дал Роберту Викторовичу первый заказ на театральный макет. Спустя некоторое время макеты его прославились по всей театральной Москве, и заказы не переводились. На полуметровой сцене он сооружал то горьковскую ночлежку, то выморочный кабинет покойника, то громоздил бессмертные лабазы Островского.
* * *
Между дровяными сараями, голубятнями и скрипучими качелями ходила странная Таня. Она любила носить старые материнские платья. Тощая высокая девочка тонула в Сонечкиных балахонах, подвязанных в талии блеклым кашемировым платком. Вокруг узкого лица, как зрелое, но не облетевшее еще одуванчиковое семя, держались стоячие упругие волосы, не продираемые гребнем, не заплетающиеся в косички. Она сновала в густом воздухе, перегруженном запахами старых бочек, тлеющей садовой мебели и плотными, слишком плотными тенями, которые окружают обветшалые и ненужные вещи, и вдруг, как хамелеон, исчезала в них. Она замирала надолго и вздрагивала, когда ее окликали. Сонечка беспокоилась, жаловалась мужу на нервность, странную задумчивость дочери. Он клал руку на Сонино плечо и говорил:
– Оставь ее. Ты же не хочешь, чтобы она маршировала…
Сонечка пыталась приохотить Таню к книгам, но Таня, слушая мастерское Сонино чтение, стекленела глазами и уплывала, куда Соне и не снилось.
За годы своего замужества сама Сонечка превратилась из возвышенной девицы в довольно практичную хозяйку. Ей страстно хотелось нормального человеческого дома, с водопроводным краном на кухне, с отдельной комнатой для дочери, с мастерской для мужа, с котлетами, компотами, с белыми крахмальными простынями, не сшитыми из трех неравных кусков. Во имя этой великой цели Соня работала на двух работах, строчила ночами на машинке и втайне от мужа копила деньги. К тому же она мечтала объединиться с овдовевшим отцом, который почти ослеп и был очень слаб.
Мотаясь в пригородных автобусах и расхлябанных электричках, она быстро и некрасиво старилась: нежный пушок над верхней губой превращался в неопрятную бесполую поросль, веки ползли вниз, придавая лицу собачье выражение, а тени утомления в подглазьях уже не проходили ни после воскресного отдыха, ни после двухнедельного отпуска.
Но горечь старения совсем не отравляла Сонечке жизнь, как это случается с гордыми красавицами: незыблемое старшинство мужа оставляло у нее непреходящее ощущение собственной неувядающей молодости, а неиссякаемое супружеское рвение Роберта подтверждало это. И каждое утро было окрашено цветом незаслуженного женского счастья, столь яркого, что привыкнуть к нему было невозможно. В глубине же души жила тайная готовность ежеминутно утратить это счастье – как случайное, по чьей-то ошибке или недосмотру на нее свалившееся. Милая дочка Таня тоже казалась ей случайным даром, что в свой час подтвердил и гинеколог: матка у Сонечки была так называемая детская, недоразвитая и не способная к деторождению, и никогда больше после Танечки Соня не беременела, о чем горевала и даже плакала. Ей все казалось, что она недостойна любви своего мужа, если не может приносить ему новых детей.
* * *
В начале пятидесятых Сониными огромными трудами и хлопотами семья полуобменяла-полуприкупила жилье, и въехали они в целую четверть двухэтажного деревянного дома, одного из немногих оставшихся к тому времени строений в почти сведенном Петровском парке, возле метро «Динамо». Дом был чудесный – бывшая дача известного до революции адвоката. Четверть сада, примыкавшего к дому, тоже была в придачу к квартире.
Все состоялось. У Тани была отдельная комната, светелка во втором этаже, Сонин отец, доживавший последний свой год, занимал угловушку, на утепленной террасе Роберт Викторович устроил мастерскую. Стало просторней и с деньгами.
По случайному стечению квартирообменных обстоятельств Роберт Викторович оказался вблизи московского Монмартра, в десяти минутах ходьбы от целого городка художников. К полной своей неожиданности, в том месте, которое он считал опустошенным и вытоптанным, он нашел себе если не единомышленников, то по крайней мере собеседников: российского барбизонца, покровителя бездомных котов и подбитых птиц, Александра Ивановича К., писавшего свои буйные картины, сидя на сырой земле, и утверждавшего, что это Антеево прикосновение его седалища придает ему творческие силы; лысого украинского дзэн-буддиста Григория Л., устраивавшего на бумаге прозрачный фарфор и шелк, десятки раз перекрывая акварельные слои то чаем, то молоком; пестроволосого, с перебитым носом поэта Гаврилина, обладавшего врожденным даром рисовальщика: на больших, неровно обрезанных листах оберточной бумаги среди замысловатых фигур он рисовал свои поэмы-палиндромы, словесно-шрифтовые шифровки, восхищавшие Роберта Викторовича.
Все эти странные люди, обнаружившие себя в начале обманчивой оттепели, тянулись к Роберту Викторовичу, и постепенно его замкнутый дом превратился в своего рода клуб, где сам хозяин играл роль почетного председателя.
Он был, как всегда, немногословен, но одного его скептического замечания, одной усмешки было достаточно, чтобы выправить заблудшую дискуссию или повести разговор в новое русло. Тяжко молчавшая много лет страна заговорила, но этот вольный разговор велся при закрытых дверях, страх еще стоял за спиной.
Сонечка штопала Танин чулок, натянув его на скользкий деревянный мухомор, и прислушивалась к разговору мужчин. То, о чем они говорили – о зимних воробьях, о видениях Мейстера Экхарда, о способах заварки чая, о теории цвета Гёте, – никак не соотносилось с заботами стоявшего на дворе времени, но Сонечка благоговейно грелась перед огнем этого всемирного разговора и все твердила про себя: «Господи, Господи, за что же мне все это…»
* * *
Плосконосый Гаврилин, любитель всех искусств, имел привычку лазать по журналам. Однажды он наткнулся в библиотеке в американском искусствоведческом журнале на большую статью о Роберте Викторовиче. Краткая биографическая справка о художнике оканчивалась несколько преувеличенным сообщением о его смерти в сталинских лагерях в конце тридцатых годов. Аналитическая часть статьи была написана слишком сложным для поэта языком, он не все понял, но из того, что ему удалось перевести, следовало, что Роберт Викторович чуть ли не классик и уж, во всяком случае, пионер художественного направления, изо всех сил расцветающего теперь в Европе. К статье прилагалось четыре цветных репродукции.
На следующий же день Роберт Викторович в сопровождении друга-барбизонца пошел в московскую библиотеку, разыскал статью и пришел в неописуемую ярость оттого, что одна из четырех репродуцируемых картин не имела к нему никакого отношения, ибо принадлежала Моранди, а другая напечатана вверх ногами. Когда же он прочитал статью, он пришел в еще большую ярость.
– Америка еще в двадцатые годы производила на меня впечатление страны беспросветных дураков. Видно, она не поумнела, – фыркнул он.
Однако Гаврилин растрезвонил об этой статье по всему околотку, и старого макетчика вспомнили даже разбитные быстродействующие театральные художники и прибежали заново знакомиться.
Неожиданным следствием всей этой беготни было принятие Роберта Викторовича в Союз художников и получение им мастерской. Это было хорошее ателье, окнами на стадион «Динамо», ничуть не хуже того последнего, парижского, мансарды на улице Гей-Люссак, с видом на Люксембургский сад.
* * *
Сонечке было уже под сорок. Она поседела и сильно располнела. Легкий и сухой, как саранча, Роберт Викторович мало менялся, и они постепенно как-то сравнялись в возрасте. Таня немного стеснялась старости своих родителей, так же как и своего большого роста, ступней, груди. Все было не в масштабе, не в размере того десятилетия, когда акселераты еще не народились. Но в отличие от Сони рядом с ней не было подсмеивающегося старшего брата, а со всех стен благотворно смотрели ее чудесные портреты во всех детских возрастах. И эти портреты смягчали Танино недовольство собой. С седьмого класса она начала получать убедительные доказательства своей привлекательности от недоросших одноклассников и более старших мальчиков.
С раннего детства все Танины желания были легко удовлетворимы. Любящие родители по этой части сильно усердствовали, обычно забегая впереди ее желаний. Рыбки, собака, пианино появлялись едва ли не в тот же день, когда девочка о них заговаривала.
С самого рождения она была окружена чудесными игрушками, и игра, самостоятельная, не требующая иных участников, была главным содержанием ее жизни. Так и получилось, что, выйдя из развлечений своего затянувшегося детства, года два проспала она, промаялась на известном переходе и, рано поняв, какую именно игру предпочитают взрослые, отдалась ей с ясным сознанием своего права на удовольствия и свободой неподавленной личности.
Ничего и близко похожего на унизительную любовь Сонечки к Вите Старостину у Тани не было. Хотя она не была красавицей усредненного канона и была совершенно лишена общепонятой миловидности, ее длинное лицо с тонким в хребте носом, в сильно вздыбленных кудрявых волосах, узкие светло-стеклянные глаза были на редкость притягательными. Ровесников привлекала также Танина манера постоянно играть: с книгой, карандашом, с собственной шапкой. В ее руках постоянно происходил маленький, заметный только ближайшему соседу театр.
Однажды, заигравшись с пальцами и губами своего приятеля Бориски, к которому бегала списывать домашние задания по математике, она обнаружила некий предмет, ей не принадлежавший, который чрезвычайно увлек ее. Дверь в комнату родителей Бориски в этот вечерний час была приоткрыта, и эта светлая широкая щель с двумя толстыми тенями перед телевизором тоже как бы входила в условия игры, которые они прекрасно соблюли, подавая друг другу реплики, совершенно не имеющие отношения к происходящему. И хотя сеанс этот начался с невинного детского обмена вопросами: «А ты никогда не пробовал?», «А ты?» – после чего не знающая ни в чем отказа Танечка предложила: «Давай попробуем!» – сеанс этот закончился кратким введением – в прямом и переносном смысле – в новый предмет.
В обжигающий момент из соседней комнаты поступило несвоевременное предложение поужинать, и дальнейшие пробы были отложены до более благоприятного времени.
Следующие встречи происходили уже в отсутствие родителей. Самым увлекательным для Тани было новое осознание своего тела: оказалось, что каждая его часть – пальцы, грудь, живот, спина – обладает разной отзывчивостью к прикосновениям и позволяет извлекать из себя всякие прелестные ощущения, и это взаимоисследование доставляло обоим массу удовольствия.
Щуплый веснушчатый мальчик с выпирающими вперед крупными зубами и воспаленными уголками губ также проявил незаурядный талант, и в течение двух месяцев юные экспериментаторы, вдохновенно трудясь от трех до половины седьмого, то есть до прихода Борискиных родителей, в полном объеме усвоили всю механическую сторону любви, не испытав при этом ни малейшего чувства, выходящего за рамки дружеского и делового партнерства.
А потом между ними произошел конфликт, что называется, на производственной почве: Таня взяла у Бориски тетрадь по геометрии – и потеряла. И сообщила ему об этом в совершенно легкомысленной форме, даже не извинившись. Бориска, человек аккуратный и даже педантичный, страшно возмутился – не столько фактом потери тетради, сколько полным непониманием Таней неприличия своего поведения. Таня назвала его занудой, он ее – жлобихой. Они поссорились.
В высвободившееся от трех до половины седьмого время Бориска стал усиленно заниматься математикой, полностью определил свое призвание в области точных наук, а Танечка, нисколько не гонявшаяся за жизнеустройством, выдувала плохонькую деревянную музыку из флейты в своей светелке, грызла ногти и читала… О, бедная Сонечка, светлая ее юность, прошедшая на высокогорьях всемирной литературы! – фантастику, только фантастику, как зарубежную, так и отечественную, читала ее гуманитарно невинная дочь…
Тем временем на шаткие звуки Таниной флейты стягивались войска поклонников. Самый воздух вокруг нее был накален, ее наэлектризованные кудри стояли дыбом и искрили мелкими разрядами при одном только приближении руки. Сонечка еле успевала открывать и затворять двери за молодыми людьми в зоологических свитерах с угловатыми оленями и сизых гимнастерках и кителях, анахронической одежде школьников конца пятидесятых годов, придуманной в припадке ностальгического слабоумия каким-то престарелым министром наробразования.
Владимир А., выдающийся музыкант, скандальнейшим образом оставшийся в Европе в те годы, когда по эту сторону границы такой поступок воспринимался как политическое преступление, в книге своих воспоминаний, изданной в конце девяностых годов и обнаружившей в нем незаурядные дарования литератора, опишет музыкальные вечера в Таниной комнате, ее прямострунное пианино с чудесным звуком и нуждающееся в ежедневной настройке. С нежностью вспоминает он этот странный инструмент, открывший начинающему музыканту тайну индивидуальности вещи. Он говорит о нем, как можно было бы говорить о старенькой, давно умершей родственнице, кормившей автора в детстве незабываемыми пирожками с начинкой из одной вишни.
По свидетельству Владимира А., именно в Таниной комнате, выходящей затейливым окном в сад, на старую яблоню с раздвоенным стволом, аккомпанируя слабенькой Таниной флейте, он впервые испытал волнение творческого взаимопонимания и радостно шел на некоторое музыкальное самоуничтожение, чтобы предоставить робкой флейте более значительное положение.
Владимир А., в ту пору маленький, толстоватый, похожий на тапира мальчик, был влюблен в Таню. Она оставила глубокий след в его жизни и душе, и обе его жены – первая, московская, и вторая, лондонская, – несомненно, принадлежали к тому женскому типу.
Вторым музыкальным собеседником был Алеша Питерский – под такой кличкой его знали в Москве. Классической выучке Володи он противопоставлял гитарную свободу и полное владение всеми предметами, которые могли издавать звук, от губной гармошки до двух консервных банок. К тому же он был поэт и высоким петрушечьим голосом пел первые песни новой подпольной культуры.
Были еще несколько мальчиков, скорее присутствователей, чем участников, но и они были необходимы, поскольку создавали восхищенную аудиторию, в которой нуждались обе будущие знаменитости.
* * *
В годы своей юности Роберт Викторович тоже был центром завихрения каких-то невидимых потоков, но это были потоки иного свойства, интеллектуального. На них, как и на зов Таниной дудочки, тоже стекались молодые люди. Примечательно, что кружок этих рано взрослевших еврейских мальчиков, тинейджеров по современным понятиям, в острые предвоенные годы исследовал не модный в ту пору марксизм, а «Сефер ха-зохари», «Книгу сияний», основной трактат каббалы. Эти мальчики с Подола, еврейской окраины Киева, собирались в доме Авигдора-мельника, отца Роберта Викторовича, и дом этот примыкал стена к стене к соседнему, принадлежащему Шварцману, отцу Льва Шестова, с которым спустя двадцать лет, уже в Париже, близко сойдется Роберт Викторович.
Ни один из тех мальчиков, кому выпало пережить годы войн и революций, не стал ни традиционным еврейским философом, ни вероучителем. Все они выросли в «эпикейрес», то есть в «свободомыслящих». Один стал блестящим теоретиком и несколько менее удачливым практиком начинающего кинематографа, второй – известным музыкантом, третий – хирургом с благословенными руками, и все они были вскормлены одним молоком, тем молодым электричеством, что накапливалось под крышей Авигдора-мельника.
Происходящее вокруг Тани, как догадался Роберт Викторович, было то самое, чем и его молодость была заряжена, но под знаком иной стихии, женской, столь ему враждебной, да еще с поправкой на обнищалое, выродившееся поколение…
Роберт Викторович первым заметил, что поздние Танины посетители уходят иногда рано утром. Сохранивший на всю жизнь привычку к раннему просыпанию, Роберт Викторович, выйдя в шестом часу утра из жилой части дома в свою мастерскую-террасу, где любил проводить эти первые, наиболее чистые, по его ощущению, часы, заметил свежие следы, ведущие с крыльца к калитке по только что выпавшему снегу. Через несколько дней он заметил их снова и осторожно спросил у жены, не ночевала ли у них Сонина сестра. Сонечка удивилась: нет, Аня не ночевала…
Роберт Викторович не стал производить расследование, поскольку на следующее утро увидел, как через садик выходит высокий молодой человек в тощей курточке. Соне о своем открытии он ни слова не сказал. И Сонечка клонила ночную тяжелую голову на мужнее плечо и жаловалась:
– Она не учится… ничего не делает… в школе ее ругают… какие-то намеки гадкие эта ее… Раиса Семеновна…
Роберт Викторович утешал ее:
– Оставь, Соня, оставь. Это все мертвое и смердит отвратительно… Да пусть она бросит эту убогую школу. Кому она нужна…
– Что ты! Что ты! – пугалась Соня. – Образование нужно.
– Да угомонись ты, – обрывал ее муж. – Оставь девчонку в покое. Не хочет – и не надо. Пусть играет на своей дудке, в этом не меньше проку…
– Роберт, но эти мальчики. Меня так беспокоит… – шла в робкую атаку Сонечка. – Мне кажется, один у нее всю ночь просидел, она потом в школу не пошла.
Роберт Викторович не поделился с Соней своими утренними наблюдениями, промолчал.
С тех пор как Таня дала отставку Бориске, началась настоящая собачья свадьба. Переполненные стероидами юноши клубились возле нее настойчиво и неотвязно. С несколькими из претендентов она испробовала новое развлечение. Сравнение шло в пользу Бориски – по всем статьям и статям.
К весне стало ясно, что в девятый класс ее не переведут. Школьная маета была совсем уж непереносима, и Роберт Викторович, слова не говоря Соне, отнес Танины документы в вечернюю школу, что повлекло за собой глубочайшие последствия для всей семьи, в первую очередь для него самого.
* * *
Властная прихоть судьбы, некогда определившая Сонечку в жены Роберту Викторовичу, настигла и Таню. Предметом страстной влюбленности стала школьная уборщица, а заодно и одноклассница, восемнадцатилетняя Яся, маленькая полячка с гладким, как свежеснесенное яичко, лицом. Дружба их медленно завязывалась на предпоследней парте. Крупная и размашистая Таня с обожанием смотрела на прозрачную, вроде отмытого аптечного пузырька, Ясю и страдала от застенчивости. Яся была молчалива, односложно отвечала на редкие Танины вопросы и вид имела сдержанно-высокомерный. Была она дочерью польских коммунистов, бежавших от фашистского нашествия – по воле обстоятельств в разные стороны: отец – на запад, мать с грудной девочкой – на восток, в Россию. Ей не удалось раствориться в миллионной стране, и она была человеколюбиво сослана в Казахстан, где, промыкавшись горько десять лет, не утратив возвышенных безумных идеалов, и умерла.
Яся попала в детский дом, проявила незаурядную привязчивость к жизни, выжив в условиях, как будто специально созданных для медленного умирания души и тела, и вырвалась оттуда благодаря умению максимально использовать предлагаемые обстоятельства.
Высоко поднятые над серыми глазами брови и нежный кошачий ротик, казалось, просили о покровительстве, и покровительство действительно находилось. В числе ее покровителей бывали и мужчины и женщины, но в силу природной независимости она предпочитала мужчин, с раннего возраста усвоив недорогой способ с ними расчесться.
Один из последних ее покровителей, возникший уже после ее зачисления в какое-то чудовищное ремесленное училище для детдомовских и продуманного побега из него, был толстый сорокалетний татарин Равиль, проводник, довезший ее до самого Казанского вокзала города Москвы, откуда она планировала начать свое восхождение. В боковом кармане ее клетчатой хозяйственной сумки лежали выкраденный из директорского кабинета, незадолго до этого выписанный на ее имя паспорт и двадцать три дореформенных рубля, стянутых у спящего Равиля на подъезде к Оренбургу. Ворованные эти деньги не жгли ей рук по двум причинам: она взяла совсем немного из толстой пачки и, кроме того, чувствовала себя вполне отработавшей эти деньги за четырехдневную дорогу.
Равиль дорожной кражи не заметил и сильно огорчился, когда девочка не пришла через сутки к седьмому вагону, чтобы вернуться с ним обратно в Казахстан, как обещала.
С улыбкой тонкого снисхождения к себе, такой наивной дурочке в недавнем прошлом, она рассказывала Тане, как, намочив серое железнодорожное полотенце в раковине общественной уборной Казанского вокзала, раздевшись догола на глазах очумевших азиаток, клубящихся в этом смрадном месте, она обтерлась с ног до головы, достала из той же клетчатой сумки завернутую в две газеты, давно хранимую для этого случая белую блузку с оборкой на воротнике, переоделась и, бросив полотенце в ржавую проволочную корзину, пошла завоевывать Москву, начав с первой попавшейся позиции, то есть со знаменитой площади у трех вокзалов.
В клетчатой сумке лежали две пары трусов, грязная синяя блузка, тетрадь с переписанными собственноручно стихами и пачка открыток знаменитых актеров. Она была тверда, сообразительна и действительно до неправдоподобия наивна: она мечтала стать киноактрисой.
Все располагало к тому, чтобы Яся стала профессиональной проституткой, но этого не произошло.
За два года, проведенных в Москве, она достигла значительных успехов; у нее была временная прописка, временное жилье в чулане при школе, где она работала уборщицей и куда время от времени забегал к ней участковый Малинин, пожилой краснорожий благодетель, через которого она и получила все эти временные подарки судьбы. Посещения Малинина были кратки, для Яси необременительны и не слишком привлекательны для самого Малинина; но он был вдохновенным взяточником и вымогателем, а поскольку от Яси взять было совершенно нечего, то приходилось брать то, что дают.
В этом самом чулане на физкультурном мате, удачно заменяющем постель, Яся и рассказала Тане свою историю. Таня приняла все в сердце, испытав при этом сильнейшее сложносоставное чувство жалости, зависти и стыда за свое беспросветное благополучие. Яся, подробно, точно и сухо рассказав о себе все, что помнила, неожиданно увидела все прожитое со стороны и возненавидела его так сильно и окончательно, что никогда и никому уже больше не рассказывала этой правды. Она придумала себе новое прошлое, с аристократической бабушкой, имением в Польше и французскими родственниками, которые как черт из коробочки вынырнут еще в ее жизни в свой час…
Кроме Ясиного чулана было при школе еще одно жилое помещение, которое занимала преподавательница русского языка и литературы, военная вдова Таисия Сергеевна. К посещениям Малинина она относилась крайне неодобрительно, но это не мешало ей поручать Ясе надзор за своими малолетними детьми и всяческое мытье. За все эти соседские услуги Ясе разрешено было пользоваться книжным шкафом учительницы и не посещать уроков литературы. Таисия Сергеевна предпочитала, чтобы Яся в это время сидела с ее детьми.
Отслужив все часы своей службы, Яся ложилась на пахнущий потной кожей физкультурный мат и учила наизусть басни Крылова, без которых во все времена невозможно было поступить ни в какое театральное училище. Или читала вслух Шекспира от первого тома до последнего, разыгрывая трагическим шепотом все женские роли – от Миранды, дочери Просперо, до Марины, дочери Перикла.
Учителя вечерней школы, успевшие измотаться еще до обеда, обучая младших, дневных братьев своих вечерних учеников, не сильно донимали их уроками. К тому же половину класса составляли обитатели милицейского общежития, находившегося неподалеку, и усталые молодые мужики мирно дремали в полутемном классе, получали свои тройки и успешно шли учиться дальше, кто на юриста, кто по партийной линии… Яся была единственной во всем классе, кому парта была по росту, остальные застревали в этих деревянных станках, специально придуманных для мучительства малолетних…
Резкая, размашистая Таня двигалась шумно, с невоспитанной свободой жеребенка. Садясь за парту, она сдвигала ее так, что Яся слегка подпрыгивала своей легкой головкой. Сама Яся выходила из-за парты бесшумно, откидывая крышку и делая скользкое и ласковое движение бедрами. Она шла по узкому проходу к доске, нижняя часть ее тела как бы чуть отставала от верхней, и та нога ее, что в шагу была позади, чуть приволакивалась, замирала на носочке, а коленями она двигала так, словно толкала тяжелую ткань длинного вечернего платья, а не задрипанной юбочки. И прогиб в пояснице был какой-то особенный, и каждая часть ее тела совершала свои отдельные движения, и все они – и маленькое поигрывание грудью, и зыбкость бедер, и особое покачивание в щиколотке, – все вместе это было не отработанными приемами кокетки, а женской музыкой тела, требующего внимания и восхищения. Немолодой тридцатилетний милиционер Чурилин с крупным лицом в черных военных порошинах тряс головой ей вслед и бормотал:
– Ишь ты… ммм…
И непонятно было, что в этом мычании – отвращение или восторг. Впрочем, держалась Яся так независимо, что дальше чурилинского мычания у милиционеров дело не шло.
Возвращаясь домой, Таня все пыталась пройти в темноте ночного парка этой походкой, сыграть Ясину музыку своими коленями, бедрами, плечами – тянула вверх шею, приволакивала ногу, качала бедрами. Ей казалось, что большой рост мешал ей быть такой же привлекательно-зыбкой, как Яся, и она сутулилась. «В ней есть что-то от эльфа», – думала Таня и, устав от своих ходильно-балетных упражнений, неслась к дому, разбрасывая длиннющие ноги, делая неравномерные отмашки то правой, то левой рукой, вскидывая головой, отбрасывая назад набравшие вечернего тумана волосы, а Роберт Викторович, частенько выходивший встречать ее в парке в эти вечерние часы, издали узнавал ее походку и весь ее характер, запечатленный в несоразмерных движениях, и улыбался силе и несуразности на полголовы переросшей его дочери.
Оба они любили этот вечерний парк, ценили молчаливое взаимопонимание, тайное подтверждение их не высказанного вслух заговора против Сонечки. Роберт Викторович по врожденному высокомерию, Таня – по юности и наследственности, оба претендовали на благую часть отборного интеллектуализма, оставляя за Сонечкой низменные столы и хлеба.
Но Сонечке и в голову не приходило печалиться своей участью, ревновать о высшем: чисто мыла она тарелки и кастрюли, со страстным старанием готовила еду, сверяясь с рецептами, выписанными расплывающимися лиловыми чернилами из сестриной книги Елены Молоховец, кипятила баки с бельем, подсинивала и крахмалила, а Роберт Викторович иногда внимательно смотрел из-за ее большой спины на синьку, манку, струганное хозяйственное мыло, фасоль и со свойственной ему остротой отмечал убедительную художественность, высокую осмысленность и красоту Сонечкиного домашнего творчества. «Мудр, мудр мир муравья…» – думал он мимолетно и затворял за собой дверь на теплую террасу, где водились его суровые бумаги, свинцовые белила и еще немногое, что он допускал в свои строгие упражнения.
Тане дела не было до материнской кухонной жизни: она существовала теперь в дымке влюбленности. Просыпаясь утром, долго лежала с закрытыми глазами, представляя себе Ясю, себя с Ясей в каких-то привлекательно-вымышленных обстоятельствах: то они скачут через молодой луг на белых лошадях, то плывут на яхте по Средиземному, например, морю.
Ее вольное и бесцеремонное даже обращение со священным инструментарием природы обернулось для нее тем, что инстинкты ее немного заблудились и, деля со стройными мальчиками веселые телесные удовольствия, душой она тосковала по высокому общению, соединению, слиянию, взаимности, не имеющей ни границ, ни берегов. Ясю выбрала ее душа, и всеми усилиями разума стремилась она обосновать этот выбор, дать ему рациональное объяснение.
– Ах, мама, она кажется слабой, воздушной, а сильная – необычайно! – восхищалась Таня, рассказывая матери о своей новой подруге, о жестокой детдомовщине, побегах, побоях, победах. Яся в своих рассказах Тане из природной осторожности кое-что обошла: про ссылку матери, про детскую дешевую торговлю телом, про укоренившуюся привычку мелочного воровства.
Но Сонечке и сказанного было достаточно, чтобы заранее отозваться на детское страдание и догадаться о том, что от Тани оставалось сокрытым. «Бедная, бедная девочка, – думала про себя Соня. – И наша Танечка вот так же могла бы, ведь столько всего было…»
И она вспоминала все те многие случаи, когда Бог уберег их от ранней смерти: как Роберта выбросили из вагона александровской электрички, как рухнула балка в помещении, где она работала, и половина комнаты, из которой она за минуту до этого вышла, оказалась заваленной темным старинным кирпичом, и как умирала она на больничном столе после гнойного аппендицита… «Бедная девочка», – вздыхала Сонечка, и эта незнакомая девочка приобретала черты Тани…
* * *
До самого Нового года Таня не могла зазвать Ясю в гости. Яся, пожимая плечами, все отказывалась, но не объясняла Тане свой упорный отказ.
А дело было в том, что ею давно уже овладело сильное и смутное предчувствие нового многообещающего пространства, и она, как полководец перед решающим боем, тайно и тщательно готовилась к этому визиту, связывая с ним самые неопределенные надежды.
В магазине «Ткани» у Никитских ворот она купила кусок холодной на ощупь и горячей на глаз, какого-то ошпаренного цвета тафты и поздними вечерами шила мельчайшими стежками, на руках, нарядное платье – в тишине и одиночестве, молитвенно и сосредоточенно, как беременная женщина, немного боясь сглазить заблаговременностью шитья одежд нерожденному ребенку самый акт появления его на свет.
Она пришла в двенадцатом часу тридцать первого декабря, к накрытому столу, за которым сидели и барбизонец, и поэт, и сверх того режиссер с птичьим носом и лягушечьим ртом. Она еще толком не разглядела их значительных лиц, но уже внутренне ликовала, понимая, что попала в яблочко предвкушаемой мишени. Именно они, эти взрослые самостоятельные мужчины, и нужны ей были для разгона, для взлета, для полной и окончательной победы.
Ласковый и благодарный взгляд она бросила в сторону Тани, которая счастливо и розово сверкала ей навстречу подкрашенными щеками. Таня до последней минуты не была уверена, что Яся придет, и теперь гордилась Ясиной красотой, как будто сама ее придумала и нарисовала.
Платье Яси громко и шелково шуршало, а тяжелые русые волосы были цельными, словно отлитыми из светлой смолы, и лежали на плечах как подрубленные, точно как у Марины Влади в знаменитом в тот год фильме «Колдунья». Вырез платья был глубоким, и козьи ее груди, прижатые одна к другой, образовывали нежную дорожку вниз, и талия была тоненькая и еще специально утянутая в рюмочку, и щиколотки тонки под плотными икрами, и запястья казались особенно узкими из-за некоторой припухлости предплечий. Именно не гитарная грубость, а стеклянная прелесть маленькой рюмки, мимолетно отметил про себя Роберт Викторович.
Несколько разочарована была Сонечка. Заранее отозвавшись на трудную судьбу Таниной подруги, она не была готова вместо золушки-замарашки увидеть нарядную красотку с подведенными глазами, во всей притягательности светлой славянской красоты.
Яся отвечала на вопросы односложно, глаза ее были опущены, пока она не вскидывала утяжеленные тушью ресницы, чтобы вымолвить, именно вымолвить со смиренно-королевской интонацией своей покойной матери: «Спасибо, нет, благодарю вас, да…» В немногословных ее ответах чуткое ухо могло уловить польский акцент – эти слипшиеся «в» и «л».
Сонечка с умилением подкладывала Ясе на тарелку еду. Яся вздыхала, отказывалась, а потом все-таки съедала и утиную ножку, и еще кусочек студня, и салат с крабами.
– Я уже больше не могу, благодарю вас, – обаятельно и почти жалобно говорила Яся, а Сонечка все не могла выпустить из своего сердца сочувствия: сирота, бедная девочка, детдом… Господи, ну как же так можно…
Барбизонец Александр Иванович уже пел темным дьяконским голосом оперные арии на итальянском языке, напившийся Гаврилин безумно смешно изображал, как собачка ищет блоху. Закатывая глаза, рычал то злобно, то блаженно, залезал головой себе под мышку, всех смешил до изнеможения. Роберт Викторович улыбался, посверкивая двойным металлом – глаз и свеже-вставленных зубов.
В третьем часу пришел Алеша Питерский, Танин рьяный поклонник, с будущей славой, которую он уже на себя примеривал, и мешочком серой травы – был он из первых любителей азиатского кайфа на невских берегах. Алеша не чинясь расчехлил гитару и спел несколько печально-остроумных и смешных песен, яростно кривляясь и растягивая петрушечий рот балаганного актера.
Алеша был влюблен в Таню, Танечка – в Ясю, а Яся в этот новогодний вечер влюбилась в Танин дом. Под утро, когда гости разошлись и девочки помогли убрать со стола, Соня оставила Ясю ночевать в пустующей угловой комнате, где и обнаружил ее днем Роберт Викторович, зайдя туда в поисках рулона серой бумаги.
В доме было тихо. Соня, убрав в доме после гостей, уехала к сестре, Таня спала в своей светелке, а Яся, проснувшись от звука скрипнувшей двери, открыла глаза и довольно долго наблюдала, как Роберт Викторович роется за шкафом, тихонько чертыхается. Она смотрела ему в спину и все пыталась вспомнить, на какого именно американского актера он похож. Видала она такое же вот лицо, такой же серебряный бобрик в польском журнале «Пшегленд артистичен», который изучала от корки до корки. Она никак не могла вспомнить фамилию актера, но ей показалось, что даже и рубашка у того американца была такая же, в крупную и редкую клетку.
Она села на кровати. Кровать скрипнула. Роберт Викторович обернулся. Из огромной Сониной ночной рубахи выглядывала маленькая светлая голова на короткой шее. Девчушка облизнулась, улыбнулась, потянула рубашку за рукава, и она легко поползла вниз через горловину. Двинув ногой, сбросила на пол одеяло, встала во весь рост, и огромная рубаха легко соскользнула вниз. Детскими короткими ступнями она пробежала по холодному крашеному полу к Роберту Викторовичу, вынула из его рук наконец-то отысканный рулон и, как будто заменив его собой, оказалась в руках Роберта Викторовича.
– Один разок, и быстренько, – сказала деловитая фея без всякого кокетства, как говорила обычно своему благодетелю милиционеру Малинину. Но там-то она знала, зачем это делает, а здесь – ни корысти, ни расчета. И сама не знала почему. Из благодарности к дому… И еще – он здорово был похож на того актера, американского, знаменитого. Питер О’Тул, что ли…
А про то, что мужчина может отказаться от предложенной ему милости, знака внимания и благодарности, она просто и не знала. Маленькая, как будто на токарном станке выточенная из самого белого и теплого дерева, тянула она к нему свое праздничное личико.
Чуть попятившись к шкафу, он сказал строго: «Быстро под одеяло, простудишься!» – и вышел из комнаты, забыв рулон бумаги. Никогда не видел он такой лунной, такой металлической яркости тела.
Яся укрылась еще не успевшим остыть одеялом и через минуту опять спала. Спала с наслаждением, и во сне не забывая о сладости этого домашнего сна в домашнем доме, и ночная Сонина рубашка, которую она уже больше на себя не надела, лежала у нее под щекой и райски пахла.
А ужаленный Роберт Викторович ходил по соседней комнате, ежился и крутил головой. Ранние сумерки только что начавшегося года смотрели в окно, и Соня все не шла, а Таня не спускалась вниз по скрипучей лестнице. И он осторожно отворил дверь в угловую комнату, тихо подошел к кровати. Девчонка была укрыта почти с головой, только русый затылок был на поверхности. Он сунул свои сухие ладони под теплый сугроб одеяла. И вмешательство его рук в Ясин сон не оборвало его, ничего не испортило. Яся развернулась навстречу его рукам, и еще одна, последняя жизнь началась у Роберта Викторовича.
* * *
Честный новогодний мороз к вечеру окреп. На столе подсыхали развороченные остатки прошлогоднего уже кушанья. Роберт Викторович не ел. Вчерашняя еда вызывала отвращение, и он думал о своих мудрых предках, сжигавших остатки пасхальной еды, не допуская такого вот ее поношения…
Сонечка бессмысленно размешивала ложечкой чай, в котором не было сахара, и все собиралась сказать мужу важное, но не находила для этого подходящих слов.
Роберт Викторович с задумчивым лицом ловил глухие отзвуки счастливого гула в сердцевине своих состарившихся костей и пытался вспомнить, когда уже он испытывал это… откуда странное чувство припоминания… Может, что-то похожее было в детстве, когда, накувыркавшись досыта в тяжелой днепровской воде, он вылезал на хрусткий перегретый песок, зарывался в него и грелся в этой песчаной бане до сладкого отзыва в костях… И еще что-то схожее с острым озарением детства, когда, выйдя ночью по малой нужде, маленький Рувим, сын Авигдора, превратившийся с годами в Роберта Викторовича, запрокинул голову и увидел, что все звезды мира смотрят на него сверху живыми и любопытствующими глазами, и тихий перезвон покрывает небо складчатым плащом, и он, маленький мальчик, как будто держит на себе все нити мира, и на конце каждой звенит пронзительный мелкозвучный колокольчик, и во всей этой гигантской музыкальной шкатулке он и есть сердцевина, и весь мир послушно отзывается на биение его сердца, на каждый вздох, на ток крови и на излияние теплой мочи… Он опустил задранную ночную рубашку, поднял медленно вверх руки, словно дирижируя этим небесным оркестром… И музыка пронизала его насквозь, сладкой волной проходя по сердцевине костей…
Он забыл, забыл эту музыку, и только воспоминание о ней долгие годы не стиралось.
– Роберт, пусть эта девочка поживет у нас в доме. Угловая свободна, – тихо сказала Сонечка, остановив ложечку в стакане.
Роберт Викторович посмотрел на жену удивленным взглядом и сказал свое обычное, что говорил всегда, когда речь шла о вещах, мало его трогающих:
– Если ты считаешь нужным, Соня. Делай, как считаешь нужным.
И вышел в свою комнату.
* * *
Яся перебралась в дом Сонечки. Ее молчаливое миловидное присутствие было приятно Соне и ласкало ее тайную гордость – приютить сироту, это была «мицва», доброе дело, а для Сони, с течением лет все отчетливей слышавшей в себе еврейское начало, это было одновременно и радостью, и приятным исполнением долга.
В ней просыпалась память о субботе, и тянуло к упорядоченно-ритуальной жизни предков с ее незыблемой основой, прочным, тяжелоногим столом, покрытым жесткой торжественной скатертью, со свечами, с домашним хлебом и тем семейным таинством, которое совершалось в канун субботы в каждом еврейском доме. И, оторванная от этой древней жизни, она вкладывала весь свой неопознанно-религиозный пыл в кухонную возню с мясом, луком и морковью, в жестко-белые салфетки, во всеустройство стола, где судок для приправ, подставки для ножей, тарелочки справа, слева грамотно были расставлены, как велел совсем другой канон, новый, буржуазный. Но до этого Соня не додумалась.
Последние годы, годы относительного благополучия, ей вдруг стала мала ее семья, и она втайне горевала, что не было ей суждено народить множество детей, как было принято в ее племени. Она все прикупала, прикупала разрозненные кузнецовские соусники и фаянсовые английские тарелки по баснословно блошиным ценам в комиссионке на Нижней Масловке, словно настраиваясь на грядущее многочадие дочери Тани.
Религия Сони, как и Библия, состояла из трех разделов. Только вместо Торы, Небиим и Ктувим это было Первое, Второе и Третье.
Ясино присутствие за столом создавало Соне иллюзию увеличения семьи и украшало застолье – так естественно и мило она держалась за столом, ела как будто бы немного, но с несгораемым аппетитом, до смешной усталости, потому что память о детском постоянном голоде была в ней неистребима. Откидываясь на спинку стула, она тихонько стонала:
– Ой, тетя Соня! Так вкусно было… Опять я объелась…
А Сонечка блаженно улыбалась и ставила на стол низенькие стеклянные вазочки с компотом.
* * *
Прошло два месяца. Благодаря Ясиной кошачьей приспосабливаемости и врожденной деликатности она не только заняла угловую комнату, но сверх того определилась в семье в статусе полуродственницы.
Ранним утром она убегала мыть шершавые школьные коридоры и слякотные уборные, вечерами вместе с Таней ходила в ту же школу на занятия. Иногда до школы не доходили, прогуливая убогие уроки засыпающих учителей. Их отношения с Таней определились как сестринские, причем Таня, по возрасту младшая, с переездом Яси в их дом незаметно заняла место старшей сестры, и ее влюбленность в Ясю перестала быть такой восторженной и напряженной.
Девочки часто забирались в Танину светелку. Таня, усевшись в позе лотоса, играла свою неверную музыку на флейте, а Яся, свернувшись клубком у ее ног, немного шепелявым шепотом читала вымирающие пьесы Островского. Готовилась в театральное училище.
Соню умиляло Ясино пристрастие к чтению. К тому же ей казалось, что Танечка попутно приобщается к большой культуре. В этом она заблуждалась.
Если девочки о чем и говорили, то Яся главным образом довольствовалась ролью вежливой слушательницы. Без особого интереса и внутреннего сочувствия она слушала о Таниных любовных приключениях. Энтузиазм подруги был ей совершенно чужд, а Таня ошибочно относила Ясино равнодушие за счет незначительности ее собственного опыта в сравнении с богатством переживаний подруги. Ей и в голову не приходило, что Яся – с двенадцати лет впервые – свободна от необходимости впускать в свое совершенно незаинтересованное тело «ихние противные штучки»…
* * *
Роберт Викторович от Ясиного присутствия изнемогал. Этот эпизод в угловой комнате, в ранних сумерках первого дня года, он вспоминал как наваждение, как подсмотренный чужой сон. Ясю он впускал теперь лишь в обзор бокового зрения, воровато услаждая свой глаз ее тихой белизной, и плавился на огне молодого желания. Никаких даже самых малых движений в ее сторону он не допускал, но не потому, что какие-либо мелкие моральные мотивы его беспокоили. Желание принадлежало ему, женщина ему не принадлежала и, более того, занимая Сониными стараниями табулированное место рядом с дочерью, принадлежать не могла.
Он часами смотрел в тонко меняющуюся от освещения и влажности белизну снега за окном, вглядывался в плавкий белый бок фаянсового кувшина, в обрезки крупнозернистого ватмана на столе, в тускло-белые гипсовые отливки старых рельефов с едва намеченными в них телами букв древнего алфавита.
На исходе второго месяца он снова стал писать – через двадцать лет после лагерных упражнений, прихотливого копирования скучной дичи.
Теперь это были сплошь белые натюрморты, в них выстраивались многотрудные мысли Роберта Викторовича о природе белого, о форме и фактуре, порабощающей живописное начало, и слогами, словами его размышлений были фарфоровые сахарницы, белые вафельные полотенца, молоко в стеклянной банке и все то, что житейскому взгляду кажется белым, а Роберту Викторовичу представлялось мучительной дорогой в поисках идеального и тайного.
Однажды, когда зима уже стронулась и снежное великолепие Петровского парка увяло и съежилось, ранним утром они одновременно вышли на крыльцо: Роберт Викторович с двумя подрамниками и рулоном крафта и Яся с красной матерчатой сумочкой, в которой бултыхались два вечерних учебника.
– Подержите, пожалуйста. – Он сунул ей рулон в руки со смутным чувством, что нечто подобное уже где-то промелькивало.
Яся поспешно притянула к себе рулон, пока он поудобнее перехватывал подрамники.
– Может, я помогу вам донести, – предложила, не поднимая глаз, девочка.
Он молчал, она подняла голову, и впервые за время их совместного проживания под одной крышей он острыми зрачками воткнулся в самую сердцевину ее безмятежных глаз. Он кивнул, и она согласно опустила голову в белой пуховой косынке и пошла за ним, колдовски ступая детскими резиновыми ботиками в его следы.
Он не оборачивался всю недлинную дорогу. Так, гуськом, они дошли до подъезда многоэтажного дома, где в длинных коридорах, дверь к двери, трудолюбиво и деловито созидалось прилично оплачиваемое социалистическое искусство, и в унылых коридорах громоздились изводы лысого гиганта мысли…
Прижимаясь спиной к гранитному боку монумента, неловко придерживая ногой дверь, он пропустил вперед Ясю. В момент, когда дверь захлопнулась, он почувствовал сильное и гулкое сердцебиение, но не в груди, а где-то в глубине живота. Сердцебиение восходило в нем вверх, как солнце от горизонта, морской гул наполнил голову, виски, даже кончики пальцев. Он поставил подрамники и принял рулон из Ясиных рук. Тут он и вспомнил, когда это было.
Он улыбнулся, положив руку на отсыревший пух ее косынки, а она уже сметливо расстегивала огромные пуговицы своего самодельного пальто, которое многие вечера шила из старого пледа вместе с Сонечкой. В тот год был припадок моды на большие пуговицы. И юбка Яси, и блузка были ушиты стаями коричневых и белых пуговок, и она, сбросив пальто, серьезно и вдумчиво вытаскивала их одну за другой из аккуратно обметанных петель.
Сердцебиение, достигшее набатной мощи, заполнившее все закоулки самых малых капилляров, разом вдруг прекратилось, и в ослепительной тишине она села на сломанное кресло, поджав под себя тугие ножки. Потом отпустила на свободу стянутые на макушке резинкой волосы и стала ждать, покуда он выйдет из своего столбняка и возьмет ту малость, которой ей было не жаль…
С того дня Яся почти каждый день забегала в мастерскую. Горячим и странно безмолвным был их роман. Обычно она приходила, садилась в раз и навсегда избранное кресло и распускала волосы. Он ставил чайник на плитку, заваривал крепкий чай, распускал в белой эмалированной кружке пять кусков сахара – по детдомовской памяти она все не могла наесться сладким – и ставил перед ней белую фарфоровую сахарницу, потому что пила не только внакладку, но и вприкуску.
Он смотрел на нее долго-долго, пока она медленно пила свой сироп, а он всегда вдумывался в ее белизну, которая ярче радуги сияла перед ним на фоне матовой побелки пустой стены. И блеск эмали кухонной кружки в ее розовой, но все же белой руке, и куски крупного колотого сахара в кристаллических изломах, и белесое небо за окном – все это хроматической гаммой мудро восходило к ее яично-белому личику, которое было чудо белого, теплого и живого, и лицо это было основным тоном, из которого все производилось, росло, играло и пело о тайне белого мертвого и белого живого.
Он любовался ею, а она это чуяла и возносилась под его взглядом, таяла от маленькой женской гордости, наслаждалась своей безраздельной властью, потому что знала: скажет она ему свое бесстыдно-детское: «Хочешь разочек?» – он кивнет и отнесет ее на покрытую старым ковром тахту, а нет, так и будет на нее таращиться, бедняга, дурачок, чудной, совсем особенный, и любит ее безумно…
«Безумно», – повторяла она про себя, и гордая улыбка чуть трогала ее губы, и он чувствовал глуповатое ее торжество, но все смотрел и смотрел на нее, пока она не говорила:
– Ну все… Я пошла…
Вопросов он ей никогда не задавал, она о себе тоже ничего не рассказывала, да в этом и не было нужды. Его безграничная тяга к ней, как и ее неизменное желание находиться рядом с ним, не нуждалась ни в каких словесных подтверждениях. В его присутствии она чувствовала себя уже совершившей свою задуманную карьеру: богатой, красивой и свободной. И театральное училище было ненужным.
В середине апреля он начал писать ее портрет. Сначала один, с чайником и белыми цветами, потом другой. И стала образовываться целая анфилада белых лиц, так что одно уходило в тень другого, снова проступало, а лица эти были связаны каким-то оптически обдуманным способом между собой.
Роберт Викторович писал быстро. И хотя она была рядом с ним и это было важно для художника, это не была работа с натуры. Он словно впитал ее в себя и теперь только заглядывал в свой тайник. Работал он весь световой день, все больше времени проводил в мастерской. Он и раньше любил уходить сюда спозаранку, теперь же он часто оставался здесь ночевать.
В это самое время, когда притяжение дома ослабло и жизнь Роберта Викторовича все более перемещалась в мастерскую, а мастерская мягко и своднически принимала в себя молчаливую любовницу, над домом собрались тучи.
Весь их небольшой поселок был определен под снос. Многолетние разговоры, настойчивые, но неубедительные, в один прекрасный день реализовались в гадкую, с размытой печатью бумажку – постановление о сносе дома и переселении жильцов. Бумагу вручили не лично, как подобает в таких случаях, а прислали по почте, и посреди дня, уже после утренней разноски, Соня заметила в почтовом ящике эту зловещую бумажку.
Зажимая ее в пальцах, Соня прибежала в мастерскую к мужу, куда обычно не ходила, соблюдая невысказанный, но известный запрет. Роберт Викторович был один, работал. Соня села в хрупнувшее под ней кресло. Муж молча сидел напротив. Соня долго смотрела на холсты с блеклыми белоглазыми женщинами и поняла, кто есть настоящая снежная королева. И Роберт Викторович понял, что она поняла. И они ничего не сказали друг другу.
Соня молча посидела, потом положила на стол печальное извещение и вышла из мастерской. У подъезда она остановилась пораженная. Ей казалось, что кругом должен лежать снег, – а на улице клубилась, кудрявилась разноцветно-зеленая майская зелень, и зеленым цветом отзывались длинные трамвайные трели.
Она шла к своему дому, любимому счастливому дому, который почему-то должны были раскатать по бревнышку, и слезы текли по длинным морщинистым щекам, и она шептала враз пересохшими губами:
– Это должно было случиться давно, давно… я же всегда знала, что этого не может быть… не могло этого быть…
И за эти десять минут, что она шла к дому, она осознала, что семнадцать лет ее счастливого замужества окончились, что ей ничего не принадлежит, ни Роберт Викторович – а когда, кому он принадлежал? – ни Таня, которая вся насквозь другая, отцова ли, дедова, но не ее робкой породы, ни дом, вздохи и кряхтенье которого она чувствовала ночами так, как старики ощущают свое отчуждающееся с годами тело… «Как это справедливо, что рядом с ним будет эта молодая красотка, нежная и тонкая, и равная ему по всей исключительности и незаурядности, и как мудро устроила жизнь, что привела ему под старость такое чудо, которое заставило его снова обернуться к тому, что в нем есть самое главное, к его художеству…» – думала Соня. Совершенно опустошенная, легкая, с прозрачным звоном в ушах, вошла она к себе, подошла к книжному шкафу, сняла наугад с полки книгу и легла, раскрыв ее посередине. Это была «Барышня-крестьянка». Лиза как раз вышла к обеду, набеленная по уши, насурьмленная пуще самой мисс Жаксон. Алексей Берестов играл роль рассеянного и задумчивого, и от этих страниц засветило на Соню тихим счастьем совершенного слова и воплощенного благородства…
* * *
Шли многодневные сборы. Сонечка вязала узлы, набивала ящики из-под папирос кастрюльками и тряпками и пребывала в странно торжественном настроении: ей казалось, что она хоронит прожитую жизнь, и в каждом из упакованных ящиков сложены ее счастливые минуты, дни, ночи и годы, и она гладила с нежностью эти картонные гробы.
Неприбранная Таня отрешенно бродила по дому, натыкаясь на мебель, сошедшую с привычных мест и как будто приобретшую самостоятельную подвижность. Дверцы шкафов неожиданно отворялись сами собой, стулья ставили подножки.
Матери Таня не помогала. Преданная одним лишь своим ощущениям, она полностью погрузилась в величайшее отвращение к происходящему в доме.
Было еще одно обстоятельство, отвлекавшее ее от сборов: замкнутая, с недоразвившейся в ту пору речью, она выворачивала перед Ясей все завитушки своей растрепанной души, и Яся с ее умным молчанием оказалась для Тани единственным в своем роде собеседником, который принимал ее вполне мелководные переживания с такой плодотворной для Тани доброжелательной нейтральностью, что в этих беседах, которые были скорее монологами, Таня училась формулировать мысли, ловить с лёта образы, и это доставляло ей огромное удовольствие.
Другие ее друзья, ёрник и выворачиватель всего на свете Алеша и Володя с океанским талантом, всепожирающей памятью, с плотно упакованными сведениями обо всем на свете, насильственно вовлекали ее в их собственные соблазнительные миры, и только Яся оставляла ей возможность самостоятельно мыслить, рассуждать вслух, на ощупь выбирать те мелочи, из которых человек произвольно складывает тот первоначальный рисунок, по которому будет развиваться весь последующий узор жизни. Именно отсюда рождалось Танино чувство теснейшей с Ясей близости и смутной благодарности.
Во время какого-то редкого просвета в самоувлечении Таня заметила, что у Яси есть какая-то отдельная жизнь. Однако все ее попытки проникнуть в это заповедное пространство дневных – не школьных и не домашних – часов разбивались о нежное и уклончивое молчание или неопределенные слова. Первая попавшаяся версия – тайного романа – выдвигала перед Таней жгучий вопрос: кто же он?
Вопрос этот разрешился самым случайным образом. Таня столкнулась с отцом и Ясей возле метро и была незамеченной свидетельницей совершенно невозможной сцены: они ели мороженое на ходу, смеясь. Мороженое стекало густыми каплями, и Роберт Викторович стер с Ясиной щеки белое липкое пятно таким движением пальцев, что Таня, великий специалист по части касаний, дрогнула от нового, прежде неизвестного ей чувства ревности.
Ни женские интересы матери, ни какие бы то ни было соображения нравственного порядка Таню совершенно не беспокоили. Возмущало только одно – подлое сокрытие этого во всех отношениях неинтересного ее романа…
Таня устроила Ясе сцену. Яся, внутренне готовая давно к тому или иному разоблачению, немедленно собрала свои вещи и выскользнула с резного крыльца, оставив Таню в горе и недоумении. Ей-то казалось, что их отношения с Ясей гораздо важнее любых романов…
Роберт Викторович тем временем разбирал построенный им когда-то стеллаж и даже не сразу заметил Ясино отсутствие.
И вот наконец настал день, когда вещи вынесли. В свете яркого летнего дня обшарпанная мебель, такая уютная и обжитая, купленная в некотором охотничьем азарте на Преображенском рынке, казалась совсем нищенской. Все погрузили в крытый фургон и перевезли в удручающие Лихоборы, в неудобную трехкомнатную квартиру, где все, решительно все было унизительно убогим: тощие стены, крохотная, узкая Соне в локтях кухня, недоношенная ванна.
С помощью Гаврилина Роберт Викторович расставлял мебель. Каждая вещь упрямо сопротивлялась, не желая занимать отведенное ей место, все топорщилось лишними углами, везде не хватало нескольких сантиметров. Роберту Викторовичу пришлось сорвать плинтус, чтобы загнать однодверный, совсем небольшой платяной шкаф в отведенный ему простенок. Таня чуть не плакала над окованным сундучком с выпуклой крышкой, который рисковал вообще не вписаться в новое жилье.
В запроходную комнату Соня велела поставить Танину тахту и Ясину кровать и сказала:
– Вот будет девичья.
Яся, приглашенная Сонечкой на помощь в переезде, насторожила ушко. Она никак не могла взять в толк, что же происходит. Да это было и не так уж важно для нее. Не этим домом она так дорожила, а совсем другим. И ей казалось, что самое главное она крепко держит в руках.
А Сонечка вытащила откуда-то большую коричневую сумку, достала из нее скатерть-самобранку с салфетками, холодными котлетками и ледяной окрошкой из термоса.
Сонечка по-прежнему подкладывала Ясе хорошие кусочки на тарелку. Яся благодарно улыбалась. Удивительна была ей Сонечка. «А может, просто хитренькая такая», – с некоторым умственным усилием соображала Яся. Но душой знала, что это не так.
И вдруг посреди обеда Таня, вскинув локти, стала рыдать, тряся волосами и грудями, потом закатилась в истерическом хохоте, а когда припадок неожиданно закончился, она, еще мокрая от слез и вылитой на нее воды, заявила, что немедленно уезжает в Питер.
Яся увела ее в новообъявленную девичью, которой не суждено было никогда быть приютом какой-нибудь девы. Они влезли в Ясину постель. Яся сняла резинку с толстого хвоста на макушке, и они совершенно примирились, поглаживая друг друга по волосам.
Однако решения своего Таня не поменяла и в тот же вечер укатила к своему прокуренному сладкой травкой барду.
Роберт Викторович с Гаврилиным и Ясей уехали на Масловку, и, проводив своих домочадцев, в первый же лихоборский вечер Сонечка осталась одна. С грустью подумала она о развалившейся по всем швам жизни, о напавшем внезапно одиночестве, а потом легла на неразобранный диван в проходной комнате, вынула из перевязанной пачки случайного Шиллера и до утра читала – кто бы мог за этим чтением не уснуть! – читала Валленштейна, добровольно отдавшись литературному наркозу, в котором прошла ее юность.
* * *
Вопреки Сонечкиному предположению Роберт Викторович вовсе не собирался ее оставлять. Он приезжал в Лихоборы непременно по субботам и один-два раза в неделю, приезжал вместе с тихонькой Ясей, и пока она со своим шелковым шуршанием возилась в девичьей, перебирала там свои и Танины тряпочки и бумажки, Роберт Викторович заменил подоконники на более широкие, укрепил полки, распилил стеллаж и сделал из него два, развесил Танины портреты.
Они ужинали в средней комнате, которая закрепилась за Соней. Немного говорили о Тане, которая уже месяц как была в Питере и все откладывала свое возвращение в эти жуткие Лихоборы.
В непозднем часу расходились спать. Яся – в девичью, Роберт Викторович – в назначенную ему отдельную комнату при входе, а Сонечка тяжело заваливалась на диван и, засыпая, радовалась, что Роберт здесь, за тонкой стеной, по правую руку, а тонкая красивая Ясенька – по левую. И жаль только, что Танечки нет…
Наутро Сонечка складывала в баночки вчерашний салат, и котлетки, и гречневую кашу, обвязав горловинки, ставила все в коричневую сумку и отдавала Ясе.
– Спасибо, тетя Соня, – опуская глаза, благодарила Яся.
Когда случился день рождения Александра Ивановича, Роберт Викторович велел Соне заехать в мастерскую, чтобы вместе идти. Это был их первый семейный выход. Александр Иванович, девственник и монах от чрева матери, не замеченный во всю жизнь ни в каких шашнях с дамами и на этом основании подозреваемый доброжелательным обществом в каких-то более интересных грехах, был единственным во всей компании, кто воспринял это трио как вполне естественное.
Прочие гости, особенно художественные дамы, сладострастно по углам обсуждали создавшийся треугольник, выходя из себя, как тесто из квашни. Рыжая, слегка бесноватая Магдалина так исстрадалась за Сонечку, что у нее началась мигрень. И совершенно напрасно: Соня радовалась, что Роберт взял ее с собой, гордилась его верностью, которую, как она полагала, он проявил по отношению к ней, старой и некрасивой жене, и восхищалась Ясиной красотой.
По просьбе Александра Ивановича она немного хозяйничала за столом, обносила гостей покупной едой и, помня о вечных Ясиных желудочных болях, шептала ей в ухо:
– Деточка, мне кажется, эти голубцы немного того… Ты поосторожней…
Некоторые дамы были готовы укорить Соню в притворстве – уж больно хорошо она выглядела в этой, казалось бы, невыгодной комбинации; другим хотелось бы Соне посочувствовать, выразить порицание Роберту Викторовичу. Но это было совершенно невозможно, ибо держались они по-семейному, так и сидели за столом домашним треугольником: Роберт Викторович посредине, по правую руку на полголовы над ним возвышающаяся Сонечка, по левую сияла Ясенька своей белизной и маленьким острым бриллиантом на пальце.
Невозможно было себе представить Роберта Викторовича покупающим в ювелирном магазине бриллиант своей девчонке. Но справедливости ради надо признать, что она именно была из породы маленьких беззащитниц, которым так и хочется на пальчик надеть камушек, а на зябкие плечики – меха…
Не дал Роберт Викторович возможности посторонним людям, то есть друзьям, делать выбор между супругами, выражать сочувствие, порицание, негодование…
И вечер катился своей чередой. Подвыпивший Гаврилин изображал умирающего лебедя, потом Ленина и на бис – уже известную всем собачку, которая ищет блоху. Потом была представлена шарада, где фигурировал призрак, который не столько бродил, сколько ползал по Европе, шестиногой корове, составленной из трех самых толстых дам, покрытых холщовой занавеской.
В этой части праздника все вспомнили о Тане, остроумнейшей придумщице шарад, а самые проницательные из дам переглянулись: бедная девочка!
Бедная девочка тем временем проживала в симпатичном логове на Васильевском острове у друга Алешки. В Питере стояли белые ночи, она была бесстрашной и любопытной, ежеминутно готовой во что-нибудь серьезно поиграть. Им совершенно не хотелось расставаться, в четыре глаза они глядели по сторонам, и Алеша с удивлением замечал, что ее присутствие не только не мешает его непредсказуемой жизни, а, пожалуй, сообщает дополнительные возможности по части отрыва от «совухи», как называл он презрительно общепринятое существование.
Спустя несколько дней после празднования у Александра Ивановича Соня поехала в Ленинград навестить дочь, прождала ее полдня во дворике, потом еще сорок минут посидела с Таней и Алешей за столом, на котором горой громоздились книги, пластинки, объедки и пустые бутылки, выпила чаю и вечерним поездом уехала обратно, просив дочь звонить почаще тетке и оставив денег.
В поезде Соня не уснула, все думала о том, какая прекрасная жизнь происходит у ее дочери и мужа, какое молодое цветение вокруг, как жаль, что у нее уже все прошло, и какое счастье, что все это было… Она старчески качала головой, подчиняясь мелким сотрясениям вагона, предвосхищая тик, который появится у нее спустя два десятилетия.
* * *
А потом опять наступила зима. Девочки должны были заканчивать школу, но обе бросили. Таня всю зиму ездила по привычному маршруту. Она постоянно ссорилась с Алешей, возвращалась домой, но Лихоборы наводили на нее такую тоску, что она снова неслась в свой любимый Питер.
Роберт Викторович всю зиму писал. Он сильно исхудал, но, сильно исхудав, лицом посветлел и стал как-то ласковее со всеми. Маленькая его сожительница тихонько существовала около него, то шуршала конфетными бумажками, то шелестела дешевым шелком – она постоянно шила себе разноцветные, одинакового фасона платья, мелко сверкая иглой, – то листала польские журналы.
В то время было повальное увлечение Польшей. Оттуда несло западной вольницей, слегка отяжелевшей в перелете над Восточной Европой.
Яся к тому времени перестала скрывать свое польское происхождение, и оказалось, что она прекрасно помнит свой детский язык, на котором говорила с матерью. Роберт Викторович, кроме общепринятых европейских, знал и польский, и этот обаятельно-шепелявый, ласковый язык разговорил их, и, как когда-то Соне, он рассказывал теперь Ясе маленькие истории, смешные, невероятные и страшные случаи, и это тоже была его жизнь, хотя, из какого-то вербального целомудрия, это была какая-то иная жизнь, как будто стоявшая за скобками той, что по рассказам была известна Сонечке.
Яся смеялась, плакала, вскрикивала: «Езус Мария!» – и гордилась, и восхищалась, и так радовалась, что даже научилась испытывать некоторые приятные ощущения, о коих прежде и не догадывалась, невзирая на ранний и долгий опыт общения с мужчинами.
А он все вглядывался в ее нетленную шею, в новенькую кожу лица, в белый пушок под узкой бровью и думал о драгоценности молодой материи, о той форме совершенства, про которую говорил единственный русский гений – «не удостаивает быть умной».
Плен Роберта Викторовича был плодотворен. Ему пришлось построить в мастерской новую антресоль, подрамники некуда было складывать. Он заканчивал свои белые серии. Открытия, как ему казалось, не состоялось. Он вскопал ту почву, что подалась, и это было немало, но сама тайна, обещавшая вот-вот открыться, ускользнула, оставив сладкую боль приближения и свою полноправную представительницу такой сокрушительной прелести, что побеждала его усталость, и возраст, и всю изношенность плоти. Не в тягость были старому Роберту неумеренные любовные труды.
В конце апреля, в середине сырой ночной оттепели, он крепко сжал Ясины плечи и тяжело уткнулся дрогнувшей головой в жесткую подушку.
Прошло некоторое время, прежде чем Яся поняла, что он умирает. С воем выскочила она в коридор, куда выходили двери еще семи мастерских. Художники здесь не жили, мало кто оставался ночевать. Она рванула ручки двух соседних дверей и понеслась с четвертого этажа вниз к телефону, который стоял в привратницкой.
Старуха с тонкой распутанной косой тихо взвизгнула, увидев голую Ясю, но та отпихнула ее:
– Скорую, скорее… Скорую…
И трясущимися руками набрала номер.
Когда приехали врачи, Роберт Викторович уже не дышал. Он лежал на животе, уткнувшись темным лицом в подушку. Яся так и не смогла его перевернуть.
Обстоятельства смерти были очевидны.
– Кровоизлияние в мозг, – буркнул толстый неприятный врач, пахнущий алкоголем и дурной едой. И написал телефон морга.
Громыхая непригодившимися носилками, санитары спустились вниз.
– Старик, а на бабе умер. Молоденькая, – сказал один.
– А что? Лучше, чем в больнице-то гнить, – отозвался второй.
* * *
Лихоборская квартира была без телефона. Яся приехала к Соне, когда та собиралась выпить свою утреннюю чашку кофе. Соня мелко затрясла головой, схватила в охапку Ясю, прижала к себе, и они долго плакали в прихожей.
Потом поехали в мастерскую. Тело уже увезли в морг. Тот не бытовой, страшный беспорядок, который образовался в мастерской после пребывания двух бригад, медиков и труповозов, они быстро убрали.
Соня сняла с тахты стыдное для чужого глаза белье и спрятала его себе в сумку. Потом пошли звонить в Ленинград Тане, но соседи сказали, что они с Алешей уехали куда-то. Яся держала все время Соню за руку, вцепившись, как ребенок. Была она сирота, а Соня была мать.
Привратница уже успела проникновенно рассказать всем желающим ее выслушать о скандальной смерти старого Роберта. Соседи художники заходили с полудня в мастерскую. Несли кто что считал уместным в этих обстоятельствах: цветы, водку, деньги…
Попутно формировалось общественное мнение: Роберта жалели, Ясю ненавидели и презирали, с Соней было как-то сложнее, от нее чего-то ждали, смотрели с интересом, вполне, впрочем, сочувственным.
Поздним вечером, когда в мастерской остались лишь близкие друзья, Соня после тихого и бесслезного плача вдруг твердо сказала:
– Достаньте зал побольше. Я хочу, чтобы там, где будет стоять гроб, были развешаны эти картины. – И она указала наверх, на антресоли, где стояли подрамники.
Барбизонец переглянулся с Гаврилиным. Кивнули.
Так все оно и было.
Худфонд выделил зал. Накануне развешивали картины. Их оказалось пятьдесят две. Соня руководила развеской, и вряд ли кто мог бы сделать это лучше. Вдруг просунулось откуда-то солнце, болезненно-яркое, резкое, оно мешало, даже вмешивалось в Сонину работу. Холсты зеркалили, бликовали, и Соня попросила опустить казенные сборчатые шторы. Развесила. Шторы подняли. Солнце к этому времени утихомирилось, и оказалось все на своих местах. И сам Роберт Викторович не сделал бы лучше.
На следующий день к двенадцати стал стекаться народ. И представить себе было нельзя, сколько набежало людей на эти похороны. Пришли старые, маститые, заработавшие мозоли и медали на изготовлении парадных портретов кого надо, пришли средние, умеренно новой волны, пришли и те, кого на порог не пускали почтенные члены союза, – шпана, лианозовщина, авангард драный.
Посмертная эта выставка не располагала к обсуждению. Да и сам Роберт Викторович никогда не испытывал потребности к обсуждению своего дела.
Посреди зала стоял гроб. Лицо умершего было темным, как бы оплавленным, и только сложенные на груди руки сверкали ледяной белизной того сорта, который Роберт Викторович называл белое-неживое.
Яся в черном шелковом платье лепилась к большой и бесформенной Сонечке, выглядывала из-под ее руки, как птенец из-под крыла пингвина. Тани не было, ее не смогли разыскать в веселой Средней Азии, куда двинули они в поисках зеленого пастбища.
Весь шепоток, вся скандальность этой смерти оставались в раздевалке. Здесь, в зале, даже самые жадные до чужих потрохов люди примолкали. Подходили к Соне, произносили неловкие слова соболезнования. Соня, чуть выталкивая впереди себя Ясю, механически отвечала:
– Да, такое горе… На нас свалилось такое горе…
А Тимлер, в обществе молодой любовницы пришедший проститься со своим старым другом, сказал тоскливым тонким голосом:
– Красиво как… Лия и Рахиль… Никогда не знал, как красива бывает Лия.
* * *
Бог послал Сонечке долгую жизнь в Лихоборской квартире, долгую и одинокую.
Таня, постепенно выйдя замуж за Алешу и получив от него в приданое колдовской неласковый город, в котором приживаются лишь гордые и независимые люди, стала петербурженкой. Дарования ее раскрывались поздно. Уже после двадцати оказалось, что она невероятно способна и к музыке, и к рисованию, и ко всему, на что только не упадет ее рассеянный глаз. Играючи она выучила французский, потом итальянский и немецкий – только к английскому питала странное отвращение – и все металась, покуда в середине семидесятых годов, уже расставшись с Алешей и еще двумя кратковременными мужьями, с полугодовалым сыном на руках и сумкой через плечо не эмигрировала в Израиль. Через короткое время она получила прекрасную должность в ООН, чему в немалой мере способствовала всемирная известность ее отца.
В течение нескольких лет Яся жила у Сонечки в лихоборской квартире. Сонечка нежно ухаживала за Ясей, испытывая благоговейную благодарность к провидению, пославшему ее дорогому мужу Роберту такое украшение, такое утешение на старости лет.
Яся вернулась к идее поступления в театральное училище, но как-то вяло. Вместе с Сонечкой они с удовольствием рукодельничали, то вязали какой-то необыкновенный ковровый свитер для Танечки, то шили на заказчиц, но главным образом все-таки сидели и пили неумеренно черный кофе с медовыми Сониными пирогами. Яся стала постепенно захиревать, и тогда Сонечка разыскала в Польше посредством большой, втайне от Яси ведущейся переписки Ясиных двух теток и бабушку, совсем не аристократического, а вполне скромного происхождения. Снаряженная Соней, Яся уехала в Польшу, где вскоре и завершился канонически сказочный сюжет: вышла замуж за француза, красивого, молодого и богатого. Живет она теперь в Париже, неподалеку от Люксембургского сада, в двух шагах от дома, где было когда-то ателье Роберта Викторовича, о чем она, конечно, не знает.
Дом в Петровском парке, выселенный, с выбитыми стеклами, в следах мелких мальчишеских поджогов, простоял еще много лет никому не нужный. В нем ночевали бродячие собаки и люди. Однажды там нашли убитого человека. Потом обрушилась крыша, и непонятно было, зачем с такой поспешностью расселяли когда-то жильцов по безжизненным окраинам.
Пятьдесят две белые картины Роберта Викторовича разошлись по миру. На аукционах современного искусства каждая вновь появляющаяся приводит коллекционеров в предынфарктное состояние. Работы же довоенные, парижские, стоят баснословных денег. Их сохранилось очень немного, всего одиннадцать.
Толстая усатая старуха Софья Иосифовна живет в Лихоборах, на третьем этаже хрущевской пятиэтажки. Она не желает переселяться ни на свою историческую родину, где гражданствует ее дочь, ни в Швейцарию, где Таня сейчас работает, ни даже в столь любимый Робертом Викторовичем город Париж, куда постоянно зовет ее вторая девочка, Яся.
Здоровье портится. Видимо, начинается болезнь Паркинсона. Книга трясется в ее руках.
Весной она ездит на Востряковское кладбище, сажает на могиле мужа белые цветы, которые никогда не приживаются.
Вечерами, надев на грушевидный нос легкие швейцарские очки, она уходит с головой в сладкие глубины, в темные аллеи, в вешние воды.
Бедные родственники
Счастливые
Каждое воскресенье Берта и Матиас отправлялись к сыну. Берта делала бутерброды, наливала в термос чай и аккуратно обвязывала бумажной веревкой веник. Брала, на всякий случай, банку и все это упаковывала в чиненную Матиасом сумку. Матиас подавал ей пальто, или плащ, или жакетку, и они шли на рынок покупать цветы. Потом у трамвайной остановки они долго ждали редкого трамвая.
С годами Матиас делался все приземистей и все более походил на шкаф красного дерева; его рыжая масть угадывалась по темно-розовому лицу и бурым веснушкам на руках. Берта, кажется, была когда-то одного с ним роста, но теперь она возвышалась над ним на полголовы. В отличие от мужа с годами она становилась как-то менее некрасивой. Большие рыхлые усы, которые в молодости ее портили, хотя и сильно разрослись, стали менее заметны на старом лице.
Они долго тряслись в трамвае, где было жарко или холодно в зависимости от времени года, но всегда душно. Они окаменело сидели – им всегда уступали места. Впрочем, когда они поженились, им тоже уже уступали места.
Дорога, не оставляя места для сомнений, приводила их к кирпичной ограде, проводила под аркой и оставляла на опрятной грустной тропинке, по обе стороны которой, среди зелени, или снега, или сырого нежного тумана, их встречали старые знакомые: Исаак Бенционович Гальперин с ярко-синими глазками, закатно-малиновыми щеками и голубой лысиной; его жена Фаина Львовна, расчетливая женщина с крепко захлопнутым ртом и трясущимися руками; полковник инженерных войск Иван Митрофанович Семерко, широкоплечий, как Илья Муромец, прекрасно играет на гитаре и поет и такой молодой, бедняга; потом со стершимися бабушкой и дедушкой Боренька Медников, два года два месяца; малосимпатичная семья Крафт, рослые, неповоротливые, белотелые, объявившие о себе вычурно стройными готическими буквами; необыкновенно приветливые старики Рабиновичи с рифмующимися именами – Хая Рафаиловна и Хаим Габриилович, всегда в обнимку, со светло-серыми волосами, одинаково поредевшими к старости, сухие, легкие, почти праздничные, взлетевшие отсюда в один день, оставив всех свидетелей этого чуда в недоумении…
За поворотом тропинка сужалась и приводила их прямо к сыну. Вовочка Леви, семь лет четыре месяца, встречал их много лет тому назад выбранной для этого случая улыбкой, отодвинувшей губу и обнажившей полоску квадратных, не доросших до взрослого размера зубов, среди которых темнело место только что выпавшего.
Все остальные выражения его широкого милого лица, мстя за то, что не они были выбраны для представительства, незаметно ускользнули и улетучились, оставив эту раз и навсегда единственную улыбку из всего неисчислимого множества движений лица.
Берта доставала сверток с веником, развязывала узелок, складывала вчетверо газету в которую он был завернут, а Матиас смахивал веником пыль или снег с незамысловато зеленой скамеечки. Берта стелила сложенную газету и садилась. Они немного отдыхали, а потом прибирали этот дом – ловко, не торопясь, но быстро, как хорошие хозяева.
На маленьком прямоугольном столике Берта стелила бумажную салфетку, наливала в скользкие пластмассовые крышки чай, ставила стопочку сделанных один в один новеньких бутербродов. Это была их семейная еженедельная трапеза, которая за долгие годы превратилась в сердцевину всего этого обряда, начинающегося с заворачивания веника и оканчивающегося завинчиванием крышки пустого термоса.
Глубокое молчание, наполненное общими воспоминаниями, не нарушалось никаким случайным словом – для слов были отведены другие часы и другие годы. Отслужив свою мессу они уходили, оставляя после себя запах свежевымытых полов и проветренных комнат.
Дома, за обедом, Матиас выпивал воскресные полбутылки водки.
Трижды налил он в большую серебряную рюмку с грубым рисунком, пасхальную рюмку Бертиного отца, трижды по-коровьи глубоко вздохнула Берта, не умеющая ответить ему иначе. Потом она отнесла посуду на кухню, особенным способом – с мылом и нашатырным спиртом – вымыла ее, вытерла старым чистым полотенцем, и они возлегли на высокую супружескую кровать.
– Ох, ты старый, – сказала шепотом Берта, закрывая маленькие глаза большими веками.
– Ничего, ничего, – пробормотал он, сильно и тяжело поворачивая к себе левой рукой отвернувшуюся жену.
Им снились обычные воскресные сны, послеобеденные сны, счастливейшие восемь лет, которые они прожили втроем, начиная с того нестершегося, всю жизнь переломившего дня, когда она, измученная дурными мыслями, пошла со своей разбухшей грудью и прочими неполадками к онкологу, не сказав об этом мужу. Старая врачиха, сестра ее подруги, долго ее теребила, жала на соски и, задав несколько бесстыдных медицинских вопросов, сказала ей:
– Берта, ты беременна, и срок большой.
Берта села на стул, не надев лифчика, и заплакала, сморщив старое лицо. Большие слезы быстро текли по морщинам вдоль щек, замедляясь на усах, и холодно капали на большую белую грудь с черными курносыми сосками.
Матиас посмотрел на нее с удивлением, когда она сказала ему об этом, – он знал давно, потому что первая его жена четырежды рожала ему девочек, но дым их тел давно уже рассеялся над бледными полями Польши. Ее молчание он понимал по-своему и – что тут говорить – никак не думал, что она сама об этом не знает.
– Мне сорок семь, а тебе скоро шестьдесят.
Он пожал плечами и ласково сказал:
– Значит, мы, старые дураки, на старости лет будем родителями.
Они долго не могли выбрать имя своему мальчику и звали его до двух месяцев «ингеле», по-еврейски «мальчик».
– Правильно было бы назвать его Исаак, – говорил Матиас.
– Нет, так теперь детей не называют. Пусть будет лучше Яков, в честь моего покойного отца.
– Его можно было бы назвать Иегуда, он рыжий.
– Глупости не говори. Ребенок и вправду очень красив, но не называть же его Соломоном.
Назвали его Владимиром. Он был Вовочкой – молчаливым, как Матиас, и кротким, как Берта.
Когда ему исполнилось пять лет, отец начал учить его тому, чему его самого обучали в этом возрасте. В три дня мальчик выучил корявые, похожие друг на друга, как муравьи, буквы, а еще через неделю начал читать книгу, которую всю жизнь справа налево читал его отец. Через месяц он легко читал и русские книги. Берта уходила на кухню и сокрушенно мыла посуду.
– О, какой мальчик! Какой мальчик!
Она восхищалась им, но порой холодная струйка, подобная той, что отрывается зимой от заклеенной рамы и как иголкой касается голой разгоряченной руки, касалась сердца.
Она мыла свою посуду, взбивала сливки, которые никогда не взбивались у соседок, пекла пирожные и делала паштеты. Она слегка помешалась на кулинарных рецептах и совсем забыла о бедной пшеничной каше, расплывающейся по дну алюминиевых мисок, о жидких зеленых щах, которые варила из молодой жгучей крапивы, сорванной на задах разваливающегося двухэтажного дома, в котором жило сначала сорок восемь, а в конце войны восемьдесят вечно голодных, больных и грязных детей. Она забыла про голубые нежно-шершавые головы мальчиков, их голо торчащие беззащитные уши, тонкие ключицы и синие вены на шеях девочек. Ее острая любовь ко всем этим детям вообще острым лучом сошлась теперь на Вовочке.
Каждый день своей жизни она наслаждалась близостью рыженького пухлого мальчика, часто трогала его руками, чтобы убедиться в том, что он у нее есть. Она купала его, он кричал, а она восхищенно смотрела на непропорционально большие ступни и сокровенный маленький конус.
Когда он подрос, она с таким же восхищением наблюдала за его детскими играми, похожими на настоящую и скучную работу, – он часами плел из разноцветных полосок коврики, хитро соединял их между собой. Матиас, варшавский портной парижской выучки, работал в закрытом ателье и приносил сыну лоскутки. Сам же и помогал ему резать их на ленточки…
Берта в глубине души стеснялась своей непомерно разросшейся любви, считала ее даже несколько греховной. Не склонная к самоанализу, она не приводила свои ощущения к тому порогу, когда надо их словесно определить, жила, внутренне этого избегая.
Матиас приходил с работы, обедал и садился на диван. Вовочка пристраивался рядом, как пирожок, испеченный из остатков теста, рядом с большим рыжим пирогом. Они читали, разговаривали, а Берта суеверно уходила мыть свою сверкающую посуду…
Во сне она легко, как в соседнюю комнату, входила в прошлое и легко двигалась в нем, счастливо дыша одним воздухом со своим сыном. Муж ее, Матиас, с усами сталинского покроя, молчаливо присутствовал как главная деталь декорации. Сны эти походили на много раз виденный спектакль с наркотическим обаянием, который шел долго-долго и всегда кончался за четверть часа до того, как Берта на вытянутых руках внесла со двора Вовочку – бледного, со свежей царапиной на щеке, следом его утренних трудов над моделью самолета, пришедшей на смену хитроумно сплетенным коврикам. Ворот полосатой рубашки был расстегнут, и на шее, целиком открытой и удлинившейся из-за запрокинутой головы, не билась ни одна жилка.
Все произошло мгновенно и напоминало плохой плакат – большой красно-синий мяч резко выкатило на середину дороги, за ним вылетел, как пущенный из рогатки, мальчик, раздался скрежет тормозов чуть ли не единственной проехавшей за все воскресное утро машины. Мяч еще продолжал свое ленивое движение, успев пересечь дорогу грузовика и утратить к движению всякий интерес, а мальчик, раскинув руки, лежал на спине в последней неподвижности, еще совершенно здоровый, со свежей, не выплеснувшейся ни на каплю кровью, не остановившей еще своего тока в кончиках пальцев, но уже необратимо мертвой.
Матиас стоял возле маленького настенного зеркала с намыленными щеками и задранным подбородком и, отведя правую руку с тяжелым лезвием, примеривался к трудному месту на шее.
…В седьмом часу старики проснулись. Берта сунула худые серые ноги в меховые тапочки и пошла ставить чайник. Они сидели за круглым столом, покрытым жесткой, как фанера, скатертью. Посреди стола торжествовала вынутая из буфета вазочка с самодельными медовыми пряниками. За спиной Матиаса в углу стоял детский стульчик, на котором пятнадцатый год висела маленькая коричневая курточка, собственноручно перешитая им из собственного пиджака. Левое плечо, то, что к окну, сильно выгорело, но сейчас, при электрическом освещении, это было незаметно.
– Ну что же, сдавай, – сказала Берта и потянулась за очками. Матиас тасовал.
Бедные родственники
Двадцать первого числа, если оно не приходилось на воскресенье, в пустоватом проеме между обедом и чаем, к Анне Марковне приходила ее троюродная сестра Ася Шафран. Если двадцать первое приходилось на воскресенье, когда вся семья была в сборе, то Ася приходила двадцать второго, в понедельник, потому что она стеснялась своей бедности и слабоумия.
Часа в четыре она звонила в дверь и через некоторое время слышала из глубины квартиры тяжелые шаги и бессмысленное: «Кто там?», потому что по дурацкому хихиканью за дверью, да и по календарю, Анна Марковна должна была знать, что пришла Ася.
«Это я пришла, Анечка, я мимо проходила, думаю, загляну, может, ты дома…» – целуя Анечкину полную щеку и не переставая хихикать, избыточно и фальшиво говорила Ася… потому что не было ничего очевиднее того, что это пришла она, Ася, бедная родственница, за своим ежемесячным пособием.
Когда-то они учились в одном классе гимназии, ходили в одинаковых серо-голубых форменных платьях, пошитых у лучшего в Калуге портного, носили на пышных грудях одинаковые гимназические значки «КЖГС», на много лет предвосхитившие собой время повальных аббревиатур. Однако эти ажурные буквы означали не «государственный совет» по «К» и «Ж», который мог быть кожевенным или железнодорожным, по моде грядущих лет, но всего лишь калужскую женскую гимназию Саговой, которая, будучи частным заведением, позволяла себе обучать богатых еврейских девочек в той пропорции, которую могло обеспечить реденькое еврейское население насквозь русской полудеревенской Калуги с наглыми козами, блуждающими по улицам будущей столицы космонавтики.
Анечка была отличницей с толстой косой, перекинутой через плечо; в ее тетрадках последняя страница не отличалась от первой, особенно красивой и старательной. У Аси не было такого рвения к учению, что у Ани: французские глаголы, нескончаемые частоколы дат и красивые безделушки теорем влетали в одно ее ухо, полуприкрытое пружинистыми беспорядочно-курчавыми белесыми волосами, и, покуда она рисовала тонко очиненным карандашом карикатуру на подлого преподавателя истории Семена Афанасьевича, вылетали из другого. Ася была живая, веселая и славная барышня, но никто, кроме Анны Марковны, не помнил ее такой…
Глупо накрашенная Ася, слегка подрагивая головой, сняла с себя расшитое черными шелковыми ленточками абрикосового цвета пальто Анны Марковны, которая всю жизнь отдавала ей свои старые вещи и давно уже смирилась с тем, как ловко, иногда одним движением своих прикладистых рук, Ася превращала ее почтенную одежду в лохмотья сумасшедшего. Пришитые Асей черные ленточки в некоторых местах отстали и образовали петли и бантики, и все вместе это напоминало остроумный маскарадный костюм нотной тетради.
Из-под зеленого берета на лоб свисала черная бахрома, гибрид вуали и челки, а на губы была всегда натянута зачаточная улыбка, готовая немедленно исчезнуть – или рассыпаться искательным хихиканьем.
– Проходи, Ася, – приветливо и величественно пропустила ее Анна Марковна в столовую. На ковровой кушетке лежал Григорий Вениаминович, муж Анны Марковны. Он неважно себя чувствовал, пораньше ушел из университета, оставив два лекционных часа своего блестящего курса по гистологии очень толковому, но довольно небрежному ассистенту.
Увидев Асю, он кисло хмыкнул, спросил у нее, как дела, и, не дожидаясь ответа, ушел в смежную со столовой спальню, закрыв за собой двойную стеклянную дверь.
– Гриша себя неважно чувствует, – объяснила Анна Марковна и его дневное присутствие, и исчезновение.
– Я на минуточку зашла, Анечка. В Петровском пассаже есть китайские термосы. Я купила несколько, – соврала она. – Очень красивые. С птичками. Не купить тебе?
– Нет, спасибо. У меня один есть, и он мне совершенно не нужен, слава богу. – В ее голове термос был связан с поездками в больницу, а не с загородными экскурсиями.
– Как Ирочка? – спросила Ася о внучке.
Ей не надо было каждый раз придумывать вопросы, она спрашивала последовательно о всех членах семьи, и обычно Анна Марковна коротко отвечала, иногда увлекаясь и вкладывая в свои ответы подробности, предназначенные для более значительных собеседников. На этот раз первый же вопрос оказался удачным, потому что Ирочка вчера объявила, что выходит замуж, и вся семья, совершенно не подготовленная к этому, была взволнована и несколько огорчена. И поэтому Анна Марковна начала довольно пространно рассказывать об этом событии, располагая четко, в два столбца, его плюсы и минусы.
– Мальчик хороший, они дружат со школы, он тоже на втором курсе, в авиационном, учится хорошо, внешне ничего, но ужасно длинный, худой, в Ирку влюблен без памяти, звонит каждый день по пять раз, музыкальный – никогда не учился, пришел, сел за пианино, прекрасно, по слуху, любую мелодию подбирает. Семья, конечно, ты понимаешь… – Ася понимающе затрясла головой, – очень простая. Отец – домоуправ, инвалид. Говорят, попивает. – При этих словах Ася довольно уместно захихикала, а Анна Марковна продолжала: – Но мать – очень приличная женщина. Очень достойная. Четверо детей, два старших мальчика в институте, младшие, близняшки, мальчик и девочка, прелестные… – У Анны Марковны все дети без исключения были прелестными. – Я их видела: чистенькие, опрятные, воспитанные. Сережкину мать я знаю давно, она работала в Ирочкиной школе секретарем. Ничего плохого, во всяком случае, про нее сказать не могу. Он, конечно, очень молодой, ни кола ни двора, их обоих еще долго тянуть надо, но не в этом дело. Гриша считает, что они должны жить отдельно. Снимать! Ты представляешь? Ирка, ей надо учиться, а она будет бегать за продуктами, стряпать, стирать, а то и родит… институт бросит! Да я себе этого не прошу!
Наконец Анна Марковна спохватилась, что всего этого Асе знать вовсе не надо. Но Ася сидела с наслаждением на черном дубовом стуле, оперши накрашенную щеку на руку, и счастливо улыбалась, и нетерпеливо дергала веками, выбирая зазор между словами Анны Марковны, чтобы сказать:
– Анечка, а пусть у меня они живут!
– Да ты что, Ася?! – всерьез отозвалась она, представив себе длинную Асину комнату на Пятницкой, в конце коленчатого коридора, возле кухни. Какая-то лавка старьевщика, а не жилье. Все стены в беспорядочно вбитых гвоздях всех размеров, на одном мужское пальто, на другом – блузка, на третьем – открыточка или пучок травы. Запах – невозможный, настоящее жилище сумасшедшего; и повсюду еще стопки газет, к которым Ася питала необъяснимое пристрастие…
Анна Марковна засмеялась – как это она в первое мгновение об этом серьезно подумала?
Ася в ответ на смех тоже послушно засмеялась, а потом спросила:
– А почему нет? У меня и ширмочка есть. Я бы завтрак им готовила. Пусть живут.
Анна Марковна отмахнулась:
– Ладно, сами разберутся. У Ирочки, в конце концов, родители есть. Пусть подумают хоть раз в жизни, а то он привык, – родители незаметно ополовинились до одного зятя, которого не очень любили в семье, – всю жизнь на всем готовом… Давай чаю попьем, Ася, – предложила Анна Марковна и крикнула в открытую дверь: – Нина, поставьте, пожалуйста, чайник!.. А какие у тебя новости, Ася? – спросила вежливо и незаинтересованно Анна Марковна.
– Вот вчера я была у Берты. Она хочет Матиасу пальто купить, а он не дается. У них Рая из Ленинграда гостит. Фотографии показывала своих внучек.
– Сколько им лет? – заинтересовалась Анна Марковна.
– Одна совсем большая, невеста, а другой лет двенадцать.
– Да что ты! Когда это они успели вырасти?
Они плели этот житейский вздор, Анна Марковна – снисходительно, с ощущением выполняемого родственного долга, Ася – чистосердечно и старательно.
Вошла с чайником и поставила его на подставку домработница Нина, красавица с перманентными волосами веником на плечи, с двумя заколками на висках.
Далее разговор дам шел по-французски, что всегда приводило Нину в тихую ярость. Она была уверена, что хозяйка ругает ее по-еврейски.
– Наша новая домработница. Очень хорошая девочка. Дусина племянница, из ее деревни. Это она нам после замужества выписала в подарок, – засмеялась Анна Марковна.
– Очень красивая, – залюбовалась на Нину Ася.
– Да, – с гордостью отозвалась Анна Марковна, – настоящая русская красавица.
У Анны Марковны была легкая рука – устраивать жизнь деревенских девушек, своих домработниц. Они учились в вечерней школе, куда их непременно устраивала Анна Марковна, ходили на какие-то курсы, потом выходили замуж и приходили в гости по праздникам с детьми и мужьями.
Чай пили из богатых синих чашек. В розовые розетки из такого странного стекла, что они казались оббитыми, Анна Марковна положила зеленое варенье из крыжовника, сваренное по редкому рецепту, который она считала своим достоянием.
– Какое варенье у тебя красивое! – восхитилась Ася.
– А помнишь наши уроки домоводства?
– Конечно, сама Лидия Григорьевна Салова вела. У меня всегда хуже всех получалось, – с парадоксальной гордостью поддержала Ася.
– Помнишь, торт именинный всегда пекли ей на день ангела… Да, да, – спохватилась Анна Марковна, что много времени даром потратила, – у меня тут для тебя кое-что приготовлено. Вот, ночная рубашка, зашьешь немного, она крепкая, перчатки верблюжьи Гришины, ну и там по мелочи, – не вдаваясь в унизительные подробности, поскольку на стуле были стопкой сложены заплатанные женские трико…
Доисторическая сумочка с большим черепаховым замком на устах торопливо проглотила всю эту мануфактуру вместе с четырьмя завернутыми в салфетку кусками пирога и банкой с рыбой. Их часовое свидание приближалось к кульминации – и к развязке. Анна Марковна вставала, шла в спальню, звенела там ключами от шкафа и через минуту выносила оттуда заготовленный заранее серый конверт с большой радужной сторублевкой – не по теперешнему, разумеется, счету.
– Это тебе, Асенька, – с оттенком торжественности передавала она конверт. Ася, которая была намного выше Анны Марковны, по-детски краснела и сутулилась, чтобы придать происходящему правильную пропорцию: она, маленькая Асенька, принимает подарок от своей большой и старшей сестры. В обе руки она брала конверт, набитая туго сумка висела на искривленном запястье, и она пыталась одновременно снять ее с руки, расстегнуть и засунуть большой конверт в набитую туго сумочку…
Свидание было окончено. Анна Марковна провожала гостью в прихожую, с колыхнувшейся сердечностью целовала ее в накрашенную щеку, и Ася, испытывая облегчение, слегка унижающее ее искреннюю любовь и безмерное почтение к троюродной сестре, скатывалась чуть ли не вприпрыжку со второго этажа, легкими худыми ногами отмахивала по Долгоруковской до Садового кольца и ровно через сорок минут была в Костянском переулке, у своей подружки Маруськи Фомичевой.
На шаткий стол, припертый к сырой стене, она выгружала богатые подарки. Поколебавшись минуту над верблюжьими перчатками, она выложила их, а под стопку с чиненым бельем засунула большой серый конверт.
– Ишь ты, ишь ты, Ася Самолна, балуешь ты меня, – бормотала скомканная полупарализованная старуха.
И Ася Шафран, наша полоумная родственница, сияла.
БРОНЬКА
Как рассказывала впоследствии Анна Марковна, Симку прибило в московский двор волной какого-то переселения еще до войны. Извозчик выгрузил ее, тощую, длинноносую, в завинченных вокруг худых ног чулках и больших мужских ботинках, и, громко ругаясь, уехал. Симка, удачно отбрехиваясь вслед и крутя руками как ветряная мельница, осталась посреди двора со своим имуществом, состоящим из огромной пятнастой перины, двух подушек и маленькой Броньки, прижимавшей к груди меньшую из двух подушек, ту, что была в розовом напернике и напоминала дохлого поросенка.
Заселив, к неудовольствию прочих жильцов, каморку при кухне и вынудив тем самым разнести по комнатам хранившийся там хлам, главным образом дырявые тазы и корыта, она не вызвала к себе большой любви будущих соседей, обитателей одного из самых ветхих строений сложно разветвленного двора.
Но операцией руководил управляющий домами Кузмичев, однорукий негодяй и доносчик, и все смолчали. Какой прок Кузмичеву было заселять в каморку Симку, так никто и не узнал, но явно не за Симкину красоту. Видимо, она как-то удачно заморочила ему голову, на что, как выяснилось, она была большой мастерицей.
Симка вымыла общественной тряпкой пол в каморке – тряпку в жилистых руках она держала с нежностью и твердостью профессионала, – на просохший пол поверх газет положила свою пухлую перину и обратилась к соседке Марии Васильевне с коренным вопросом:
– Послушайте, Мария Васильевна, а вообще где здесь живут интеллигентные люди?
Мария Васильевна, разгадав молниеносно извилистый вопрос, прямым ходом направила Симку к Анне Марковне, и через несколько минут Симка сидела перед белой скатертью, держа в руках синюю кобальтовую чашку с золотым ободком, а бедная Анна Марковна, сочувственно кивая нарядной серебристо-курчавой головой, так что вспыхивал синий огонек то в одной, то в другой длинной мочке, прикидывала, сколько и чего надо дать просительнице и как одновременно оградить себя от ежедневных покушений простодушной нахалки.
Тончайшее взаимопонимание было полным, ибо Симка, рассказывая о своих злоключениях, отчасти вымышленных, виртуозно обходила подлинные события, оставляя то незаполненный пробел, то темную цензорскую вымарку, а Анна Марковна тактично не задавала тех вопросов, которые могли бы расстроить приблизительное правдоподобие повествования. Достоверным было лишь то, что Симка, похоронив мужа, сбежала из доморощенного Сиона, раскинувшегося на берегах Амура, невзирая на все препоны властей, начальств и небесных сил.
Через некоторое время Симка вынесла от Анны Марковны небольшое приданое, в котором было все – от керосинки до мелкой пуговицы. Одновременно с этим Симке было дано понять, что в случае необходимости она может обращаться за помощью, но к чаепитиям ее приглашать не собираются. Симку это вполне устраивало.
Как ни странно, она быстро вписалась в общественную жизнь. Двор принял ее, оценив острый язык и совершенно непривычный вид скандальности – с отгенком добродушия и готовности посреди самого крутого соседского междоусобия заливисто рассмеяться, обхватив руками грудную клетку, в которой самым выдающимся местом был мощный и костистый, как у старой курицы, киль, и тряся рогатым узлом завязанного надо лбом платка.
В карьере ее тоже наблюдался если не взлет, то рост: она по-прежнему была уборщицей, но из конторы управления домами она перешла сначала в заводоуправление, а потом, уже перед самой войной, ее взяли в Наркомздрав.
В работе она была азартна и неутомима, начинала свой рабочий день в шесть утра на казенной службе, потом бежала домой кормить дочку, а потом еще справлять уборку мест общего пользования чуть ли не в половине квартир соседнего, приличного, постройки начала века и заселенного итээровцами дома. Так вертелась она с пяти утра до поздней ночи и жила не хуже других.
Самой удивительной Симкиной чертой было непомерное тщеславие. Она нахваливала свою половую тряпку, сшитую из мешковины лучшего сорта; развешивая весной для проветривания свою необъятную перину, она раздувалась от гордости так, как будто на веревке перед ней качалась по меньшей мере соболья шуба; она превозносила своего покойного мужа, лучшего из покойников; даже полное отсутствие зубов в собственном рту она рассматривала как интереснейший факт, достойный если не восхищения, то удивления.
Главным пунктом, возносящим ее над всем прочим человечеством, была ее дочь Бронька, которая незаметно росла, лежа животом на подоконнике полуподвального окна и разглядывая круглогодично меняющийся куст сирени и неизменно обтрепанные штаны мальчишек, пробегавших мимо окна в поисках неизвестно куда улетевшего деревянного чижа.
Бронька была и впрямь существом особенным, нездешним – с какой-то балетной летучей походкой, натянутым, как тетива, позвоночником и запрокинутой головой. Материнского нахальства не было в ней и следа. Взгляд ее был всегда вверх или мимо. Первыми бросались в глаза рыжеватые, растительно-пышные волосы да низкий, изысканной фигурной скобкой очерченный лоб, и лишь потом, при особо внимательном рассмотрении, видна была вся прочая ее красота, собранная из мелких неправильностей: чуть под углом поставленных прозрачно-белых передних зубов, немного приподнятой верхней губы и таких больших светло-желтых глаз, что, казалось, они сдавливали переносицу и простирались до висков. И ко всему этому – обаятельно-сонливое выражение, как будто она только что проснулась и пытается вспомнить ускользнувший сон.
На групповой школьной фотографии сорок седьмого года двенадцатилетняя Бронька не смотрит в объектив. Она отвернулась: видна лишь часть щеки и толстая колбаса косы, скрученной над ухом.
Раздельное обучение уже ввели, но формы еще не узаконили. Одеты разномастно, но опытный взгляд определит одну общую особенность – все в перешитом, в комбинированном, в перелицованном.
Впрочем, две девочки в передничках старорежимного покроя. Это Бронька и внучка Анны Марковны, преданной по гроб жизни гимназическим представлениям о мире, заслуживающим глубокого, но запоздалого уважения. Ирочка, в соответствии с идеалами бабушки, в темном платье с белым воротничком, имитирующем грядущую форму, Бронька – в шерстяной кофточке и сатиновых нарукавниках. Все дети мелкие, недокормленные, толстяков нет. Про нарушения обмена веществ стало известно позже, в более сытые времена. Бронька стоит немного боком, и заметно, что под фартучком ее проросла вполне заметная возвышенность.
Через два года, в седьмом классе, Бронька была с позором изъята из школы чуть ли не на последнем месяце беременности. Как это ни смешно, беременность Броньки классная руководительница Клавдия Дмитриевна, старая дева с черной круглой гребенкой в макушке, заметила раньше, чем дошлая Симка.
Симку вызвали в школу и оповестили.
Симка исследовала и убедилась.
Ее визг и вой оглушил ко всему привычную Котяшкину деревню – так поэтически назывался двор. Звуковая партитура действия, развернувшегося в Симкиной каморке, включала в себя, кроме проклятий на общедоступном русском языке и малопонятном еврейском, все возможные вокализы на «а-а», «о-о» и «у-у», звон стеклянной и грохот металлической посуды, а также треск кое-какой мебели и шлепки оплеух.
Справедливости ради надо сказать, что Бронька звуков никаких не издавала, что в конце концов так обеспокоило соседей, что они вломились всем миром, облили Симку водой, увели белую и совершенно бесчувственную Броньку, а потом, поочередно и хором, стали внушать Симке, что дело житейское, со всеми случается и не надо так уж убиваться.
Анна Марковна, посетившая знаменитое родительское собрание с бурным обсуждением, самоотверженно заменив свою дочь, женщину слабого здоровья, которую тошнило от одного только приближения к школе, на вопрос внучки Ирочки относительно Броньки сухо ответила, что у Броньки будет ребенок и больше в школе она не появится. При этом Анна Марковна так поджала губы, что стало понятно: никаких увлекательных подробностей Бронькиной биографии сообщено не будет.
Беременность свою Бронька доносила, не выходя из каморки, но, когда родился ребенок, как ни в чем не бывало она вылезла с младенцем на прогулку. Она стояла в палисадничке, чуть левее крыльца, с ребенком в руках, и прогулка ее продолжалась ровно полтора часа.
Первое время дворовые мальчишки пытались высказать ей свое отношение к происшедшему, а также делали разнообразные предложения, связанные с посещением чердака или сараюшки, но Бронька поднимала свои прозрачные глаза, бесстыдно и снисходительно улыбалась и никогда не удостаивала их ответом. Она и прежде была молчалива, малообщительна и по-своему независима, а теперь она и с матерью почти перестала разговаривать.
Для Симки это было дополнительным мучением. Она долго пытала дочь, кто осчастливил ее потомством. В душе она лелеяла облегчительную версию изнасилования. Но Бронька молчала, как скала, не проявляя никакого смущения. Это приводило Симку в полную ярость, но ничто не могло поколебать этого несколько даже слабоумного спокойствия Броньки. Пожалуй, выражение ее лица можно было назвать счастливым.
Рождение ребенка вместе с нераскрытой тайной отцовства отнюдь не разрушило Симкиного тщеславия. Мальчик, которого назвали Юрочкой, вышел в другую породу – темненький, сероглазый, и Симка, восхищаясь его правильной миловидностью, все всматривалась в его черты, надеясь уловить сходство. С кем? Неизвестно…
Поведение Броньки как до рождения ребенка, так и после было безукоризненным. Она и раньше не толклась по подворотням и чердакам, не заглядывала в голубятни к проворным молодцам в повернутых назад козырьками кепках, а теперь, при младенце, она пролетала своей балетной походкой в магазин, когда ее посылала за чем-нибудь мать, и совсем уж бегом неслась обратно, боясь оставить младенца без своего личного присмотра на лишнюю минуту. Вечерами обычно она сидела в своей клетушке на кровати и если не кормила, то просто любовалась спящим сыном.
Симка, проникаясь иногда взбалмошным сочувствием к одиночеству дочери, гнала ее из дому: пошла бы, что ли, в гости, к подружкам! Но Бронька пожимала плечами и отказывалась. Те школьные девочки, с которыми она недавно ходила в седьмой класс, смотрели на нее издали округлившимися от ужаса глазами и вовсе не испытывали желания поддерживать с ней отношения. Только отважная Ира подошла однажды к прогуливающей ребенка Броньке и попросила разрешения на него посмотреть. Бронька отвела от лица сына простынку, и ее бывшая одноклассница восхитилась:
– Вот это да! Хорошенький какой!
И ушла, смутно размышляя о том, что при всем ужасающем стыде такого события ребеночек очень симпатичный, а Бронька принадлежит отныне к миру более серьезному, чем тот, в котором пребывают теорема подобия треугольников, выборы в учком и скакание через кожаного козла. Для своих четырнадцати лет, принимая во внимание общую оголтелость того времени, Ира была девочкой неглупой, хотя дружить ей с Бронькой было совершенно «не о чем».
К тому времени, как мальчик Юрочка пошел и стал лепетать свои «баба» и «мама», обнаружилось, что Бронька опять крепко беременна. Симка на этот раз не устроила скандала, но произвела строгое разыскание. Она унизилась до того, что расспрашивала Марию Васильевну, не ходит ли кто к Броньке, пока она, Симка, на работе. Соседки, обсудив и осудив на кухонном собрании всесторонне Бронькино поведение, все же единодушно признали, что мужиков к себе Бронька не водила. По крайней мере, никто ее на этом не накрыл. Вела она себя при этом так тихо и скромно, так смиренно и безразлично выслушивала полагающиеся ей всякие слова, что общаться с ней соседям было неинтересно. Пожалуй, ее даже жалели.
Так или иначе, родился второй мальчик, в точности похожий на первого, тоже темненький, смугловатый, с серыми круглыми глазами. Бронька – вместо того чтобы рвать на себе волосы – была совершенно счастлива, играла с детьми, как молодая кошка с котятами, кормила младшего грудью, не отказывала иногда и старшему. Он был умненький и, отсосав дочиста после младшего брата остатки молока, говорил «спасибо».
С самого рождения младшего Юрочка воспылал к нему нежным чувством, которое с годами нисколько не умалялось. Дети были улыбчивыми, ласковыми, соседи их любили и баловали чем могли, жалея Симку и дуреху Броньку. Кто совал пирожок, кто печенье.
Виктор Петрович Попов, старый фотограф на пенсии, проживавший одиноко в восемнадцатиметровой, самой большой в квартире комнате, иногда пускал их к себе играть. Они садились на полу, на мелкорисунчатом красном ковре, а он вырезал им из черной бумаги зверей и велосипеды…
А Бронька опять стала беременная. Симкина еврейская душа, закаленная в тысячелетних огнях и водах диаспоры, вкупе с собственным дважды переселенческим опытом, не выдерживала этого наваждения: дочь приносила что ни год по ребенку, ни одного мужика не было и в помине. Симка выбивалась из сил. Стала попивать.
Теснота в каморке была такая, что Симка с двумя детьми спала на своей знаменитой перине, а Бронька ставила себе раскладушку на кухне, возле двери каморки, и спала там, привязанная за ногу веревкой, которую Симка, отроду не читавшая Боккаччо, держала в своей крепкой руке. Третья Бронькина беременность, уже всем заметная, не ослабляла тщетной материнской бдительности.
Новенький Бронькин сын Гришка родился в день ее рождения, когда ей исполнилось семнадцать лет. В отличие от своих старших братьев он был болезненным и крикливым. Бронька до года не спускала его с рук. Он несуразно двигал ручками, кривил обиженно рот, и Симка прикипела к нему душой.
Старшие, Юрка и Мишка, целыми днями вертелись на кухне, пока старуха Кротова не вылила однажды на Мишку кастрюлю горячего супа. С этих пор Бронька перестала выпускать их на кухню, и, если погода была плохая, они сидели в комнате старого Попова, который вырезал им из черной бумаги целый мир, населив его диковинными безымянными зверями, читал сказки Андерсена и никогда не проявлял ни усталости, ни раздражения.
Младшенький постепенно выправлялся, хотя ходить стал поздно, после полутора лет, и задерживался немного в развитии. Бронька возилась с ним больше, чем со старшими, но ее усиленные заботы о детях не помешали ей в положенный срок забрюхатеть. Соседи уж и удивляться перестали такой детородной способности. Симка же к рождению очередного внука стала относиться с той же неизбежностью, как к смене сезонов.
Последний сын Броньки, Сашка, был того же смугло-сероглазого образца, родился он незадолго до смерти старого фотографа, и в самый день похорон Симка, Бронька и четверо детей после небольших поминок и крупного кухонного скандала, разразившегося по поводу самовольного вселения Симкиных потомков в бывшую поповскую комнату, въехали туда и зажили по-царски.
В первый же вечер подвыпившая Симка кричала на кухне Броньке, моющей под краном детские бутылочки – молока у нее на четвертого не пришло:
– Шлюха ты, Бронька, шлюха! Я смолоду одна из-за тебя осталась! Ты думаешь, я замуж выйти не могла? Рожай, рожай, не стесняй себя! На восемнадцать-то метров этого гороха во-он сколько уложить можно! – и плакала, стряхивала со щек слезы.
Бронька дернулась, бутылочки звякнули о металлическую раковину. Руки ее пошли вверх, она вся запрокинулась и упала на цементный пол.
А потом Бронька успокоилась. Младшему исполнился и год, и три, и Юрочка уже пошел в школу, в ту самую, из которой его когда-то выгнали вместе с матерью. Школа была уже не раздельнополой, а общей. Девочки ходили в гимназических формах, мальчики были стрижены наголо, и только некоторые, богема и вольнодумцы, от молодых ногтей обрекшие себя на противостояние обществу, носили прозрачные, как рыбий хвост, чубчики. Учился Юрочка у тех самых учителей, которые учили, да ничему хорошему не выучили его непутевую мать.
Бронька пошла работать в булочную уборщицей. При булочной была пекарня, и кроме зарплаты Броньке давали хлеба – сколько съест, и четверо ее ребят на этом припеке росли один в одного, рослые, крепкие. Даже болезненный Гришка выровнялся, и были они ровные, как дети одного отца.
Во дворе, среди сверстников, они верховодили, да и как было противостоять их братскому фаланстеру. Время от времени отворялась форточка, и Симка хрипло кричала:
– Юрка, Мишка, Гришка, Сашка, домой! – И была какая-то смешная музыка в этом гортанном выкрике. Теперь Симкино тщеславие кормилось от этих исключительных, таких удачных, таких талантливых – слава Богу! – и таких умных – Боже мой! – и здоровых – тьфу-тьфу не сглазить! – мальчиков.
Потом настали новые времена. Казалось даже, что именно с Котяшкиной деревни они и начинались. Ходили слухи, что ее снесут. Симка, пронырливая Симка, еще загодя устроилась работать в райисполком уборщицей, какая-то комиссия перемерила ей комнату, и оказалось, что в ней не восемнадцать метров, а семнадцать и восемь десятых, и стало приходиться меньше трех метров на человека, и они получили трехкомнатную квартиру раньше всех, еще до всеобщего выселения.
Никто не верил, пока Симка не повезла соседей на эту самую Вятскую улицу, за Савеловским вокзалом, куда ходил трамвай прямо от Новослободской, и показала эту самую квартиру, даже с ванной.
Первое время Бронькины мальчики часто приезжали в старый двор, а потом привыкли к новому, да и старый стал меняться: ветхие строения, дровяные сараи и голубятни сносили, жильцы разъезжались. Кончились последние остатки провинциальной Москвы с немощеными дворами, бельевыми веревками, натянутыми между старых тополей, и пышными палисадами с лопухами и золотыми шарами…
Ирина Михайловна, полная и немолодая уже женщина с серебристо-курчавой головой и синими огоньками алмазов в длинных мочках ушей, промахнулась со временем. Она должна была встретиться со своим мужем Сергеем Ивановичем на площади Маяковского в семь часов, но заседание кафедры отменилось, и у нее образовалось окно в два с лишним часа. Ехать домой было не с руки, поскольку они собирались с мужем в гости на другой конец Москвы.
Она приехала на площадь много раньше назначенного времени, намереваясь зайти в магазин «Малыш» и купить что-то внуку, но магазин был на ремонте, и она стояла в растерянности, оказавшись в пустом не запланированном и не расписанном на минуты заранее времени. Она огляделась по сторонам обновленным и бесцельным взглядом и увидела то, чего лет тридцать не замечала: постепенно, исподволь изменилась площадь, мало осталось домов того раннепослевоенного времени, когда она бегала к памятнику на свидание к Сереже; и какая стоит хорошая дымчатая осень, без сильного света, но и без ранних дождей.
Ирина Михайловна впала в не свойственное ей элегическое настроение. Ей некуда было спешить, было прекрасно.
Она купила зачем-то букет мелких разноцветных астр, улыбнулась его жизнерадостной безвкусице, а потом подошла к филармонической будочке, торгующей билетами, и стала изучать большой лист с перечислением абонементов.
Сидящая в будочке женщина, вытянув шею, с не меньшим интересом изучала самое Ирину Михайловну, а изучив, окликнула:
– Ира! Ирочка!!
Ирина Михайловна посмотрела на женщину, и сердце ее защемило: лицо было таким родным, мучительно знакомым, словно бы выученным когда-то наизусть. Фигурная скобка лба, узкий носик, тонкая переносица и по-египетски, до висков раскинувшиеся глаза, – лицо незабываемое и забытое, как многажды виденный сон… в детстве… в детстве… еще одно усилие памяти, еще один нырок на заповедное дно.
– Не узнаешь? – умоляюще улыбнулась женщина, и продольная вмятинка обозначилась на щеке. – Неужели не узнаешь?
– Господи! Бронька! – изумилась Ирина Михайловна, которая мысленно перебирала самых отдаленных родственников по отцовской линии.
– Я, Ирочка, я! Бронька! – И радость в ней была такая, что Ирина Михайловна даже смутилась. А Бронька моргала ресницами и собиралась плакать. Она закрыла окошечко и выбралась из будки. – Подожди, подожди, ради бога, – зачастила она. – Ты ведь не спешишь? – с надеждой в голосе спросила она. Выйдя из будки, она оказалась такой же маленькой и худенькой, как в детстве.
Она обхватила Ирину и, уткнувшись ей в бок, уже сквозь быстрые легковесные слезы говорила скороговоркой:
– Ирочка! Ой, Ирочка! Да как же я рада, что ты нашлась! Ты ведь у меня одна подруга была, других не было… Если бы ты знала, что ты для меня в детстве значила… Ведь единственная подруга… Я помню, помню, как ты Юрочку просила показать… И бабушка твоя… она нам помогала… Ирочка, вот радость-то… – Бронька смахнула со щеки слезу.
Ирина Михайловна слегка забеспокоилась: неожиданность узнавания, легкое волнение от касания к детству уже прошло, а Бронька, судя по настораживающе-истерической ноте, была немного не в себе – так показалось Ирине, человеку сдержанному и не расположенному к открытым эмоциям.
– Пойдем ко мне, я тут совсем недалеко, рядом, три минуты, – умоляюще предложила Бронька.
Ирина посмотрела на часы – пустого времени было два часа.
– У меня есть минут сорок, я с мужем договорилась здесь встретиться, – ответила Ирина, а Бронька уже засовывала в большую кожаную сумку кипу билетов и запирала будку.
Тут только заметила Ирина Михайловна, что выглядит Бронька невероятно моложаво и одета в зеленый лайковый костюм, которые отнюдь не на каждом углу продаются.
– Пойдем, пойдем же, – теребила Бронька Ирину и уже волокла куда-то через дорогу. – Я тут рядом. А мама, мама как тебе обрадуется… – И снова Бронька говорила о том, как Ира была ее единственной подругой во все времена ее ужасного, невыносимого детства…
– А мама-то жива, подумать… сколько же ей лет? – удивилась Ирина.
– Восемьдесят четыре. Инсульт у нее был, ходит с палкой, скандалит. С памятью не все, конечно, в порядке, забывает, что близко… А прошлое помнит очень хорошо. Не хуже меня, – с оттенком умной грусти сказала Бронька.
Они вошли в хороший, из тех, что прежде назывались генеральскими, дом, в приличную квартиру. Когда хлопнула дверь, раздалось шарканье и стук палки. В коридор вышла Симка, сморщенная, воспаленно-красного цвета, голова ее была повязана косынкой, все тем же фасоном – козой, с двумя рожками надо лбом. Двумя руками она опиралась о палку, подволакивала левую ногу, сухое личико ее было искривлено съехавшим вниз ртом.
– А, это ты пришла, я думала – Лева, – не совсем внятно произнесла старая Симка.
– Мама, Лева уехал в командировку, в командировке Лева, – крикнула Бронька, а Ирине сказала тихо: – Муж в командировке вторую неделю, а она никак запомнить не может. – И снова, близко к крику: – Мама, ты посмотри, кто к нам пришел! Это Ирочка, внучка Анны Марковны. Ты помнишь Анну Марковну, в старом дворе?
– А-а, – кивнула Симка. – Конечно, я помню Анну Марковну. Она жива? Нет?
– Давно умерла. Почти двадцать лет, – ответила Ирина, испытывая странное чувство замешательства. – И бабушка, и дедушка, и мамы давно уже нет.
– Анна Марковна была хорошая женщина, – снисходительно, словно от ее мнения зависело нынешнее благосостояние покойной. – Она меня очень уважала, очень уважала, – с гримасой гордого достоинства выговорила с некоторым трудом Симка.
Ирина Михайловна никак не могла вспомнить ее отчества. Не могла – потому что никогда его и не знала. Никто никогда не знал отчества Симки – по крайней мере, в те времена…
Бронька отвела мать в дальнюю комнату. Ирина огляделась: безликое жилье со стандартной, как у самой Ирины, стенкой, множество дорогой музыкальной техники.
– Я чайник поставлю, – сказала Бронька. – У меня конфеты есть «Юбилейные», большая редкость теперь…
Широкие рукава шелковой блузки красиво летали за тонкими Бронькиными руками, когда она доставала конфеты с высокой полки. Она подняла руку, поправила заколку в волосах, в русых, еще сохранивших рыжий отсвет волосах, и все жесты ее казались Ирине необыкновенно женственными, красивыми. А Бронька все бормотала свое:
– Ирочка, сколько лет, Ирочка. Боже мой, сколько же лет…
«А Бронька-то красавица», – вдруг догадалась Ирина. Раньше ей и в голову такое не приходило. Была замухрышка на тонких ножках, рыжая, хмурая.
«В те годы мы такой красоты не понимали, – подумала Ирина. – Она была слишком тонка по тем временам».
Бронька поставила на стол синие кобальтовые чашки с густым золотом внутри. Знакомые, знакомые чашки. Ирина очень отчетливо вдруг увидела, как молодая Симка с синей чашкой в руках сидит перед жесткой белизной их семейного стола и как бабушка, склонив набок голову, слушает скороговорную, не совсем понятную речь, пересыпаемую еврейскими словами и резкими жестами, которые все кажутся невпопад, а она, Ирочка, сидит под золоченым круглым столиком в углу комнаты и смотрит на странную гостью через бежевую бахрому скатерти, свисающей до самого пола.
– Как мальчики твои? – спросила Ирина.
– Хорошо, Ирочка. Взрослые. Мало сказать взрослые… Сейчас покажу, – и вынула шкатулку, а из нее пластиковые стопки ярких цветных фотографий. – Это Юрочка, он в Калифорнии живет, вот. Инженер по электронике, какое-то дело у него большое. Богатый. Не по-нашему, по-настоящему. Это жена его, трое детей. Американцы. Девочки красивые, правда? А это Мишка. Он врач-невропатолог. Он там образование получил. Юрочка ему помог. Это мои американцы. Это Мишина жена, китаянка. Представь, на китаянке женился. У них там, в Америке, все перемешано. Особенно в Калифорнии.
Ирина с интересом смотрела на красивых крепких людей, на неестественно яркую, фальшивую по цвету жизнь, а Бронька взяла скромную стопку черно-белых и продолжала:
– А Гришка и Саша здесь, с нами. То есть не с нами. Гришенька на Вятской живет. Развелся он, как-то неладно у него, а Саша в Ленинграде. Внуков нарожали. Три девочки у нас есть, Джейн и Лиза у Юры и вот эта, Лилечка, Сашина. А это Левы, мужа моего, дочка от первого брака. Сейчас чай принесу. – Бронька улыбнулась и вышла.
Перед Ириной лежала горка фотографий, так же далеко отстоящих от подлинной жизни, как Бронька в сером деревенском платке, с ребенком, завернутым в тяжелое ватное одеяло, слева от крыльца, почти сорок лет тому назад, – с той только разницей, что эти фотографии были лживы и реальны, а облик Броньки того времени правдив, но не воплотим…
– Ах, как я рада, как я рада тебя видеть, – с простодушным многословием повторяла Бронька. – Но ты расскажи о себе, как ты-то живешь? Что делаешь?
Ирина улыбнулась, пожала плечами – она жила хорошо.
– Хорошо, – сказала она, – дочка… в аспирантуре, внук, муж профессор, я преподаю… доцент, в институте.
И вдруг в душе ее возникла необъяснимая тень недовольства своей жизнью, неловкости за свое полное и заслуженное благополучие. «Да нет, глупости, – промелькнуло в мыслях, – чего же плохого в том, что родители дали мне хорошее образование и обеспечили всем необходимым для жизни и мы все то же дали своей дочери…» И она, вернувшись глазами к фотографиям, сменила тему:
– Хорошие фотографии… Я очень люблю фотографии…
– Да? – со странным выражением спросила Бронька. – Ты действительно любишь фотографии?
Ирина кивнула.
Бронька исчезла в смежной комнате, что-то там грохнуло, посыпалось, прошло еще несколько минут, и она появилась, держа в руках довольно большую пыльную папку. Сдула пыль и положила ее перед Ириной:
– Посмотри вот эти.
Ирина развязала тесемку папки. Сверху лежала старинная бледно-коричневая фотография крупного формата.
Совсем юный темноволосый студент со свежими, недавно отпущенными усами сидел в кресле, расслабленно положив правую руку на маленький круглый столик, в центре которого, на месте предполагаемой вазы с цветами, лежала новая фуражка. Смутная улыбка бликовала на губах, бодро сверкали металлические пуговицы необношенного мундира.
На шелковистом коричневом картоне стоял золотой факсимильный росчерк и строгий штампик: Салонъ Теодора Гросицкого, Ново-Ивановский Спускъ. Саратовъ.
– Теодор Гросицкий был из семьи ссыльных поляков, огромный человек, пьяница и задира. Но был он очень добрым и удивительным мастером в фотографии. На спор пошел он в ледолом через Волгу и не вернулся. Утонул. Один из его фотоаппаратов долго хранился у нас, а потом дети его изничтожили, – с неожиданной интонацией смотрителя музея сказала Бронька.
На следующей фотографии, тоже приклеенной на коричневато-серый картон, на фоне темного мелкорисунчатого ковра, подтянув колени к подбородку и обхватив руками маленькие голые ступни, в чем-то светло-кружевном, дамском, сидит юная девушка, удивительно похожая на Броньку.
– Красивая фотография, правда? Мастер делал, – улыбнулась Бронька и положила перед недоумевающей Ириной еще одну: из овала смотрела еще одна Бронька, в маленькой, нэповских времен, шляпке с большим бантом; волосы густо лежат на плечах, вид томный и лукавый. Фотография по виду старинная.
– Да, да, я, – подтвердила Бронька. – Пятнадцати лет.
А в руках у нее была уже небольшая, формата открытки, фотография того же красивого студента, на этот раз в косоворотке с незастегнутыми верхними пуговицами, рядом с юной, но как будто слегка располневшей Бронькой, защищенной от солнца пышным сборчатым зонтом.
– Вот здесь, – Бронька указала в глубь фотографии, – была беседка, оттуда – спуск к реке. После дождя глиняные ступени становились ужасно скользкими, и поставили легкие металлические перильца, выкрашенные в белый цвет.
«Бред какой-то. Видимо, это какая-то очень похожая женщина на фотографии, а Бронька… Бронька на почве этого сходства сошла с ума», – объяснила себе Ирина странные Бронькины слова.
Рядом легла еще одна фотография, с уже знакомым сюжетом: тот же молодой студент в кресле, те же крупные и мелкие складки занавеса, но по левую сторону, симметрично, в таком же кресле сидит тоненькая девушка с подобранными вверх, закрученными на широкую ленту дымчатыми волосами. Она смотрит на молодого человека, он смотрит в объектив. Девушка все та же.
– Странно, не узнаешь! И это я. А фотография сделана в одиннадцатом году, и я прекрасно знаю все обстоятельства этого дня, и дом, и улицу, где все это было…
«Определенно сумасшедшая, – подумала Ирина. – Нелепость какая-то или детское бессмысленное вранье?»
Бронька правильно прочла Иринины мысли.
– Нет, я не сумасшедшая. Рассказать? – Бронька опустила подбородок в ладони, оттянув наверх щеки. Лицо ее окитаилось, но не стало некрасивым. – Действительно рассказать?
Ирина кивнула.
– Ты, Ирочка, единственный человек, который еще может его помнить… Скажи, помнишь Виктора Петровича Попова?
– Попова? – переспросила Ирина. – Нет, не помню.
– Старый фотограф, он иногда ходил к твоему деду в шахматы играть. Высокий, худой, по виду барин. Не помнишь?
– Нет. К деду много народу ходило. Ученики, друзья. А в шахматы он играл обычно со своим ассистентом Гречковым. Попова не помню, нет.
– Жаль, – вздохнула Бронька. – Впрочем, теперь это не важно, фотография эта – монтаж. И эта, – она ткнула пальцем в себя с зонтиком. – Здесь он был со своей сестрой. Он очень любил меня фотографировать. Он был не просто фотограф, он был художник, актеров снимал и для музеев фотографии делал. Что-то он переснимал, клеил, ретушировал. Один раз театральный костюм принес – сфотографировал меня в нем. Он, Ирочка, считал меня красавицей. – Бронька засмеялась тихим глуповатым смехом. – Ты правильно, правильно подумала. Конечно, я сумасшедшая. В детстве я была совершенно сумасшедшая. Жила как во сне. Как в кошмарном сне. Мне все казалось, что вот проснусь, и все будет хорошо и правильно. Хотя как правильно – я понятия не имела. Я только твердо знала, что не могут так люди жить, как мы жили. Так есть, спать, разговаривать. Мне все казалось – сейчас это кончится и начнется другое, настоящее. Я все ждала, каждую минуту, что все это распадется и исчезнет и настанет новая, правильная жизнь, без этого безобразия… А, ты этого не знала. Белая скатерть и синие чашки на столе – о чем моя мать мечтала, это же все у тебя было, может, ты и не знаешь этой детской тоски, а может, это было такое психическое расстройство.
Ирина внимательно слушала Броньку – ошеломленно и с тонкой неприязнью: не должно было быть у этой маленькой бывшей потаскушки, посмешища всего двора, таких сложных чувств, глубоких переживаний. Это нарушало представления о жизни, которые были у Ирины Михайловны тверды и плотны…
– Ах, как жаль, что ты не помнишь Виктора Петровича, – продолжала Бронька. – Он был наш сосед. Мать просила его, чтоб он помог мне по математике, я стала ходить к нему в шестом классе. Ира, он обращался ко мне на «вы»! Он ко всем обращался на «вы»! Вокруг него, как это тебе объяснить, была другая жизнь, и она не касалась той, которой жили все остальные… Он ото всего был как-то огражден, относился с уважением ко всем, даже к кошке. Хамство ужасное и грубость, ты даже представить себе не можешь, какое хамство, а его это не касалось. Я приходила к нему – по алгебре ничего не соображаю и соображать не хочу. Хочу сидеть за его столом и не уходить. У него в комнате – как на острове. А я тупая была! Ничего не понимала, а от этих буквочек алгебраических у меня такое отвращение было. А он терпелив необыкновенно, ни одного раздраженного слова.
Однажды он показал мне фотографии – старые семейные фотографии, вот эти. И рассказал. О своем отце, о матери, о Теодоре Гросицком, о кузинах… Господи, что со мной стало! Как я плакала… Виктор Петрович испугался, понять не может: «Что с вами? Что с вами?» А я на фотографиях и в рассказах узнала ту жизнь, которая должна… которую я все ждала… не знала, что она прошлая, а не будущая и ко мне вообще отношения не имеет, а мне – вот все это невыносимое, что в нашей квартире, в нашем дворе…
Ира, я влюбилась. Я влюбилась в него, молодого, на этих фотографиях. Если б я не влюбилась, я бы, наверное, повесилась в каком-нибудь дровяном сарае, так было невыносимо…
А Виктор Петрович, он и в старости был очень красив, очень. С тех пор я не встречала таких красивых людей. Теперь я понимаю, что в молодые годы – видишь ту фотографию – он не был так красив, как в старости. Но это теперь. А тогда я смотрела как раз наоборот – видела в нем этого студента в новеньком мундире. Он был для меня богом, Ирочка.
Когда я поняла, что люблю его и что никого другого не полюблю, потому что никакого другого – такого! – нет на свете, тупость моя прошла, я стала сообразительна и остра. О возрасте же – и моем, и его – я совершенно не задумывалась, а замечу тебе, что Виктору Петровичу было тогда, к началу нашего романа, шестьдесят девять лет. А мне не было и четырнадцати. А страсти были – не дай Бог! Кровь южная, горячая… У Виктора Петровича тоже кровь не простая – мать грузинка, княжна грузинская.
Первое время я изнывала и страшно томилась.
Ему, конечно, невдомек. Однажды прихожу я к нему, алгеброй заниматься, а у него дама знакомая, в розовом костюме, в пудре… Он попросил меня зайти завтра, и до завтра я не сомкнула глаз. Ужасные минуты ревности я пережила. Ночь не спала – и зарядилась я в эту ночь на одно – совратить Виктора Петровича. Слов я таких, конечно, не произносила, это теперь могу так оценивать, а тогда – буря в душе. Сказать я ему ничего не могла. Я ведь тогда почти совсем не разговаривала. Писать мне казалось еще ужасней. И что писать-то? Я встала среди ночи, в одной рубашке, босиком. Мать спала как убитая, а я – к нему, по темному коридору, вся трясусь от страха не перед темнотой, перед самой собой… И я его победила, Ирочка. Не без труда. Отдать ему надо должное – он сопротивлялся.
Бронька улыбнулась. Ирина покачала головой и тихо сказала:
– Представить себе не могу. Как в романе каком-то…
– Он меня очень любил, Ира, – вздохнула Бронька. – Очень. Если бы открылось, его бы посадили за растление. Хотя сажать надо было меня, это я его обставила. Ну я, конечно, скорей бы повесилась, чем кому-нибудь рассказала. Я берегла его. Никто на него не думал. Хотя мы с детьми у него много времени проводили.
А когда Юрочка родился, я выйду, стану возле его окна, а он в кресле сидит, через занавеску на нас смотрит. Сколько мы гуляем, столько он на нас смотрит…
Ирина сидела с синей чашкой в руке, на золотом ободке отпечатался след ее малиновой помады. Она слушала Броньку как сквозь сон, как сквозь воду.
– Молодые люди так не умеют любить. Вообще теперешние мужчины. Это я потом узнала. После его смерти много лет прошло, прежде чем я на мужчин смотреть стала. Да и некогда мне было, понимаешь сама.
Умирал Виктор Петрович три дня. Умер от пневмонии. Трудно ему было. Задыхался. Я от него не отходила. Он глаза открыл и говорит: «Душа моя, спасибо. Господи, спасибо». Вот и все…
А мать моя была очень догадлива, она сразу догадалась, что я на комнату Виктора Петровича мечу. И пока он умирал, она мне не мешала, даже в комнату не входила. Детей держала, только под конец он попросил, чтобы пришли. Ну Сашеньке-то всего два месяца было… Такие дела, Ирочка. Тайна моя, за которую я бы умерла тридцать лет назад, теперь ничего не стоит. И никому не интересна. Никому давно не интересно, кто отец моих детей. Даже маме…
Ирина Михайловна посмотрела на часы. Муж уже ждал ее на Маяковке.
– Спасибо тебе, Броня. Я опаздываю, меня муж ждет. Я рада, что мы встретились.
Бронька проводила ее к двери.
– Нужны будут какие-нибудь билеты, заходи. Я все могу достать. Спасибо тебе. Такая радость.
Они поцеловались. Ирина ушла. Телефонами они не обменялись.
…Стояла все та же дымчатая осень, и день недели был тот же, и год, но Ирина Михайловна несла в себе какое-то глубокое и горькое изменение и никак не могла понять, что же произошло… Ее собственная жизнь, и жизнь родителей, и жизнь дочери показались вдруг обесцененными, обесцвеченными, хотя все было достойно и правильно – старики в их семье умирали в преклонном возрасте, взрослые были здоровыми и трудолюбивыми, а дети – послушными…
И вспомнила, вспомнила Ирина Виктора Петровича, худого высокого старика с твердым бритым лицом, чистыми усами, светлыми глазами в складчатых кожаных мешках и черно-серебряным перстнем на желтой руке…
И нелепая, дикая, ничем не объяснимая зависть к Броньке зашевелилась в ее сердце. Впрочем, всего на одну минуту…
Генеле-сумочница
По темпераменту тетя Генеле была общественным деятелем, но крупные задачи ей в жизни как-то не подвернулись, и по необходимости она занималась проблемами относительно мелкими, в частности, следила за чистотой северо-западного угла дворового довольно обширного скверика. Собственно, масштаба ее хватило бы и на весь сквер, но она предпочитала взять более мелкий участок, но зато уж здесь добиться совершенства. Тетя Генеле очень любила совершенство.
Как только слегка подсыхала грязь, она, увязая ботинками в замаскированных послезимним сором лужах, притаскивалась на свою позицию – еще не покрашенную скамью возле разрушенного фонтана – и садилась поджидать нарушителей.
Весенняя предпраздничная уборка еще не началась, и дорожки были покрыты линялыми конфетными обертками, разбухшими окурками и мелкими, наскоро использованными предметами бесприютной любви.
Время было еще мертвое, посетители редко заглядывали в сквер, но Генеле начинала свой сезон загодя, опережая первого посетителя на день-другой.
На этот раз первым зашел мужчина с портфелем, сел неподалеку, закурил и бросил спичку за спину. Генеле вся встрепенулась, как охотничья собака, и, сладко улыбаясь, сделала пристрелку:
– Гражданин, от вас урна в двух шагах, неужели трудно?
Гражданин непонимающе посмотрел на нее озабоченными отвлеченными глазами:
– Простите, вы что-то сказали?
– Да, – раздельно и наставительно произнесла Генеле, – от вас урна в двух шагах, а вы бросаете спичку прямо на землю!
Он неожиданно засмеялся, встал, поднял спичку, которая свежо белела среди потемневшего серого мусора, и бросил ее в урну.
Старуха разочарованно отвернулась: дичь была ненастоящая. Мужчина покурил и ушел, бросив окурок куда положено.
– Всегда бы так, – проводила она его презрительным словом, полная уверенности, что следующую спичку без ее надзора он все равно бросит мимо урны.
Потом пешком пришли три опухших потрепанных голубя. Вид у них был похмельный. Генеле вытащила из хозяйственной сумочки банку с размоченным хлебом, который она собирала по соседям – у нее у самой никогда хлеб не заваливался, – намяла хлеб и ровно разделила на три порции. Но глупые птицы справедливости не понимали, а может, были убежденными коллективистами. Отталкивая друг друга, они кинулись втроем на ближайшую кучку и жадно расклевали ее, а двух других и вовсе не заметили.
Генеле пыталась обратить их внимание на пищу, но, как всегда, осталась непонятой.
Она дождалась обеденного времени и, когда проглянуло чахлое солнышко, потащилась на кривеньких костяных ногах к себе домой. Настроение у нее было прекрасное – межсезонье закончилось, и она ощущала душевный подъем. К тому же после обеда наступало время исполнения ею главного жизненного долга – визита к родственникам. Ходила она к ним по графику: сестра Маруся, племянница Вера, племянница Галя, внучатая племянница Тамара и племянник Виктор составляли один цикл, второй возглавлял брат Наум, проживающий с неженатым и немного неудачным сыном Григорием. Потом следовали племянник Александр и племянница Рая. Были еще две бездетные сестры, Мотя и Нюся, а замыкала родственный круг Анна Марковна, родственница дальняя, но в глазах Генеле достойная визитов.
Так как родственников было достаточно много, то Генеле попадала в один и тот же дом обыкновенно не раньше, чем через месяц. И с этим все мирились, понимая, что она выполняет функции некоего цемента, не позволяющего семье окончательно распасться.
Маленькая, опрятно одетая, белокудрявая, она входила в дом и произносила фразу, которая на первый взгляд казалась комплиментом, что-нибудь вроде:
– Маруся, в прошлый раз ты так прекрасно выглядела…
Она была гением по этой части: никогда никому она не говорила ничего неприятного, только комплименты, но все же они были какие-то подпорченные.
– Ах, если бы вы знали, какой у Шуры сын! Круглый отличник, одни сплошные пятерки! Но вы же понимаете, какой теперь в школе уровень?
– Ах, Галя! Очень вкусный пирог! Если бы ты знала, какие пироги с капустой печет Рая, это просто объедение! – восклицала она, доедая пирог, испеченный как раз Галей.
Она входила в дом, увешанная мелкими хозяйственными сумочками, а под левым локтем у нее плотно сидела большая дамская сумка, с которой она никогда не расставалась. Именно из-за нее она и получила свое прозвище – Сумочница.
Сумка эта была привезена из Швейцарии еще до Первой мировой войны состоятельной тетей, изучавшей в Цюрихе зубоврачебное дело. Изначально эта сумка была коричневого цвета, темного, с богатым лиловым оттенком и шелковым блеском. С годами она сначала темнела, стала почти черной, а потом вместе с хозяйкой начала седеть и приобрела неописуемо изысканный желтовато-серый цвет. Сумка эта несколько раз входила в моду и выходила из нее. На заднем фасаде был глубокий шов, заделанный тщательной рукой хозяйки, – однажды, в сорок четвертом году, сумочка подверглась ножевому бандитскому нападению и пострадала. На замке растительно и вяло извивались линии умирающего модерна, тонкие узловатые пальчики хозяйки легко вплетались в этот узор, изношенная кожа обеих, казалось, происходила от одного и того же вымершего животного.
Драгоценную свою сумочку Генеле прилюдно никогда не раскрывала, а вот из многочисленных хозяйственных она доставала самодеятельный гостинец – капусту-провансаль, которую она готовила по какому-то немыслимому рецепту из семнадцати компонентов, среди которых попадались странные вещи: корень петрушки, изюм и лимонные корочки.
Некоторые родственники считали, что знаменитая капуста – чистая отрава, но никому не приходило в голову отказаться от приношения, подносимого обыкновенно с таинственным и взволнованным видом.
Пенсия у Генеле, как всем было известно, составляла смехотворно мизерную сумму, однако она никогда не жаловалась на недостаток в деньгах, а, напротив, вела себя с достоинством богатой родственницы. Своих племянниц, а впоследствии их дочек она наставляла в тонких законах ведения домашнего хозяйства, полагая себя корифеем в этом высоком жанре.
– Покупать надо понемногу, но самого лучшего, – просвещала она неразумных племянниц, и однажды она дала Гале, своей любимице, незабываемый урок закупки продовольствия.
Генеле привела ее на Тишинский рынок в воскресенье, к концу торговли, приблизительно за час до закрытия рынка.
– Первым делом надо все обойти и хорошенько рассмотреть. Заметь себе для памяти, у кого самый лучший товар. Второй круг – ты уже знаешь, у кого самое лучшее, – теперь ты интересуешься ценой. А с третьего раза покупаешь, и никогда никакой ошибки ты не сделаешь.
И Генеле с пылающими глазами летала по рынку, приглядываясь, ругала товар, хвалила погоду, какой-то толстой украинке, спешащей на поезд, желала доброго здоровьечка, успела обозвать унылого длиннолицего восточного человека «сумасшедшим на всю голову»; она размахивала руками, теребила петрушку, мимоходом объясняла Гале, что морковь надо выбирать только с круглым кончиком, мяла увядший баклажан, нюхала острым носом огурцы «с пипырышками», как она их называла, ругала засол, растирала между большим и указательным пальцами каплю меда и шептала племяннице:
– Чистый мед впитывается весь, без остатка, а если остаток, значит, нечистый!
У простенькой подмосковной бабушки она купила морковь, свеклу и две репки за половину уже сниженной цены, а в придачу получила еще и последний кривой кабачок, который отложила в свою сумочку, считая его законной комиссией за покупки, которые оплачивала Галя.
– Мне нужно сто пятьдесят грамм, – требовала она у продавщицы, но та, не привыкшая обращаться с такими малыми количествами, сбросила с ножа на весы тонкий пласт слоистого творога, который весил почти триста.
– Зачем мне столько, мне нужно сто пятьдесят! Неужели я не могу взять сколько мне нужно, а? – настаивала она, и флегматическая продавщица заворачивала в белую бумагу творог и презрительно ворчала:
– Да ладно уж, я не обеднею.
А Генеле, победно глядя на Галю, шепотом вещала:
– Ну, ты понимаешь? Голову надо иметь! Голову! Я же вижу по ее повадке, она такая ленивая, что ей лень даже обратно отложить. А сто пятьдесят грамм они вообще положить не могут, всегда больше!
Галино бледное лицо покрылось красными нервическими пятнами, она умоляла уйти, но Генеле вошла в раж. Она хотела показать свой талант в полном блеске и, увлеченная, уговаривала продавщицу из базарной кулинарии скинуть ей полтинник на казенном гуляше.
Галя всю жизнь с ужасом вспоминала тот поход, рассказывала о нем своим дочерям. Тетушкины высказывания того базарного дня вошли в семейные устоявшиеся шутки. При упоминании моркови обязательно кто-нибудь из домочадцев спрашивал: «С круглым кончиком?», огурцы назывались «пипырчатые» или «совершенно не пипырчатые».
А жила Генеле в глубочайшей нищете. Впрочем, если бы кто-нибудь ей намекнул на это, она бы удивилась. Потому что она жила именно так, как хотела. Среди бесчисленного множества людей, живущих вынужденно, связанных разного рода узами, она была так независимо одинока, что даже свои родственные визиты рассматривала как дань людям, которые нуждаются в общении с ней, в ее советах и наставлениях.
Ее бедность несла монашески-радостный оттенок, чистота в ее длинной одиннадцатиметровой комнате была праздничной и даже вызывающей: так жестко топорщилась белая накрахмаленная салфетка на маленьком столике с провощенными ножками, медицински пласталось белое покрывало, так официально-приветливы были суровые чехлы на двух белых стульях.
В гордой своей нищете она неукоснительно выполняла свой главный принцип – покупать все самое лучшее. Поэтому, не ленясь, она отправлялась через день в Филипповскую булочную и покупала там лучший в мире калач – ей хватало его на два дня. Потом она заходила в Елисеевский и покупала там сто граммов швейцарского сыра. Относительно сыра у нее было подозрение, что бывают сыры получше. Но здесь, в России, лучшим был этот самый швейцарский, из Елисеевского.
Остальную пищу составляли гречневая и пшенная каши, про которые она скромно говорила, что лучше ее никто не умеет их готовить. Это было похоже на правду. Заправляла она свои каши постным рыночным маслом и съедала за обедом четвертинку яблока или луковицы или маленькую морковку с круглым кончиком.
В год раз, на Пасху, она покупала курицу. Собственно, эта курица и была Пасхой. В день покупки она вставала на исходе ночи, долго и тщательно собиралась, в крепкую шелковую сетку засовывала черную витую веревку и стопку газет и в пять утра отправлялась из дому. Первым трамваем она доезжала от Покровки до Цветного бульвара и приходила на Центральный рынок минут за двадцать до его открытия. Долго, иногда часа два она ждала «своего» продавца, одноглазого бурого еврея, промышлявшего редким по нынешним временам делом – торговлей живым квохчущим товаром. Видимо, как и у Генеле, у продавца были свои прихотливые законы жизни. Так, он не любил выкладывать на прилавок больше одной курицы. Генеле, со своей стороны, подчиняясь своему закону, не могла купить курицы, даже самой великолепной, не ощупав подробнейшим образом всех остальных.
Она поджидала, пока старик неторопливо отпарывал толстую серую тряпку, пришитую к большой овальной корзине, и, запустив руку, не глядя вытаскивал за связанные ноги первую курицу. Генеле опиралась локтем о прилавок и говорила равнодушным голосом человека, случайно проходившего мимо:
– А-а, явился, не запылился… Это что, курица?
Одноглазый не удостаивал ответом.
Генеле, прижимая покрепче локтем левой руки антикварную свою сумочку, принималась за курицу. Более всего ее манипуляции напоминали серьезный медицинский осмотр. Она заглядывала курице в остановившиеся глаза, раскрывала клюв, исследовала горло, ощупывала грудку и зад. Разведя ей крылья, она, казалось, просматривала своим рентгеновским взглядом ее птичью душу. Потом небрежно отодвигала ее.
– И это все, что у тебя есть? – пренебрежительно спрашивала она.
Одноглазый молча опускал руку в корзину и вытаскивал следующую…
– Что это ты мне показываешь? Сразу убери! – обижалась Генеле.
И продавец, поджимая и без того узкие губы, прихватывал под прилавком еще одну…
Она выбирала ее – как невесту единственному сыну. С трепетом великой ответственности и страхом перед непоправимой ошибкой. Она помнила о своем необъяснимом пристрастии к черно-серым пеструшкам и старалась сохранять объективность, чтобы пристрастие это не исказило точности выбора. Ведь достойнейшей избранницей могла оказаться и белая, и ржаво-коричневая.
Старик испытывал к въедливой покупательнице внутреннее раздражение, смешанное с возрастающим уважением. Он тоже понимал в курах – в отборных, кормленных чистым зерном почтенных пасхальных курах. Он понимал, что старуха выберет действительно лучшую, и про себя прикидывал, какую же она выберет. Он помнил ее уже много лет и знал, что она не ошибается.
Избранница наконец определялась. Состоялся долгий торг. Генеле доставала из заветной сумки новые деньги, и царская невеста, сохраняя неестественное положение вниз головой, переходила в руки Генеле, которая заворачивала ее во многие газеты, потом в чистую белую тряпку, потом в сетку и, наконец, в хозяйственную сумку.
После всех этих манипуляций Генеле ехала в Малаховку к резнику, выстаивала очередь из двух десятков единоплеменниц к сарайчику на задах двухэтажного солидного дома, сдавала на руки маленькому толстому еврею в ермолке бессловесную жертву и ожидала, пока резник прочтет над курицей короткую извинительную молитву и выпустит на волю ее глупую птичью душу, обитающую, как говорили, в небольшом количестве крови, толчками не остановившегося еще сердца изливающейся на цинковый поднос.
Вся сложная вера предков, многочисленные ограничения и запреты, потерявшие за тысячелетия их некогда рациональный смысл, была связана у Генеле с этой безмозглой чистенькой птицей, олицетворяющей собой пасхального агнца…
Впрочем, на этом месте все уподобления заканчивались, поскольку начиналась суетная кулинария. Одна-единственная курица в ее умудренных руках превращалась во множество яств: бульон с клецками из мацы под названием «кнейдлех», и фаршированная шейка, и куриные кнели, и паштет из печенки, и даже заливное. Как это ей удавалось? Удавалось… Между куриными делами и рыба фаршированная образовывалась, и кое-какие в меду сваренные орешки из теста.
А потом она все паковала в баночки, в кастрюльки. Что надо теплым, то укутывала. Все увязывала, уплотняла газетными валиками, чтобы не опрокинулось, и везла к брату Науму отпраздновать Пасху. Бутылку кагора покупал брат.
Он был дважды вдовым непроходимым неудачником. После смерти первой жены, умершей рано, он женился вторично, чтобы новая жена растила его не взрослых еще детей, но она скоро заболела каким-то зловредно-медленным раком и годами умирала, не принося семье пользы, а, напротив, истощая последние Наумовы силы на бесплодное сострадание. Невезучесть его распространялась и на детей, особенно на сына Григория, который родился удачным и здоровым, но претерпел сильный удар электричеством и с тех пор стал слабоумным.
В этот бедующий дом и относила Генеле свои пасхальные дары, чтобы, отслушав наскоро читаемую Наумом известную историю исхода из Египта, не спеша посидеть за праздничным столом и насладиться мудрым миропорядком, в котором отведено место и суетным хлопотам, и достойной праздничной трапезе, и Единому Богу с его посыльным Ангелом, обходящим, как письмоносец, дома детей избранного народа, и слабоумному Григорию, радостно улыбающемуся всем своим блестящим от куриного жира лицом…
И вот в тот самый день, о котором идет речь, Генеле с тремя сумками, наполненными пасхальной снедью, вышла из подъезда своего дома, намереваясь ехать к Науму, и повернула не в ту сторону. Она дошла до угла, поискала глазами трамвайную остановку – и не нашла ее. Она не узнавала перекрестка, чуть ли не с детства ей знакомого.
– Боже! Как я попала в чужой город! – ужаснулась она и стала медленно падать, крепко прижимая к себе коричневую сумочку и не выпуская из цепких пальцев драгоценных авосек.
Так, вместе с авоськами и сумочкой, и привезла ее «скорая» к Петровским воротам, в приемный покой бывшей Екатерининской больницы.
С Генеле случилось ужасное: весь простой, прочный и разумно устроенный мир утратил внутренние связи и стал неузнаваемым. Она видела радужную оболочку зеленовато-пестрого глаза склонившегося над ней врача, блестящий излишком крахмала ворот белого халата, щетину, проросшую на смуглой щеке за суточное дежурство, шероховатости белой крашеной стены, бок шкафчика для медикаментов и переплет окна, но детали эти были разрозненны и общей картины из них не слагалось.
Генеле все хотела додумать, силилась выложить словами ускользающую мысль, но не могла. Осталось у нее только чувство, что она, маленькая, заблудилась, потерялась, и ей надо спешить куда-то по делу великой важности. Сумки у нее отобрали, и она все шевелила пальцами левой руки, потому что в руке было ощущение, что чего-то не хватает.
Обиженная, ограбленная, маленькая Генеле лежала на узкой кушетке, испытывая мучительное недоумение. Вопросов, которые ей задавали, она не слышала. Пожилая медсестра раскрыла ее коричневую сумочку и пошарила в ней длиннопалой рукой. Взгляд Генеле упал на сумочку, и она заплакала медленными слезами.
Медсестра вытащила из сумочки завернутую в темную бумагу баночку с кремом, связку мелких ключей и поношенный паспорт. Генеле была опознана.
Ее положили в неврологическое отделение, в бокс. Беспокойство все нарастало. Бедная Генеле ничего не узнавала, словно враз забыла всю свою жизнь. Когда нянька принесла ей воды, она не сразу вспомнила, как надо глотать. Набрала воду в рот и мучительно застопорилась. Опытная нянька постучала по горлу, и она проглотила.
Два врача в ординаторской обсуждали, какой именно участок мозга у нее поражен. Один считал, что имеет место кровоизлияние в ствол, второй полагал, что кровоизлияния нет вообще, а произошел сильный сосудистый спазм с нарушением мозгового кровообращения.
Пока молодые врачи обсуждали этот медицинский казус, в голове у Генеле немного посветлело, мучительная чехарда из бессвязных картинок внутри и снаружи замедлилась, и из нее выплыл один-единственный образ вместе со словом, к нему относящимся. Это была сумка. Не сумка вообще, а та самая, коричневая. Она сказала довольно громко:
– Сумка! Сумка!
И глаза у нее были умоляющие.
– Я же говорил: спазм, – с торжеством сказал один из врачей, – речь-то сохранена!
До самого глухого часа ночи она кричала то единственное слово, которое у нее еще оставалось. Она пыталась вскочить, бежать, дергалась и металась. Чтобы она не упала с кровати и не разбилась, ее обвязали сеткой.
А сумка как будто была уже у нее в руках, и она не хотела ее отдавать и все кричала: сумка! сумка!
И знала – чем громче она кричит, тем больше принадлежит ей эта кожаная ветошь с извилистым узором на роговом замке.
А ласковый и печальный голос кого-то знакомого все говорил ей:
– Брось, брось, оставь!
Но Генеле не сдалась до конца. Так она и умерла, скрючив левую руку и подогнув пальцы, сжимающие невидимый замок.
Наутро печальные племянницы Галя и Рая и старый Наум в коротких широких штанах получили в больнице по описи ее вещи. Галя взяла коричневую сумочку с отдельно означенной небольшой суммой денег, находящихся в ней, Наум – с опозданием дошедшее до него пасхальное угощение.
Потом, когда он развернет дома эти свертки, в термосе он обнаружит еще не остывший бульон, а остальная еда, приготовленная руками Генеле, будет поставлена на поминальный стол – и эта последняя трапеза будет грубым нарушением еврейского обычая, потому что издавна было принято после похорон близкого человека поститься, а отнюдь не наедаться вкусной едой.
Рая пошла по всяким скорбным учреждениям оформлять бумаги, а Галя поехала в Востряково на кладбище, чтобы узнать, какие нужны бумаги, чтобы положить покойную Генеле рядом с сестрами, братьями и родителями.
Вечером племянница Галя пришла к Науму. Рая пришла еще раньше. У него горела маленькая лампочка, которую он зажигал в годовщину смерти родственников. Они сели за шаткий стол. Григорий с радостной улыбкой пошел ставить чайник. Когда он вышел, Наум сказал торжественно племянницам, обращаясь по преимуществу к умной и несколько педантичной Гале:
– Дочери мои! Генеле умерла. И не мучилась. Пусть земля будет ей пухом. Поезжайте к ней в дом, пока соседи не обчистили ее комнату и не наложило печать домоуправление, и хорошо поищите.
– Что там искать, дядя Наум? – недоуменно спросила Рая.
– Во-первых, завещание… – Рая пожала плечами, а Наум строго продолжал: – А во-вторых, нашей Генеле достались от бабушки бриллиантовые серьги. Вот такие бриллианты! – Он сложил из большого и указательного пальцев кольцо, в котором уместился бы грецкий орех.
– Какие бриллианты, дядя Наум, вы бредите? – изумилась Галя. – Всегда были нищими!
– Так вот случилось. Серьги были. Испанской огранки. Непревзойденные! – Наум поцеловал кончики пальцев. – Чтоб я так жил! Бабушка умирала у Генеле. А Генеле была хитрая девочка, она их прибрала. Когда сестры с нее спросили, она сказала: «Ничего не знаю! Я за бабушкой ходила, я кормила, я стирала – это я знаю. А где бриллианты – не знаю!» Ну, понимаете меня! – настаивал Наум. – Поищите в белье, в чулках, ну где женщины прячут, я знаю…
Галя хмуро посмотрела в темное окно, встала:
– Я пойду, дядя Наум. Саша в командировке, у меня дети одни.
И ушла.
До позднего вечера Галя точно, механически и бездумно делала женские хозяйственные дела, которые не имеют конца.
А потом присела, достала сумочку старой Генеле и с грустью посмотрела на нее. Раскрыла. Там лежали какие-то старинные рецепты, связка маленьких ключей и завернутая в пергамент баночка из-под крема. Она развернула пергамент. В баночке было что-то вроде вазелина, покрытое толстым слоем окиси.
– Бедняжка Генеле! – сочувствовала Галя, высыпая на газету всю мелкую дребедень из старой сумочки. – Что же я могу для нее сделать теперь? Ничего…
И вдруг догадалась. Она смахнула весь залежавшийся хлам обратно в сумочку.
Она знала, как сделать приятное Генеле: когда будут ее хоронить, она незаметно положит в гроб эту самую сумочку.
Так оно и было: развеялся серый дымок над трубой Донского крематория, и пошла себе по небесной дорожке суетливой походочкой сквозистая на просвет ветхая Генеле, прижимая к левому боку тень сумочки, в которой на вечные времена хранились тени бриллиантов, окончательно убереженные ею от властей и от родственников…
Дочь Бухары
В архаической и слободской московской жизни, ячеистой, закоулочной, с центрами притяжения возле обледенелых колонок и дровяных складов, не существовало семейной тайны. Не было даже обыкновенной частной жизни, ибо любая заплата на подштанниках, развевающихся на общественных веревках, была известна всем и каждому.
Слышимость, видимость и физическое вторжение соседствующей жизни были ежеминутны и неизбежны, и возможность выживания лишь тем и держалась, что раскаты скандала справа уравновешивались пьяной и веселой гармонью слева.
В глубине огромного и запутанного, разделенного выгородками дровяных сараев и бараков двора, прилепившись к брандмауэру соседнего доходного дома, стоял приличный флигель дореволюционной постройки с намеком на архитектурный замысел и отгороженный условно существующей сквозной изгородью. К флигелю прилегал небольшой сад. Жил во флигеле старый доктор.
Однажды, среди бела дня, в конце мая сорок шестого года, когда все, кому было суждено вернуться, уже вернулись, во двор въехал «опель-кадет» и остановился возле калитки докторского дома. Ребята еще не успели как следует облепить трофейную новинку, как распахнулась дверца и из машины вышел майор медицинской службы, такой правильный, белозубый, русо-русский, как будто только что с плаката спрыгнувший загорелый воин-освободитель.
Он обошел горбатую машину, распахнул вторую дверку – и медленно-медленно, лениво, как растекающееся по столу варенье, из машины вышла очень молодая женщина невиданной восточной красоты с блестящими, несметной силы волосами, своей тяжестью запрокидывающими назад ее маленькую голову.
Над цветочными горшками в разнокалиберных окнах появились старушечьи лица, соседки уже высыпали во двор, и над суматошными строениями завис высокий торжествующий женский крик: «Дима! Дима докторский вернулся!»
Они стояли у калитки, майор и его спутница. Он, засунув руку сбоку, пытался вслепую отодвинуть засов, а навстречу им по заросшей тропинке, хромая, спешил старый доктор Андрей Иннокентьевич. Ветер поднимал белые пряди волос, старик хмурился, улыбался, скорее догадывался, чем узнавал…
Свет после полумрака его комнаты был каким-то чрезмерным, неземным и стоял столбом – как это бывает с сильным ливнем – над майором и его женщиной. Обернувшись к соседям и махнув им рукой, майор шагнул навстречу деду и обнял его. Красавица с туманно-черными глазами скромно выглядывала из-за его спины.
Этот флигель, и прежде существовавший наособицу, с возвращением докторского внука так и запылал осо-бенной, красивой и богатой жизнью. Со слепоглухотой, свойственной всем счастливчикам, молодые как будто не замечали душераздирающего контраста между жизнью барачных переселенцев, люмпена, людей не от города и не от деревни, и своей собственной, протекавшей за новым глухим забором, сменившим обветшалую изгородь.
Бухара – так прозвал двор анонимную красавицу – не терпела чужих взглядов, а пока забор не был выстроен, ни одна соседка не упускала случая, проходя, заглянуть в притягательные окна.
И все-таки соседи по двору, полуголодные и нищие, вопреки известным законам справедливости вселишения, всеобщей равной и обязательной нищеты прощали им это аристократическое право жить втроем в трех комнатах, обедать не в кухне, а в столовой и работать в кабинете… И как им было не прощать, если не было во дворе старухи, к которой не приходил бы старый доктор, младенца, которого не приносили бы к старому доктору, и человека, который мог бы сказать, что доктор взял с него хоть рубль за лечение.
Это была даже не семейная традиция, скорее, семейная одержимость. Отец Андрея Иннокентьевича был военным фельдшером, дед – полковым лекарем. Единственный сын, молодой врач, умер от сыпного тифа, заразившись в тифозном бараке и оставив после себя годовалого ребенка, которого дед и воспитал.
Пять последних поколений семьи обладали одной наследственной особенностью: рослые и сильные мужчины рода рождали по одному сыну, как будто было какое-то указание свыше, ограничивающее естественное производство этих крепких профессионалов, гуляющих тугими резиновыми перчатками по операционному полю.
Зная об этом семейном малоплодии, старый Андрей Иннокентьевич с ожиданием смотрел на хрупкую невестку в розовых и лиловых шелковых платьях, с грустью отмечал подростковую узость таза, общую субтильность сложения и вспоминал свою давно ушедшую Танюшу, какой та была в восемнадцать лет – мужского роста, плечистую, с самоварным румянцем и крутой лохматящейся косой, которую она остригла безжалостно и весело в день окончания гимназии…
Пока Дмитрий колебался, принимать ли ему отделение в городской больнице или идти на кафедру в военно-медицинскую академию и перебираться в Ленинград, жена его кропотливо и рьяно занялась домом, потеснив Пашу, старую больничную няньку, которая уже чуть не двадцать лет вела незамысловатое докторово хозяйство.
Паша оскорбилась и перестала ходить. Доктор впервые в жизни отправился к Паше в Измайлово, разыскал ее, сел на венский стул, подвязанный шпагатом, положил перед собой на стол свою мятую шляпу и, разглядывая прямым, но подслеповатым взглядом бумажную икону, сказал:
– Не знал, что ты верующая, – покачал головой и строгим докторским голосом закончил: – Я тебе, Паша, отставки не давал. Кухню сдашь, а комнату мою убирать, стирка моя – это на тебе останется. И получать будешь, сколько получала.
Паша заплакала, сложив губы мятой подковой.
– Ну чего ты ревешь? – строго спросил доктор.
– Да чего там у вас убирать, в кабинете-то? Мне там раз махнуть, и вся работа… А варит-то она как – ни борща сварганить, ни каши… – Она вынула из вылинявшего черного халата белую тряпочку и вытерла глаза.
– Собирайся, Паша, поехали, и не дури, – приказал Андрей Иннокентьевич, и они вместе поехали на долгом трамвае через всю Москву к доктору.
– Нечего тебе обижаться, нам помирать пора. Пусть на свой лад устраивает, ей рожать скоро, – внушал Паше доктор по дороге, но она скорбно трясла головой, молчала и только возле самого дома, собравшись с духом, ответила ему:
– Да смотреть-то обидно. Женился на головешке азиятской… Одно слово – Бухара!
Видно, Паша еще не прониклась до конца духом полного и окончательного интернационализма.
А «головешка азиятская», которую муж ласково называл Алечкой, молчала, сияла глазами в его сторону, легко и ловко перебирала тонкими пальцами, расчищая запущенный дом.
Доктор, в молодые годы подолгу живший в Средней Азии, многое понимал в особенном устройстве Востока. Знал он, что даже самая образованная азиатская женщина, слагающая стихи на фарси и арабском, по движению брови свекрови отправляется вместе со служанками собирать кизяк и лепить саманные кирпичи…
Из окна кабинета доктор наблюдал, как его беременная невестка сидит на корточках в палисаднике, отчищает старую кастрюлю и ее серповидные тонкие лопатки мелко ходят под легкой тканью платья.
«Бедная девочка, – размышлял старик, – трудно ей будет привыкать».
Но она разобралась быстро.
Не свекровь и не служанка, – определила она старую Пашу. Подумала и догадалась: кормилица.
И с этой минуты не было у Паши никакого недовольства невесткой, потому что хоть та и ошиблась относительно роли старухи, но ошибка оказалась вернее истины. Алечка была с Пашей ласкова и почтительно проста.
Что же касается старого доктора, то одних его седин было бы достаточно, чтобы не поднимать ей на него смиренных глаз. Но, кроме того, доктор напоминал ей отца, узбекского ученого старого толка, умершего незадолго до войны. Ему все не могли определить правильного места в новом пантеоне советских узбекских деятелей, выбирая между образом востоковеда-полиглота, исследователя и знатока фольклора и широко образованного в восточной медицине врача.
Сам он в конце жизни всему предпочитал богословие и писал до последних дней трактат об исре, ночном путешествии Мохаммеда в Небесный Иерусалим, что тоже было серьезным препятствием к официальному посмертному признанию. Однако назвали окраинную улицу столицы в его честь, хотя через несколько лет и переназвали… Был он настолько свободомыслящим человеком, что дал образование не только своим многочисленным сыновьям, но и дочерям. Младшая доучиться не успела при жизни отца, ей досталось всего лишь медицинское училище.
Так Андрей Иннокентьевич и не узнал до самой своей смерти, наступившей внезапно и легко вскоре после рождения правнучки, о том, сколь рафинированная, перегоняемая многими столетиями в лучших медресе Азии кровь течет в жилах крохотной желтолицей и желтоволосой девочки, которую торжественно привезли из роддома имени Крупской в сером «опель-кадете».
С первого же взгляда ребенок очень насторожил старого доктора. Девочка была вялая, отечная, с сильно развитым эпикантом, кожной складкой века, характерной для монгольской расы. Андрей Иннокентьевич отметил про себя гипотонус и полное отсутствие хватательного рефлекса.
Дмитрий, наскоро заканчивавший свое медицинское образование уже после начала войны, специализировался по полевой хирургии, в педиатрии ничего не понимал, но тоже был внутренне встревожен и гнал от себя дурные предчувствия.
Назвали девочку Людмилой, Милочкой, и Аля, совершенно правильно говорившая по-русски, называла ее, смягчая окончание, Милей. Из рук она ее не выпускала и даже на ночь все старалась устроить у себя под боком.
Старый доктор умер, унеся с собой свои подозрения, но к полугоду и самому Дмитрию было совершенно ясно, что ребенок неполноценный.
Он отвез девочку в институт педиатрии, где академик Клосовский, связанный с покойным доктором корпоративной связью былых еще времен, под восхищенными взглядами ординаторов и аспирантов артистически осмотрел ребенка. Он повернул кверху крошечную ладонь, указал на еле видную продольную складочку, ловким движением нажав сбоку на скулы, обнажил белесый язычок ребенка и провозгласил диагноз, по тем временам редкий, – классический синдром Дауна.
Завершив свой блестящий номер, академик оставил девочку на белом холодном столе на попечение старшей медсестры отделения и, взявши под руку смятенного отца, повел его в свой кабинет, уставленный бронзой и препаратами мозга.
После пятиминутной беседы Дмитрию стало ясно, что ребенок безнадежен, что никакая медицина никогда не сможет облегчить его участи и единственное благо, которое посылает природа для смягчения этого несчастья, – такое анатомическое строение носоглотки, при котором неизбежны постоянные простуды, сопряженные с этим воспаления легких и, как следствие, ранняя гибель. Вообще, утешил академик, дети эти редко доживают до совершеннолетия.
На возвратном пути неполноценная девочка безмятежно спала, красавица мать прижимала к себе свою драгоценность с такой углубленной важностью, что Дмитрий напряженно думал, вполне ли поняла его жена весь невообразимый ужас происшедшего, и не решался ее об этом спросить.
Со временем Дмитрий Иванович проштудировал американские медицинские журналы, разобрался с происхождением этого заболевания и, проклиная могущественный вейсманизм-морганизм, мучительно вспоминал о самых счастливых минутах его жизни, о первых днях внезапно постигшей его любви к девственной красавице, истинному чуду военного времени, присланному в госпиталь вместо демобилизованных медсестер прямо из джанны – мусульманского рая.
Обнимая своего первого и единственного в жизни мужчину шафрановыми, мускусными руками, она шептала ему в ухо: «Имя Дмитрий было написано у меня на груди» – и произносила слова на чуждом восточном языке, которые были словами не ласки, но молитвы… Именно тогда плотные сгустки наследственного вещества сошлись и, расходясь, случайным образом сцепились, и одна лишняя хромосома, или ее часть, отошла не в ту клетку, и эта микроскопическая ошибка определила существование этого порченого от самого своего зачатия существа.
Жена Дмитрия словно и не замечала неполноценности девочки. Она наряжала ее в цветные шелковые платьица, повязывала нарядные бантики на жидкие желтые волосы и любовалась плоской бессмысленно-жизнерадостной мордочкой с маленьким раздавленным носом и всегда приоткрытым мокрым ртом.
Милочка была улыбчивой и спокойной – не плакала, не обижалась, не сердилась, никогда ей не хотелось ничего такого, что было запрещено. Книжек она не рвала, огня остерегалась, подходила к калитке садика, смотрела в щелку, а на улицу не выходила.
Дмитрий Иванович, наблюдая за дочерью, с горечью думал о том, каким чудным ребенком могла бы быть эта девочка, какая обаятельная личность похоронена в дефектной телесности.
Единственной неприятной особенностью Милочки была ее нечистоплотность. Она очень поздно, как и бывает обычно с такими детьми, начала проситься на горшок и совершенно не могла усвоить понятия «грязный», хотя многие другие вещи, более сложные, она воспринимала. Так, «хорошее» и «плохое» она по-своему различала, и самым сильным наказанием, которое допускала ее мать, были слова «Мила плохая девочка». Она закрывала лицо короткими пальчиками и плакала бурными слезами. Этому наказанию подвергалась она редко и обычно как раз за грехи «грязи»: испачканное платье, одеяло, стул.
Любимой стихией Милочки была полужидкая земля, в которой она с наслаждением возилась. Долгими часами она сидела рядом с песочницей, пренебрегая чистым крупитчатым песком, специально для нее привезенным отцом, и из жирной садовой земли, поливая ее дождевой водой из бочки, месила тесто и лепила, лепила…
Дмитрий Иванович, воспитанный дедом по сухой и добротной нравственной схеме Марка Аврелия, усвоивший к тому же скучную материалистическую религию общественной пользы, допоздна просиживал в своем отделении, глубоко вникая в медицинские судьбы своих пациентов.
Возвращаясь домой, он испытывал привычное ежевечернее отчаяние, и жена его, так сильно прилепившаяся к дочери, что черты Милочкиной неполноценности как бы проникали и в нее, становилась ему все более чуждой.
Все волшебство близости с этой прелестной и покорной восточной красавицей выветривалось куда-то, и, даже когда он изредка звал ее в дедов кабинет, давно им заселенный, он не мог освободиться от глубокого темного страха перед невидимым движением таинственных и непостижимых частиц, руководивших судьбой уже рожденного ребенка и того, другого, который мог бы появиться на свет. Страх этот был так силен, что порой вызывал физическую тошноту и в конце концов полностью лишил Дмитрия Ивановича желания обнимать это женское совершенство.
Операционная сестра Тамара Степановна, грузная и грубая, с умными и надежными руками, после производственной вечеринки по случаю чьего-то дня рождения на дерматиновой кушетке в запертом приемном покое освободила Дмитрия Ивановича от предрассудков пуританского воспитания, а красавицу Бухару – от мужа.
Крупнопористая, круто завитая и толстоногая Тамара Степановна не рассчитывала на такой успех. Но она была ломовая фронтовичка, давно и наизусть выучившая сокровенную мужскую тайну: сильнее всего укреплять наиболее слабый участок. Интуицией многоопытного женского зверя она почувствовала его слабину и на вторую их встречу, происшедшую через несколько дней по случайному совпадению дежурств, она посетовала на свое бесплодие, и Дмитрий Иванович с этой немолодой и некрасивой женщиной освободился от кошмарного миража мелких и гнусных движений хромосом, которые к тому времени начисто отрицались передовой наукой, но это уже не могло изменить совершенно разладившихся его отношений с женой.
Дмитрий Иванович сообщил жене, что уходит к другой. Она, не поднимая глаз и не выразив никакого чувства, спросила его, зачем ему уходить… Дмитрий не понял вопроса и дал разъяснение.
– Я знаю, я тебе надоела. Приведи новую жену сюда. Я согласна. Я сама родилась от младшей жены… – не поднимая глаз, сказала Бухара.
Дмитрий Иванович схватился за голову, застонал и вечером того же дня, собрав в чемодан рубашки и носки, ушел к Тамаре Степановне…
Деньги Дмитрий Иванович переводил по почте. Милочку не навещал никогда. В три дня девочка его забыла. С его уходом Паша окончательно переехала в докторский флигель, а Бухара пошла работать по своей почти утраченной специальности.
Круто изменилась жизнь. Прежнее жадное любопытство соседей к Бухаре и ее дочери, подогреваемое высотой забора и их полной отчужденностью, теперь сменилось агрессивным желанием потеснить пришелицу, «уплотнить», как тогда еще говорили. Были написаны безграмотные и убедительные бумаги в райжилотдел, в милицию и в некоторые иные организации, не чуждые проблемам распределения жилплощади. Однако времена уже стояли прогрессивные, ни выселить, ни даже потеснить их не удалось, хотя участковый милиционер Головкин к ним все-таки приходил – посмотреть, что там за комнаты у соломенной вдовы.
Дохлые кошки со всей округи постоянно перекидывались через высокий забор Бухары, но она не была брезглива, выносила кошек на помойку, а если дохлятину находила Милочка в мамино отсутствие, то она рыла в углу садика, под большим дубом, ямку, хоронила там кошку и устраивала на могиле секретный подземный памятник: под осколком оконного стекла раскладывала цветные бумажки, головки толстых золотых шаров, фольгу камешки. Часами трудилась, устраивая красоту, и, когда мать приходила с работы, сдвигала тонкий слой земли и показывала выложенную под стеклом над упокоенной кошкой волшебную картинку, тыкала в стекло грязным пальцем и объявляла матери:
– Киса там.
Толстая Милочка росла в счастливом одиночестве. Была мама, Паша, высоким забором окруженный садик и множество значительных и огромных по смыслу вещей: старая железная бочка с дождевой водой, окруженная разнообразными запахами и мелкими движениями насекомых вокруг нее и внутри, старый дуб в углу сада, осыпающий красивые желуди в гладких шапочках, жесткие резные листья и хрупкие веточки, тоже весь наполненный мелкой животной жизнью, беседка, куда Милочка уходила сосать короткие пухлые пальчики…
Ей шел уже восьмой год, и множество вещей она знала на вид, на запах и на ощупь. Только слов произносила немного, и произношение было странное, как будто гортань ее была создана для другого языка, нездешнего.
Старая Паша любила Милочку. «Жалкая моя», – звала она ее, и, когда Бухара уходила на работу, Паша подолгу что-то рассказывала своей питомице. Ум у Паши не то чтобы стал мешаться, но весь устремился в далекое прошлое, и она подробно, по многу раз пересказывала Милочке истории про своих деревенских родственников, про злого пастуха Филиппа, который ударил ее, девочку, кнутом, про пожар, который занялся по деревне от их бани, где сгорел ее старший брат, напившись пьяным.
Детство Милочки было нескончаемо длинным: целое десятилетие радовали ее «ладушки», «сорока-воровка», она прятала свое личико за носовой платок или в подушку и требовала, чтобы ее искали. Младенческий период этот стал заканчиваться к одиннадцатому году, когда она вдруг стала улучшаться в развитии, ее трехлетний разум стал взрослеть, она стала лучше говорить и очень заботиться о чистоте, главным образом рук: подолгу мыла в горячей воде, как бы даже стирала их.
И еще она научилась вырезать ножницами из бумаги. Теперь мать приносила ей множество открыток, старых полуизодранных журналов, и Милочка усердно, днями напролет, вырезала какие-нибудь мелкие цветочки из жесткой открытки. Прикусив кончик крупного языка, она сопела над каждым цветочком и плакала, если случайно перерезала зеленый листик или стебелек.
Старание ее было серьезным и достойным уважения, а бессмысленная деятельность похожа на разумный и сознательный труд. Она приклеивала свои вырезки на альбомные листы, составляла какие-то невообразимые комбинации из лошадиных голов, автомобильных колес и женских причесок, по-своему привлекательные и дико художественные. Слюна усердия заливала ее подбородок. Но некому было плакать, видя, как мыкается бедная творческая душа, загнанная непостижимой небесной волей в трудолюбивого уродца.
Радостно приносила она матери свои кропотливые изделия, та гладила ее по голове и одобряла: «Очень красиво, Милочка! Хорошо, Милочка!» – и девочка низенько дрыгала ногами от радости, и приседала, и смеялась: «Хорошо! Хорошо!» Видно, что и стремление к совершенству было в ней заложено.
Бухара тем временем резко и окончательно перестала быть красавицей. Она сильно исхудала, потемнела лицом, убрала в старый немецкий чемодан свои цветные платья, оделась в темное. Лицо ее обросло по щекам и подбородку неприятным черным пухом, и ярко сверкающие зубы потеряли свой праздничный цвет.
Сотрудники по поликлинике намекали ей, что неплохо бы показаться хорошему специалисту, но она только улыбалась, опуская вниз глаза. Она знала, что больна, и даже знала чем.
В конце зимы она неожиданно взяла отпуск и полетела с Милочкой на родину, впервые за многие годы. Отсутствовали они чуть больше недели, вернулась Бухара еле живая, еще более темная, с огромным легким мешком из сквозистой шерстяной ткани.
Мешок был полон травы, которую она долго перебирала, сортировала, перемалывала. Потом разложила все по марлевым мешочкам, завернула их в белую бумагу и стала по горсточкам варить.
Паша все принюхивалась, ворчала: «Ну, Бухара, ведьма азиатская!»
Бухара молчала, молчала, потом села на корточки в кухне и, прислонясь к стене, как она любила сидеть, сказала Паше:
– Паша, у меня болезнь смертельная. Я сейчас умереть не могу, как Милочку оставлю. Я с травой еще шесть лет буду жива, потом умру. Мне старик траву дал, святой человек. Не ведьма.
Таких длинных разговоров Паша от нее никогда не слыхала. Подумала, пожевала волнистыми губами и попросила:
– Так ты и мне дай.
– Ты здоровая, больше меня проживешь, – тихо ответила Бухара, и Паша ей поверила.
Бухара все пила пахучую траву, ела совсем мало, всегда одну только еду – вареный рис и сушеные абрикосы, привезенные с родины, очень жесткие и почти белые.
И еще одно дело затеяла она – стала водить Милочку в специальную школу для дефективных детей. Она и работу поменяла, поступила в эту же школу в медицинский кабинет и вместе со специалистами-воспитателями всеми силами пыталась научить Милочку жизненной науке: шнуровать ботинки, держать иголку в руках, чистить картошку…
Милочка старалась, терпеливо пыхтела и по трудовому обучению за два года вышла в отличницы. С буквами и цифрами, правда, совсем ничего не получалось. Из всех цифр она честолюбиво узнавала только пятерку, радовалась ей, да букву «М» различала. Большой радостью было для нее выйти вечером из дому с матерью и посмотреть на красную букву «М», горящую над входом в метро.
– Мэ, метро, Мила! – говорила она и счастливо смеялась.
Среди разнообразных идиотов этой страшной школы дети с синдромом Дауна отличались спокойным и хорошим нравом.
– Даунята – славные ребята, – говорил о них заведующий по лечебной работе, начиненный самодельными шутками и прибаутками старый Гольдин. – Жаль только, обучаются очень плохо.
Бухара внимательно рассматривала Карена, Катю, Верочку, сравнивала их со своей Милочкой, и сравнение было в ее пользу. Хотя физическое сходство этих детей было поразительно – все низкорослые, короткопалые, с монгольским разрезом глаз, близорукие, ожиревшие, – но Милочка казалась матери лучше других. Может быть, так оно и было…
На семнадцатом году Милочка стала оформляться, на толстеньком туловище выросла грудь. Милочка стеснялась и немного гордилась, говорила:
– Мила большая, Мила тетя…
Попросила у матери туфли на каблуках. Ножки ее были детского размера, и мать долго не могла купить ей туфли. Наконец раздобыла грузинские лакировки на толстом пробковом каблучке. Милочка была счастлива, вытирала туфли носовым платком и целовала Бухару в лицо, в руки, как маленький щенок без разбору лижет хозяина.
Милочка не сразу научилась ходить на каблуках, недели две все спотыкалась по дому. Когда научилась, мать отвезла ее в мастерскую при психоневрологическом диспансере, где с помощью трудового воспитания, а именно склейки конвертов и вырезывания фигурных ценников, из умственно отсталых людей пытались вырабатывать полезных членов общества.
Бухара уволилась из школы и поступила в диспансер, в регистратуру, чтобы находиться рядом с дочерью и помогать ей в трудовой деятельности.
Бухара разносила медкарты по кабинетам и целеустремленно изучала посетителей. Времени у нее было мало, она торопилась, как торопится обреченный художник завершить перед смертью великое полотно.
Дело в диспансере, как и в любом другом учреждении, было поставлено донельзя рутинно и бессмысленно. Каждый год вызывали на переосвидетельствование больных, это и была основная забота диспансера. Впрочем, по соседнему ведомству, в обычной районной поликлинике, на такое же переосвидетельствование таскали и безногих. Без этого не давали пенсии, а составляла она сумму немалую, у некоторых чуть не до сорока рублей.
Вот эти приходящие на комиссию люди и занимали Бухару. У нее был даже свой маленький архив, своя картотека. Она интересовалась, что за больной, с кем живет, где…
Дичь, однако, сама вышла на охотника. Однажды на запущенной мраморной лестнице особняка, где помещался диспансер, к ней обратился маленький лысый старик в коротких полосатых брюках и с чаплиновской живостью глаз. Не отпуская руки упитанного головастого дебила с розовой улыбкой, старик спросил у Бухары, куда подевался врач Рактин, который раньше был по их участку, а теперь не принимает.
Бухара ответила, что Рактин ушел, на его месте теперь молодой доктор Веденеева, но, кажется, у нее сегодня нет приема.
– Ай-ай-ай, – закудахтал человек сокрушенно, как будто произошло невесть какое несчастье.
А Бухара незаметно разглядывала того, который стоял рядом, – тоже лысого, добродушного и толстого, в клетчатой чистой, но невыглаженной рубашке и в сатиновых шароварах послевоенной моды. Было ему лет тридцать или около того, но Бухара уже знала, что больные люди живут и стареют как-то иначе, чем обычные, и с их возрастом можно легко ошибиться: в детстве они часто кажутся младше, но потом неожиданно быстро стареют…
– Ваша фамилия? – спросила Бухара почтительно.
– Берман, – ответил старик, а его толстый сын закивал головой. – Берман Григорий Наумович, – повторил старик, указал на сына, а тот все кивал и улыбался.
Оказалось, они пришли за справкой. Дом их шел под снос, и старик Берман хотел воспользоваться болезнью сына, чтобы получить побольше жилых метров.
Бухара быстро узнала, когда надо приходить, обещала сообщить, смогут ли дать такую справку для Григория.
Отец с сыном ушли, и Бухара долго смотрела вслед этой парочке, которая кому-нибудь могла показаться комичной. Но не ей…
Она долго изучала пухлую карточку Григория Бермана. Здесь фигурировала и врожденная гидроцефалия, и менингит, и поражение молнией в семилетнем возрасте – как будто провидение искало гарантий, чтоб этот человек был изувечен наверняка.
Судя по трудно разбираемым каракулям лечащих врачей, молодой человек обладал сниженным интеллектом, спокойным, хорошим нравом и не был подвержен припадкам.
На следующий день Бухара приехала в Старопименовский переулок, где в маленьком деревянном домике, совершеннейшей избушке на курьих ножках, однако все-таки поделенной на три семьи, жил старый Берман со своим сыном.
На веревке, протянутой через маленькую комнату, висело невысохшее белье, старик читал одну из толстых кожаных книг, которые громоздились на столе, и сердце Бухары замерло от сладкого, знакомого с детства запаха старинной кожи.
Григорий сидел на стуле и гладил грязную белую кошку, которая спала у него на коленях. Пахло пригорелым супом и ночным горшком.
Старый Берман засуетился, когда узнал вчерашнюю медсестру, он вовсе не рассчитывал на такую любезность.
– Гриша, пойди поставь чайник сию минуту, – приказал Берман, и Григорий, взяв очень старательно чайник тряпочкой за ручку, вышел.
– Я пришла к вам по делу, Наум Абрамович, – начала медсестра. – Пока нет вашего сына, я вот что хочу вам сказать: у меня есть дочь, она очень хорошая девочка, спокойная, добрая. И болезнь у нее такая же, как у вашего сына.
Берман встрепенулся, что-то хотел сказать, но кроткая Бухара властно его остановила и продолжала:
– Я больна. Скоро умру. Я хочу выдать дочку замуж за хорошего человека.
– Милая моя! – всплеснул руками Берман, так что тяжелая книжка грузно шлепнулась на пол и он кинулся ее поднимать, откуда-то из-под стола продолжая бурно ей отвечать:
– Что вы говорите? Что вы думаете? Кто это за него пойдет? И какой из него муж? Вы что, думаете, девушка будет иметь от него большое удовольствие, вы понимаете, что я имею в виду? А?
Бухара молча перетерпела все это длинное и лишнее выступление старика, потом вошел Григорий, сел на стул, взял кошку на колени и стал чесать ее за ухом. Бухара посмотрела на него острым и внимательным глазом и сказала:
– Гриша, я хочу, чтобы вы с папой пришли ко мне в гости. Я хочу познакомить вас с моей дочкой Милой. – А потом она повернулась к Науму Абрамовичу и сказала ему прямо-таки совсем по-еврейски: – А что будет плохого, если они познакомятся?
…По воскресным дням Бухара обыкновенно не вставала с постели, отлеживалась, берегла силы. Кожа ее сильно потемнела и ссохлась, лицо стало совсем старушечьим, и даже тонкая фигура утратила стройность, согнувшись в плечах и в спине. Ей не было и сорока, но молодыми в ней оставались только ярко-черные сильные волосы, которые она давно уже укоротила, изнемогши от их живой и излишней тяжести.
Милочка принесла матери чашку горячей травы, несколько размоченных урючин и села рядом с постелью на низенькую скамейку, обняв свои пухлые колени. Бухара погладила слабой рукой ее реденькие желтые волосы и сказала:
– Спасибо, доченька. Я хочу сказать тебе одну вещь. Очень важную. – Девочка подняла голову. – Я хочу, чтобы у тебя был муж.
– А ты? – удивилась Милочка. – Пусть лучше у тебя будет муж. Мне его не надо.
Бухара улыбнулась.
– У меня уже был муж. Давно. Теперь пусть у тебя будет муж. Ты уже большая.
– Нет, не хочу. Я хочу, чтобы ты была. Не муж, а ты, – насупилась Милочка.
Бухара не ожидала отпора.
– Я скоро уеду. Я тебе говорила, – сказала она дочери.
– Не уезжай, не уезжай! Я не хочу! – заплакала Милочка. Мать ей уже много раз говорила, что скоро уедет, но она все не верила и быстро про это забывала. – Пусть и Мила уедет!
Когда Милочка волновалась, она забывала говорить про себя в первом лице и снова, как в детстве, говорила в третьем.
– Я долго, долго с тобой жила. Всегда. Теперь я должна уехать. У тебя будет муж, ты не будешь одна. Паша будет, – терпеливо объясняла Бухара. – Муж – это хорошо. Хороший муж.
– Мила плохая? – спросила девочка у матери.
– Хорошая, – погладила толстую круглую голову Бухара.
– Завтра не уезжай, – попросила Мила.
– Завтра не уеду, – пообещала Бухара и закрыла глаза.
Она давно уже решила, что уедет умирать к старшему брату в Фергану, чтобы Милочка не видела ее смерти и постепенно бы про нее забыла. Память у Милочки была небольшая, долго не держала в себе ни людей, ни события.
Все произошло, как задумала Бухара. Берман с сыном и сестрой, маленькой, одуванчикового вида старушкой, пришли в гости. Паша накануне убрала квартиру, хотя и ворчала. Бухара принесла покупной торт. Готовить она совсем не могла, к плите не подходила, настолько плохо ей становилось от близости огня и запахов пищи.
Пили чай. Разговаривали. Старушка оказалась необыкновенно болтливой и задавала много странных и бессмысленных вопросов, на которые можно было не отвечать. Старый Берман вдумчиво пил чай. Григорий улыбался и все спрашивал у отца, можно ли ему взять еще кусочек торта, и с увлечением ел, вытирая руки то о носовой платок, то о салфетку, то о край скатерти.
Бухара с сердечным отзывом узнавала в нем все старательно-деликатные движения Милочки, которая очень боялась за столом что-нибудь испачкать или уронить.
Милочка слезла со стула. Она была детски малого роста, но с развитой женской грудью. Подошла к Григорию.
– Идем, я покажу, – позвала она, и он, послушно оставив недоеденный кусок, пошел следом за ней в маленькую комнату.
Совсем без перехода, как бы сама к себе обращаясь, маленькая старушка вдруг сказала:
– А может, она права… И квартира у них очень хорошая, можно сказать, генеральская… – и зажевала губами.
Милочка в своей комнате раскладывала перед Григорием свои бесчисленные альбомы. Он держал во рту орешек от торта, перекатывал его языком, любовался картинками, а потом спросил у Милочки:
– Угадай, что у меня во рту?
Милочка подумала немного и сказала:
– Зубы.
– Орешек, – засмеялся Григорий, вынул изо рта орешек и положил ей в руку.
…Едва дождавшись совершеннолетия Милочки, их расписали. Григорий переселился в докторский флигель. Бухара через месяц после свадьбы уехала к себе на родину.
Первое время Милочка, натыкаясь на вещи матери, говорила грустно: мамин фартук, мамина чашка… Но потом старая Паша потихоньку все эти вещи прибрала подальше, и Милочка про мать больше не вспоминала.
По утрам Милочка ходила на работу в мастерскую. Ей нравилось вырезать ценники, она делала это почти лучше всех. Гриша каждый день провожал ее до трамвая, а потом встречал на остановке. Когда они шли по улице, взявшись за руки, маленькая Милочка на каблуках в девичьем розовом платье Бухары и ее муж, большеголовый Григорий с поросшей пухом лысиной, оба в уродливых круглых очках, выданных им бесплатно, – не было человека, который не оглянулся бы им вслед. Мальчишки кричали в спину какие-то дворовые непристойности.
Но они были так заняты друг другом, что совсем не замечали чужого нехорошего интереса.
Шли до остановки. Милочка неуклюже влезала на высокую подножку. Григорий подталкивал ее сзади и махал рукой до тех пор, пока трамвай не скрывался за поворотом. Милочка тоже махала, прилепив к стеклу свою размазанную улыбку и поднимаясь на цыпочки, чтобы лучше видеть стоящего на остановке мужа, энергично размахивающего толстой варежкой…
Брак их был прекрасным. Но в нем была тайна, им самим неведомая: с точки зрения здоровых и нормальных людей, был их брак ненастоящим.
Старая Паша, сидючи на лавочке, с важным видом говорила прочим старухам:
– Много вы понимаете! Да Бухара всех нас умней оказалась! Все, все наперед рассчитала! И Милочку выдала за хорошего человека, и сама, как приехала в это самое свое… так на пятый день и померла. А вы говорите!
Но никто ничего и не говорил. Все так и было.
Лялин дом
Был у Ольги Александровны – по-домашнему ее звали Лялей – золотой характер. Красивая и легкая, многого от жизни она не требовала, но и не упускала того, что шло в руки. Со всеми у нее были хорошие отношения: с мужем Михаилом Михайловичем, рано постаревшим, рыхлым, бесцветным профессором, с сыном Гошей, девятиклассником, с самыми разнообразными, даже весьма зловредными кафедральными дамами-сослуживицами, с любовниками, которые не переводились у нее, сменяясь время от времени и слегка набегая один на другого.
Только вот с дочерью Леной отношения были сложными. Девочка ее пошла в отца, тоже была рыхлая, с пухлым неопределенным лицом, громоздким низом и маленькой, не по размеру всей фигуры, грудью. Ольгу Александровну в глубине души оскорбляла никчемная внешность дочери, ее апатичный вид, вялые бледные волосы. Время от времени она нападала на Лену, требовала от нее энергичной заботы о внешности, заставляла принаряжаться, благо было во что. Но та только раздражалась и презрительно щурилась. Мать она недолюбливала и тайно досадовала, что не ей, а брату достались от матери синие яркие глаза, точность бровей и носа и крепкая белизна зубов.
К тому же кое-какие слухи о пестрых материнских похождениях доползли и до нее – она к своим двадцати двум годам закончила тот же институт, в котором заведовал кафедрой отец, а мать преподавала французскую литературу. К любимому своему отцу она тоже испытывала иногда злое раздражение, возмущалась беспринципной терпимостью его поведения – как, зачем мирится он с Лялиным телефонным хихиканьем, отлучками, враньем и безразлично-бесстыдным кокетством со всеми особями мужского пола, не исключая постового милиционера и соседского кота.
К тому же и сам возраст матери казался Лене давно уже перешедшим черту, когда простительны флирты, романы и вся эта чепуха.
А у Ляли была тонкая теория брака, по которой выходило, что супружеские измены брак только укрепляют, рождают в супругах чувство вины, нежно цементирующее любую трещину и щербинку в отношениях. Трагедий Ляля не терпела, никогда не дружила с женщинами, склонными к любовным страданиям и романтическому пафосу, и практика жизни убеждала ее в правоте. Ее собственное семейное счастье умножалось на внесемейное. Помимо хорошей, ладной семьи имела она осенние свидания на садовых скамейках, беглые прикосновения коленом на заседании кафедры, торопливые поцелуи в прихожей и жгучие праздники двойной измены – собственному своему мужу и подруге, с мужем которой торопливо и ярко соединялась в каком-нибудь счастливом случайном месте…
Ляля огорчалась, чувствуя дочернюю неприязнь. Мечтала, чтобы дочь завела себе любовника и стала бы почеловечней. Но умная девочка относилась к матери снисходительно-саркастически, объясняла своей ближайшей подруге:
– Видишь ли, это пошлые стандарты их молодости. В этом кругу, интеллигентском, университетском, потребность в свободе сильнее всего реализуется в распутстве. Да, да, – припечатывала некрасивая девочка, – они все были в свои незабвенные шестидесятые либо диссидентами, либо распутниками… Либо и то и другое… – Лена слегка закатывала глаза: – Я бы диссертацию могла написать на тему «Психологические особенности шестидесятников».
Впрочем, в аспирантуре у нее тема была другая. Вот такая ходячая бомба находилась постоянно в доме Ольги Александровны. Удивительно ли, что общение с сыном доставляло ей куда больше радости… При большом внешнем сходстве с матерью от отца он унаследовал педантический и жадный до знаний ум, склонность к догматизму и хорошую дозу мужского делового честолюбия. Но более всего роднил Ольгу Александровну с сыном редкий Божий – или дьявольский? – дар, дар обаяния. С малолетства соревновались сверстники за право стоять с ним в паре, сидеть на одной парте, нести портфель или отбивать пасы.
Профессорский дом был всегда полон людей: соседи, бывшие студенты, приятельницы Ляли от всех эпох жизни и от всех ее жанров – от маникюрши до министерши, одноклассники Гоши, дворовые ребята и еще куча случайного проходного народу, неизвестно где подхваченного. Два больших чайника не снимали с плиты. Еда в дом покупалась дешевая и в больших количествах.
Профессор, большую часть времени проводивший в глубине квартиры, в кабинете, откуда раздавался слабый и неритмичный стук пишущей машинки, несколько раз в день выбирался на кухню, с неопределенной улыбкой пил слабый чай, съедая бутерброд с колбасным сыром, и, с удовольствием послушав разного небезынтересного разговору, удалялся снова в кабинет. Ему нравилось разноголосье теплой кухни, и красивая моложавая жена, и вся атмосфера вечного предпраздника, но еще больше ему нравилось закрывать за собой дверь и погружаться в нескончаемые и никому не нужные пьесы Тирсо де Молины, которые он переводил всю жизнь с тяжелым и нездоровым упрямством.
Однажды осенью в профессорской кухне появился новый персонаж – изысканно восточный юноша по фамилии Казиев, новый одноклассник Гоши. Семья его по обмену или с помощью какой-то райисполкомовской махинации въехала в освободившуюся в том же подъезде на четвертом этаже квартиру, представлявшую собой ровно половину профессорской – вторая половина была отсечена и выходила на парадную лестницу, в то время как новые жильцы имели свой собственный вход только через черную.
Семья эта привлекла внимание жильцов. Здесь, в старомосковском переулке, издавна облюбованном актерами, большая часть которых уже оставила свои звучные имена на мемориальных досках близлежащих домов, имели вкус к экстравагантности. Приехавшие люди были циркачами. Глава семьи, известный иллюзионист Казиев, брутальный восточный человек, оказался лицом номинальным, поскольку, перевезя семью в новую квартиру, съехал к своей сожительнице, девочке из кордебалета; маман, как называл мать молодой Казиев, была ассистенткой своего иллюзорного мужа-иллюзиониста и, когда снимала с себя золотое платье и помаду, с большим запасом обводившую тонкогубый рот, обращалась в мымристую нервную блондинку со злыми и несчастными глазами.
Но мальчик был великолепен. Грубая чернота отца смягчалась в нем до густо персидской коричневости, а смугло-матовая кожа была натянута на лоб и скулы так туго, что казалось, была чуть маловата. Он набрал уже полный мужской рост, но еще не огрубел костями, а длиннопалые руки были истинно королевской породы, так что всем, кто обращал на них внимание, хотелось немедленно убрать свои собственные руки в карманы…
В школе приход его подорвал всю установившуюся иерархию. Девочки перестали щелкать глазами в разных направлениях, поголовно влюбившись в новичка, мальчики из кожи вон лезли, чтобы поставить его на подобающее новичку место. Однако он победил, не вступая в борьбу. Оказалось, что он, как и его родители, тоже «цирковой». Это значило, что в отличие от нормальных школьников он работал, и уже не первый год, разъезжая время от времени с гастролями, многое умел в таинственной цирковой профессии, а в школе учился от случая к случаю. В цирковое же училище он не поступал только по капризному решению учиться непременно в ГИТИСе, причем в каком-то специальном наборе для режиссеров цирка, который и бывает-то всего раз в три года.
Таким образом, он сразу оказался вне конкуренции, а если прибавить к этому его искреннюю незаинтересованность в роли главного героя класса, то естественно, что малопривлекательное для него первенство он получил без боя.
Единственным преимуществом, которым он воспользовался, было преимущество выбора себе приятелей. Он выбрал Гошу и почти поселился у него на кухне.
Долгими часами они сидели также и в Гошиной комнатушке, задуманной некогда как спальня для прислуги, читали и разговаривали. Читал Казиев. Говорил Гоша.
Выросший в книжных завалах потомственной гуманитарной семьи, под воздействием ли случайностей в расположении звезд или книг на книжных полках, Гоша разработал для себя причудливое мировоззрение. Он называл себя христианским социалистом, изучал Маркса и Блаженного Августина, и это прихотливое сочетание родило в нем снобистическое высокомерие.
Он чувствовал себя посвященным в собственноручно созданный орден и был с ног до головы пронизан важностью самопосвящения.
Многие его одноклассники проходили через привлекательный Гошин дом, но ни сторонников, ни учеников он не навербовал.
Новенький Казиев выслушал путаную и вдохновенную лекцию по научному социализму с видом непроницаемым, но внимательным. Когда же Гоша закончил, Казиев сказал:
– Занятно… Хотя, честно говоря, меня не интересует умственное, меня интересует телесное. Умственное – это еще куда ни шло, а вот все это социальное, общественное – это я вообще в гробу видал, понимаешь?
После этого он снял ботинки, встал в узком проходе между диваном и старым шкафом и сделал сальто.
И заявление Казиева, и этот неожиданный курбет не оставляли места для Гошиных интеллектуальных подвигов. Все враз оказалось засыпано прахом.
– Я, понимаешь ли, с детства над телом работаю, – объяснил Казиев. – У меня, например, растяжка плохая была. Я поработал, растянулся на китайский шпагат. Я со своим телом все могу, – он погладил себя по груди. – А с этими твоими теориями – что? В царя стрелять? Революции устраивать? Нет, неинтересно… Меня сейчас в четыре номера зовут… на эквилибр, на вольтижировку и в две группы воздушных гимнастов. Тоже неинтересно. Йогу я смотрел. Нет, не то. Моему телу другого хочется. Китайские дела тоже смотрел. Там что-то есть… – И с неожиданным мгновенным вдохновением: – Мне кажется, если правильно подойти, можно летать… Это должно быть так же просто, ну… как с женщиной спать. – И тоскливо добавил: – Знать бы только чем…
У Гоши дух захватило. И Фурье, и Блаженный Августин слиняли. Слишком это было неожиданным. К тому же проходное упоминание о женщинах тайно уязвило Гошу, который давно уже тяготился богатой теоретической вооруженностью в этой области при полном отсутствии самого бедного практического опыта. Он вдруг остро ощутил, что и научные его изыскания страдают от нехватки жизненности, каким-то странным образом связанной с женщинами, с простым и сильным обладанием ими.
Однако дружба на этом месте только укрепилась. Казиев испытывал необъяснимое уважение к Гошиной интеллектуальной мощи как к вещи ценной, но совершенно бесполезной. Казиева также привлекал и профессорский дом, по тонкому сходству с изнанкой цирка, – в этом неряшливом доме постоянно шли разговоры, связанные с общей закулисностью жизни. Люди, здесь мелькавшие, не только смотрели телевизионные передачи, но и вели их и говорили обо всех событиях так, словно знали их подлинный, тайный, скрытый смысл и понимали тайные механизмы движения. Создавалось впечатление, что там, на этих отвлеченных уровнях, как и в цирке, все решалось незначительным кивком, неожиданным рукопожатием, тонкой взяткой и капризом фаворитки. Это давало молодому Казиеву приятнейшее подтверждение, что его доскональное знание одной небольшой сферы жизни распространяется безгранично.
Очень быстро пришелся он к этому дому: приносил хлеб как раз тогда, когда он кончался, и молоко именно в тот момент, когда у Лены болело горло и она, грохая дверцей холодильника, обиженно говорила:
– Ну вот, молока, конечно, нет.
Тут он входил с черной лестницы в кухню с двумя бело-голубыми картонками.
И дом привык к нему: образовалось у него и свое постоянное место на кухне, на широкой деревянной скамье, под фиктивным окном. Когда-то окно было настоящим, но давно, еще при жизни дедушки Михаила Михайловича, родоначальника профессорской династии и первого хозяина этой квартиры, к дому сделали одноэтажную пристройку и заложили кухонное окно кирпичной кладкой, и с тех пор большая кухня освещалась только пыльным светом из высоко прорубленного окна, выходящего на лестницу, да электричеством, которого никогда не гасили.
В электрическом свете лицо Казиева – он приобрел довольно быстро домашнее прозвище Казя, а имени его в доме так и не знали – выглядело более желтым, глаза более темными, а рама бывшего окна, по безразличной бесхозяйственности владельцев так и не снятая, казалась идеальной рамой его буддически неподвижной фигуры.
– Просто поразительно, – удивлялась Ольга Александровна, чуть шевеля точными бровями, – гимнаст, акробат, такой подвижный, казалось бы, а когда сидит – точно каменное изваяние!
Так оно и было. Неподвижность его была свободной и полной.
Однажды утром, уходя в школу, Гоша сказал матери:
– Казя заболел. Он сейчас один, мать на гастролях. Может, зайдешь к нему попозже? Сейчас-то он еще спит, конечно…
Ляля кивнула. У нее был свободный день. Расписание было удобное, она сама его себе составляла, три дня было свободных. Отправив Гошу, приняла горячую ванну, намазала распаренное лицо густым, лимонного запаха кремом, прибрала слегка на кухне, позвонила двум-трем подругам и заварила свежий чай. Сделала два толстых бутерброда с сыром, поставила на поржавевший местами жостовский поднос чашку со сладким чаем и тарелку с бутербродами и, накинув поверх старого шелкового халата вытертую лисью шубу, прямо в шлепанцах на босу ногу вышла на черную лестницу, чтобы отнести незамысловатую еду заболевшему Казиеву. Морщась от помоечных запахов запущенной лестницы бывшего приличного дома, поднялась по сбитым ступеням от своего некогда почтенного бельэтажа на последний, четвертый этаж и, не звоня, толкнула дверь Казиевых. Дверь, как она и предполагала, была не заперта.
– Казя! – окликнула она с порога, разглядывая квартиру и прикидывая, каким это образом переставили стены, – кухня у Казиевых была маленькой, при перепланировке ванная отошла к соседям и ее пришлось выгородить в торце кухни, догадалась Ляля. Зато кухонное окно здесь было, и Ольга Александровна вздохнула, пожалев о своем заложенном окне.
Она приоткрыла дверь в комнату при кухне, где, по ее представлению, должен был жить Казиев. Так оно и было. На узкой кушетке, немного запрокинув голову на плоской подушке, спал Казиев.
Ольга Александровна с подносом, в шубе, сползающей с одного плеча, подошла к нему и увидела, что он не спит. Глаза его были полуоткрыты, лицо влажно блестело.
Она поставила поднос на край письменного стола и, положив руку ему на лоб, склонилась над ним:
– У-у, температурища… Да ты совсем больной, Казя!
Он лежал под тонкой ярко-желтой простыней, укрытый до шеи, и был похож на фараонову мумию всем очерком тела, и особенно это сходство укреплялось ступнями, носки которых не были расслабленно вытянуты вперед, что обычно для лежащего человека, а твердо подняты вверх.
– Казя, Казя, – позвала его Ляля. Замедленным и ненамеренным движением она сдвинула вниз простыню, открыв по-египетски мускулистую грудную клетку и узкий живот, всю середину которого, закрывая и пупок, занимал смуглый детородный член, к которому она протянула безотчетную руку, и он двинулся к ней во встречном движении.
Глаза Кази темно блестели из-под опущенных век.
– Возьми! – сказал он хрипло и требовательно.
Бедная Ляля почувствовала, как всю сердцевину ее тела, от желудка донизу, свело такой острой судорогой, что, не помня себя, сбросила шубу, шлепанцы, еще что-то лишнее и через мгновение взвилась, запрокинув в небо руки, в таком остром наслаждении, которого она, неутомимая охотница за этой подвижной дичью, во всю жизнь не изведала.
К концу короткого дня, в сумерках, пришел из школы Гоша, потом Леночка… Ляля покормила их кое-каким обедом. Часам к девяти появился и Михаил Михайлович, усталый и, как обычно, отвлеченный. Она подала еще раз обед, вымыла посуду.
Под вечер Гоша поднялся наверх к Казиеву пробыл там недолго, а вернувшись и поставив на стол поднос с нетронутым чаем и ссохшимися бутербродами, сказал матери:
– Все-таки наш Казя во всем оригинал. Говорит, я, когда болею, не ем, не пью, лежу три дня, не зажигая света, а на четвертый встаю здоровый. Ты слышала такое?
Ляля пожала плечами. Все эти часы, прошедшие с тех пор, как она вернулась от Казиева, она испытывала такой пожар, такую нарастающую жажду, как будто каждая клетка ее тела прожаривалась раскаленным ветром и только единственной влагой могла утолиться.
Домочадцы разбрелись по комнатам, одна Ляля сидела на кухне, едва не теряя сознание от нетерпения, ждала, когда все улягутся. Но дом был поздний: стучал на машинке Михаил Михайлович, Лена пыталась дозвониться подруге по междугородному и беспрерывно щелкала диском телефона, читал в своем кабинет-чулане Гоша. Устав от нетерпения, Ольга Александровна оделась и вошла к мужу:
– Миша, я совсем забыла к Прасковье сегодня зайти. Она меня ждет.
– Куда так поздно, Лялечка? Может, проводить тебя? – неуверенно запротивился муж. Но выходить на улицу ему не хотелось, и он неохотно отпустил ее: – Неугомонная ты, Лялька…
Прасковья Петровна, давно одряхлевшая нянька самой Ляли и ее детей, жила неподалеку, в коммунальной квартире, и Ляля часто ее навещала. Но не так часто все-таки, как сообщала об этом домашним. Преданная своей бывшей воспитаннице всей страстью прирожденной прислуги, Прасковья была верным прикрытием Лялиных похождений.
Ляля вышла из парадной двери, обогнула дом с заднего фасада и поднялась на четвертый этаж. Дверь Казиевых была по-прежнему открыта. Она толкнула ее и вошла.
Казиев лежал все в той же позе, так же, как и утром, укрытый простыней, но было темно и в темноте не видно, что простыня желтая. Глаза его были все так же полуоткрыты. И в остальном было все то же, что и утром. Он не произнес ни слова, даже не двинулся с места, только однажды протянул к ней руки и коснулся темных сосков ее крупной груди, щедро нависавшей над узкой талией…
– Сошла с ума, совсем сошла с ума! – всю ночь твердила себе Ляля, ворочаясь рядом с мужем, то сбрасывая с себя одеяло, то натягивая его до шеи и вытягиваясь и стараясь почему-то держать носки ног вверх, как это делал Казиев.
В шестом часу утра, когда домашние еще спали, она опять поднялась по вонючей лестнице, и опять было все то же… Через три дня Казиев действительно выздоровел. Жизнь наладилась каким-то вполне безумным образом: рано утром, в самый сонный час, она выскальзывала из постели и поднималась к нему. И в позднее вечернее время, когда расходились гости и дом затихал, она это делала. И если что-нибудь мешало ей выскочить в этот час, она всю ночь не спала, все ожидая утреннего свидания. Он был бессловесен и безотказен, и Ляле казалось, что никаких слов и не нужно: таким исчерпывающим и обжигающим было их общение.
Мать Казиева все еще разъезжала по гастролям, и Ляля отодвигала от себя мысль о том, что в один момент все должно прекратиться. Это была такая темная, такая неизбежно смертельная туча, несущая всему конец, что Ляля, дорожа каждым мгновением и каждым касанием как самым последним, вся была сосредоточена на одном: еще однажды достичь берега, где мощный мальчик освобождал ее от себя самой, давно уже оказавшейся постылой, состарившейся и скучной…
Еще раз, с помощью этого механического, в сущности, средства, достичь огненного сполоха, освобождающего ее от памяти души и тела.
Посвящавшая всегда в свои романы двух-трех близких подруг и находя в том большую прелесть, на этот раз Ляля никому и словом не обмолвилась.
Было страшно.
Она ходила на службу, говорила что-то привычное о Флобере и Мопассане, покупала продукты в подвале у знакомой директорши магазина, варила еду, улыбалась гостям и все ждала минуты, когда можно будет выскользнуть на черную лестницу, заклиная медлительную тьму:
«Последний раз! Последний раз!»
…Проводила вечерних посетителей, сбросила тесную приличную одежду, надела старый шелковый халат, паутинно-серое, настоящее японское кимоно на лимонного цвета подкладке. На лестнице замедлила шаги сознательным усилием. Не бежать вверх, остановить хоть на минуту внутренний лихорадочный бег, движение вскипающих пузырьков крови в сосудах – это было все, что могла она сделать, чтобы окончательно не разрушились те надежные, разумные границы, в которых хорошо и прочно держалась ее жизнь. И, поднимаясь по лестнице, она словно оказалась в середине трепещущего трехголосья: главный, ведущий флейтовый голос распевал на четыре такта «По-след-ний раз! По-след-ний раз!», второй, дополнительный, был трехступенчатый барабанный стук сердца – систола-диастола-пауза… а третьим, навязчивым и детским, был невольный счет ступенек, которых в шести пролетах было шестьдесят шесть…
Она шла, глотая слюну, временами останавливаясь, чтобы успокоить дыхание, и думала, что вот настигло ее наказание за всю легкость ее беззаботных любовей, за высокомерную снисходительность к любовному страданию, именно к этой его разновидности, к женской и жадной неутолимости чувств.
Дверь, как всегда, была не заперта, и грохотала музыка. Сильная, грубая и примитивная музыка этого поколения. Раньше Ляля никогда не слышала этой музыки у Казиева. Она насторожилась – но все, кроме музыки, было как обычно: темная кухня, звук капающей воды и стройная полоска света из комнатушки. Ляля отворила дверь и увидела нечто, не сразу понятое. Во всяком случае, она еще успела сделать несколько шагов, прежде чем сработали все положенные нервные импульсы, прошли по синпасисам, добежали от глаза к мозгу, к сердцу, ударили жгучей болью по сокровенному низу. Прямо перед ней медленно-тягучими движениями поднималась и опускалась бледная спина ее дочери Лены, и влажные волосы жалким хвостом слегка бились по веснушчатым лопаткам. Лица Казиева она не видела, как и он не мог видеть вошедшую, но она прекрасно знала, какое там, на плоской подушке, непроницаемое, смуглое и прекрасное лицо…
Ляля попятилась к двери и вышла из комнаты, из квартиры…
Дети обнаружили ее утром на кухне, в старом плетеном кресле. Она сидела, уставив синий бесчувственный взор в заложенное кирпичом окно. Ее окликали, она не отзывалась.
Лена вызвала «скорую». Натренированные инфарктно-инсультивные врачи были в недоумении. Это был не их пациент, предложили вызвать специальную, психиатрическую. Приехали и эти. Ольга Александровна смиренно сидела в кресле, не отвечая на вопросы. Врачи щупали ее мягкие теплые руки, водили перед лицом глупым металлическим инструментом. Она покорно протягивала руки, а потом неуверенным, но вполне определенным движением снова укладывала их на подлокотники.
Врачи перебрасывались рваными словами неузнаваемой латыни, недоумевали. Предложили Лене немедленно госпитализировать мать, Лена отказалась. Врачи взяли с нее подписку. Лена с Гошей пытались уложить мать в постель, но она только качала головой и все смотрела и смотрела в заложенное окно.
Лена вызвала отца. Тот прилетел из Киева, где проводил какую-то конференцию. Ольга Александровна позволила мужу увести себя в спальню, впервые за двое суток легла в постель. Пригласили лучших психиатров. Все недоумевали, говорили разное, но сходились в одном: надо ждать.
Предлагали клиники, разные лекарственные схемы, речь зашла даже о шоковой терапии. Когда об этом услыхал Михаил Михайлович, человек умеренный и осторожный, он отказался от какой бы то ни было врачебной помощи и сказал дочери:
– Леночка, давай-ка мы сами как-нибудь…
Так и шли дни за днями. Бедная Ольга Александровна находилась в крайнем и мучительном недоумении. Она вполне ощущала себя самою собой, но все словно разбилось на куски и перепуталось. Иногда ей казалось, что вот сделай она маленькое усилие, и мир снова сложится в правильную, как в детской книжке, картинку. Но усилие это было невозможным.
Кирпичная кладка замурованного окна была для нее чрезвычайно привлекательна. Она как будто знала, что именно в трещинах кирпичей, в их простом и правильном, сдвинутом по рядам чередовании есть спасительный порядок, следуя которому можно соединить всю разрушенную картину ее жизни. А может быть, цемент, навечно соединивший отдельные кирпичи, был так притягателен для глаз Ольги Александровны. Цемент, скрепляющий отдельности в целое…
Еще Ольгу Александровну беспокоило, что она забыла что-то чрезвычайно важное, и она все всматривалась в замурованное окно, ожидая, что оттуда придет помощь. Ее укладывали вечером в постель, но она упрямо пробиралась на кухню, садилась в мягко шуршащее старым плетением кресло.
Дом опустел, как берег после отлива. Только непомерное количество чашек и стаканов напоминало о том, как много здесь толклось людей всего несколько недель тому назад.
Однажды, когда среди ночи Ольга Александровна сидела на своем шелестящем кресле, кирпич вдруг стал бледнеть и растворяться, и на фоне серо-коричневого несолнечного света она увидела запрокинутое лицо Казиева. Глаза мерцали из-под тонких, чуть оттянутых в углах век, и видела Ольга Александровна это лицо сверху. А потом его лицо стало плавно отдаляться, и она поняла, что мальчик летит, деревянно лежа на негнущейся спине, вытянув чуть отведенные руки вдоль туловища и слегка покачивая преувеличенно крупными кистями. И он удалялся в таком направлении, что Ольга Александровна вскоре видела лишь голые ступни его ног да развевающиеся темные волосы, распавшиеся на два неровных полукрыла…
Заложенное некогда кирпичом окно превратилось в светящийся, все возрастающей яркости экран, и свет делался менее коричневым и более живым, насыщался теплым золотом, и Ольга Александровна ощутила себя внутри этого света, хотя чувствовала еще некоторое время скользкое прикосновение выношенных подлокотников.
Босые ноги ее по щиколотку погрузились в теплый песок. Она огляделась – это была иссохшая пустыня, не мертвая, а заселенная множеством растений, высушенных на солнце до полупрозрачности. Это были пахучие пучки суставчатой эфедры, и детски маленькие саксаулы с едва намеченными листьями-чешуями, прижатыми к корявым стволам, и подвижные путаные шары волосатого перекати-поля, и еще какие-то ковылистые, перистые, полувоздушные и танцующие… Тонкий, едва слышимый звон, музыкальный, переливчатый и немного назойливый, стоял в воздухе, и она догадалась, что это одиноко летящие песчинки, ударяясь о высохшие стебли трав, издают эту крошечную музыку. Живые, медленные, но все же заметно глазу движущиеся холмы из светлого сыпучего песка делали горизонт неровным, бугристым. На западе лежал дынный бок темно-золотого, с багровым отсветом солнца, нижняя часть которого была словно объедена огромными челюстями холмов. Солнце уменьшалось, утопая, всасываясь в бугристую зыбь, и, когда от него остался лишь звездчатый букет последних косых лучей, она увидела, что возле каждой травинки, возле каждого безжизненного стебля загоралась живая и тонкая цветовая оболочка, нежнейшая радуга, которая играла, переливалась, звеня еще более тонким звоном, словно песчинки, ударявшиеся прежде о стебли, теперь бились о радужные сполохи… И в этот миг Ляля ощутила присутствие…
– Господи! – прошептала она и опустила лицо в круглый кустик эфедры, еще объятый догорающей радугой.
Вышедшая утром на кухню заспанная и отекшая Леночка нашла там порядок и чистоту. Даже давно не чищенная плита сверкала, и два чайника дружно кипели на задних конфорках. Мать стояла к ней спиной, и правый локоть ее ходил вслед за куском сыра, который она терла на большой металлической терке.
Ольга Александровна обернулась к дочери, улыбнулась виноватой улыбкой и сказала как ни в чем не бывало, сразу разрешив многочасовые споры врачей о природе ее немоты, неврологической или психологической:
– Гренки с сыром, да?
Все было почти по-старому: мать готовила завтрак, кипел чайник. Лена села в плетеное кресло и заплакала. И, заплакав, увидела она, что и лицо матери залито слезами. Это были не обычные слезы – никогда, никогда не прекратились они у Ольги Александровны…
Прошло уже много лет с тех пор, а слезы все еще текут из глаз пугливой и сухой старушки, какой стала теперь веселая, смешливая и любвеобильная Ляля. Она на инвалидности. Врачи написали ей такие латинские слова, которые освободили ее от необходимости преподавать французскую литературу, когда-то ею столь любимую.
Муж ее, Михаил Михайлович, к ней не переменился. Он выводит ее на прогулки к Тверскому бульвару, рассказывает по дороге о кафедральных делах. Правда, он единственный, кто не замечает некоторого ее слабоумия. Михаил Михайлович избран недавно в академию, кажется, не в большую, а педагогическую.
Лена защитила диссертацию, замуж не вышла, и не известно, имеет ли она любовников.
Гоша сделал большую карьеру, хотя и перестроился: он больше не исповедует ни христианских, ни социально-утопических идей. Он крепкий экономист, специалист по межотраслевой диффузии капитала в условиях… здесь автору не хватает слов. Короче, он специалист.
Молодой Казиев в отличие от Гоши карьеры не сделал. Что-то сломалось в его жизни. Он не поступил на режиссерский, попал в армию, отбыл полтора года в жестокой азиатской войне и вернулся оттуда глубоко изменившимся. Стал учеником мясника в маленьком магазинчике на Трубной, быстро обучился нехитрой мясной науке, получил повышение и работает по сей день в пахнущем старой кровью подвале. По-прежнему красив, но сильно раздался, заматерел и грубо, по-восточному любит деньги. С Гошей они не встречаются, хотя и живут в одном подъезде.
А Ольга Александровна несет малые, ей посильные хозяйственные тяготы, ходит немного шаткими шагами по кухне, заливаясь светлыми слабыми слезами и испытывая непрестанную муку сострадания ко всему живому и неживому, что попадается ей на глаза: к старой, с мятым бочком, кастрюле, к белесому кактусу, единственному растению, смирившемуся с темнотой их кухни, к растолстевшей, вечно раздраженной Леночке, к рыжему таракану, заблудившемуся в лабиринте грязной посуды, и к самому прогорклому и испорченному воздуху, проникающему в квартиру с черной лестницы. Все она мысленно гладит рукой, ласкает и твердит про себя: бедная девочка… бедная кастрюлька… бедная лестница… Она немного стесняется своего состояния, но ничего не может с этим поделать.
Ее душевная болезнь столь редкая и необычная, что лучшие профессора так и не смогли поставить ей диагноз.
Гуля
Именины у Гули приходились на рождественский сочельник. Исповедуя с детства неосознанно, а с годами все более сознательно и истово всемирную и тайную религию праздника, Гуля ни разу в жизни не пропустила без празднования дня своего ангела. И в годы ссылки, и в лагерные годы она устраивала из ничтожных подручных средств, добывала из воздуха эти хрусткие крахмальные зернышки праздника, склевывала их сама и раздавала тем, кто оказывался возле нее в эти минуты.
Она отмечала день ангела, день своего рождения, а также дни рождения своей покойной матери и сестры, день свадьбы с первым мужем, а также Пасху, Троицу, все двунадесятые праздники и большую часть казенных. Новый год она отмечала дважды, по старому и по новому стилю, также и Рождество: сначала католическое, оправдывая это польской кровью бабушки, а потом и православное. Она не пропускала Первое мая, Восьмое марта, чтила и Седьмое ноября. По возможности она придерживалась определенных ритуалов. Так, день своего рождения, приходящийся на начало лета, на третье июня, она любила праздновать с утра. Если позволяли обстоятельства, она вместе с какой-нибудь приятельницей уезжала на Сельскохозяйственную выставку или в Ботанический сад, гуляла часа два, рассказывая приятельнице ослепительно скандальные истории своей ранней юности, а потом они добирались до «Праги», где съедали по возможности празднично комплексный обед за восемь рублей старыми, а впоследствии за рубль тридцать новыми.
Потом они шли к Гуле отдыхать, а отдохнув, пили кофе с заготовленным заранее ликером, мороженым и конфетами «Грильяж», пока они были еще доступны их зубам и не исчезли окончательно из продажи.
Когда количество выпитого ликера значительно превышало объем кофе, Гуля брала со стены гитару и, точно соблюдая интонации и произношение, воспроизводила Вертинского, многозначительно перемалчивая некие жгучие воспоминания.
В целом это называлось «покутилки», и любимой соучастницей этих вегетарианских оргий была Веруша, Вера Александровна.
Ее роль в течение жизни много раз менялась – она была восторженной поклонницей, наперсницей, соперницей и даже покровительницей в разные периоды их слоистой, как геологический разрез, жизни. Вера Александровна, полуродственница, полутень, папиросная бумага памяти и самое убедительное из имеющихся у Гули доказательств реальности ее собственной жизни…
Задолго до Святой Евгении, приходящейся на канун Рождества, Вера Александровна начинала беспокоиться, что не сможет сделать в этом году хорошего подарка Гуле и та будет расстроена.
На этот раз она разыскала среди доставшихся ей от покойной родственницы бумаг старую фотографию, долженствующую подтвердить их мифическое с Гулей родство, которое держалось на двоюродной сестре тулиной матери, якобы бывшей вторым браком за дедом Веры Александровны. На упомянутой фотографии была изображена благородная пара, и Вере Александровне хотелось думать, что она обнаружила это самое хрупкое доказательство родства. К фотографии, составляющей духовную часть именинного подарка, Вера Александровна присоединила флакон югославского шампуня и плохонькую коробочку конфет. Эти конфеты особенно ее беспокоили, она даже спросила у Шурика, что он думает по поводу этой маловыразительной коробочки. Шурик посмотрел на коробочку с преувеличенным интересом и сказал:
– Чудно, мамочка, чудно! Просто композиция какая-то получилась. Очень изящный подарок.
И слегка успокоенная Вера Александровна пошла на кухню греть щипцы. Пока она завивала желтовато-белые легкие волосы, Сан Саныч густо мазал гуталином свои туристические ботинки, любимую обувь, сочетавшую большую крепость с малой: ценой, – и оба они, мать и сын, вступали в увертюру Гулиного праздника, состоящую из запаха перегретых щипцов, подпаленных волос, гуталина и невинного шипра.
На овальном, покрытом заляпанной чайной скатертью столике стояло продолговатое блюдо с сочивом и бутылка кагору. Маленькая елочка стояла в большой, надбитой сверху и по этой причине не проданной вазе. Газеты с Джульеткиным дерьмом, обычно разложенные равномерно по всей комнате, в честь праздника сгребались в угол, а иногда и вовсе выносились на помойку.
Последние часы сочельника гости проводили за постным столом, а когда время подходило к восьми и кончалась Всенощная у Ильи, Гуля вступала в первый день после Рождества Христова, что знаменовалось подачей мясных закусок, иногда и горячих. Кончался двухчасовой пост, начинался мясоед.
Как славно они расположились у стола. Сан Саныч любовался ими, воздушными старушками, избранницами, последние двадцать пять лет поддерживающими тонус, выплачивая штрафы за каждое упоминание о болезнях, физических отправлениях и, не дай бог, о смерти. Литература, искусство, воспоминания молодости, светские сплетни – вот был круг их всегдашних разговоров.
Теперь они толковали о шляпках – о неумении молодых женщин носить шляпку, этот признак пола, свидетельство таланта или бездарности, знак социальной принадлежности и показатель интеллектуального уровня. Конкретно – о шляпках Зинаиды Гиппиус. Потом Гуля как-то легко соскользнула к преимуществам «шведского» брака перед «менаж а труа»… потом по какой-то извилистой тропке к Дягилеву, к балету вообще, к Майе Плисецкой…
Говорили… говорили… Рождественская звезда давно уже потерялась в россыпи бесчисленных нерождественских, а по длинной комнате от трехстворчатого высокого окна к прорубленной в коридор двери, нарушавшей аристократическую анфиладность этой бывшей хорошей квартиры, тек сквозняк, остужая старушечьи спинки с вытертыми лопаточками.
Слякотная, ненастоящая зима, словно устыдившись, встречала Рождество заказным календарным морозом. Вялый ветерок от окна делался все более жестким. Гуля положила на широкий мраморный подоконник старую шубу, но настроенное на ноль отопление не управлялось со стремительным похолоданием.
Накинув на плечи платки, шарфы и Гулины халаты, заговорили о холодах семьдесят третьего или пятого – тут они слегка путались, – сорок первого, двадцать четвертого и, прости Господи, тринадцатого.
Скушали все, что могла предложить Гуле кулинария «Праги»: и фаршированную утку, и мясо по-влажски, и волованы с какой-то ерундой внутри. И выпили бы все, да Гуля по старой привычке «скроила» маленький графинчик коньяка и полбутылки принесенного в подарок португальского портвейна, который показался Гуле немногим лучше «Таврического»…
Когда разговор пошел о погоде, Джульетка сошла с диванчика и, показывая всем видом презрение к такому обывательскому направлению разговора, легла на бархатную подушку.
Не было у них никакого внешнего сходства, у Джульетки и Гули. Джульетка была нечистопородной гладкошерстной таксой, а Гуля – породистая тонконогая и совершенно борзая старуха с ноздрями, как фигурные скобки, и высоко поднятыми, тонкими, кругло нарисованными бровями. Их сходство лежало глубже и не было заметно невнимательному. Выражалось оно в аристократическом пренебрежении к мелочам, в скверной поверхности и необыкновенно прочной изнанке характера.
Гуля одновременно с Джульеткой почувствовала легкое раздражение и совсем уж было предложила партию «шмине», но неожиданно Сан Саныч, дотоле скромно любовавшийся этими облезлыми, ароматными, ветхими, геркулесовыми дамами, девицами, старыми менадами, ангелицами и ведьмами, Сан Саныч, скромно молчавший весь вечер, тихо произнес:
– Гуля, у тебя ужасно дует. Надо заклеить окно. Завтра я приду после работы, часов в половине восьмого, и сделаю. Не убегай, пожалуйста.
– Ты прелесть моя! – взвизгнула Гуля. – Шурик, ты душка! Как мило, Верочка, с твоей стороны, что ты соблазнилась деторождением!
И легко вскочив с кресла, она подпорхнула к Сан Санычу и, упершись в плечо упакованным в грацию прославленно-пышным бюстом, поцеловала его в лысеющий затылок Заговорили о детях.
Спала Гуля плохо. Болел живот, к утру пришлось дважды встать в уборную. Гуля грешила на портвейн. Джульетка из солидарности тоже нагадила, и прямо на полу, так как Гуля, ложась спать, забыла постелить ей очередную порцию «Литературки». Впрочем, это обстоятельство скорее даже умилило Гулю – обе они обыкновенно страдали запорами, портвейна Джульетка не пила, так что ее расстройство можно было объяснить исключительно их глубокой духовной связью.
Гуля замерзла, долго не могла согреться под двумя одеялами и шубой, живот не переставал болеть, и заснула она лишь после того, как согрела в чайнике воды и набрала в грелку.
Проснувшись после полудня, она еще часок лежала в постели – никогда не любила сразу вставать, – испытывая приятное чувство пустоты и легкости в животе и радуясь жесткому зимнему солнцу. В комнате стоял лютый холод, на подоконнике лежал нежный валик изморози. Гуля с живым чувством рассматривала свою комнату – в таком ярком свете давно ее не видела. Комната была высокой, непропорциональной – это была треть трехоконной залы, лепнина делала здесь плавный поворот, и Гуля, въехавшая в эту комнату вскоре после возвращения из ссылки, наскоро выйдя замуж за импозантного хозяина этой самой комнаты, долго искала место для кровати, поскольку, имея свои собственные отношения с пространством, никак не могла привести в соответствие этот обрывок лепнины на потолке и свое собственное лежащее в кровати тело… А месяца через три после этого экстравагантного брака хозяин комнаты скоропостижно скончался, оставив Гуле свое пыльное, ветхое, но вполне антикварное наследство.
Комната была ярко-синяя. Гуля чуть было не сделала ее красной, но Веруша сказала, что ноги ее в доме не будет, и Гуля приказала малярам красить синим. Оказалось прекрасно: Гуля жила как бы на фоне театральной декорации, столь неправдоподобно, небытово синели стены, и все вещи – обшарпанная карельская береза, бронзовая угасшая рама потемневшего зеркала – подтягивались стройно на этом неприродно-синем.
Немытая посуда на столе стояла, словно выстроенная для натюрморта, и Гуля, уперев подушку в изголовье ладьи, улыбалась. На этой ладье она, не знающая бессонницы и кошмаров, ежевечерне отправлялась в небесное плаванье, не забывая шепнуть: «Слава тебе, Боже, еще один денек мы с тобой прокувыркались. И пожалуйста – никаких снов. Если можно…»
Но на этот раз, под утро, был какой-то сон, но он всплыл как-то не сразу и омрачил Гулино праздничное настроение. Сон был бессюжетен. Ощущение чужой власти, замкнутого пространства. И грубой, грубейшей фактуры. Прочь, прочь, не хочу вспоминать! Сукно на столе… Капитан Утенков с гнуснейшей бранью, нежно направленной в ухо… И пошел… и пошел… Смерд… Хам… Спас. Прочь пошел! Не хочу!
Но сон уже вырвался на поверхность и вспоминался против воли. Стоит в кабинете на ковровой очень чистой дорожке в больших омерзительных ботах она, Гуля, и капитан Утенков смакует ее девичью княжескую фамилию, и в ней вдруг поднимается тяжелое желание, бьет, как большая рыба хвостом. А Утенков делается не Утенковым, а кем-то любимым, родственно близким… уточняется и перестает вовсе быть Утенковым… и все это длится, и не завершается, и не разрешается… Глупость! Фу, глупость какая! Ну ведь прошу же, пожалуйста, не надо мне снов…
Ах да! Шурик придет заклеивать окно. Как он мил. Да, окно. Надо встать и прибрать. Ванну бы горячую принять. Чистить неохота. Соседи свиньи. Грязь необыкновенная в ванной. Ногами встать противно, не то что ванну принять…
И потекло ее утро. В три она выпила кофе. Ответила по телефону. Звонили вчерашние гости и к соседям. Почитала французский детектив. Скучно. Погрела сосиску. Джульетка есть не стала. Опять позвонили – Беатриса, осевшая в России еврейка из Америки, приятельница по ссылке, позвала в гости. «И поеду! – решила Гуля. – Черт с ним, с окном! Зима ведь, ясно, что холодно. И должно быть холодно. А Шурик придет, нет ли – еще неизвестно».
– Приду, Бетька, приду! – пообещала Гуля. Только повесила трубку, позвонил Шурик, спросил, есть ли в доме вата.
– Может, отложим? – хотела пойти на попятную Гуля.
– Ни в коем случае. Ты простудишься. Такой холод. И сквозняку тебя!
И Гуля перезвонила Беатрисе, объявив, что придет, но несколько позже.
Сан Саныч пришел в восемь. Гуля, чувствуя, что у нее рушится визит и праздник, вильнув хвостом, выскальзывает из рук, начинала злиться на Шурика, что опоздал, на себя, что согласилась на оклейку окон, без которой всегда прекрасно обходилась, и даже на Беатрису, милейшую, с грубым мужским голосом, нежную, до идиотизма наивную Беатрису.
– Страшная стужа, градусов тридцать, не меньше, – мерзлым голосом проговорил Сан Саныч, снимая пальто в комнате у Гули. На вешалке в передней никто не раздевался. Считалось, что если пальто не украдут, то наверняка мелочь из кармана вытрясут. – Стужа, говорю, ужасная, – продолжает Сан Саныч, вынимая из трепаного портфеля мотки бумажных лент, – поставь, пожалуйста, чаю. И кастрюлю с водой, клейстер надо сварить.
Гуля обреченно пошла на кухню, поняв, что в гости сегодня не выбраться.
Наскоро выпив чаю, Шурик залез на подоконник и открыл внутреннюю раму. Медные шпингалеты с длинными, во всю раму, задвижками прекрасно работали, даром что было им лет сто, а вот сами рамы сгнили. Пласт холодного воздуха, хранившийся между ними, мгновенно разбух и занял всю комнату.
Сан Саныч ножом пропихивал в щели тонкие жгутики ваты. Гуля сидела в кресле с Джульеткой на руках и любезным голосом спрашивала, чем она может быть полезна.
Сан Саныч любил Гулю. Он знал ее с детства, но как-то кусками. Ее трижды сажали: дважды, как она считала, за мужей, а один раз – так она сама объясняла – за излишки образования. Этот последний раз случился уже после войны, в небольшом отрезке ее незамужней жизни. Обычно мужья у нее скорее находили один на другого, но тут как раз был такой период безмужья, и она пошла на службу.
Кроме гимназии, Гуля никаких учебных заведений не кончала, но языки знала хорошо, а по понятиям нового времени даже великолепно. Мать Гулина была полунемка, выросшая во Франции, так что оба эти языка дома были в ходу. К тому же жила у них англичанка, мисс Фрост, которая, вопреки общему понятию об англичанах, была невероятно болтлива. Она наполняла своим неумолчным птичьим говором весь дом, и не выучить в ее присутствии язык мог разве что глухой. Легко усваивающая языки четырнадцатилетняя Гуля, влюбившись в последнее предвоенное лето в итальянского певца, преподавателя, жившего тогда в Москве, легко, в два месяца, выучила итальянский, восхитив сладко-голосого учителя легкостью речи и несеверной пылкостью повадок.
Польский она выучила уже в ссылке, по стечению обстоятельств. Вера Александровна, навещая ее, оставила случайно Агату Кристи по-польски, и Гуля, еще не вкусившая сладости этого жанра, вцепилась в него и долгие годы ничего, кроме Агаточки, как она ее нежно называла, в руки не брала.
Гуля устроилась референтом-переводчиком в некую техническую контору, проработала немногим больше года и ввязалась в глупейший конфликт, который рос и креп до тех пор, пока начальник не написал на нее донос, обвинив ее крайне непоследовательно в аполитичности, космополитизме и шпионаже. Обвинение и по тем временам было столь нелепым, что через полтора года, еще до смерти Сталина, Гуля вышла.
В перерывах между своими дробными посадками Гуля ухитрялась жить как птичка, немедленно заново выходя замуж, праздновала свой неистовый праздник любви, хохотала, бегала по гостям, «стрекозила», как говорила про нее осторожная и насмерть перепуганная жизнью Веруша. Однако Гуля цветов своей легкомысленной одежды не меняла.
Шурик родился, когда Гуля, после первой своей лагерной пробы, жила у Веруши в Калуге, и он оказался первым и единственным ребенком, к которому Гуля была причастна от самого его младенчества. Она как-то сумела преодолеть свое отвращение к этому влажно-сопливому периоду существования, вызывавшему у нее брезгливость. Во всяком случае, для Шурика было сделано исключение.
Даже съехав от Веруши к Павлу Аркадьевичу – теперь уже трудно установить, которому по очередности ее мужу, – она навещала Веру и Шурика все те годы, что прожила с ним, вплоть до его смерти, в неугасающем веселье души и тела и, вопреки своему внутреннему устройству, едва его и впрямь не полюбив.
В эти ранние годы Шуриковой жизни Гуля появлялась шелковая, праздничная, в облаке духов и жидкой пены тщедушных локонов, с нарисованными бровями и настоящими, драгоценно-зелеными глазами. Нежный мальчик обнимал скользящие колени и замирал с расширенным сердцем. А Гуля шевелила его обреченные на недолгую жизнь тонкие волосы пальцами с красными, немного внутрь загнутыми ногтями.
Потом Гуля исчезла, и Шурик по ней тосковал. Однако, когда она вернулась окончательно, на большие праздники сердце Шурика уже не было способно и Гуля уже была не такая шелковая. К тому же это был год его шестнадцатилетия, а в тот год шелк, мед, мех, лед и прочие совершенства мира заключались для него совсем в ином сосуде.
Гуля же в спешном порядке вышла замуж за старого красивого человека, носившего известную фамилию. Правда, к сожалению, он был не тем самым, а всего лишь однофамильцем, но кто бы посмел задать этот вопрос?
Гуля жила изо всех сил, не пропуская вернисажей, выставок, премьер, бенефисов, гастролеров. Скоропостижно умер последний муж, и Гуля объявила подругам, что отныне она монахиня, но сильно в миру…
Сан Саныч, потерявший в эту пору значительную часть волос, сильно прибавивший в весе и приобретший неотталкивающее сходство с картофелиной, служил тогда совсем другому кумиру, но никогда не отлынивал от бесцеремонных – впрочем, сам он так никогда их не определял – требований Гули передвинуть мебель, отвезти ее на дачу или проводить на вокзал. Но все-таки Сан Саныч страдал, понимая, что Гуля стара, что он ничтожно мало ей помогает, и заклейка окон радовала его как возможность быть чем-то полезным милой Гуле.
Трехстворчатое окно было избыточной, барской высоты: с подоконника он доставал рукой едва выше половины рамы, а щели оказались бездонными, они проглотили три пачки ваты, целую кучу тряпья, порванного на полоски, и конца этой работе не было видно.
Гуля в упоении уже третий час рассказывала о своей нежной дружбе с неким Максом, но Сан Санычу и невдомек было, что речь шла о Волошине. Увидев, что Сан Саныч закончил с внутренними рамами, Гуля, подмигнув, вытащила графинчик коньяку и никудышную закуску.
– Вчера гости все подъели, а сегодня я из дому не вылезала, – объяснила скудость стола Гуля. – Сейчас мы с тобой немножечко хряпнем, друг сердечный! – ворковала Гуля, смолоду любившая веселое винное ускорение крови, и вытаскивала большие, зеленого стекла бокалы. – Глупость, конечно, коньяк из таких бокалов, да еще и зеленых, но эта мелкота, они все грязные, – и махнула рукой в сторону помоечного, как его называла, столика возле двери, где стояла вчерашняя немытая посуда. – Знаешь, я подумала: к черту рабство! Если я не хочу ее мыть, то могу, в конце концов, и не мыть, не правда ли, друг мой?
– Гуленька, конечно, правда, – улыбаясь, умиляясь ей, ответил Сан Саныч, склонив голову набок. Он смотрел на нее восхищенно, и она чувствовала это и приходила в кураж. – Ты просто молодец. В нашем поколении таких людей, как ты, уже нет.
– Что ты имеешь в виду? – переспросила Гуля, любившая всякого рода комплименты и ожидавшая услышать приятное. – Налей-ка, голубчик. Вот так. И хватит.
– За твое здоровье! Гуля, ты поразительная женщина! Ты – прекраснейшая из женщин! Я тебе ничего нового не скажу, но ты – эвиг вайблих! Елена, Маргарита и Беатриче в одном лице! – восторженно, искренне и вдохновенно понес Сан Саныч, подымая мутный зеленый бокал.
Гуля захохотала, положив на лоб худую, съехавшую внутрь, как это бывает у пианистов, кисть.
– Я так давно не слышала этих благородных имен, что в первый миг изумилась, с чего это ты мою милую Беатриче, Беатрису Абрамовну, в такую возвышенную компанию записал! Ох, я забыла ей позвонить! – сквозь смех вспомнила она.
– Да ну тебя, Гуля! Не даешь собой восхищаться!
– Я? Да сколько угодно! Что может быть приятнее даме, чем восхищение… Разве что… – И она снова залилась смехом.
– Ах, Гуля, Гуля, ну как тебя не любить! Это же просто невозможно! – простуженно трубил Сан Саныч.
Она сидела в широком кресле, ручка которого была подвязана старым поясом от халата. Голубые, свежевыкрашенные волосы дымились вокруг ее маленького черепа; как всегда, круто была подрисована бровь, а под ней – драгоценный, смеющийся, умный глаз. Сан Саныч налил по второй.
– Да, Гуля, дорогая, я хочу выпить за чудо женственности, за чудо твоей женственности! – торжественно провозгласил Сан Саныч и, склонившись, поцеловал ей руку.
Что-то хрустнуло в памяти. Близко-любимо-знакомое, что проступало в чертах капитана Утенкова, – это же Шурик был, Шурик!
А Сан Саныч, дурак, все витийствовал. Размякнув от коньяка, лепетал о шелковых коленях, которые он так любил в детстве, о нежных перчатках, прикосновение которых так волновало, и даже о подзорной трубе, которую она когда-то ему подарила…
Пальцами, обряженными в большие некрасивые кольца, Гуля расстегнула три верхние пуговицы своей лиловой блузки, глубоко вздохнула и тихо, раздельно произнесла:
– Шурик, мне плохо…
– Боже мой! Гуленька, что с тобой?! Может, врача вызвать?! – осекся Сан Саныч, искренне встревоженный ее нездоровьем.
– Нет, нет, что ты, ни в коем случае! Это бывает. Сосудистое. Перемена погоды. Помоги мне перейти на кровать. Вот так. Спасибо, мальчик! – И, следуя хитрому вдохновению, Гуля повлекла ничего не подозревающего, невинного, восторженного, совершенно уже обреченного Сан Саныча к причаленной своей ладье.
– Подушку повыше, пожалуйста, и корсет расстегни, милый! – томным голосом приказала Гуля.
Сан Саныч повиновался.
Две тонкокожие осенние дыни медленно выкатились на руки Сан Саныча.
– Может, тебе какое-нибудь лекарство? Я сейчас… – пролепетал Сан Саныч в некотором смятении.
– Ах, какое уж тут лекарство, – великолепно и снисходительно произнесла Гуля – и Сан Саныч наконец понял, что он приперт…
Ладья поплыла, и в этот же миг Сан Саныч почувствовал, что все его дурацкие комплиментарные, извилистые и дохлые слова, которые он лепетал полчаса назад, – святая, истинная правда.
Джульетка протопала своими костяными коготками от бархатной подушки к креслу, вспрыгнула на него и уселась, не сводя черных глазок с тонких белых ног хозяйки.
Без четверти шесть щелкнул замок Гулиной комнаты – она провожала Сан Саныча к дверям. Они были одного роста – длинноногая Гуля и приземистый Сан Саныч в толстом зимнем пальто. Она задела вешалку, уронила половую щетку, стоявшую у соседской двери, и, поцеловав его в лоб, сказала неожиданно громко и низко:
– Спасибо тебе, Шурик!
– За что? – тихо спросил Шурик.
– За все! – подвела трагическую черту сияющая Гуля.
…Три дня не убирала Гуля с овального стола двух зеленых бокалов. Заходили приятельницы. Она сажала их в кресло и, указывая на бокалы, томно говорила:
– Должна тебе сказать, что в нашем возрасте любовные игры – слишком утомительное занятие. – Она делала паузу и продолжала небрежно: – Любовник был. Молодой. Так устала, что нет сил вымыть пару рюмок.
И она приподнимала средним пальцем веко, которое в последние годы немного западало, и внимательно следила за выражением лица приятельницы – чтобы не упустить и этой последней крупицы нежданно случившегося праздника.
Народ избранный
Седьмого октября, в канун Сергия Радонежского, Зинаида приволокла к церкви свое жидкое, стекающее книзу волнами, скорбное тело и остановилась на ничейной земле, где ларьки уже кончились, а церковная балюстрадка, возле которой паслись нищие, еще не началась.
Месяц уже прошел с тех пор, как она похоронила мать; похоронные деньги, скопленные матерью, издержались, еще восемнадцать рублей пришлось доложить к поминкам из инвалидской пенсии. С деньгами Зинаида управляться не умела, мама все покупала, пока была здорова, а как заболела, так пошло все непонятно, и с едой стало плохо. До маминой смерти Марья Игнатьевна со второго этажа приносила то суп, то еще чего, а как мама умерла, Марья Игнатьевна перестала ходить к Зинаиде, потому что обиделась: хотела взять мамину кофту китайскую, а Зина не дала, пожалела. Не потому пожалела, чтобы себе оставить – Зина мамины вещи носить не могла, мама была сухая, как таракан, и росту маленького, а Зинаида была такой ширины, что в трамвай не влезала. Не дала кофту Зинаида потому, что это память была о матери, – китайского зеленого цвета, с обтяжными пуговицами и шерстью вышитыми цветами на плечиках.
Была еще вторая, синяя, но ее тоже теперь не было, потому что мама велела ее хоронить в синей. Она была мерзлява, боялась холоду могильного и велела хоронить ее в синей кофте и в носках шерстяных. Так Зинаида и сделала, как мать велела, и Марье Игнатьевне ничего не досталось, она и досадовала.
И еще мать велела, чтобы Зинаида надеялась на Божью Матерь и, как деньги кончатся, чтобы шла к храму и стояла бы: «Добрые люди помогут твоему убожеству за ради Божьей Матери».
Вот теперь Зинаида пришла и стала. Стоять ей было еще хуже, чем ходить, она считала, что главная ее болезнь в ногах, хотя районная врачиха говорила, что в железах-надпочечниках.
Две нищие у балюстрадки, возле самой церкви, сидели на складных стульчиках, но стульчики такие Зинаиде не годились, они бы ее не удержали.
Обута была Зинаида мягко, в разрезанные впереди войлочные тапочки, к которым у нее дома были и галоши на мокрое время. Носки ей вязала мама просторные из деревенской шерсти, и тренировочные штаны носила Зина, потому что никакие чулки на ее складчатые ноги не налезали. Поверх надет был новый огненно-ржавый халат фланелевый и хорошая кофта – по своей неразумности надела она на себя все самое лучшее, как в поликлинику, потому что шла на люди.
Так стояла она, мимо шли бабушки и некоторые женщины помоложе с сумками, и совсем молодых несколько, но никто ничего Зинаиде не давал. Видно, она стояла либо не там, либо не так. Полчаса прошло, и ноги стали гореть огнем, и сильно захотелось есть – и она вспомнила, что в буфете стоит пачка вермишели. И пошла она потихоньку домой в недоумении, что мама-то ее обманула – или сама ошиблась: никто ей на убожество ничего не подал ради Божьей Матери.
Наутро сообразила Зинаида, что никому из проходящих не говорила она, что ради Божьей Матери. Спохватилась, но идти было поздно, потому что обедня отошла.
Зато на другой день Зинаида встала пораньше и собралась в храм. День опять был не простой, с хорошим праздником, Иоанна Богослова, и погода была солнечная – теплая для этого времени необыкновенно. Опять надела Зинаида свой огненный халат, хорошую кофту, опять не дотумкала одеться победнее. Повязала платок розовый холодный и заколыхала через проспект.
Народу возле храма было побольше, чем в прошлый раз, а нищих целая череда выстроилась. Зинаида подошла к ним поближе, но не совсем близко – стеснялась. Теперь она уже помнила, что надо просить не просто, а ради Божьей Матери. Но все, кто проходил, не смотрели в ее сторону, а она не знала, как их окликнуть.
Наконец старушка совсем плохая шла мимо, в очках, с клюкой, остановилась возле Зинаиды и дала ей мутную копеечку.
– Ради Божьей Матери, – невпопад сказала Зинаида, а старушка ловко ей ответила:
– Господь с тобой!
Зинаида обрадовалась, стала рассматривать свою копеечку, она была совсем обыкновенная, но все же дареная.
«Мама-то не зря сказала», – подумала Зинаида. И тут подошла к ней черная длинноносая женщина на каблуках, в темных страшных очках и, положив в руку ей двугривенный, попросила:
– Помолись об упокоении Екатерины.
– Спасибо вам большое, помолюсь, – сказала Зинаида и перекрестилась. Она не знала, как правильно отвечать, но, похоже, женщине в очках было не важно.
Народ все шел, шел мимо, не густой толпой, а так, по одному, по двое, и набрала Зинаида полную ладонь, правда, больше меди. Ноги стало сильно крутить, и очень хотелось есть. Она решилась идти домой, только прежде зайти в храм и поблагодарить Божью Матерь за пособие.
Взлезла Зинаида на паперть, лестницы были тяжелые, ей показалось, что кто-то ее окликнул: «Эй, ты», но знакомых у нее здесь не было, и она вошла внутрь, крестясь трижды возле всех дверей. Купила свечку за тридцать копеек – еще много денег оставалось, не меньше рубля, – поставила возле Казанской – мама всегда здесь ставила – и поковыляла к выходу.
Возле ящика старуха-тарелочница пхнула ее остренько в бок и прошипела:
– Стой на месте, как люди, куда тебя несет, Херувимскую поют!
Но Зинаида не поняла, за что старуха ее ругает, и, сгорбившись, пошлепала к двери.
Она вышла из храма, бок все еще отзывался на старухин пинок, и вдруг – напасть какая-то! – еще одна старуха в клетчатом платке с жирной родинкой под глазом, из тех, что стояли на самом давальном месте, перед ступенями, набросилась на нее, вывернула ладонь так, что посыпались на землю набранные монеты:
– А ты сюда боле не ходи, ноги тебе переломаем! – и стала толкать ее в спину корявой сумкой.
Хромой старик поднялся с земли, зашел с другого бока и, черным словом обругав ее, замахнулся:
– Давай, давай отсюдова!
Зинаида зажмурилась и остановилась. Ноги у нее как будто отнялись, и она почувствовала, как горячо стало ляжкам и икрам.
– Иди, иди, нечего тебе здесь делать, своих хватает! – гнала ее совсем уж крохотная старушонка в плешивой меховой шапке.
Зинаида рада была бы убежать, да ноги не держали – подогнулись, и она осела на самой дороге, как огромная растрепанная курица, укрывая голову белыми и пухлыми руками.
И вдруг над головой ее раздался свирепый хриплый голос:
– У, шакалья стая, рванина несытая! Мразь ты, Котова! Двадцать лет стоишь, все мало набрала! На тот свет заберешь! А ты куда, старый хрен, лезешь, прислуга фашистская! Вставай, что ли!
Зинаида почувствовала, как железная рука легла ей на плечо и потянула вверх.
– Эй, женщине плохо, помогите поднять! – зыкнул голос, и чьи-то руки потянули Зинаиду вверх, потащили чуть не волоком к скамье и усадили. Тут только она открыла глаза. Перед ней стоял маленький широкоплечий – сначала показалось – мальчишка, нет, не мальчишка, мужиковатого вида женщина в брюках с косыми бровями и разбойным лицом. Желто-рыжая челка торчала из-под белого ханжеского платка. Растопыренные ноздри подрагивали. – Ничего, ничего, я им хвоста накручу, банда попрошайская! Ты ходи и стой где хочешь, места некупленные! Ишь, мафию развели, как в Сицилии! Убогому человеку уже и притулиться негде! Хуже милиции! – орала эта странная женщина. – А ты не слушай их! Если тебе кто хоть слово скажет, ты им сразу говори: а мне Катя Рыжая велела!
Катя Рыжая стояла, опираясь на два здоровенных костыля, потом, низко склонившись к Зинаиде и угасив гнев, спросила:
– А ты сама-то откуда?
Зинаида хотела ответить, но язык не ворочался.
– Где живешь-то? – переспросила Катя. – Глухая?
Тут Зинаида покачала головой.
– Здесь живу, через проспект.
– Какая группа? – деловито осведомилась Катя.
– Вторая, – радостно ответила Зинаида.
– Ага, – удовлетворенно кивнула Катя.
– Мама у меня померла. Месяц, как похоронила, – поддержала разговор Зинаида.
– А моя все никак не помрет, – с сожалением заметила Катя. – Вот трешничек, возьми. Ты пьющая?
– Не-ет, – удивилась Зинаида.
– Бери! Раз непьющая, тебе и до Покрова хватит. Завтра не приходи. Приходи четырнадцатого или тринадцатого, ко Всенощной можешь прийти. Я здесь буду. Если чего, ты так им и скажи – Катя Рыжая велела! Зовут-то как?
– Зинаида, – застенчиво ответила Зинаида.
– Они, Зинаида, темные, сил нет. Есть злые как собаки. Да что собаки, хуже собак! Чуть цыкнешь, хвосты прижимают. Все больше попрошайки, настоящих нищих здесь почти что и нет. А ты ходи, ходи, не бойся!
Катя помогла Зинаиде выбрать свое тело из глубокой садовой скамьи, в которую, как в западню, затекла Зинаида. И пошла она восвояси, ощущая мокрель в тапках и холод по всему низу.
Остывшая и как бы даже похудевшая своим рыхлым телом Зинаида втиснулась в квартиру и, не проходя вглубь, села в прихожей на табурет, стянула с головы платок свила его жгутом, куколкой, стала жалеть: «Бедная, бедная», – и заплакала…
Зинаида была слаба, она, и с мамой живя, часто обижалась на маму за то, что она ей есть не давала. Аппетит у Зины был непрерывный, и он был ее болезнь, а мама ей препятствовала. Тогда Зинаида, скручивая из платка куколку, садилась на табурет возле двери и говорила маме:
– Уйду от тебя, уйду…
– Куда ты уйдешь, квашня? Куда пойдешь, прорва? – равнодушно ворчала мама.
И Зине казалось немного, как будто эта куколка из платка и есть она, Зина, только маленькая, и она шептала:
– А мы уедем. Весна придет, мы в Анапу уедем.
Возили Зину в санаторий в Анапу, когда ей было лет десять и болезнь только начиналась.
…Отдохнув от страха и обиды, Зинаида сняла свои подмокшие тренировочные и пошла в ванну стирать. Она купала в мыльной воде свои огромные полупрозрачные руки, вздыхала – ничего она не умела. Раньше мама все делала, а теперь вот приходилось самой.
Мысли были большие, одутловатые, неповоротливые – она думала про свое будущее нищенство, про всякую еду, которую будет сейчас есть, и про Катю Рыжую, которая ее защитила от злых людей…
Зинаида пришла к Покрову. Больше ее не гнали. Она собрала много денег, почти четыре рубля. Все время, прислонясь спиной к балюстрадке, она искала глазами Катю Рыжую, но так и не нашла.
Когда деньги кончились, пришла опять и опять набрала денег, но Катю не встретила. Старухи ее не гоняли, а одна даже приветила, сама подвинулась и другой сказала:
– Дай Слонихе встать, подай влево.
Так вернулось к Зинаиде ее давнее прозвище – Слониха. Она и впрямь была Слониха, еще в школе ее так дразнили, но по малолетству это было обидно, а теперь как имя родное…
Только на третий раз Зинаида встретила Катю. Та шла по асфальтированной дорожке, косо ведущей к храму, валкой походкой, с припаданием на одну ногу, в то время как вторая, в ортопедическом ботинке, довольно высоко задиралась вбок. Катя увидела Зинаиду, кивнула и вошла в храм.
«Наверное, в притворе стоит», – подумала Зинаида. Ей тоже хотелось под крышу, но она боялась, что снова ее прогонит та старуха с родинкой. Так, в раздумьях, простояла она почти час. Сначала в ногах бегали мурашки, а потом они как бы онемели. Подавали ей мало, меньше всех. Это она еще раньше заметила и про себя решила, что и правильно, худого всегда жальче, чем толстого.
Поколебавшись еще немного, Зинаида решила поискать Катю в храме. Увидела она ее в левом приделе, в очереди возле исповедующего священника. Вид у Кати был строгий, челка ее не торчала из-под платка, повязанного низко, с двумя глубокими складками на висках. Она шагнула к седобородому желтому священнику, он что-то долго ей говорил, она качала головой, потом и сама стала что-то говорить, к большому удивлению Зинаиды. Старик все качал головой, а потом положил ей на голову тускло-золотую епитрахиль. Она поцеловала его желтую руку и поковыляла к царским вратам.
Зинаида подстерегла ее, потянула за рукав, но Катя посмотрела на нее пустым янтарным глазом и сказала: «После, после…» Тут храм весь загрохотал огромным пением, запели «Верую…», и Катя отвернулась от нее и неожиданно тонко стала выводить: «…во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым…» – с такими замираниями, падениями и подъемами, что казалось, Катя одна ведет всю эту толпу по горной перепадистой дороге.
Потом все пение кончилось, снова говорил священник, немного пел хор, потом опять всем храмом пропели «Отче наш», это Зинаида знала, потому что мама ее этому научила. Но было очень душно, тесно, люди все были не отдельные, а как одно громадное, слившееся из отдельных дрожащих капель существо, и Зинаида чувствовала, что все делается густым туманом, но не сырым, а душистым, медовым. Свечной огонь как будто расплавился в воздухе, все стало сладким, снотворным, вся жизнь снаружи, на улице, пропала, как радужные разводы в луже, а здешнее, золотое, все сгущалось и стало наконец точно таким же по плотности, как ее тело, и она оторвалась вверх и поплыла между золотых столбов, арок и зыбких нимбов, а густой воздух, которого она касалась рукой, был к ней благосклонен и ласков…
Она и сама не заметила, что давно уже сидит на широкой и удобной скамье, рядом с другими, а кто ее подвел и посадил, она не помнила. Здесь, на лавочке, ее и нашла Катя.
– Ну что, не гоняют больше? – спросила склонившаяся Катя.
– Нет, не гоняют, – просияла в ответ Зинаида.
– Ну и ладно. – Катя было двинулась прочь, потом задержалась и спросила: – Ты собрала чего? Так пошли, что ли?
И они вместе вышли, колышущаяся на ходу Зинаида и маленькая, как кривое высохшее дерево, Катя.
– Пошли, что ли, к тебе, – предложила Катя, и Зинаида обрадовалась: гости к ней не ходили, кроме тети Паши, маминой сестры.
По дороге к дому Зинаида купила хлеба и мороженого – много. Теперь, после смерти мамы, она ела вволю и пристрастилась к мороженому. Мать ей мороженого не давала, говорила: больно сладко для тебя! А Зинаида себе сахару не жалела.
В доме Катя вострым глазом все оглядела, несколько даже принюхиваясь, заметила немытый пол и сказала:
– Мне тоже согнуться по-нормальному невозможно, я полы ползком мою. Лягу на живот и ползу себе назад. Может, помыть тебе?
Зинаида застеснялась такому предложению, да и на что? И так хорошо. Заглянула Катя и во вторую комнату, запроходную. Туда Зина после маминой смерти и не заходила, нечего ей там было делать. Пока Катя осматривалась, Зина приготовила поесть: накрошила в белую миску вареной картошки и плавленого сыру, налила туда кефиру. Она сама себе такую еду придумала, ей нравилось, и первое, и второе сразу, и варить не надо. Так крошила она все подряд, и хорошо было. Едой Зинаида очень утешалась. Только во время жевания ей и было хорошо. Как только она еду проглатывала, как будто большой зверь в животе начинал шевелиться и требовать: еще, еще!
Сели было есть, но Катя вскочила, опираясь на один костыль, – тут Зинаида увидела, что совсем без подпорки Катя вообще ходить не могла, сразу валилась, – проковыляла в коридор и принесла ковровую изношенную сумочку на замке, щелкнула звонко замком и вытащила четвертинку, поставила на стол:
– Ради праздника не возбраняется, – наставительно сказала, но Зинаида и не думала возбранять. Она поискала стопочки, не нашла, вынула чашки. Катя наморщила короткий нос: – Тогда уж стаканы давай.
Зина поставила два стакана и разлила в обеденные тарелки окрошку. Катя сковырнула толстым ногтем крышечку с четвертинки, разлила по стаканам. Зина охнула – она водки не пила.
– Много, что ли? – удивилась Катя. – А не хочешь – не пей, – разрешила она снисходительно, ткнула своим стаканом Зинаидин и, сказавши «С Богом, Зина», перекрестилась и выплеснула водку в открытый редкозубый рот.
Зина понюхала свой стакан, отпила маленький глоток – было невкусно и драло горло.
Катя быстро поела тарелку крошева, поела и мороженого – в меру, без большого удовольствия. Дождалась, когда Зинаида оближет обертку, собрала со стола и сложила в раковину тарелки и многозначительно сказала:
– Вот.
Зинаида подняла свое слегка запачканное мороженым лицо и, приоткрыв рот, приготовилась слушать.
– Поди-ка умойся! – приказала Катя, но Зина умываться не пошла, вытерла рот тряпочкой – и так сойдет. И Катя начала: – Вот, Зина, что я хочу тебе сказать. – Голос звучал торжественно и многообещающе. – Мать твоя померла, сама ты неумная. К тому же и больная. – Зинаида закивала головой, все было правда. – И правильно ты сделала, что к храму пришла. Однако зачем ты пришла? – Вопрос Кати не требовал ответа. – Просить пришла. И правильно сделала. Там тьма народу просит. Все больше попрошайки. Это дело нехитрое. Для тебя, Зина, я хочу, чтоб стала ты не попрошайкой, а настоящей нищей.
«Нет, мне такой, как Катя, никогда не быть, – восхищалась про себя Зинаида новой подругой. – Вот у нее какой голос, то зычный, когда она на старух напустилась, то вдруг детский, переливчатый, когда она запела божественное…»
А Катя дальше вела свою речь:
– На меня не смотри, мое дело особое, я ни туда ни сюда, сбоку припека, я и в техникуме училась технологическом, и сколько по больницам промытарилась, и еще в каких местах была, это тебе не приснится. На меня не смотри. Скажи мне перво-наперво: чего тебе не хватает, Зина?
Зина наморщила брови, насупилась, подумала, сказала:
– Сегодня у меня всего есть, Катя.
Катя довольно засмеялась:
– Правильно, правильно я про тебя догадалась! Редкий человек говорит: все у меня есть. Обыкновенно всем всего мало. Всего хотят, бесятся, страдают, ненавидят аж до смерти, и все от зависти, что у другого есть, а у меня нет. Понимаешь?
– А как же! – важно согласилась Зинаида, польщенная значительностью разговора. Она вся заволновалась, даже немного покраснела. – Я не завидую, мне ихнее и не подходит ничего… я вон какая толстая!
– Проста ты, Зинаида, проста, – как-то разочарованно заметила Катя. – Ну ладно, а в Бога ты веруешь?
Зинаида застеснялась, заерзала на табуретке.
– Ну? – строго спросила Катя. Зинаида стала крутить из тряпки куколку.
– Эх ты, Божий человек, а в Бога не веруешь, – совсем уж разочарованно протянула Катя.





