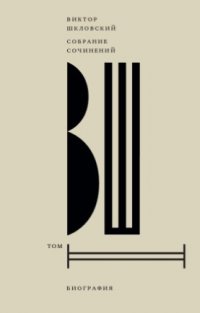
Читать онлайн Собрание сочинений. Том 2. Биография бесплатно
- Все книги автора: Виктор Шкловский
ПРЕДИСЛОВИЕ
Илья Калинин
«Человек один идет по льду…»
Повороты истории и мемуарные траектории Виктора Шкловского
Мы должны привыкать к будущему, любя прошлое, и, улыбаясь ему, с ним прощаться.
Виктор Шкловский 1
В предисловии к первому советскому переизданию полной версии «Сентиментального путешествия» Бенедикт Сарнов вспомнил об одном споре со Шкловским. Дело было в начале 1960‐х годов. В ответ на запальчивый пафос молодого критика, призывающего к пусть и безнадежной, но необходимой борьбе с цензурной несвободой, Шкловский заметил: «Когда мы уступаем дорогу автобусу, мы делаем это не из вежливости». «Не знаю, какая муха меня тогда укусила, – продолжает Сарнов, – но я вдруг разразился монологом, проклинающим подлое время, в котором людям моего поколения довелось родиться, жить и работать. „Поймите! – кричал я. – Вы начали в совсем другую эпоху! Вы могли состояться! А нам не дают даже вылупиться из яйца!“ Спокойно выслушав меня все с той же своей мудрой, иронической, „буддийской“ улыбкой, он сказал: – Ваши жалобы напоминают рассуждения девицы, которая боится выходить замуж: „Вам, небось, хорошо, маменька! Вас-то выдали за папеньку! А мне за чужого мужика идти!“»2
Репутация Виктора Шкловского в истории советской культуры прочно застряла в колее неоднозначного отношения. С одной стороны, он предстает как яркий теоретик литературы, острый критик, писатель, способный делать литературу из заданного им же самим стилистического или жанрового задания, как универсальный автор, умеющий работать со словом практически в любом режиме – от афоризма до объемной творческой биографии. С другой, его творчество устойчиво делят на две неравные части, не равные и по длительности, и по степени концентрации мысли, и по этической состоятельности самой творческой личности. Первая часть вызывает энтузиазм и восхищение, но укладывается в полтора десятилетия, пришедшиеся на начало его литературной карьеры, и завершается «Памятником научной ошибке» (1930), оцениваемым как вынужденная сдача позиций (для некоторых эта история взлета и падения заканчивается еще раньше – в 1925‐м, когда выходит сборник «О теории прозы», концептуально суммирующий десятилетие теоретических поисков и прорывов). Вторая часть растягивается на оставшиеся 60 лет, но воспринимается как сменяющие друг друга периоды компромиссов с совестью3 и попыток самооправдания, время которых наступило с приходом оттепели.
Этический приговор и опирающиеся на него оценки интеллектуальной доброкачественности и художественных достоинств работают только пока эпоха не завершена, мотивируя позиции сторон и позволяя сделать собственный выбор, со всеми вытекающими из этого последствиями4. Воспроизводство подобной формы рефлексии означает лишь то, что, несмотря на возникшую хронологическую дистанцию, время, о котором идет речь, еще не закончилось. Более того, продолжение разговора в привычных терминах морального суда не позволяет подвести черту, завершив то, что, по мнению судей, не должно повториться (что ставит самих судей в парадоксальную и порой трагикомичную ситуацию фундаментальной зависимости от того, что они всеми силами стремятся преодолеть). Дело не в том, что за давностью лет этические приговоры требуют отмены или пересмотра, а в том, что они не прибавляют ничего нового к пониманию предмета.
Очевидная неоднозначность, фактурная неоднородность, бросающаяся в глаза извилистость биографической траектории Виктора Шкловского, неизбежные уже хотя бы в силу длительности его пребывания на сцене5, с ходу провоцируют оценочные суждения в его адрес. Однако напрашивающаяся легкость, с которой их можно произвести, должна лишь подтолкнуть к желанию перейти к критике иного порядка, – критике, заинтересованной в обнажении социально-исторических условий культурного производства, а не в квалификации или дисквалификации его продукции с точки зрения нормативной теории (политической, социальной, эстетической и т. д.). Пройдя все повороты советской истории, временами оказываясь на ее обочине, но никогда – в кювете, получив те же очки за отдельные этапы этой истории, что и она сама (восторженное признание авангардных достижений, возмущенное осуждение сталинских перегибов, снисходительное прощение за оттепельные стремления вернуться к авангардным истокам, равнодушное пренебрежение к водянистости и рыхлости застоя), Шкловский оказывается не только метонимией, но и метафорой истории советской культуры. И в этом качестве его фигура может стать своеобразной точкой приоритетного доступа к советскому прошлому, биографическим топосом, демонстрирующим концептуальную неадекватность и смысловую бедность нормативного отношения к истории, теоретическим вызовом, требующим проработки новых подходов к ее интерпретации (в чем-то опирающихся на его собственный метод, описывающий историческое движение через принципы сдвига и обновления; через последовательный ритм механизации социальной структуры, обнаружения ее конструктивной доминанты и ее деконструкции; как напряжение между центром и периферией, конденсирующей в себе эволюционный потенциал системы; как борьбу ближайших по времени поколений, ищущих поддержки в более далеком прошлом).
Неповторимость Шкловского состоит в том, что он представляет собой одновременно уникальный и парадигматический пример советского интеллектуала6. Этот интеллектуальный тип сформировался в связи с невероятно жесткой необходимостью выстраивать различные биографические стратегии взаимодействия с историческим контекстом, постоянно корректируя их в связи с его изменением. Способы синхронизации биографического движения с генеральной линией истории, которые без труда можно редуцировать к различным вариантам конформизма, в действительности представляют собой довольно пестрое множество форм адаптации и ассимиляции, приспособления и стилизации, подражания и мимикрии7, которые не просто позволяли творчески «состояться» (Сарнов), но и сами носили творческий характер. Что позволяет заново поставить вопрос о феномене кон-формизма как о поле взаимного оформления, как о механизме взаимодействия субъекта с социальной средой и историческим временем8. Данная оптика открывает пространство, в котором по ту сторону этической нормативности обнаруживается механика субъективации, место встречи индивида с авторитетными дискурсивными жанрами и социальными практиками (повторюсь, речь идет не о вынесении обвинительных или оправдательных приговоров, а о герменевтике понимания). В случае Шкловского эта герменевтика советского субъекта представляет тем больший интерес, что он не только творчески приспосабливался к уже существующим дискурсивным рамкам, но и активно их изобретал, не только исполнял уже написанную партитуру, но и экспериментировал со структурой самого нотного стана, причудливо связывая между собой запросы времени, личную судьбу, теоретическую позицию и стилистический строй.
В этой перспективе Шкловский оказывается текстуальной фигурой – текстурой, в буквальном смысле сотканной челночными движениями коммуникации с историей (как в одном из своих писем Б. М. Эйхенбаум охарактеризовал эту способность друга: «ты умеешь брать время под руку… отвечая давлением на давление»). Как кажется, секрет его творческого долголетия заключался в способности быть «везде», быть и «тут» и «там», находиться одновременно по обе стороны текста, создавать эффект всеприсутствия, не позволяющий обнаружить его в каком-то определенном месте. О своей трикстерской природе писал и сам Шкловский уже в самом начале 1920‐х годов: «Я… полуеврей и имитатор»9. Причем эта маркированная склонность к имитации не выступала у Шкловского знаком неподлинности создаваемого литературного и одновременно автобиографического образа или приемом создания циничной метапозиции, позволяющей релятивизировать любое утверждение. Имитация здесь не означает подделку. Имитация означает производство возможности сознательного и потому свободного взаимодействия с историей, когда персональная биография и собственное «я» оказываются эффектом этого взаимодействия. Интеллектуальный темперамент и политическая позиция не позволяли Шкловскому ни отойти в сторону от разворачивающихся социально-исторических процессов, ни с бессознательным энтузиазмом совпасть с происходящим. В то время как стратегия имитации позволяла входить в близкие отношения с временем, «скрещиваться с материалом» (как называл это Шкловский в «Третьей фабрике», 1926), но при этом не отождествляться с ним.
«Жизнь на виду была для Виктора Шкловского и способом бытия, и литературной позицией, и свойственным ему литературным приемом»10. «Жизнь на виду» возникала на месте пересечения между обнажением личного и олитературиванием биографии, интимизацией стилистического приема и теоретической концептуализацией собственного опыта. В результате – биографическая фактура становилась неотличима от социально сконструированной «литературности», открытие которой, как мы помним, было одним из главных достижений раннего формализма.
Уже в 1928 году в книге «Гамбургский счет» Шкловский вполне откровенно признается, «тот Виктор Шкловский, о котором я пишу, вероятно, не совсем я, и если бы мы встретились и начали разговаривать, то между нами даже возможны недоразумения»11. Это несовпадение – вполне естественная ситуация, проблема в том, что Шкловский пишет о разных «я», более того, утверждает отсутствие устойчивого биографического «я», с которым он мог бы полностью себя отождествить, удерживая его идентичность во времени. Реакцией на социальную турбулентность истории стала литературная теория, отрицающая наличие у искусства какой бы то ни было неизменной природы, связанной с «вечными эстетическими ценностями», «вечными законами искусства», «божественным вдохновением», «творческим гением» и т. д.12 Но одновременно с этими теоретическими установками интуитивно разрабатывалась и новая концепция субъекта, погруженного в историю, не просто испытывающего ее деформирующее воздействие, но и осознающего эту деформацию именно как механизм субъективации. Местом производства этой «интуитивной теории» субъекта (субъекта истории) была автобиографическая и мемуарная проза Шкловского и историческая проза Тынянова.
В их случае перед нами уже не представление о субъекте как о чем-то целостном и законченном, хотя и подвергающемся внешнему и негативному воздействию истории. Перед нами модель субъективации, согласно которой сама структура субъекта создается, то есть оформляется и деформируется «конструктивным фактором» (Тынянов) истории, в которую погружен индивид. Шкловский (как и Тынянов) не создает дискурсивно развернутой и эксплицитно специализированной теории субъекта, однако рефлексия о нем пронизывает как литературную теорию формализма, так и художественную прозу формалистов. И что самое главное – она возникает как эффект переплетения разрабатываемой литературной теории и активной биографической вовлеченности в литературный процесс, строительство новой культуры, – движение истории как таковой.
«Человек один идет по льду, вокруг него туман. Ему кажется, что он идет прямо. Ветер разгонит туман: человек видит цель, видит свои следы. Оказывается – льдина плыла и поворачивалась: след спутан в узел – человек заблудился»13. В этом образе человека, прокладывающего свой путь по движущейся льдине, Шкловский дает свое понимание тех трудностей, которые представляет собой навигация в пространстве истории. Характерные для автобиографической и мемуарной рефлексии Шкловского мотивы ошибки, заблуждения, вины, неудачи являются почти неизбежным выводом из этой пространственной метафоры исторического движения. За этими концептуальными лейтмотивами стоит осознание того, что индивидуальное движение не совпадает с движением времени, что это две накладывающиеся друг на друга траектории и пересечение между ними невозможно предсказать, потому что они обладают своей собственной логикой. Собственно, именно эта оптика и приводит к постоянному возвращению к разговору об ошибке, заблуждении, вине, неудаче, случайности как о единственно адекватных топосах человеческой судьбы, как о единственно возможном месте встречи истории и биографии. Чувствительность к тому факту, что биографическая траектория пролегает в пространстве, которое само пребывает в движении, позволяет Шкловскому избежать многих иллюзий и претензий мемуарного жанра. Шкловский постоянно тематизирует дистанцию между временем высказывания и временем акта высказывания; обнажает расколотую структуру автобиографического субъекта; отказывается от континуальности нарратива как от приема, производящего лишь ложный эффект стабильной исторической реальности; пытается найти какой-то третий, невозможный, путь по ту сторону разрыва между прошлым как определенным темпоральным пластом и историей как пространством напряжения между различными темпоральными пластами.
При этом собственно литература выступала для Шкловского не только предметом научного интереса, но и своеобразным медиатором, позволяющим рефлексивно встраивать собственную биографию в общую историю, скрещивать свой прием с ее материалом, скрещивать свой материал с ее конструктивной доминантой. Именно поэтому Шкловский не мог ограничиваться занятиями литературной теорией, историей литературы или литературной критикой. Литература была частью его повседневной жизнедеятельности, что вновь очень точно отметил Б. М. Эйхенбаум: «Литература присуща ему так, как дыхание, как походка. В состав его аппетита входит литература»14. Если первый доклад «Место футуризма в истории языка» (лег в основу эссе «Воскрешение слова») Шкловский прочитал, когда ему было 20 лет, то первая автобиографическая книга «Революция и фронт» выходит, когда ему 24 года, – с этого момента производство автобиографических и мемуарных нарративов становится дискурсивной основой его биографических стратегий.
С другой стороны, литературное письмо само превращало биографию Шкловского в эффект его автобиографических нарративов. Наследуя в каком-то смысле символистской концепции жизнестроительства, Шкловский сделал ее осознанным приемом, позволяющим ему быть частью постоянно меняющегося исторического контекста. Правда, в случае с символизмом в текст превращалась жизнь поэта, приобретающая благодаря этой дискурсивной метаморфозе недостающий смысл и яркость (жизнь обретала текстуальное измерение, зачастую исчезая в нем). В случае же Шкловского мы имеем обратную ситуацию, когда художественный текст предъявляет читателю предельно интимизированную личность повествователя (текст обретал экзистенциальное измерение, зачастую меняя судьбу автора, как это было с «Заявлением во ВЦИК», завершающим автобиографический роман в письмах «Zoo»). Но парадоксальным образом именно эта текстуально разыгрываемая спектакулярность присутствия авторской фигуры позволяла реальному автору ускользать от наиболее опасных ситуаций контакта с временем или выходить из них невредимым. Еще одним отличием от жизнестроительной поэтики бытового поведения, характерной для Серебряного века, было то, что последняя была формой реакции на семантическую инфляцию художественных практик, компенсирующей социальную скуку, характерную для поздней империи, благодаря артистическому мифу. В то время как стратегия Шкловского возникла в ответ на вызванную революцией социокультурную интенсивность и драматическое напряжение между биографией и историей, непрерывно остраняющей привычное восприятие реальности. Переходя на язык самого Шкловского, в первом случае речь шла о жизнестроительном мифе, возникающем как реакция на автоматизацию повседневного восприятия, тогда как во втором – о жизнестроении, пытающемся синхронизировать себя с остраняющей поступью истории.
Шкловскому удалось – по крайней мере, на длительное время – сделать из запрета, преграды, несвободы, компромисса творческий стимул, превратив литературу в алиби, при том что время обычно использовало ее в качестве улики. Ему удалось стать писателем, превратившись в литературный персонаж, который ускользает, все время оставаясь на виду: «Он существует не только как автор, а скорее как литературный персонаж, как герой какого-то ненаписанного романа – и романа проблемного»15. Эйхенбаум говорит не о фигуре автора-повествователя, возникающего в автобиографических тестах Шкловского, а о поэтике его бытового поведения, о биографической стратегии взаимодействия со временем. Можно вспомнить также красноречивый эпизод, когда Шкловский, скрывавшийся от Чека, прятался на московской квартире Р. О. Якобсона. На вопрос о том, что ему делать, если в квартире будет обыск, он получил ответ: «А ты шурши и притворяйся, что ты бумага». Судя по всему, Шкловский не забывал об этом совете всю свою долгую жизнь, накрепко смонтированную с литературой.
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Очередной том Собрания сочинений Виктора Борисовича Шкловского продолжает опираться на принципы, изложенные составителем в первом томе, – 1) целостность авторского замысла, отложившегося в композиции его книг, и 2) организация отдельных томов Собрания вокруг определенного концептуального сюжета, дающая возможность реконтекстуализировать литературное наследие Шкловского, не только прочитав тексты, которые так и не были опубликованы или лишь однажды были опубликованы в первой половине – середине прошлого столетия, но и по-новому перечитав тексты хорошо знакомые, не раз переизданные. В этом смысле принцип остранения совершает круг, возвращаясь к его автору, вокруг восприятия которого уже успела нарасти «стеклянная броня привычности», разрушать которую он призывал в своем манифесте «Воскрешение слова» (1914).
Второй том называется «Биография» и состоит из автобиографических и мемуарных текстов, написанных с 1919 по 1982 год. Его цель – попытаться представить многообразие и внутреннее единство биографических стратегий, благодаря которым стиль повествователя определял судьбу автора. Объединение в один том – классической и ранней автобиографической трилогии («Сентиментальное путешествие», «Zoo», «Третья фабрика»), очерковых воспоминаний об Отечественной войне, написанных и изданных еще до ее окончания (и вступающих в диалог с военными главами «Сентиментального путешествия», посвященными Первой мировой и Гражданской), поздних мемуарных книг, возвращающихся к началу жизни и литературной карьеры, а также книги и устных воспоминаний о Владимире Маяковском, ставшем для Шкловского не только другом, но и особого рода экраном, на который он проецировал представления о времени и о себе, – позволяет совершенно иначе увидеть фигуру человека, начавшего писать воспоминания в возрасте 25 лет. Работа с временной дистанцией, обнажение фактуры различных темпоральных пластов, монтируемых в намеренно лишенный фабульной линейности мемуарный нарратив, мультипликация рамочных конструкций, задающих динамические отношения между временем вспоминающего и временем воспоминания, – становится видна тем лучше, чем больше форм и вариантов коммеморации собрано вместе.
Первые три раздела совпадают с уже названными книгами автобиографической трилогии, печатающимися по первым изданиям (1923 и 1926 годов соответственно). Второй раздел содержит роман в письмах «Zoo», издание которого впервые включает в себя все написанные для новых редакций (1924, 1929, 1964, 1966, 1973) письма, предисловия и фрагменты с указанием тех мест, которые, наоборот, были опущены в советских переизданиях. В четвертом разделе публикуется книга «Встречи» (1944), посвященная воспоминаниям о войне. Пятый раздел состоит из мемуарной книги «Жили-были» и монологов Шкловского из одноименного фильма «Жили-были. Рассказывает Виктор Шкловский» (1977). Шестой раздел посвящен воспоминаниям о Владимире Маяковском. Заключительный раздел седьмой воспроизводит короткое эссе «Слова освобождают душу от тесноты. Рассказ об ОПОЯЗе», первоначально включенное в последнюю книгу В. Шкловского «О теории прозы» (1983) и завершающее мемуарное путешествие автора длиною в шестьдесят три года (1919–1982).
Этот том, так же как и предыдущий, не мог бы состояться без уже проделанной работы по комментированию текстов В. Б. Шкловского. Первые три раздела снабжены комментариями А. Галушкина и В. Нехотина16. Раздел шестой содержит подробнейшие комментарии В. Радзишевского17.
В заключении – наиболее приятная часть, благодарности. Прежде всего – семье Виктора Борисовича Шкловского. Варваре Викторовне Шкловской-Корди и Никите Ефимовичу Шкловскому-Корди – за их энтузиазм, позволивший почувствовать энергию их отца и деда не только через тексты. Ирине Дмитриевне Прохоровой – за никогда не отступающую необходимость отвечать за свои обязательства. Ирине Гачечиладзе – за неоценимую техническую и эмоциональную поддержку. Степану Попову – за расшифровку монологов Шкловского из фильма Ю. Белянкина «Жили-были. Рассказывает Виктор Шкловский» (1977). Сотрудникам издательства «Новое литературное обозрение» – за помощь в подготовке этого тома.
Илья Калинин
1
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РЕВОЛЮЦИЯ И ФРОНТ
Перед революцией я работал как инструктор запасного броневого дивизиона – состоял на привилегированном солдатском положении.
Никогда не забуду ощущение того страшного гнета, которое испытывал я и мой брат, служивший штабным писарем18.
Помню воровскую побежку по улице после 8 часов и трехмесячное безысходное сидение в казармах, а главное – трамвай.
Город был обращен в военный лагерь. «Семишники»19 – так звали солдат военных патрулей за то, что они – говорилось – получали по две копейки за каждого арестованного, – ловили нас, загоняли во дворы, набивали комендантство. Причиной этой войны было переполнение солдатами вагонов трамвая и отказ солдат платить за проезд.
Начальство считало этот вопрос – вопросом чести. Мы, солдатская масса, отвечали им глухим озлобленным саботажем.
Может быть, это ребячество, но я уверен, что сидение без отпуска в казармах, где забранные и оторванные от дела люди гноились без всякого дела на нарах, казарменная тоска, темное томление и злоба солдат на то, что за ними охотились по улицам, – все это больше революционизировало петербургский гарнизон, чем постоянные военные неудачи и упорные, всеобщие толки об «измене».
На трамвайные темы создавался специальный фольклор, жалкий и характерный. Например: сестра милосердия едет с ранеными, генерал привязывается к раненым, оскорбляет и сестру; тогда она скидывает плащ и оказывается в мундире великой княгини; так и говорили: «в мундире». Генерал становится на колени и просит прощения, но она его не прощает. Как видите – фольклор еще совершенно монархический.
Рассказ этот прикрепляется то к Варшаве, то к Петербургу.
Рассказывалось об убийстве казаком генерала, который хотел стащить казака с трамвая и срывал его кресты. Убийство из‐за трамвая, кажется, действительно случилось в Питере, но генерала я отношу уже к эпической обработке; в ту пору на трамваях генералы еще не ездили, исключая отставных бедняков.
Агитации в частях не было; по крайней мере, я могу это сказать про свою часть, где я проводил с солдатами все время с пяти-шести утра до вечера. Я говорю про партийную агитацию; но и при ее отсутствии все же революция была как-то решена, – знали, что она будет, думали, что разразится после войны.
Агитировать в частях было некому, партийных людей было мало, если были, так среди рабочих, которые почти не имели с солдатами связи; интеллигенция – в самом примитивном смысле этого слова, то есть все, имеющие какое-нибудь образование, хоть два класса гимназии, – была произведена в офицеры и вела себя, по крайней мере в петербургском гарнизоне, не лучше, а может быть – хуже кадрового офицерства; прапорщик был не популярен, особенно тыловой, зубами вцепившийся в запасный батальон. О нем солдаты пели:
- Прежде рылся в огороде,
- Теперь – ваше благородие.
Из этих людей многие виноваты лишь в том, что слишком легко поддались великолепно поставленной муштровке военных училищ. Многие из них впоследствии искренно были преданы делу революции, правда так же легко поддавшись ее влиянию, как прежде легко одержимордились.
История с Распутиным была широко распространена. Я не люблю этой истории; в том, как рассказывалась она, было видно духовное гниение народа. Послереволюционные листки, все эти «Гришки и его делишки»20 и успех этой литературы показали мне, что для очень широких масс Распутин явился своеобразным национальным героем, чем-то вроде Ваньки Ключника21.
Но вот в силу разнообразных причин, из которых одни прямо царапали нервы и создавали повод для вспышки, а другие действовали изнутри, медленно изменяя психику народа, ржавые, железные обручи, стягивающие массу России, – натянулись.
Продовольствие города все ухудшалось, по тогдашним меркам оно стало плохо. Ощущалась недостача хлеба, у хлебных лавок появились хвосты, на Обводном канале уже начали бить лавки, и те счастливцы, которые сумели получить хлеб, несли его домой, держа крепко в руках, глядя на него влюбленно.
Покупали хлеб у солдат, в казармах исчезли корки и куски, прежде представляющие вместе с кислым запахом неволи «местные знаки» казарм.
Крик «хлеба» раздавался под окнами и у ворот казарм, уже плохо охраняемых часовыми и дежурными, свободно пропускавшими на улицу своих товарищей.
Казарма, разуверившаяся в старом строе, прижатая жестокой, но уже неуверенной рукой начальства, забродила. К этому времени кадровый солдат, да и вообще солдат 22–25 лет, был редкостью. Он был зверски и бестолково перебит на войне.
Кадровые унтер-офицеры были влиты в качестве простых рядовых в первые же эшелоны и погибли в Пруссии, под Львовом и при знаменитом «великом» отступлении22, когда русская армия вымостила всю землю своими трупами. Питерский солдат тех дней – это недовольный крестьянин или недовольный обыватель.
Эти люди, даже не переодетые в серые шинели, а просто наспех завернутые в них, были сведены в толпы, банды и шайки, называемые запасными батальонами.
В сущности говоря, казармы стали просто кирпичными загонами, куда все новыми и новыми, зелеными и красными бумажками о призывах загонялись стада человечины.
Численное отношение командного состава к солдатской массе было, по всей вероятности, не выше, чем надсмотрщиков к рабам на невольничьих кораблях.
А за стенами казармы ходили слухи, что «рабочие собираются выступить», что «колпинцы23 18 февраля хотят идти к Государственной думе».
У полукрестьянской, полумещанской солдатской массы было мало связей с рабочими, но все обстоятельства складывались так, что создавали возможность некоторой детонации.
Помню дни накануне. Мечтательные разговоры инструкторов-шоферов, что хорошо было бы угнать броневик, пострелять в полицию, а потом бросить броневик где-нибудь за заставой и оставить на нем записку: «Доставить в Михайловский манеж»24. Очень характерная черта: забота о машине осталась. Очевидно, у людей еще не было уверенности в том, что можно опрокинуть старый строй, хотели только пошуметь. А на полицию сердились давно, главным образом за то, что она была освобождена от службы на фронте.
Помню, недели за две до революции мы, идя командой (приблизительно человек в двести), улюлюкали на отряд городовых и кричали: «Фараоны, фараоны!»
В последние дни февраля народ буквально рвался на полицию, отряды казаков, высланные на улицу, никого не трогая, ездили, добродушно посмеиваясь. Это очень поднимало бунтарское настроение толпы. На Невском стреляли, убили несколько человек, убитая лошадь долго лежала недалеко от угла Литейного. Я запомнил ее, тогда это было непривычно.
На Знаменской площади казак убил пристава25, который ударил шашкой демонстрантку.
На улицах стояли нерешительные патрули. Помню сконфуженную пулеметную команду с маленькими пулеметами на колесиках (станок Соколова), с пулеметными лентами на вьюках лошадей; очевидно, какая-то вьючно-пулеметная команда. Она стояла на Бассейной, угол Басковой улицы; пулемет, как маленький звереныш, прижался к мостовой, тоже сконфуженный, его обступила толпа, не нападающая, но как-то напиравшая плечом, безрукая.
На Владимирском стояли патрули Семеновского полка – каиновой репутации26.
Патрули стояли нерешительно: «Мы ничего, мы как другие». Громадный аппарат принуждения, приготовленный правительством, буксовал. В ночь не выдержали волынцы27, сговорились, по команде «на молитву» бросились к винтовкам, разбили цейхгауз, взяли патроны, выбежали на улицу, присоединили к себе несколько маленьких команд, стоящих вокруг, и поставили патрули в районе своей казармы – в Литейной части. Между прочим, волынцы разбили нашу гауптвахту, находящуюся рядом с их казармой. Освобожденные арестованные явились в команду по начальству; офицерство наше заняло нейтралитет, оно было тоже в своеобразной оппозиции «Вечернего времени»28. Казарма шумела и ждала, когда придут выгонять ее на улицу. Наши офицеры говорили: «Делайте, что сами знаете».
На улицах, в моем районе, уже отбирали оружие у офицеров какие-то люди в штатском, кучками выскакивая из ворот.
У ворот, несмотря на одиночные выстрелы, стояло много народа, даже женщины и дети. Казалось, что ждали свадьбы или пышных похорон.
Еще за три-четыре дня до этого наши машины были приведены по приказанию начальства в негодность. В нашем гараже инженер-вольноопределяющийся Белинкин отдал снятые части на руки солдатам-рабочим своего гаража. Но броневые машины нашего гаража были переведены в Михайловский манеж. Я пошел в Манеж, он был уже полон людьми, угоняющими автомобили. На броневых машинах не хватало частей. Мне показалось необходимым поставить на ноги прежде всего пушечную машину «ланчестер». Запасные части были у нас в школе. Пошел в школу. Встревоженные дежурные и дневальные были на местах. Это меня тогда удивило. Впоследствии, когда в конце 1918 года я подымал в Киеве панцирный дивизион против гетмана29, я увидел, что почти все солдаты называли себя дежурными и дневальными, и уже не удивился.
В школе меня очень любили; солдат, открывший мне двери, спросил меня: «Вы, Виктор Борисович, за народ?» – и на утвердительный ответ стал целоваться. Мы все много целовались тогда. Мне дали части и даже обещали, что не скажут, кто взял. Я пошел в команду. До сих пор не знаю: пришли снимать ее или она снялась и разошлась сама? Люди бродили вокруг казармы. Взял двух бригадиров гаража: Гнутова и Близнякова, инструменты и пошел с ними ремонтировать машину. Все это было днем, через два-три часа после выступления волынцев – день первый.
Не понимаю, как утеснилось столько событий в этот день.
Броневик мы взяли и буксиром приволокли в гараж на Ковенский, где и начали ремонтировать, заняв помещение и порвав телефоны; возились до вечера. Оказалось, что в бензиновый бак была налита вода. Вода замерзла, пришлось выкалывать лед и высушивать бак концами.
В перерыве работы забежал к одному знакомому литератору30.
У него в комнатах было тесно и жарко, стол был заставлен едой, табачный дым стоял стеной, все играли в «тетку», и играли еще невылазно два дня.
Этот человек потом очень скоро и очень искренне стал партийным, большевиком; коммунистами стали и почти все сидевшие тогда за столом.
А я так четко и сейчас помню еще их высокомерную иронию к «беспорядку на улице»!
Еще раньше всего этого в городе была объявлена забастовка. Трамваи не ходили. Останавливали тех извозчиков, которые не присоединились к забастовке. На углу Садовой и Невского встретил знакомого доцента31, талантливейшего и сумбурнейшего человека, который прежде стоял близко к академистам32, кажется, по пьяному делу. Он кричал и командовал группой, останавливающей экипажи. Этот человек был трезв, но совершенно вне себя.
Район вокруг Государственной думы уже охватило восстание. Близость Волынских казарм к Таврическому дворцу33, который вообще находился в районе казарм – Волынская, Преображенская, Литовская, Саперная казармы (на Шпалерной), – и память о думских речах (в последнюю очередь) делали Думу центром восстания.
Кажется, первый отряд был приведен в Думу товарищем Линде, впоследствии убитым солдатами Особой армии, где он был комиссаром. Это тот Линде34, который вывел Финляндский полк в апреле и пытался арестовать Временное правительство после знаменитой ноты Милюкова35.
Наш броневик вышел и начал метаться по городу. Темные улицы были оживлены негустыми группами людей. Говорили, что стреляют городовые, то тут, то там.
Были на Сампсоньевском мосту, видали городовых, но стрелять по ним не успели, все они разбежались. Кое-где уже разбивали винные погреба, товарищи мои хотели взять вино, которое раздавали, но, когда я сказал, что этого делать не надо, они не стали спорить.
В это же время броневики с Дворянской улицы тоже вышли с товарищем Анардовичем и Огоньнцом во главе, они сразу заняли Петербургскую сторону и пошли к Думе. Не знаю, кто сказал нам, чтобы мы ехали тоже к Думе.
У подъезда ее стоял уже, кажется, броневик «гарфорд».
В дверях Думы встретил старого товарища по военной службе, вольноопределяющегося, тогда уже прапорщика-артиллериста, Л. Поцеловались друг с другом. Было хорошо. Река несла всех, и вся мудрость состояла в том, чтобы отдаваться течению.
Наступила ночь. В Таврическом дворце был полный хаос. Привозили оружие, приходили люди, пока еще одиночные, тащили провизию, реквизированную где-то; в комнате у подъезда были сложены мешки. Уже приводили арестованных. В Думе какая-то барышня утвердила меня в должности командира машины и даже дала какую-то боевую задачу. Снаряды для пушки у меня были, не знаю, где я их достал, кажется еще в Манеже. Боевых задач я, конечно, не выполнил, да их и никто не выполнял.
Спал час или два на шубе за колонной. В Думе встретил Суханова36. Я знал его по редакции «Летописи»37, в литературном отделе которой я сотрудничал (помещал библиографические заметки). Но я читал в редакции доклад по поэтике38, где рассматривал искусство как чистую форму и ожесточенно спорил с марксистами. Вот, по всей вероятности, почему Суханов удивился мне; я и вооруженное восстание не вязались в его сознании. А я удивился ему по своей политической наивности; я и не знал, что уже собрались и сорганизовались политические центры. Конечно, они в тот момент еще не влияли на события. Масса шла, как сельдь или вобла, мечущая икру, повинуясь инстинкту.
Ночью же привезли арестованного поручика Д., командира броневых мастерских.
Конвойные чувствовали себя не очень уверенно, арестованный же обратился ко мне с упреками: «Что, вам было плохо у капитана Соколихина39, что вы пошли против него?» Я ответил ему, что ничего не имею против капитана Соколихина.
Через полчаса поручик вышел веселый. Военная комиссия при Государственной думе поручила ему как одному из первых «прибывших» автомобильных офицеров организовать все автомобильное дело в Петербурге.
Этот человек, хитрый и по-своему умный, с аппетитом если не к власти, то к месту, впоследствии ходил в анархистах-коммунистах40. Я остановился на нем потому, что он был первым жокеем на скачках за местами, которого я увидел. Впоследствии я видал толпы таких людей.
Ранним утром выехали опять в город. Кто-то дал мне какую-то боевую задачу и даже артиллериста-руководителя; я потерял этого руководителя, или он меня потерял, и влился в веселый ералаш восставшего народа. Подъехал к Преображенским казармам, что на Миллионной. Кто-то сказал, что преображенцы сопротивляются.
Подъехали. Было дивное синее солнечное утро. С веселой стрельбой выбегали из казарм восставшие преображенцы в новых шинелях с очень яркими красными петлицами.
По местам пытались сопротивляться. Отстреливались, кажется, учебные команды 6-го саперного батальона и Московского полка. Самокатчики в Лесном держались довольно долго41. Я думаю, что это произошло оттого, что к ним пришли одни рабочие, без солдат, и они боялись присоединиться.
На них послали броневые «фиаты» и отбили угол деревянной казармы вместе с людьми.
Ночью погиб один из наших броневиков, Федор Богданов42. Он на машине с открытой броней въехал в засаду городовых (единственную правильно поставившую пулемет в окне подвала, а не на крыше, откуда пулемет только такает, так [что] его огонь не имеет тогда никакой настильности).
Тело Богданова не лежит на Марсовом поле43, родные взяли труп и увезли куда-то за город.
Теперь о пулеметах на крышах. Меня вызывали сбивать их в продолжение чуть ли не двух недель. Обычно, когда казалось, что стреляют из окна, начинали беспорядочно стрелять по дому из винтовок, и пыль от штукатурки, подымающуюся в местах попаданий, принимали за ответный огонь. Я убежден, что главная масса убитых во время Февральской революции убита нашими же пулями, прямо падающими на нас сверху.
Команда моя обыскала почти весь район Владимирский, Кузнечный, Ямской и Николаевский, и я не имею ни одного положительного заявления о находке пулемета на крыше.
А вот в воздух мы стреляли очень много, даже из пушек. У меня на машине перебывало очень много пушкарей. Помню особенно первого, раненного в руку и оставшегося у пушки. Это был жандарм из казарм на Кирочной. Он говорил, что жандармы перешли на сторону восставших одними из первых. И все пушкари просом просили у меня позволения выстрелить, чтобы показать, что у нас даже пушки есть, и стреляли на Невском в воздух.
В этот день я пробыл почти все время в дежурстве у Николаевского вокзала. Вокзал не охранялся никем, я предлагал (в воздух – предлагать было некому) занять верхний этаж Северной и Знаменской гостиниц, чтобы держать весь вокзал под обстрелом, но у нас не было никаких сил. Если ставили из забежавших солдат караул, то караул или уходил, или стоял до обморока и все же не дожидался смены. Комендантами были – или я принимал их за комендантов – безрукий студент и очень старый флотский офицер в форме, кажется мичмана. Он был страшно утомлен. Приходили поезда с какими-то эшелонами, они куда-то, откуда-то ехали; мы подъезжали к ним с броневой машиной и четырьмя или пятью пехотинцами, и усталый мичман говорил офицерам эшелонов:
«Город находится в руках восставшего народа, желаете ли вы присоединиться к восставшему народу?»
Из вагонов таращились на нас люди и лошади. Офицеры отвечали, что они – «ничего», они едут мимо; солдаты смотрели на нас, и мы не знали: слезут или не слезут они из высокого вагона.
Приходили на помощь броневые машины со знакомыми шоферами. Стояли, потом уходили.
А по городу метались музы и эринии44 Февральской революции – грузовики и автомобили, обсаженные и обложенные солдатами, едущими неизвестно куда, получающими бензин неизвестно где, дающие впечатление красного звона по всему городу.
Они метались, и кружились, и жужжали, как пчелы.
Это было иродово избиение машин. Бесчисленные автомобильные школы навыпускали для заполнения автомобильных рот целые тучи шоферов с получасовой практикой. И вот теперь радовались эти полушоферские души, дорвавшись до машины.
Хряск шел по городу. Я не знаю, сколько случаев столкновения видал я за эти дни в городе. Одним словом, все мои ученики в два дня научились ездить.
Потом город наполнился брошенными на произвол судьбы автомобилями.
Питались мы в питательных пунктах, где из натащенного материала, из гусей и колбасы варили чудовищно жирную пищу.
Я был счастлив вместе с этими толпами. Это была Пасха и веселый масленичный наивный безалаберный рай.
К этому времени почти все вооружились отобранным у офицеров, а главным образом арсенальным оружием. Оружия было много, оно ходило по рукам, не продавалось, а передавалось свободно. Было много прекрасных «кольтов».
Боевой силы мы не представляли никакой, но мы как-то не думали над этим. Были ночи паники, ночи, когда ждали нападения каких-то эшелонов. А петербургский гарнизон все увеличивался и увеличивался. Пришли, ведя за собой на веревочках пулеметы, везя пулеметы без станков, наваленные, как дрова, на грузовик, пришли обвитые пулеметными лентами солдаты пулеметных полков и школ Стрельни и Ораниенбаума45.
Около Стрельни передовая группа идущих встретила какого-то полковника, едущего на автомобиле. Полковник слегка был похож на Николая. Он был встречен бурным, исступленным восторгом, пока ошибка не выяснилась.
Пулеметы прибыли в Питер негодными к действию, главная масса их была, например, без сальников, и в них нельзя было налить воды. Их было слишком много, но число нашу боевую силу не увеличивало. Помню, как вокруг Балтийского и Варшавского вокзалов расставили пулеметы буквально через шаг. Конечно, при таком расположении стрелять было бы страшно неудобно. Но боевая сила была не важна. Начинало выясняться, что сейчас у восставшего Питера нет противника. На стороне восставших появились офицеры, пришло строем Михайловское артиллерийское училище. Немного позже присоединился 1-й запасный полк вместе с офицерами. Наших офицеров собрал по квартирам один очень энергичный еврей-инженер, вольноопределяющийся, фактически уже года полтора управляющий школой. Офицеры собрались. Достали командира дивизиона; временных командиров за это время перебывало у нас уже штуки три, но они, получив бумажку от Государственной думы, куда-то исчезали.
Собрались. Нерешительно решили присоединиться к восставшим, даже оказывать сопротивление правительственным войскам. Временное правительство уже существовало46. Решили также, в отличие от невосставших, надеть красные – сначала хотели малиновые – повязки на рукав. Фактически воинские части в это время не существовали. Даже не варился обед. Команды были распылены. Михайловский манеж занят. Машины разъехались неизвестно куда.
В несколько лучшем положении была наша команда. Взводы поочередно несли дежурство и являлись на вызовы, даже ночные.
Были поставлены патрули, которые начали ловить без дела бегающие по городу автомобили и собирать их во двор части. Таким образом было спасено много машин. Но с брошенных и замороженных машин уже были сняты магнето, которые сильно подешевели после революции.
Команда приобрела благодаря странному, разнокалиберному вооружению пестрый вид вооружения гимназистов.
От того времени сохранились две кинематографических фильмы. На одной изображено кормление голубей на дворе команды, на другой – боевой выход команды с броневым «остином» во главе и с солдатами, идущими сзади с офицерскими шашками наголо.
С офицерами у нас дело обстояло не очень остро. Нашего начальника капитана Соколихина все любили за то, что он не тянул команду и исправно хлопотал о ботинках для нее. Ему в первый день революции дали шоферскую шубу без погон и вооруженную охрану из пяти человек, чтобы чужие не обидели. У другого офицера не отобрали на улице оружия, потому что оно было георгиевское. Начались перевыборы офицеров, команда мастерских заявила отвод против старого командира дивизиона. Начались интриги и добывание места при помощи солдат.
А к Таврическому дворцу все шли и шли войска, от топота ног чуть не проваливались мостовые, и от красного цвета шло непрерывное сверкание.
Совет уже заседал, но еще не было приказа № 147, и Родзянко был популярен в частях48. А Совет заседал в вооружении, с криком и с наступом.
Для многих частей, пришедших в Таврический дворец, речи Чхеидзе49 и др. были первые революционные речи, ими услышанные.
Что думали про войну? Мне кажется, верили в то, что она сама кончится; вера эта была всеобщей ко времени воззвания к народам всего мира50. Помню, что приехавшие с Моонзундской позиции говорили, что там уже сговорились с немцами51: ни мы, ни они стрелять не будут. В общем, преобладало пасхальное настроение, было хорошо, и верилось, что это только начало всего хорошего.
Приказ № 1 был привезен и разбросан по рядам в Манеже во время парада. Стали отвечать: «Здравствуйте, господин полковник!» – и отвечали очень удачно, умело, дружно. Я думаю, что приказ № 1 – хотя он, казалось, и предупреждал события – комитетов в частях еще не было52 – был своевременным и необходимым. Нельзя было держать части с одними офицерами, только что вернувшимися из долговременной отлучки. Хотя комитеты совершенно невозможны в армии – даже менее, чем выборное начальство, – но они были единственным, на чем хоть как-нибудь держалась армия.
Самое плохое в комитетах было то, что они страшно скоро отрывались от своих выборщиков. Да и делегаты Совета не являлись в свои части чуть ли не месяцами. Солдаты были совершенно не осведомлены о том, что делается в Советах. Помогало делу только то громадное доверие, еще не растраченное, которое имело «свое» солдатское представительство. В первый Совет в большом количестве прошли вольноопределяющиеся и интеллигентные солдаты; конечно, это способствовало отрыву.
С другой стороны, по казармам почти никто не работал, интеллигенция оказалась в бегах, людей, пожелавших работать в области просвещения, почти не оказывалось. В Саперном – кажется, шестом – батальоне из нескольких сотен вольноопределяющихся менее десяти подписали лист о согласии работать в школах грамотности. Большинство же пользовалось революцией как неожиданным отпуском. В нашей части в комитет прошли взводные и старшие мастеровые – он имел деловой характер.
А полки́ за полка́ми все шли через Екатерининский зал Таврического дворца. На плакатах было еще «Доверие Временному правительству» и даже «Война до полной победы». Но воевать мы уже не могли. Пока пишу только о Петербургском гарнизоне. Громадные – до нескольких десятков тысяч – запасные части, которые уже не отсылали эшелонов на фронт и в то же время не имели никакого дела в городе, так как они не могли защищать революцию за неимением оружия, – прели и разлагались в своих казармах. Еще никто не говорил слов: «Мир во что бы то ни стало». Еще не приехал Ленин, еще большевики говорили, что винтовку нужно держать наизготове, но гарнизона уже не было, был только склад солдат. Массы еще сверкали пламенем революции, но это не было жаркое пламя кокса, а жидкий огонь разлитого спирта, сгорающего, не успевая зажечь дерево, которое он облил.
Таким огнем был Керенский. Я увидел в первый раз Керенского на его генеральной истерике; когда он после статьи в «Известиях», направленной против него, вбежал в Солдатский Совет спрашивать – «доверяют ли ему»53. Он бросал мятые фразы и, действительно, казался сверкающим сухими, длинными, трещащими искрами.
С измученным лицом человека, дни которого уже кончаются, кричал он и в изнеможении наконец упал в кресло. Это произвело страшное впечатление.
В другой раз я увидел Керенского, когда уже был назначен комиссаром. Ловил его для переговоров и изловил у Морского корпуса. Нашел его серый «локомобиль» и стал ждать, разговаривая с шофером.
«Сейчас вынесут», – сказал шофер. И действительно, через несколько минут из дверей корпуса вынесли Керенского. Он сидел в обычной усталой позе на стуле, высоко поднятом над толпой. Я сел к нему в автомобиль и начал говорить. С сухими, бескровными губами, с худым и отекшим лицом и с охрипшим голосом, он сказал, слабо сжав руки: «Главное – воля и настойчивость». Мне он показался человеком, уже сорвавшим свои силы, человеком, который знает, что он обречен уже.
Тороплюсь закончить писать о том, что известно всем, и спешу перейти к фронту.
Как я попал на фронт? Приехал Ленин54. В мастерских дивизиона были партийные большевики; они предоставили Ленину броневик для проезда с вокзала во дворец Кшесинской55, который был занят нашей частью под квартиру. Определенная часть дивизиона была резко за большевиков. Я находился тогда в дивизионном комитете и со своей школой представлял оборонческое крыло дивизиона.
Здесь я должен ввести новое лицо – Максимилиана Филоненко56. Когда-то он был начальником броневых мастерских и вел себя широко, по-своему гуманно, потом с охотой поехал на фронт. Там успеха не имел, был как-то затерт, озлобился и рвался оттуда.
Он приехал уже после революции и застрял. То, что совершалось в Питере, гораздо более интересовало его, чем скромное место на фронте.
Это был маленький человек в кителе, с волосами, коротко остриженными, с головой, довольно большой и круглой, что делало его слегка похожим на котенка. Инженер по образованию, он знал четыре или пять иностранных языков, но более всего был доволен своим французским произношением. Сын крупного инженера, он неоднократно занимал ответственные места на крупных судостроительных заводах и неизменно уходил, испортив положение. Это был человек хороших умственных способностей, но не обладающий ароматом талантливости.
Первый ученик, желающий стать гением. Я не знаю его сердца, меня он любил и был хорошим товарищем. Но целью для него была – его цель, его звезда – он сам. Звезды же в его небе не было, и он ее тщетно искал.
Сперва он начал приходить в дивизионный комитет в качестве гостя и на русском безлюдье среди уже апатичных, как рыбы, комитетчиков, конечно, казался совершенно блестящим. Потом он стал брать работы по увещеванию какой-нибудь команды, чаще всего броневых мастерских, где его ценили по прежней службе и сносили от него многое, что не стерпели бы ни от кого другого. В мрачной сборочной мастерской, где стояли чудовищные машины, а на машинах в угарном воздухе отработанных газов громоздились люди, которые после 3-го – 5-го57 бросили свои машины при первом признаке неудачи, Филоненко ткал свои диалектические плетенки, умные и осторожные, со всякими крючками и закорючками. Потом Максимилиан Максимилианович сумел сделаться старшим офицером по технической части. На фронт, несмотря на вызовы, он не хотел возвращаться. На фронте у него была история, как потом я узнал, – высеченный солдат; там он был мертвый человек. Здесь же он поставил правильный «угол атаки» и собирался взлететь аэропланом.
В дивизионном комитете он получил фантастический мандат – в Совдеп, не от части, а от комитета. Это был, конечно, не самый странный мандат в Совете. Я там раз встретил одного довольно талантливого еврея, виолончелиста Ч., служившего раньше в музыкальной команде Преображенского полка в качестве представителя донских казаков.
В Совете Филоненко имел несколько удачных выступлений как оппонент Зиновьева, а на гарнизонном собрании, после апрельского выступления Финляндского полка58, защищал коалиционное министерство.
У него было одно большое достоинство – он имел контур, был четок, имел волю. И ясно было, что он сыграет роль. В это время он занимал относительно Совета в высшей степени лояльную позицию. Но ему нужна была новелла, патент; таким патентом было предложение послать в армию комиссаров, которые лично принимали бы участие в бою. С предложением этим он обратился ко мне и к товарищу Анардовичу. Я согласился. Я тосковал и жаждал определенного дела, а Филоненко представлялся мне человеком толковым и к революции корректным.
Теперь об Анардовиче. Товарищ Анардович, впоследствии комиссар Особой армии, был сормовским рабочим, раненным на баррикадах 1905 года. Правоверный эсер, он имел влияние на команду мастерских и вывел 16–17 броневых машин в бой в то время, когда товарищи, бывшие впоследствии левее его, еще вообще не раскачались на какие-либо поступки. Этот горбоносый человек с энергичным лицом был трогательно прост и элементарен. Писал стихи под Надсона, верил в дорогу первого Совета, как сельский священник в требник, и революции был предан без страха и колебания. Любимое выражение его было: «Просто и ясно». Говорить он мог не переставая три и четыре часа, и ничто не сбивало его. С массою, как я впоследствии убедился, он справлялся превосходно, совершенно не боялся толпы и уверенно противопоставлял ее напору свое решение.
Я останавливаюсь на нем, между прочим, потому, что среди компании военных комиссаров Анардович был действительно единственным коренным рабочим, рабочим, взятым от станка.
Предложение послать в армию людей, обязанных лично принимать участие в войне, как живых свидетелей оборончества русской демократии, было внесено в дивизионный комитет и принято им. Ехать вызвались все дивизионные небольшевики. Помню, как стоял я с опущенной головой и упавшим сердцем. Ощущение у меня было, как у рабочего, который чувствует, что его захватило ремнем за края платья и потащило; он еще сопротивляется, но сердце уже сдалось неизбежности смерти. Я был послан на фронт по списку третьим: Филоненко, Анардович, Шкловский.
Дивизион все время, до последних дней октября, считал нас своими посланными, имеющими от него мандат. Так же считал и я. Филоненко же быстро оторвался от дивизиона, помогшего ему выдвинуться.
Началась сложная канитель проведения нашего посланничества через на все согласное Временное правительство и через несогласный, но не знающий вообще, что ему надо, Исполнительный комитет первого созыва – почтенную Академию имени Фабия Кунктатора59.
А Исполнительный комитет совершенно не знал, что ему делать с армией. Противопоставить себя Временному правительству или – вернее, выдумав Временное правительство и противопоставив его себе – он не мог ни распоряжаться, ни не распоряжаться, вся фактическая власть была в его руках, но неизвестно, что было в голове его. Армия же не могла понимать этого сложного и глубоко научно-социалистического положения; она требовала власти, приказания.
В Исполнительный комитет Чхеидзе прибегали толпы людей из разных частей и требовали, чтобы им приказывали. Поэтому Исполком был уже приготовлен к восприятию идеи о двухмандатном комиссариате.
Когда я вспоминаю это положение, то Филоненко представляется мне организатором Военного комиссариата. Очень быстро перешел он от мысли о людях, показывающих пример, к мысли о людях приказывающих – к мысли комиссара.
Почему Военная секция Исполкома пошла на кандидатуру Филоненко? Я думаю, из‐за полного безлюдия ей пришлось прищуриться и пропустить его мимо себя; кажется, он был когда-то эсером, но до революции связи с партией не сохранил. Кандидатура его была принята, Анардович поехал его помощником, другим помощником поехал инженер Ципкевич, когда-то бывший в п. с.-р.60, а теперь, в сущности говоря, человек «вне политики». О Ципкевиче я еще не говорил. Буду говорить после. Я впоследствии убедился в громадном организационном таланте Ципкевича.
Это был инженер – организатор производства. Революция беспокоила его, путая все схемы и расписания, и он думал отрегулировать ее, как мотор или железную дорогу. Я же был послан как ответственный агитатор.
Теперь отвечу на вопрос, из‐за чего я поехал на фронт, зачем мне нужно было наступление и зачем я наступал.
Я был за выступление потому, что считал самую революцию за наступление. Наступать, по моему тогдашнему убеждению, было можно. Нужно было или наступать, или воткнуть штыки в землю и пойти, посвистывая, домой. В братание я не верил и был прав.
Ошибка моя была в том, что нельзя было наступать, имея за собой сирену – демократическое правительство с буржуазным хвостом. Нельзя драться, имея драку в тылу. Наступление, по-моему, было необходимо потому, что победа войск республики быстро создала бы революцию в Германии. Более веселую, чем революция под прессом реванша. Нужно было наступать, пока была еще армия, но нужно было однородное правительство с быстрым проведением программы-минимума.
И еще одно – союзники, будь они прокляты, не давали согласия на наше определение мира «без аннексий и контрибуций»61, а эти в газетах затрепанные слова – я знаю, как священны они были в душе каждого окопника, которому вода траншеи глодала ноги, а вши грызли шею. Эти слова были поистине священны среди босых солдат.
Те, кто отверг их, виновны в крови, грязи и ожесточении. О, если бы перед июньскими полками62 мы смогли развернуть священное знамя правой войны, – мне не хотелось бы плакать сейчас над вашими могилами, бедные мои товарищи!
Но я изменил себе, – я не хочу быть критиком событий, я хочу дать только немного материала для критика.
Я рассказываю о событиях и приготовляю из себя для потомства препарат.
Итак – мы поехали.
Мне жалко было расставаться со своей командой, с нашей школой, которую мы довели до невиданного в России совершенства. Команда моя осталась, подгнивая вместе со всем революционным гарнизоном. Чуть медленнее остальных частей. Цейхгауза она не разделила.
Теперь еще одно воспоминание о Петербурге.
Малый Совет солдатской секции, борясь своей весьма благонравной газетой с приехавшим Лениным, поместил в ней свою резолюцию, что он считает ленинскую пропаганду столь же вредной, как всякую контрреволюционную пропаганду63. Ленин приехал объясняться в Совет64. Это был день смятения. Зал заполнился комитетчиками. Председательствовал вольноопределяющийся Завадье65. Ленин говорил речь с элементарной стремительностью, катя свою мысль, как громадный булыжник; когда он говорил о том, как просто устроить социальную революцию, он сминал перед собою сомнения, точно кабан тростник.
Зал во время его напора был согласен с ним, и в нем водворилось что-то похожее на отчаяние. Помню бородатого солдата, кричавшего по адресу малого Совета – «буржуйчики», «маменькины сынки» и требующего «Чхеидзу председателем, Чхеидзу!».
Представляю себе, какой заворот мозгов был в голове у этого солдата.
Ленину возражал Либер66. Говорил прекрасно и одушевленно. Но слова его летели, как отруби, а не падали, как семена. С этим ощущением стремительной, слепой, всех топчущей силы я и уехал на фронт. Это было в первых числах июня. Мы уже отпраздновали Первое мая своей революции. Город весь жил ею. Улицы кипели летучими митингами. Личная жизнь казалась бледной. И вот я уехал и попал в другой мир.
Поехали мы впятером: Филоненко, Ципкевич, Анардович, я и в качестве секретаря один веселый и очень дельный одессит, тов. Вонский.
Приехали в Киев. В Киеве Совет солдатских депутатов воевал с дезертирами и украинцами. Совета рабочих депутатов среди живых не значилось67, так как в Киеве, кроме арсенала и завода Гретера68, крупных фабрик нет.
Над городом развевался желто-блакитный флаг, Думу охраняли солдаты-украинцы, а на улицах были митинги: русские спорили с украинцами, евреи дулись и ждали, когда их будут бить.
Положение было скверное, эшелоны, направляемые через Киев, в Киеве обращались в украинцев и оседали плотно.
Проехали дальше. За Киевом дорога приняла уже фронтовой характер. Люди, как фрукты в декоративных корзинах, горами громоздились на крыши вагонов. Все места на буферах были заняты. Наш маленький вагон-микст69, отчаянно болтающийся в хвосте поезда, был переполнен.
Приехали в Каменец-Подольск, там в здании гимназии стоял Искомитюз, то есть Исполнительный комитет Юго-Западного фронта. Здесь мы встретили раньше назначенного комиссаром Моисеенко70… Старшим помощником его был Линде. Это были уже усталые люди. Революция сильно посмылила их.
Рассказывали про Савинкова. Савинков в армии распоряжался как власть имеющий71. Завел дни приема и брал на себя инициативу действия. Моисеенко считал себя только консультантом комитета и думал, что, едва комитеты окрепнут, комиссар станет ненужным. Непохоже было, что когда-нибудь комиссар будет не нужен Искомитюзу. Вольноопределяющиеся, довольно робкие, преподаватели, случайно попавшие в строй, врачи – все это были люди, не думавшие ни о каких своих выгодах, но очень мало приспособленные для овладения бурей революции.
Состав их был случаен. Массы послали тех людей, которые были не скомпрометированы и в то же время могли что-нибудь сказать, что-нибудь сделать. Всякий хорошо грамотный человек и в то же время не офицер, почти автоматически переходя из комитета в комитет, попадал в комитет фронта.
Отсюда большое количество евреев в комитетах, так как изо всей интеллигенции именно интеллигенты-евреи были к моменту революции солдатами.
В общем комитетчики были людьми без решений, людьми, сознающими невозможность строительства своими силами, поэтому они были настроены охранительно. Тыла они боялись. Не связанный по рукам и ногам немцами, от которых некуда было уйти на фронте, как нельзя уйти от атмосферного давления, тыл в то время раскачивал фронт, раскалывал его и расстреливал грандиозную фабрику, называемую армией.
На такой фабрике каждый обыкновенно делает очень мало, но если он перестанет делать это малое, то результат становится ужасным.
В это время шли разговоры про наступление. Наступление казалось столь неизбежным, как наступление вечера после дня, и не потому, что этого хотел Керенский, хотя Керенский и был воплощением для солдат энтузиазма революции, а потому – это чувствовалось всеми, – что нельзя собрать всех мужчин под ружье, оторвать от дела и так стоять, замахнувшись. Армия должна была или воевать, или разбежаться – пока она решила воевать.
Все знали, что наступление как будто будет даже тогда, если все скажут: «А я не хочу!»
Среди комитетчиков попадались и партийные люди, бундисты72, эсеры и меньшевики. Последние главным образом плехановского толка73. Комитетчик-большевик еще не появился, изредка в комитет проникал какой-нибудь солдат, находящийся вне круга интеллигентско-социалистической мысли, и этот «зверь из бездны»74 говорил мрачные слова, запутанные, но понятные. Эти люди называли себя большевиками, масса их состояла главным образом из шкурников, то есть людей, настроенных не жертвенно, а поэтому людей, невозможных на фронте, – где все были жертвами. Если бы попытаться определить их настоящую сущность, то точнее всего их можно было бы назвать штирнеровцами75. В солдатской массе они уже имели влияние, но уважаемы не были. Большевизм масс явился позже как результат отчаянья, как словесная мотивировка отказа даже от обороны. Я говорю про большевизм военный.
Но пока полки еще держались на наивно-революционной идеологии, на «Марсельезе», красном знамени и, главное, на великой инерции столь огромного скопления людей, как армия, на остатках и навыках армейского быта.
Выразителями этой компромиссной основы революционной армии были комитеты, особенно высшие. Задачей комитетчиков было прежде всего сохранение армии. Как ее сохранить, они не знали и ждали бури, и боялись ее, и не знали, нужно ли с ней бороться; они не умели сами выразить то, что лежит в этой буре, поэтому они были робки и старались сохранить хотя бы основанную на компромиссе, но все же обороноспособную армию.
Наступление висело в воздухе, как позже ожидание большевистского переворота. Мы торопились на фронт.
Мимо старой турецкой крепости выкатил наш автомобиль на шоссе и оставил за собой Каменец, окруженный красивым кольцом воды. Дорога металась извивами, взбираясь на крутые холмы. Высокий и узкий мост висел над рекой. Я знал эту дорогу76. Когда-то я вел и разбил на ней автомобиль, а сейчас заснул на дне автомобиля.
Ехали смертоубийственно быстро, к утру были у Черновиц. Белый город у гор на холмах, слегка похожий на Киев, но сильно польский77, бойко торгующий, был местом нахождения штаба и комитета 8-й армии. Командующим армией был генерал Корнилов.
Нам отвели хорошую, совершенно неограбленную квартиру. Я с интересом взял местный военный листок. Выглядел он очень забавно. Из него можно было понять, что главный вопрос сейчас – это борьба гарнизонного комитета Черновиц с аркомом (армейским комитетом) на почве требования подкрепления на фронт. Политическая группировка была домашняя и упрощенная: кадеты, стоящие на платформе Петербургского Совета, то есть кадеты-циммервальдовцы78, большевики-оборонцы, меньшевики с эсеровской земельной программой и – как венец – даже социалисты-индивидуалисты.
Впоследствии я узнал, что в армии ничего не значили все эти кустарные группы, так же как и некустарные. Моральным авторитетом пользовались не партии, а Петербургский Совет. Его признавали все, в него верили, за ним шли.
Правда – он стоял, поэтому все, кто за ним шел, ушли от него.
В Черновицах мы остановились не надолго. Филоненко имел здесь первое свое выступление, и у нас произошла первая размолвка. Явившись в арком, он произнес информационную речь, в которой главным образом коснулся внешней политики и в восторженных красках выяснил характер отношений между союзниками и революционной Россией. Это было так недобросовестно и так даже практически невыгодно, – потому что нельзя обмануть человека навсегда, – что я послал ему записку, указывая на невозможность таких выступлений. Тогда он резко повернул в своей речи и бешено обрушился на буржуазию и на мысль о невозможности работать без нее. Все это было сделано очень ярко и четко и на комитет произвело впечатление откровения и полного выяснения вопроса. Но в комитете в этот момент главным вопросом был вопрос не об информации.
Все знали, что наступление будет, и шел опрос представителей частей: пойдут ли их части в бой? Ответы были неуверенные; особенно помню один: «Я не знаю, пойдут ли в бой ротные комитеты, а полковой комитет драться будет!» Но главное – не это. Жаловались на «некомплект» в частях, на то, что в ротах по сорок штыков79 и эти сорок людей босы и больны. Только представитель так называемой «Дикой дивизии»80, набранной из горцев, убежденно ответил: «Пойдем когда угодно и на кого угодно». Разъяснение давал Корнилов. Его слова сводились к тому, что, несмотря на «некомплект» в частях, мы имели в месте предполагаемого удара пятерное превосходство над противником и что боевые задачи будут даваться из расчета на фактические силы частей. А были дивизии в девятьсот человек!
Опасения солдат, что им будут давать боевые задачи, считаясь не с числом штыков, а с названием части, были небезосновательны. Я при старом режиме знал случаи, когда на позиции пехотный (Семеновский) полк сменили спешенным кавалерийским полком, который по численности был раз в пять меньше.
Еще одна общая жалоба раздавалась во всех выступлениях делегатов, и на эту жалобу, конечно, Корнилов ответить ничего не мог – это жалоба на полную заброшенность полков, на оторванность. Я немного знал уже фронт и представлял себе эту тоску окопника в траншее, из которой не видно даже противника, а только зимой – снег, летом – стебли травы.
На заседании был сделан доклад, очень подробный, о силе армии и ее вооружении. Не был указан только пункт прорыва, но все знали, что дело идет о Станиславове81.
Странно было слушать, как подробно обсуждался план наступления: говорили о дорогах, о количестве вооружения на собрании более чем в сто человек. Демократический принцип обсуждения был доведен здесь до абсурда, но нам удалось впоследствии углубить и обработать этот абсурд. В Станиславове перед самым наступлением были собраны все члены ротных комитетов ударной группы, то есть 12‐го корпуса, и на этом собрании тоже обсуждался вопрос: наступать или не наступать? Я не говорю уже о митингах в самих окопах, иногда в нескольких десятках шагов от противника. Но тогда это не казалось мне странным. Не думаю, чтобы отчетливо понимал безнадежность положения и Корнилов. Он был прежде всего военный. Генерал, ходящий в атаки, пробивающийся с револьвером. К армии он относился так же, как хороший шофер к автомобилю. Шоферу важно прежде всего, чтобы машина шла, а не кто на ней едет. Корнилову нужно было, чтобы армия дралась. Он удивлялся на странный революционный способ подготовлять наступление. Он хотел еще верить, что так драться можно. Так шофер, недоверчиво пробуя новую смесь, очень желает, чтобы на ней можно было ездить, как на бензине, и способен увлекаться мыслью о езде на карбите или скипидаре.
Корнилова в армии я встретил не в первый раз. Я видел его еще в апрельские дни, когда петербургские полки выступили против Милюкова. Тогда он по телефону потребовал от дивизиона броневые машины; у нас же было единогласно постановлено, что мы подчиняемся непосредственно Совету. Поэтому резолюция была: «Не принять к сведению». Я ездил ее передавать. Корнилов говорил очень тихо, очевидно сильно недоумевая, как это он, командующий, без войск и кому нужно, чтобы он командовал. Видеть меня в армии ему было неприятно; потом он примирился со мной, но стал считать меня за сумасшедшего.
Армейский комитет в тот момент очень верил в Корнилова, и, когда тот явился после доклада, сделанного офицерам штаба, его выступление было встречено восторженно. Но корниловцев не любил никто. Корниловцами назывались люди первого «батальона смерти»82, который формировался в Черновицах из добровольцев – главным образом солдат технических частей и военных чиновников, решившихся идти в строй.
Я могу засвидетельствовать, что батальон дрался не хуже лучших старых полков. Но эти ударные батальоны, уже нашивающие на рукава черепа и кости, дробили армию и вызвали в чутко-недоверчивом солдате опасения, что создаются в прежде единой армии какие-то особенные части с полицейскими обязанностями. Лояльнейшие комитетчики были против ударников. Ударники раздражали, про них рассказывали, что они получают какое-то большое жалованье и живут на привилегированном положении. Я был безусловно против ударных батальонов, потому что для создания их обычно отрывались из полка люди с подъемом и энтузиазмом, люди сравнительно высокой интеллигентности. Их гнала из полков тоска видеть уже начавшееся гниение армии. Но они нужнее были именно в полках, как соль в солонине.
На корниловцев нападали в комитете яростно, они же оправдывались довольно жалобно.
Кстати, вспоминаю о женских батальонах; несомненно, что это было высиженное в тылу и сознательно придуманное оскорбление для фронта83.
Походил по Черновицам. Чистенький, похожий на Киев город. Ели в нем очень хорошо, по-европейски, чище, чем у нас. Солдаты не разорили город; в квартире, где я квартировал, на местах были даже серебряные вещи, подушки и ковры. Квартира была обычного, довольно богатого старопомещического типа. По городу ходили трамваи, на которых не висели и за проезд на которых платили. Подкрепления из города на фронт шли, хотя из тыла почти не прибывали, а когда прибывали, то сильно портили полки. В общем город, с точки зрения состояния гарнизона, был почти хорош. Но все это висело не на сознательной воле, которой не могло быть у людей, еще и не переживших по-настоящему революции; значит, все висело на добрых намерениях, непрочно.
Филоненко со своим секретарем Вонским, веселым, крепким и по-своему очень хорошим, чрезвычайно энергичным и находчивым мальчиком, остался в Черновицах. Я с Анардовичем поехал на фронт, где должно было с часу на час начаться наступление. И вот опять навстречу моему автомобилю побежали трижды знакомые поля Галиции с польскими кладбищами, на которых кресты по-польски мелодраматически огромны, с еврейскими крашеными могильными камнями, заросшими сухой травой, с мраморными статуями, ошершавленными дождем и ветром. На перекрестках милые синие православные галицийские распятия, на них по диагоналям креста стоят святые. Круто поворачиваясь, дорога идет все тем же нешироким, но ровным шоссе.
Иногда проезжаем мимо рощ, и тогда мерный стук машины отдается в деревьях звуком, похожим на звук удара хлыста по листьям. Приехали в маленькое темное местечко. Здесь стоял штаб корпуса, который был назначен делать прорыв.
Это 12‐й корпус. Нас принял – дело было ночью – безумно усталый начальник штаба. Казалось, что он занимался неделю, неделю не спал и что у него болят зубы. У него не болели зубы, но он чувствовал себя как человек, которому велят прыгать, а ноги парализованы, или велят замерзшими пальцами собирать серебряные пятачки с каменного пола. Он начал безнадежно говорить о том, что полки отказываются копать параллели – параллелью называется траншея, которую копают впереди основного окопа, с ним она соединена ходом и, в общем, назначение ее – приблизиться к противнику, чтобы уменьшить потери при атаке. В армии появился какой-то бродячий полк без офицеров и обоза, с одной только кухней, который затесался из соседней армии и идет куда-то домой, а наступление через несколько дней. Он говорил, а в соседней комнате, тоже тускло освещенной керосином, синели и слабо стукали «юзы» и «морзе»84, тонкие бумажные ленты медленно выползали из аппаратов.
Из штаба по темной, глубокой грязи прошли к командиру корпуса генералу Черемисову85. Черемисов похож на Корнилова, тоже маленький, с желтым монгольским лицом, с косыми глазами, но как-то глаже его, менее сухой. Он казался умней и талантливей Корнилова. Как наштакор (начальник штаба корпуса), он уже был при прошлом наступлении в этих местах и действительно превосходно знал Галицию и Буковину. Революция и война инстинктивно нравились ему теми широкими возможностями, которые они ему давали. Солдат Черемисов не боялся: я знаю как факт, что, когда какая-то команда решила убить его и поставила миномет против дома, он, выйдя на шум, очень спокойно доказал солдатам, что миномет здесь применен неправильно, так как фугасным действием снаряда будут разрушены соседние дома. Солдаты согласились и миномет убрали. Черемисов был настроен не очень плохо, но указал вещь действительно верную: больше всего раздражала солдат газетная шумиха. Тыловые крики: «В наступление, в наступление!» В данный же момент дело обстояло так: в районе Станиславова у нас было сосредоточено до 700 орудий и начиналось сгущение фронта. Полкам уменьшались участки позиции, отведенные им, а в освободившиеся места вливали новые части. С этим и была первая заминка. Одиннадцатая дивизия, находившаяся в хорошем состоянии, идти на фронт не хотела не потому, что была против наступления – прямых отказов от войны я почти не встречал, – а потому, что была снята с другого участка фронта, причем ей был обещан отдых. 61-я дивизия, кажется86 (не помню точно номера, знаю, что в состав ее входил Кинбургский пехотный полк), не хотела копать параллели, еще какая-то дивизия тоже чего-то не хотела и чего-то хотела. А у противника перед нами почти ничего не было, то есть были проволоки, пулеметы и почти пустые окопы. Мы решили ехать немедленно в Станиславов. Поехали ночью. Еще было далеко до города, который находился непосредственно в линии окопов. Но фронт уже наметился беспрерывными взлетами ракет, которые жгли немцы, боясь ночного наступления. Пушки не стреляли, или выстрелы были не слышны, автомобиль бесшумно гнал дорогу, отгоняя ее за себя, и несся прямо на эти голубые огни. Мы обгоняли тихо едущие тяжелые повозки артиллерийских парков, везших снаряды. Поток повозок все густел, становясь непрерывным по мере приближения к городу. Возницы, молчаливые от ночной усталости, сидели безмолвно на тряских тяжелых двуколках, лошади безмолвно натягивали постромки.
Приехали в город. Остановились в гостинице, кажется «Астория». Город Станиславов переходил из рук в руки. Русские и австрийцы брали его то с правой, то с левой стороны, то спереди, то сбоку. Я въезжал в него уже третий раз за время войны, и каждый раз по другой дороге. Город был богат, дома сохранились, обстрел очень мало разрушил их. Сильнее всего пострадали окраины и газовый завод. Но это неудивительно, некоторые домики окраины отстояли от окопов на несколько шагов. В этих домиках жили. Наша линия шла сейчас же, как перейдешь реку Быстрицу-Надворнянскую. Такое расположение позиции было неудобно, так говорили все. Сделано же это было для донесения, чтобы написать: «Наши войска перешли Быстрицу-Надворнянскую». Войска переполняли город.
Штабы чуть ли не всех дивизий 12‐го корпуса, который в это время представлял из себя едва ли не армию, теснились в городе. В гостинице, в которой я стоял, жили чины оперативного отделения штаба; на дворе стояла батарея, на крыше находился артиллерийский наблюдательный пункт, внизу, в бойко торгующем польском кафе, сидели офицеры, а в воздухе висели двухцветные, в два дымка – коричневый и синеватый – разрывы австрийской шрапнели. Ночью особенно гулко были слышны выстрелы наших орудий, они раздавались буквально под ухом, гулко отражаясь от стен двора. Звук такой, как будто с размаху бросают на каменный пол большой мяч.
Станиславов – единственное место на фронте, где мне пришлось спать на кровати и даже с постельным бельем. В этот раз в Станиславове я прожил недолго. Меня вызвали в Александропольский полк. Полк этот занимал позиции довольно необыкновенные87.
Перед ним стояли неприятельские силы на кругловерхой лесистой горе Космачке. Полк тоже стоял на горах, между нашими и немецкими окопами было расстояние верст не менее трех. Здесь фактически и войны не было. Через окопы были перекинуты доски, сами окопы полузасыпались. Братались долго и старательно; в деревнях, расположенных между позициями, сходились солдаты, и здесь был устроен вольный и нейтральный публичный дом. В братании принимали участие и некоторые офицеры, из них выделялся талантливый и боевой человек, георгиевский кавалер и, кажется, бывший студент, некий капитан Чинаров. Я думаю, что Чинаров был человек субъективно честный, но в голове его вихрился такой сумбур, что, как нам это сказали потом жители занятой нами деревни Рассульны, Чинаров неоднократно ездил в австрийский штаб88, где кутил с офицерами и катался с ними куда-то на автомобиле в тыл.
В помещении австрийского штаба в деревне Рассульне мы нашли – заняв ее – немецкое руководство к братанию89, изданное германским штабом на очень хорошей бумаге и, кажется, в Лейпциге.
Чинаров был арестован Корниловым и сидел вместе с неким прапорщиком К., который потом оказался казанским провокатором90.
Я старался освободить Чинарова, потому что наши понятия о свободе слова и действий каждого отдельного гражданина были тогда анекдотически широки. Чинарова я не освободил, полк его требовал, я поехал его успокаивать.
Ехал долго, кажется, через местечко Надворное; уже начали чувствоваться Карпаты. Дорога была выложена поперечными бревнами. Над ней было устроено нечто вроде триумфальных арок, декорированных зеленью елки – способ маскировать дороги, перенятый у австрийцев. Заехали сперва в штаб корпуса (16‐го), здесь нас встретил растерянный генерал Стогов91. Этот уже ничего не понимал. «Какие-то большевики, меньшевики, – жаловался он мне, – я же вас всех привык считать, простите меня, изменниками». Я на него не обиделся. Ему было очень тяжело. Корпус его целиком состоял из третьеочередных дивизий, из всяких 600‐х и 700‐х номеров, сведенных из нескольких полков при переформировании, когда полки переходили от четырехбатальонного состава к трехбатальонному. Эти наспех составленные части, без традиций, с враждующими между собою группами командного состава, конечно, были очень плохи. Генерал же Стогов любил «свои войска», и ему просто обидно было, что его солдаты так плохо дерутся. Влияния на солдат он не имел, хотя они знали его и ценили.
От Стогова поехал в штаб дивизии. Там тоже полная растерянность. Хотя все знали, что на корпус и не возложена боевая задача, но все же было странно видеть войска в таком состоянии, на них нельзя было рассчитывать даже для простого занимания гарнизонами оставленных противником деревень.
Поехал в полк. Собрал солдат, митинга не устроил, чтобы не накалять атмосферы, поговорил с ними обычным голосом, сказал, что Чинарова будут судить и что я его отдать им не могу. Солдаты, очевидно, относились к нему очень хорошо и торопились подсунуть мне ложные показания о нем.
Но полк все же немного успокоился, просто от того, что отвел душу с новым человеком. С полком этим долго потом возился Филоненко и армейский комитет. Наконец он был расформирован92.
От александропольцев вернулся в Станиславов. Меня попросили ехать к кинбуржцам. В Кинбургском полку, который стоял в верстах в двух от Станиславова, тоже было сильно неладно. Он стоял на боевом участке и отказывался рыть параллели, следовательно, не готовился к наступлению. Поехал опять. Это была уже не поездка, а полет на автомобиле по шоссе, вдоль позиции. Шоссе было видно немцам, они держали его под обстрелом. Немцы били по автомобилю влет, но проскочить оказалось возможно, мы проскочили.
Приехали. Перешли речку Быстрицу-Надворнянскую и скоро попали в расположение полка. Собрали солдат, эстрадой была землянка. Один солдат сказал мне: «Не хочу умирать». Я говорил с отчаянной энергией о праве революции на наши жизни. Тогда я еще не презирал, как сейчас, слова. Товарищ Анардович сказал мне, что от моей стремительной речи у него поднялись волосы на голове. Аудитория, решающая вопрос о своей смерти, смерти немедленной, необходимость требовать от людей отречения от себя, тишина печальной тысячной толпы и смутная тревога от близости неприятеля натягивали нервы до обрыва.
После меня говорил маленький, очень грязный солдатик. Весь в казенном. Он говорил наставительно и просто и самые элементарные вещи. Из слов его я понял, что он был в числе пяти или восьми человек, решившихся прошлой ночью работать впереди наших окопов.
Потом, после митинга, я подошел к нему и заговорил. Он оказался евреем – заграничным художником, который, вернувшись из‐за границы, пошел в строй. Это была почти святость. Ни солдат технический, ни пехотный офицер, ни комиссар, ни один человек, который имеет запасную пару сапог и белья, не может понять всей солдатской тоски, всей тяжести солдатской ноши.
Этот еврей-интеллигент на своих сапогах нес тягу земли.
После меня говорил Анардович. Он говорил убежденно, он был проспиртован духом Совета насквозь93, счастливый, не знал всей тяжести и сложности нашего положения. Его убеждения делали его простым и убедительным. В его часовой речи были собраны все общие места всех советских речей. Революция в его душе образовала свои нормы. Он был похож на ортодоксального христианина.
Потом пошли по каким-то темным уличкам и опять говорили, обращаясь к темной, невидимой нам толпе людей с лопатами, которые не знали – идти или не идти.
Кинбуржцев мы убедили.
Ночевали где-то в штабе полка. Ночью, заспанные и смятые, как солдатская шинель, поехали дальше, говорить с Малмыжским полком.
Опять разговоры. Здесь меня ожидала новость. Группа солдат объявила мне со счастливой улыбкой: «Вы нам не говорите, мы ничего не понимаем, мы мордва». Потом поехали, кажется, к уржумцам94. Самое тяжелое было то, что приходилось всюду являться в виде последнего довода и все время действовать в самых тяжелых местах.
Уржумцы, или не помню, как звали этот полк, стояли в окопах. Обходили узкую щель траншеи. Среди двух близко друг к другу прижавшихся земляных серых обрывов траншеи скучали посаженные в яму люди. Полк был растянут чуть ли не на версту. Окопники жили по-домашнему. Кто в маленьком походном котелочке варил себе на обед рисовую кашу, кто подрывал в стене себе норку на ночь.
Высунешься из узкой траншеи, увидишь только стебли травы да услышишь редкое, неторопливое посвистывание пуль.
Обходя, говорил с солдатами, они как-то жались.
По дну траншеи под поперечными досками помоста тек узкий ручеек.
Мы шли по его течению. Чем ниже становилась местность, чем больше сырели стены, тем сумрачнее были солдаты.
Наконец траншея оборвалась. Мы вышли на болотце. От неприятеля нас отделяла только невысокая, из мешков с землей и из дерна сложенная стенка.
Рота, состоящая почти исключительно из украинцев, собралась и сидела. Стоять было нельзя – опасно. Стенка слишком низка.
Полная растерянность чувствовалась среди этих людей. Мне показалось, что они сидят так всю войну.
Я заговорил с ними об Украине. Я думал, что это большой и важный вопрос. По крайней мере, в Киеве вокруг него шумели чрезвычайно. Они остановили меня:
«Нам это не нужно!»
Для этих солдат вопрос о самостийной или несамостийной Украине не существовал. Они сразу же сообщили мне, что они за общину. Не знаю, что они под ней подразумевали. Может быть, только общий выгон. Солдаты были словоохотливы, очевидно, они очень радовались свежему человеку, но не знали, что именно нужно спросить, чтобы ответ сразу разрешил их сомнения. Умение задать вопрос – большое умение. Унтер-офицер, очевидно популярный среди своей роты и стоящий среди сидящих солдат как председатель, спросил меня:
«А вот наши ребята беспокоятся, правда ли Керенский не социал-революционер, а социал-демократ, так что они беспокоятся?»
Я ответил на его вопрос. Хотя ответ, казалось, и рассеял его сомнения, но все же он не был удовлетворен краткостью его.
Казалось мне, что вот солдаты будут слушать такого унтера, который и сам не понимает, и говорит непонятно, а потом скажут: «А ну тебя» – и пойдут в разные стороны.
Прошел в офицерское собрание. «Плох наш полк, – говорили офицеры, – плох, ненадежен».
И мне так казалось. Но что сделать?
Смотрят тебе в руки, ждут чуда. А я, не сделав чуда, поехал в Станиславов.
Опять тот же город. Польский, скрытно враждебный. Чистый, разоренный. Мне сказали, что нужно ехать в 11-ю дивизию. Там дело было еще хуже. Свежая, недавно пополненная дивизия не хотела садиться в окопы. Вообще сажать в окопы дело трудное, но здесь было хуже обычного. Поехал. В дороге все не ладилось, лопались шины, слетали съемные обода, в автомобиле чувствовался упадок, хотя шофер явно старался довезти нас во что бы то ни стало. Приехали. Сперва в штаб, кажется, Якутского 41‐го полка95. Маленькая галицийская избушка, довольно чистая, внутри пестрая. Командир полка сообщает, что его полк категорически не хочет идти. Собираем митинг. Среди поля ставят двуколку, обставляют ее срубленными березками или кленами, рядом держат еще не линялое красное с золотом знамя. Жара. Солнце давит. В воздухе высоко немецкий аэроплан приглядывается, как русские готовят наступление. Говорил сперва Анардович. Обычная речь, по «Известиям», говорит без шапки, солнце сверкает на бритой голове. Кто-то из толпы сказал: «Правильно!», его ткнули соседи, и он замолк. Полки не знали свободы слова, они рассматривали себя как одну голосующую единицу. За противоречие били. В Малмыжском полку за оборонческую речь так избили телеграфиста, что он ушел на четвереньках.
После Анардовича говорил я. У меня странная привычка – говоря, всегда улыбаться. Это дразнит толпу, особенно если она угрожает. «Смеется, беззубый!» После нас говорил солдат-коновод, говорил плохо, но недемагогично; его доводы были таковы: во-первых, не надо трогать немца, растревожим его, а потом не справимся; во-вторых, не надо трогать 11-ю дивизию, которая только что снята из окопов, причем ей был обещан отдых, а генерал перед посадкой сказал: «Поздравляю, товарищи, с отдыхом». Говорили и не договорились ни до чего. Поехали в следующий полк – то же: полки стоят на своем, говорят, что никуда не пойдут. Заехали в штаб дивизии. Там на мызе, довольно чистой, сидит компания – начальник дивизии, который чувствует себя виноватым, хотя и не знает в чем, священник, несколько штабных и несколько членов, кажется, Симферопольского Совдепа, которые приехали на фронт с подарками и сильно удивляются, как все это не похоже на то, что они ожидали. Говорили и они о наступлении, но их чуть ли не избили. Мы присоединились к этому блоку и печально пообедали.
Шел дождь, шинели мы забыли в полку. Но дивизию нужно было двинуть во что бы то ни стало. Слова «во что бы то ни стало» так вертелись в моем мозгу, что впоследствии в Персии мне казалось, что «Вочтобытонистало» – это одно слово, а «Вочтобытонистало» – город в Курдистане. Поехали двигать дивизию. Вызвали Филоненко. Еще до его приезда узнали, что пулеметные команды, роты гренадер и инженерные – за исполнение приказания, что они стоят даже отдельным лагерем и держат свое сторожевое охранение от прочей пехоты. Должен сказать, что все квалифицированные части армии были за наступление, а главное – за сохранение порядка и организованности. Люди городской культуры – более самоотверженные, у них в голове больше воображения, и они не могут представить себе «11-ю дивизию» или «5-ю роту» как нечто автономное. Но нам нужна была дивизия, а не отдельные команды. Собрали через полковой комитет всех главарей, не согласных с нами. Сказали им, что стоять и гнить нельзя, нужно или воевать, или разбегаться. Вопрос шел о жизни каждого из говоривших. Обещали произвести следствие, отчего обманули 11-ю дивизию, подманивая к окопам обещанием отдыха. Расстались все с изорванным сердцем, сильно недовольные друг другом. А 11-я дивизия все же «пошла». Первыми снялись и ушли пулеметчики, ведя пулеметы в тылу и готовясь к нападению, потом ночью сбежала от полка пулеметная рота, за ней пришли к Станиславову остальные, где и стали, держа друг против друга караул. Но все же дивизия была передвинута. Привожу столь подробно эту историю для того, чтобы показать, как решались задачи средней трудности.
Мы приехали в Станиславов еще раньше 11‐й дивизии.
Здесь Филоненко устроил в кинематографе грандиозное собрание делегатов всех полковых и ротных комитетов 12‐го корпуса, то есть ударной группы. Единогласно решили наступать. Из комитетов были выделены боевые комитеты для помощи командирам, а остальным комитетчикам – идти в цепь. Все голосовавшие за это люди, быть может, и ошибались, но они ошибались жертвенно, честно, решаясь на смерть, только бы разорвать на шее революции петлю, затянутую войной. Пока мы возились с 12‐м корпусом, в соседних корпусах было неважно. Пришло известие, что Глуховский полк 79‐й дивизии – забыл его номер, но никогда не забуду его имя – находится в состоянии полного разложения. Офицеры разбежались, полковой комитет переизбирался три раза и сейчас тоже не имеет доверия солдат; они запретили комитетчикам разговаривать в комнате, так что комитет мог собираться только на улице среди митинга. В соседнем полку той же дивизии избили председателя полкового комитета, доктора Шура96, старого бундиста; предполагалась провокация присланных на фронт городовых. Избитый доктор был посажен под арест, поехал выручать его Филоненко, ему это удалось сделать без артиллерии и кавалерии. К глуховцам поехали втроем: Филоненко, Анардович и я, оставив Ципкевича организовывать корпус к наступлению. Ципкевич был превосходным организатором некогда в боевой дружине, потом в Николаевских судостроительных заводах и, наконец, в 8‐й армии, где комитетчики перед ним благоговели.
Схема его работы была такова. Вечером командующий корпусом сообщал ему задания армии на завтрашний день. Ночью Ципкевич раздавал участки комитетчикам и рассылал их, днем они телеграфировали результаты. Особенное внимание было обращено на переброску войск и проталкивание грузов. А мы – пока Ципкевич разгрызал революционными методами железнодорожные пробки – поехали к глуховцам.
Глуховцы стояли у нас на левом фланге в Карпатах, недалеко от Кирли-Бабы. Еще при Николае этот полк два или три раза бегал с позиции – по крайней мере, так хвастался он. Место, где он стоял, глухое, бездорожное, дождливое, унылое. Дорога шла, все повышаясь и повышаясь, временами открывался вид вниз на деревни, на холмы, ступенями опускающиеся в долину.
Наконец подъехали к двум маленьким горелым городкам, разделенным мелкой, но быстрой горной рекой. На железнодорожном мосту узкоколейки, начинающейся отсюда, висел крохотный паровозик с одним буфером на груди. Когда-то, отступая, сбросили его, он повис и висел. Городки эти зовут Кута и Выжница, они стоят уже в воротах Карпат. Дальше дорога пошла, как вообще в Карпатах, вдоль реки. По противоположной стороне тихонько катился поезд узкоколейки. Дорога мучительная. Крутые подъемы, бревенчатая мостовая, одна выдерживающая дожди Карпат, – все это вместе делало путь страшно трудным. По бокам склоны с темным мехом мрачных елей, иногда почти вертикальная пашня, казалось, что лошадь и пахарь могли влезть и пахать на такой круче только на четвереньках, да еще держась за камни зубами. По дороге изредка встречаются старые гуцулы в цветных коротких полушубках, с черными зонтиками в руках. Артели подростков-женщин чинили дорогу и с готовностью улыбались автомобилю. Шел дождь; минутами не то что светало, а как-то серело, и дождь переставал. На полпути автомобиль не выдержал, изорвал шины и стал. Была ночь. Перешли речку вброд. Ночевали в гуцульской избушке. Выглядит – как жилище Пер Гюнта97. Утром на шинах, кое-как заплатанных, на одной покрышке, набитой мохом, поехали. Приехали в полк. Штаб пустует. Встретил нас прапорщик. Вид подозрительный, очевидно, что он в свое время вел кампанию против офицеров и комитетов и лез в «Муравьевы»98, как я бы теперь сказал; но, когда все раскачалось и разошлось, убоялся, и сейчас все его честолюбие исчерпывалось мечтой поехать в отпуск. Полк был невыносим. Унтер-офицеры из него почти все сбежали в ударные батальоны. У него не было уже ни дна ни покрышки.
Комитет отговаривал нас от митинга, но мы решили митинг собрать. Среди луга стоял помост. Собрались солдаты, пришел оркестр. Когда оркестр играл «Марсельезу», то все держали руки под козырек. Получалось впечатление, что у этих людей еще что-то есть и полк не обратился в сукровицу. Долгая окопная жизнь измучила полк, многие ходили с палочками, с повадкой слепых, у них была куриная слепота. Измученные, оторванные от России, они сложились в свою республику. Исключение представляла опять-таки пулеметная команда. Повели митинг. Слушали неспокойно. Прерывали криками: «Бей его, он буржуй, у него карманы на гимнастерке», или: «Сколько с буржуев получаете?» Мою речь мне удалось договорить, но в то время, когда говорил Филоненко, толпа под предводительством некоего Ломакина вбежала на помост и схватила нас. Нас не били, но напирали на нас с криками: «Мутить нас приехали!» Один солдат снял сапог и все вертелся, показывая ногу и крича: «У нас от окопов ноги, ноги попрели». Нас уже решили вешать, так просто – вешать за шею, но тут всех выручил Анардович. Он начал со страшной матерной брани. Опешили и осели. Для него, революционера уже 15 лет, эта толпа казалась стадом безумных свиней99; он не жалел их и не боялся. Мне трудно передать эту речь; знаю только, что он, между прочим, сказал: «Я и из петли скажу вам – сволочь вы». Подействовало. Нас начали качать и на руках донесли до автомобиля. А когда мы поехали, бросили нам вслед несколько камней.
С полком в конце концов Анардович справился. Приехал один, велел отдать винтовки, построил поротно, семьдесят человек отделил и послал под конвоем одного казака в корниловский батальон, где эти люди сказали, что они «подкрепление» и дрались не хуже прочих, а остальных привел с собою на место. Полк оказался не хуже других. Конечно, все это в результате было бесполезным, мы боролись с разложением в отдельных полках, а это разложение – процесс разумный, как все существующее, и происходил во всей России.
От глуховцев поехали обратно через Куту в Станиславов. Там уже шла артиллерийская подготовка наступления. 700 пушек не торопясь, с прицелом разбивали немецкие окопы. Это для артиллеристов не тяжелая, а веселая работа. Можно обедать, пить чай, а потом стрелять снова. Не то что неприятная стрельба при отбитии атак противника. Несмотря на то что авиация немцев превосходила нашу совершенно безмерно, наши артиллеристы, не пользуясь воздушной разведкой, все же стреляли прекрасно. Я смотрел на обстрел с чердака через приподнятые черепицы крыши высокого дома, так как специальный наблюдательный пункт был переполнен: их было сперва два, но один был разбит неприятельским снарядом, наблюдатели погибли, для похорон собрали только клочья мяса.
В картине обстрела чужих позиций поразило меня то, что шуму очень мало, как-то мало гремели пушки или гремели не все сразу. Из окопов противника били фонтаны земли, по высоте фонтана можно было догадаться о калибре снаряда. А в воздухе над Станиславовом висели двухцветные облачка разрывов австрийских шрапнелей. Около часу дня 23 июня 1917 года штаб на наблюдательном пункте получил известие, что кинбуржцы устали ждать и идут в атаку, не дожидаясь полного разрушения неприятельских проволочных заграждений.
Наш огонь, все тот же, спокойный и неторопливый, был перенесен на резервы противника. С крыши было видно в бинокль, как выбегали из наших окопов маленькие серые люди и бежали через поле. Сперва наши появлялись на отдельных участках, потом извилистая цепь наступающих опоясала весь наш фронт. Я плакал на крыше.
Уже сообщали, что первая атака прошла через три ряда неприятельских укреплений; атака была превосходная, успех развивался. Я слез с крыши и отправился на фронт. Шел пешком по шоссе, через наши окопы к австрийским. Перешел Быстрицу. По бокам дороги там и сям виднелись ямки, в которых окапывалась наша наступающая пехота. Австрийские окопы были разбиты очень сильно. Они поражали своим благоустроенным видом. Сейчас в них копошились изредка солдаты, ища сахару. Комитетчикам удалось уничтожить вино, иначе солдаты перепились бы. Через поле, устало шагая, шла вторая и третья русская наступающая цепь. Везде валялось австрийское оружие, шинели, каски. Удар был неожидан для неприятеля, несмотря на наши долгие о нем разговоры. Начальник австрийской артиллерии был убит у 40-сантиметрового орудия. Но продвинулся еще не весь фронт; где-то влево от шоссе как будто стучали палками о палки: то шел ружейный и пулеметный огонь. Я дошел до штаба 11‐й дивизии, меня узнали, но всем было не до меня; палки стучали все чаще и чаще, бой занимался. Пошел смотреть австрийские окопы. Хороши окопы! Даже с броневыми башнями для наблюдателей.
Пришло известие: австрийцы сломлены по всей линии; перестрелка утихла. Пошел дальше. Из Станиславова пришли броневики, посланные для погони за противником. Они стояли перед небольшим, разрушенным австрийцами мостом и засыпали канаву. Встретил здесь одного товарища, его потом убили в боях этого же дня. Пошел дальше, убитых видно мало, раненые идут и идут, пока больше наши; значит, противник еще нигде не отрезан. А вот под кустом лежит у самой дороги убитый, лежит тихий, рядом с ним завтракают австрийскими консервами спокойные солдаты и ставят жестянки на труп.
На автомобиле меня догнал довольный Филоненко. Поехали вместе, немецкие аэропланы летали низко-низко, совершенно не боясь нашей стрельбы; я думаю, что они были бронированы, временами они опускались так низко, как будто хотели сбить хвостом наш автомобиль. Или бросали в небо красную ленту, вертикально повисающую над нашей цепью, для того чтобы корректировать стрельбу своей артиллерии.
Снаряд упал перед радиатором нашего автомобиля; думаю, что выстрелили по облаку пыли. Мы вкатили в вихрь песку и камней, поднятых взрывом, успели только закричать и уже проскочили.
В первый день войска достигли линии реки Повельчи, где и закрепились. Приехали туда, все в превосходном настроении, хотя полк при наступлении налез на полк и все спуталось и перемешалось. К вечеру стали известны первые результаты наступления: фронт противника был разорван, мы прошли верст десять, взяли две немецкие дивизии в вагонах и более трех тысяч пулеметов.
Я пишу все это почти через два года. Наше наступление было 23 июня 1917 года по старому стилю, а я пишу в Троицын день 1919 года100. От глухих и далеких выстрелов пушек слегка подрагивают окна дачи, в которой я живу (Лахта101). Где-то, кто-то, не то финны, не то какие-то анонимные бельгийцы102, бьют каких-то мне неведомых «наших».
На другой день опять поехал на фронт. Повельча пройдена. Наши потери были ничтожны. Знаю, что Камчатский полк, который я встретил, потерял 40–50 человек.
Проехали через фронт, отпустили автомобиль и пошли пешком с разведчиками.
В продолжение двух или трех дней мы часто выходили с разведчиками за нашу линию. Наступление шло порядком необычным. Впереди всех шла наша легкая артиллерия, даже без прикрытия; она едва успевала становиться на позицию и сделать несколько выстрелов, как уже приходилось идти дальше. Австрийцы потом переняли эту манеру у нас, и при встречных боях в Долинском направлении нам приходилось убеждаться, что у них артиллерия вышла непосредственно в цепь. Но в те дни артиллерия гуляла и вне цепи. За артиллерией шла пехота, за пехотой кавалерия. «Дикую дивизию» не удалось использовать, кажется, из‐за пересеченной местности. Вообще же она была много хуже нашей регулярной кавалерии, которая очень хороша. Кавалеристы впоследствии одни прикрывали наше отступление. Это были еще кадровые солдаты. В то время настроение у них было почти шовинистическое. Они говорили: «Мы за мир без аннексий и контрибуций, но за войну до полной победы». Пока же преследованием противника занималась артиллерия.
А в нашем тылу двигались и сшибались огромные, тяжелые, с непрерывным грохотом идущие обозы наступающей армии.
Так ясна была разница между тонкой-тонкой, не цепью, не линией, а ниткой русского фронта и огромным перегруженным тылом.
Помню один наш переход. Вышли вечером. Со мною милый Вонский, энергичнейший одессит, который умел пропихивать через Станиславов неопределенно большое количество раненых. Справа перед нами горящая деревня. Зажгли австрийцы. От пожара еще темней. Издали стреляет по пламени уходящий противник.
Солдаты черпают воду из колодца котелками, привязывая их на телефонный провод.
Идем дальше во тьму.
Нагоняют броневики. Окликают. Узнает ученик-шофер. Решаем ехать дальше. Узкий однобашенный «ланчестер». Душно и жарко внутри. Оклеенные толстым войлоком стены украшены портретами Керенского и кусками кумача.
Едем, въезжаем в лес, в котором, говорят, водятся австрийские части. Никто не стреляет.
Останавливаемся. Опять горящая деревня сбоку, за лесом. Неприятель стреляет по лесу. Значит, он уже очистил его. Случайный осколок ложится у ног. Все начинают говорить шепотом. Весь лес, вся дорога усеяны тяжелыми германскими боевыми шлемами с низко опускающимися назатыльниками и козырьками, винтовками… лопатами… проволокой в мотках.
Утром нагоняет нас автомобиль с корреспондентами. Один из них Лембич из «Русского слова»103. Помню, как он рвался в Станиславове к телеграфу. Значит, едет писать корреспонденцию из третьих рук, похожую на правду, как облака на цимбалы.
На другой день поехали дальше. По дороге встретили офицера-артиллериста с картой в руках; он искал высоту 255 и спрашивал о ней чуть ли не у прохожих. Карты читать он не умел. Не знаю, откуда он взялся.
Так, катясь совершенно незаметно, мы доехали до Галича. Галич был только что занят104 отрядом разведчиков, кажется, Заамурской дивизии – зеленые канты105 – и взводом броневиков, кажется, 7-й армии. Крохотный городишко, которого никто бы и не заметил, если бы не его крупное стратегическое значение – предместное, очень сильное укрепление, – был пуст. Немцы ушли, взорванный мост был так пустынен, как будто это и не мост, а сфинкс в пустыне. На противоположном берегу видны два наших разведчика, переплывшие реку или перешедшие вброд. Глубоко под мостом быстро и невнимательно пробегали волны Днестра мимо опостылевшей им войны.
В городе домов десять. В одном люди, наших войск с комиссарами вместе (я и Ципкевич) человек тридцать. На высокой горе торчат развалившиеся черные стены замка Даниила Галицкого106. Все то же, что я видел еще в 1915 году, когда вел в снежную вьюгу автомобиль из Брод через Галич на Львов, Станиславов и Коломею. А сейчас я заехал в Галич из Станиславова и думал, что еду по дороге в Львов. Мы так изменили свои фронты, что, когда находили свои старые окопы, они были нам против шерсти.
Но в Галиче было и кое-что новое. Это прекрасные немецкие укрепления.
Были вырыты норы, укрепленные двойной обшивкой из толстых бревен и подрытые под самое основание высокой галицкой горы. Были построены громадные погреба для артиллерийских снарядов, а вокруг всего этого кегельбаны, души и беседки из белых, с неободранной корой стволиков березы.
Обычно немцы, оставляя позиции, очищают их «под бритву», даже метут пол, чтобы в мусоре не оставить какие-нибудь бумаги – например, конверты от писем, по которым можно было бы догадаться о составе занимающей части.
На этот раз они поторопились и оставили и снаряды, и кое-какие неважные бумажки. Артиллерия была увезена ими вся. Солдаты развлекались в занятом городе, как обычно. Пускали ракеты, пробовали гранаты, брали снаряжение, чтобы бросить его через несколько шагов. Было солнечно и очень мирно. И тихо, тихо, как в курорте осенью после разъезда.
Поехали обратно, и мимо разбитых, догоревших деревень, мимо лесов, уже больше не шепотных, мимо часовен, в которых днем желтым пламенем горели кем-то зажженные свечи, я въехал в Станиславов.
Здесь мне сказали, что я должен ехать в 16‐й корпус, то есть в район деревни Надворной. Неприятеля там почти не было; может быть, в окопах остались одни сторожевые охранения, а может быть, только сторожевые собаки. Противник уходил, но третьеочередные дивизии не решались наступать, хотя перед ними была пустота торричеллиева107, которая их всасывала. Меня послали передвинуть части. Поехал, снова увидел генерала Стогова, который старался скрыть позорное состояние своих частей, но, конечно, не мог. Корнилов писал ему: «Занять деревню Рассульну»; он отвечал: «В деревне Рассульне противник», – на что Корнилов очень вразумительно телеграфировал: «Если есть противник, его надо выбить», – а войска не бились и не выбивали.
Приехал. На Космачке, той самой круглолесой горе, которую я видел уже из Александропольского полка, стоит одинокая австрийская пушка и пугает. Стреляет то вправо, то влево, то по дорогам, то по тем местам, где можно было предположить стоянку штаба и где он, конечно, стоял. Наша артиллерия молчала, не могла не молчать. Знали, что перед нами неприятельского фронта нет. Бить по деревне – жаль людей, бить по лесу – жаль снарядов, и били так, для очистки совести, по одной Космачке. В поле стоит пламя – это местная неопалимая купина: нефть, зажженная еще два года тому назад в буровой скважине, все еще горела.
Проехали по фронту. Австрийцы уже отступили и очистили свои старые окопы.
Окопы хорошие, сухие, хотя место болотистое, с редким ельником, совсем петербургское болото. Везде домики, везде те же беседки из неободранной березы.
Вышел на наш фронт. Иду лесом и все встречаю одиноких людей с винтовками, больше молодых. Спрашиваю: «Куда?» – «Болен». Значит, бежит с фронта. Что с ним делать? Хотя и знаешь, что это бесполезно, говоришь: «Иди обратно, стыдно». Он идет. Выполз на опушку. Какие-то обрывки. То здесь, то там кучки. Командир полка докладывает:
«Вчера такая-то рота убежала, вчера такая-то в панике открыла огонь по своим».
Собираешь комитет. Комитет весь в цепи, затыкает собою дыры. Прихожу к какой-то роте, объясняюсь почти одними междометиями: «Товарищи, что же вы…» – «Мы ничего, мы стоим…» – «Идите в Рассульну». Начинают объяснять, что в Рассульну нужно идти полем, а пока пойдем, нас перебьют с Космачки. Тоска.
Взял винтовку и гранату. «Кто со мной в Рассульну?» Вызвался один разведчик. Идем полем то в траве, то в каких-то редких колосьях, быть может ржи. Дошли до деревни, дорога пуста.
Идем в первую избу. Перепуганные бабы спрашивают нас шепотом: «Что, скоро придете?» Ничего не говорим. Мальчик лет семи или восьми, белокурый и тихий, на полупонятной мне галицийской мове108 зовет посмотреть на австрийцев. Идем уже ползком.
У моста в речке редкая цепь австрийцев ставит на переносных железных тонких кольях-прутьях наспех проволочные однорядные заграждения.
Одному или вдвоем выбить их невозможно. Тоска. Взял с оставленной батареи кое-какие брошенные бумажки и пошел прямиком через поле к нашим. Пришел, оставил разведчика и ушел. Думаю, пусть он расскажет.
Посоветовал обстрелять «фронт» артиллерийским огнем, пустить в Рассульну броневики, может быть, тогда сзади приплетется и наша пехота.
Так и сделали, и, чуть ли не подталкивая в спину коленом, втащили войска в Рассульну. В Рассульне они чуточку ободрились, страшную Космачку, при взятии которой чудилось пролитие моря крови (другая знаменитая гора, Кирли-Баба, была действительно мощена костями), обошли, но благодаря нашему промедлению австрийцами была увезена вся их артиллерия.
Именно в Рассульне нашли мы немецкое штабное руководство к братанию…
Стоило ли тащить такие войска? Почему мы не понимали, что нельзя воевать, имея такую слизь на фронте? Потому отчасти, что мы не имели иного выхода из войны, как крупная победа над Германией, которая одна – по нашему мнению – могла поднять революцию в ней. Все же ведь танки раздавили трон Вильгельма109. И мы не смели видеть невозможности и шли через невозможность.
Кроме того, мы знали, что перед нами тоже не армия, а слякоть, которая была положительно хуже нашего 16‐го корпуса, но много его трусливее; но, увы, она хоть приблизительно, но исполняла приказания.
И вот мы вошли в Рассульну.
Не помню, уезжал ли я из Рассульны или нет. Помню себя несколько дней перед ротой солдат, которая сбежала с позиции. Я ругательски ругаю ее. Она кается и потеет. Идет дождь. Я решаюсь сам вести эту роту обратно. Фронт уже в верстах 20–30 от Рассульны.
С палочками в руках мы идем через черный, высокий под дождем, мрачный лес. Мы идем в деревню Лодзяны.
Идем. Дорога временами перерезывается траншеей, засыпанной землей. Земля осела, и образовался глубокий ухаб, в котором мучаются застревающие обозы. И никто не слезет и не положит в выбитую яму хотя бы мешки с песком, которые лежат кругом тысячами, так как из них был сделан бруствер окопа.
Странная нация. Она не умеет даже дорогу починить. И так и пройдут тысячи телег, проваливаясь в одном и том же месте, и тысячу раз вспотеют тысячи лошадей и в три раза более тысячи людей.
В деревню Лодзяны пришли ночью. Опять жалобы. Жалуются несчастные командиры третьеочередных частей. Части были пополнены городовыми, кадровыми фельдфебелями, которые развивали противовоенную агитацию со всей силой своей сравнительной интеллигентности. Городовые были еще лучше «шкур», среди них попадались порядочные люди, которые хотели «заслужить» и «искупить». Разжаловал, не имея на то и тени права, нескольких фельдфебелей в рядовые за бегство.
Настроение войска неважное. При сравнительно легком переходе брошены солдатами шинели. Мерзнут, завертываясь в одеяла. Здесь мне сказали, что ударный батальон 74‐й дивизии отказывается занять позицию.
Для ударного батальона даже мне, человеку уже привыкшему, это показалось слишком трусливым. Пошел выяснить и сразу попал в толпу измученных и изнервничавшихся людей. Пошли жалобы. Оказалось, что батальон состоял из кадровых солдат, унтер-офицеров, сбежавших от развала своих частей. Но и в своей части они нашли тот же развал, уже не от нежелания солдат, а от неумения организоваться. Батальон не имел повозок, не имел патронов к своим японским винтовкам, то есть был безоружен, если не считать гранат, подобранных в австрийских окопах. И ему было приказано занять позицию.
Достал откуда-то через приехавшего Вонского винтовки, патроны и послал их в бой. Почти весь батальон погиб в одной отчаянной атаке.
Я понимаю их. Это было самоубийство.
Лег спать. Ночью поднял меня с отчаянным воплем хозяин-русин110, солдаты косили у него зеленый хлеб. Поднялся и ночью бегал по росе. Утром приехал Корнилов и приказал как можно скорей вывезти все снаряды, захваченные нами от австрийцев из деревни.
Фронт тянулся около последних изб, место было неспокойное. Днем солдаты убили двух евреев, про которых говорили, что они сигнализировали. Я уверен, что это было не так. Сочетание трусости с шпиономанией невыносимо. И все же кровь эта как-то легла и на меня. А фронту нужно было продвинуться дальше. Наша артиллерия стреляла все чаще и чаще, отгоняя австрийцев. Те держались некрепко; правее нас, в районе 42‐й дивизии, где был в это время Анардович, они бежали от одного шрапнельного огня.
С высоты нашей деревни было видно, как австрийцы эвакуировали прифронтовую полосу, отправляя в Долинском направлении поезд за поездом почти без перерыва. Очевидно, эвакуация заканчивалась. Готовили сдачу.
На другой день разыгрался уже настоящий бой. Бой шел не то по Ломнице, не то по Повельче, сведения все время поступали самые разноречивые и неуверенные, какое-то военное бормотание. Пошел на фронт. В лесу попадаются отдельные люди. Нашел штаб полка, там тоже почти ничего не знают. Бой идет в лесу, части то отступают, то продвигаются вперед. Связи вдоль фронта нет. Пошел вперед, перешел речку, теплая вода которой сразу залилась в сапоги и стала пищать и хлюпать в них. Через ряд полянок попал в еловый лес, где уже свистели пули и тявкали деревья под рикошетами.
Иду лесом и сразу попадаю в нашу цепь. В мокрой от ночного дождя земле вырыты отдельные ямки и неуклюже вывернуты пни с перерубленными корнями. В ямках вода, в воде лежат люди, мокрые, усталые. Два-три офицера прячутся за деревьями, но стоят. Видно, не знают, что нужно делать. Беспрерывно стреляют пулеметы, и, кажется, зря. Нервно, нестройно раздаются выстрелы из винтовок. От отдельных солдат слышно ворчанье на офицеров:
«Разве они сзади должны быть, они должны на сто саженей вперед пойти».
Мне объяснили, что цепь не решается продвигаться. Перед ней венгры. Правый и левый полк уже почти на версту впереди. Обращаюсь к солдатам: «Идите вперед». Молчат… Так тоскливо было в этом лесу, в глухом углу революционного фронта. Я поднял лежащие рядом с головой какого-то солдата две русские жестяные бомбы, положил в карман и взял винтовку, перешагнул нашу цепь и пошел вперед. Выстрелы перед нами смолкли. Шел, кажется, шагов 60; канава, дорога, опять канава, и сейчас же за ней лежала цепь австрийцев. Я почти наступил на нее. Бросил бомбу вбок, вперед не мог, она попала уже за цепь. Желтое пламя вспыхнуло с глухим взрывом, меня слегка контузило… Время было неподвижно. Так неподвижны иногда в бурю тучи, когда их освещает молния…
И сразу с криком набежал, пробежал мимо меня в полном бешенстве наш полк.
Полк не выдержал и прибежал.
Помню атаку. Все кругом казалось мне редким, не густым, странным и неподвижным.
Помню желтые на сером мундире ремни немецкого лейтенанта. Лейтенант первый выскочил мне навстречу, после секундного остолбенения бросился, повернулся и упал, подгибая колено под грудь и как будто ища место, где бы лечь на землю. Желтый ремень пересекал его спину. Не я убил его.
Пробежавши окопы, я оглянулся: какой-то наш солдат, торопясь, стягивал с мертвого его офицерскую выкладку и вдруг сам упал рядом.
Мы шли атакой, в серый день, между мокрыми деревьями. Какой-то немец с криком: «Я ваш» – пал на колени и поднял руки. Наш солдат пробежал мимо, потом полуобернулся и, целясь в бок, выстрелил в него.
Цепь бежала скорее меня, я отстал. Я знал, что нельзя идти в атаку, стоя в полный рост, но мы обезумели. Ненависть к войне, к себе и усталость не позволяли думать о самосохранении.
Где-то влево в ольховых кустах заработал с редким стуком немецкий пулемет.
В тылу показалась группа австрийцев, спешащая к нам в плен.
Мы с разбегу вбежали в какую-то быстротекущую, почти опрокидывающую речку, сбили каких-то людей, которые хотели зацепиться и задержать нас, легши в завалы.
Потом пустая деревушка, с курами, бегающими по улицам. Кто-то стал ловить курицу. Нас осталось мало, большинство было выбито.
За деревней было еще проволочное заграждение, мы достигли его.
В этот момент оказалось, что у нас нет патронов. Полк расстрелял их, лежа в лесу. Я закричал: «Ложись окапываться». Мы были уже в глубоком прорыве.
В этот момент мне что-то согрело бок, и я почувствовал себя сбитым на землю. Вернее, даже почувствовал, что лежу на земле. Вскочил и опять закричал: «Окапывайтесь, сейчас будут патроны».
Я был ранен в живот навылет.
Казалось мне, что главное – уйти сейчас же отсюда. Хотя я знал, что раненному в живот нельзя шевелиться по крайней мере час-два, я пополз в тыл. Мне хотелось уйти из-под пулеметов.
Я мечтал не о Петербурге, не о деревне Лодзяны. Каждое место, хотя бы в трех шагах отсюда, казалось мне желанным.
Я полз и был счастлив. Пали ручьи в реки, пала в море река, я донес свою ношу.
Я снял пояс, бросил винтовку, хотя это и дурной тон для раненого.
Какой-то раненный в ногу солдат дал мне в шагах ста от боя бинт, снятый с убитого, и перевязал меня. Крови было мало. Так, пятнышко.
С ним мы ползли до речки и говорили друг другу все время ласковые слова.
До Лодзян было далеко-далеко.
За речкой уже были носильщики-санитары с палками от носилок на плечах.
Они сложили носилки, положили меня на них, покрыли и понесли вчетвером на плечах.
Мне было холодно, я вымок в речках. С трудом шли носильщики, вдавливая ноги в воду в быстро бегущей речке. Я ни о чем не думал. Было почти тепло. Только темно. Вечер.
Когда несут на плечах раненого, то он, лежа в обвиснувшей холстине, не видит почти ничего, кроме деревьев и неба. Мимо неба проносят всех.
Шли тропинками, потому что по шоссе австриец крыл артиллерией.
Принесли на перевязочный пункт.
Он был завален ранеными. Весь пол был занят. Меня положили у входа, но перенесли скоро, я считался раненным очень тяжело.
Подошел доктор. Я сказал ему, чтобы отправили телеграмму Вонскому о том, что я ранен. Он посмотрел рану и сказал, что пробита S-образная нисходящая кишка, и спросил:
– Курите?
– Нет.
– Закурите, ведь все равно. Икали?
– Нет.
– Ну, может быть, не умрете, но дайте адрес родных.
Кроме раны у меня был сильный шок, пульс слабый. Мне вспрыснули камфору.
Санитар снял с меня мокрые сапоги и куртку и попросил подарить: «Я от крови вымою, а вам больше не нужно…»
Перевязочный пункт был под обстрелом. Всех раненых торопились отправить в тыл. Меня с офицером, рука которого была размозжена от плеча до кисти, положили на дно патронной двуколки и отправили.
Везут. Все занято, все забито ранеными. Усталый возница ругается: «Куда вас сбросить?» Мы угрожаем ему: «Вези дальше, мы себя не дадим на дороге бросить». Не знаю, чем бы это кончилось. Уже светало небо. Наступало утро. По дороге нас встретил Вонский с автомобилем. Телеграмму передали ему случайно с мотоциклистом, и он приехал из 42‐й дивизии на багажнике того же мотоциклета. Меня с товарищем положили в машину и повезли в Надворную.
Я спрашивал, что на фронте. В 42‐й дивизии происходило приблизительно то же, что я уже видел. Австрийцы были слабы и бежали от одного шрапнельного огня, то есть из‐за совершенных пустяков, но наши части шли апатично, вяло или совсем не шли.
Бывало и так, что австрийский полк выбивался одними нашими офицерами, телефонистами и полковыми саперами. Врачи ходили резать проволоку, а части не поддерживали. Вся неквалифицированная Россия буксовала.
Привезли в Надворную. Передали, положили на новые носилки (кровати не было) и велели ждать. Сказали, что если у меня не будет перитонита, то буду жив. Я лежал слабый, но уже убежденный, что буду жить.
Госпиталь был еще «здоровый», с популярным старшим врачом. Наши санитары не работали и не ухаживали за ранеными, так же как не чистили лошадей.
Лучшие санитары были из пленных австрийцев. Австрийцы прежде всего дорожили местом, где их кормили и где с ними хорошо обращались, а потом, были более культурны и не могли, не умели плохо работать – так же как хорошо квалифицированный шофер не может небрежно относиться к своему автомобилю. В госпитале получил телеграмму от своего дивизиона. Писали, что считают меня исполнившим свое поручение.
Потом отыскался и пришел ко мне старый товарищ по первым дням военной службы, вольноопределяющийся Долгополов. Он был тоже ранен. Когда броневик стоял, затыкая дыру на фронте версты в 1½ шириной, снаряд попал в башню машины и оглушил всех находящихся в ней.
У Долгополова были вдавлены барабанные перепонки. Он все жаловался – чешется там, внутри уха, а почесать нельзя. Все же не лежал, а ездил почти каждый день в бой. Это был крепыш с сильной шеей, но с уже надломанной душой.
Несколько недель тому назад он побывал в Петербурге. По случайности у него были знакомые «новожизненцы»111. Он сперва напал на них, потом они рассказали ему, почему именно война ведется в интересах империалистов всех стран, и разбили бедному мальчику с шеей в 46 сантиметров всю его психологию солдата из интеллигента, отказавшегося от офицерства и уже имеющего три Георгия.
Казалось, что все правы, в ушах чесались вогнутые туда и ущемленные между слуховыми косточками барабанные перепонки, сердце не горело и тоже как-то ныло.
Но я еще наслаждался фактом жизни.
На исходе 8 или 10 дней приехали ко мне Филоненко и Корнилов. Корнилов привез Георгиевский крест112, которому я был рад, но как-то не мог суметь проделать весь ритуал приема с поцелуем. Корнилов немного огорчился. Филоненко был весел. Он распухал и взлетал. Сейчас он ехал уже комиссаром Румынского фронта. От него я узнал о тарнопольском разгроме113, о том, что сделали наши войска в Калуше, о том, как 3-го и 5-го выступили и растерянно замялись большевики114. О тяжести происходящих событий я не догадался сразу.
Но через несколько дней пришел старший врач, хромой, седобородый, немного сумасшедший кронштадтец, и сообщил, что мы спешно эвакуируемся.
Началась упаковка, все торопливее и торопливее, и вот эвакуация незаметно обращалась в бегство.
На нас не давил непосредственно неприятель, но в районе Тарнополя недели две тому назад ушло самовольно два полка, потом еще один, потом еще один не пошел куда нужно, и подмытый фронт рухнул115. Немцы послали в дыру кавалерию, и ей нужно было только сторониться, чтобы ее не затоптали беглецы.
Есть такая детская игра: ставят дыбком друг за другом деревянные кирпичики спирально, с таким расчетом, чтобы, падая, они задевали друг друга, потом толкают один, и разгром спешно пробегает всю спираль. Нас толкнула 7-я армия. Наш правый фланг был обнажен.
Все торопливее и торопливее собирали вещи. Земские и городские госпитали, как более нервные, уже сбежали, бросив очень ценные и нужные на фронте большие шатры.
Старший врач свирепствовал и держал солдат. Он чуть ли не сам с костылем стоял в воротах, не давая улизнуть пустым двуколкам. Уже истекал третий день эвакуации.
Пришли ко мне и спросили, могу ли я встать. Я надел шинель на белье, туфли, поймал автомобиль, сел на него и поехал.
Наш госпиталь тронулся уже без меня. Самых тяжелораненых, перевозка которых была невозможна, оставили с одной старшей сестрой, которая плакала вслед повозкам, но осталась. Кто-нибудь должен был остаться. Уже горела выброшенная из окон солома, госпитальный обоз огибал здание лазарета и вытаптывал и выминал огород, чтобы он не достался неприятелю.
Австрийцы-санитары несли раненых на плечах, они тоже не хотели попасть в плен к своим. Выехал в Надворную. Где-то раздают сахар, сколько возьмешь.
Горят склады. Раненые чуть ли не оружием отбивают места в самом последнем поезде, который медленно отползает… Люди на крышах, буферах, люди подвязывают себя под вагоны… Крохотный паровозик, надрываясь, тащит, пятясь задом наперед, длинную нитку поезда и, кажется, вот-вот сам сейчас разорвется.
Идет пехота. Едет артиллерия. Место госпиталей занимают перевязочные пункты. Снова слышна артиллерийская стрельба, говорят, что снаряды ложатся недалеко…
Попробовал распутывать обозы и подавать порожняк, но не мог: стало дурно.
Положили в переполненную санитарку и гужом повезли в Коломею.
Коломея была переполнена. Пошел в штаб. Нашел Черемисова, который тогда был уже командующим армией. Он был спокоен, но возбужден. Меня он не узнал. Не увидал даже. Не до того было.
Нашел знакомого, сел в поезд командующего, поехал в Черновицы. В том же вагоне ехали телеграфисты штаба и мирно играли на гитарах, ведя свои телеграфные разговоры.
Не доехав до Черновиц, поезд стал. Вперед пропускали грузы. Слез с поезда, сел в обозную телегу и доехал до Черновиц. Там поехал в Кауфмановский лазарет116. Чистый, тихий, дисциплинированный, уже совсем городского типа. Мне сказали, что у меня инфильтрат. Кажется – это значит внутреннее кровоизлияние. Сказали, что дело плохо. Лежу. Тихо в палате.
Молоденький офицерик с перебитым позвоночником лежит и вышивает гарусом, он никогда не сможет ни встать, ни даже сидеть.
Другие раненые офицеры упрекают меня, до чего мы довели Россию.
Приехал Вонский. Он ездил искать меня в Надворную, с ним комитетчик, тихий народный учитель-мордвин.
Рассказывают, как идет отступление. Фронт расклепан, немцев держат только броневики, зенитные пушки на автомобильных платформах. Броневики держались 16 часов. Халил Бек117, мой старый товарищ, кавказец, подполковник, 26 лет, детски веривший тогда в Советы и даже переставший пить после воззвания о вреде пьянства, держался 5 часов во взорванной машине, потом был ранен в 12‐й раз и вынесен из-под обломков на руках. Потом опять ходил в атаку, уже с пехотой.
Одиннадцатая кавалерийская дивизия держала немцев в конном и пешем строю; у ней не осталось целых солдат, она почти уничтожена.
Люди подхватывали рушащуюся армию на свои руки, подставляли под ее тяжесть свои головы. Это была такая печальная любовь.
Как-то менее тих стал госпиталь. Я чувствовал, что Черновицы эвакуируют118.
Я просил, чтобы мне дали сопровождающего. И вот меня на носилках перенесли в санитарный поезд, в вагон тяжелораненых.
Медленно, по-фронтовому пополз поезд. Мы ехали 11 верст 24 часа. Это было мучительно скучно…
Я слез с носилок и вместе со своим солдатом улизнул с поезда, и мы поехали то с отступающей артиллерией, лежа на плохо сложенных снарядах, то в санитарных вагонах, то с эшелонами. И так по дивно красивой, идущей по верху скалистого берега Днестра дороге через Могилев я добрался в Киев. Оттуда на полу, в купе, в Питер. В милый, грозный город русской революции.
В Питере меня опять положили в лазарет, но, увидав, что я жив и, очевидно, не скоро умру, – отпустили.
Я был как солдат освобожден от службы.
Так кончился первый мой выезд на фронт. Первый за время революции. Теперь я бросаю на время говорить про себя и скажу о всем фронте.
Я не люблю книги Барбюса «Огонь»119 – это сделанная, построенная книга. Про войну написать очень трудно; я из всего, что читал, как правдоподобное ее описание могу вспомнить только Ватерлоо у Стендаля120 и картины боев у Толстого. Так же трудно, не прибегая к условным и ложным местам, описать настроение фронта. Никогда, никакой летчик, даже при планирующем спуске, не сможет услыхать слов, даже самых трогательных. Всякий, кто хоть раз летал, знает, что это невозможно. Никогда я не поверю, пока это мне не докажут статистики, что на Западном фронте так много дрались в штыки или что возможно разрушить руками немецкую лисью нору и затоптать дыру ногами. Никогда не поверю я в эту книгу, с окрошкой трупов, с концом, размытым наводнением и рассуждениями.
Но буду говорить. Попробую рассказать, как я понял все, что произошло.
Армия России имела грыжу еще до революции. Революция, русская революция с максимализмом демократизма Временного правительства, освободила армию от принуждения. В армии не осталось законов, не осталось даже правил. Но был состав квалифицированных людей, способных на жертву и на держание окопов. Возможна была война, короткая и молниеносная, без принуждения. Ведь на фронте враг – реальность, видно – пойдешь домой, и он пойдет сзади. Во всякой армии ¾ не сражаются; если бы появились в эту войну войска, которые сражались бы так, как работают люди на себя, они могли бы не только наступать на Германию, но идти через Германию на Францию. Когда Рогатинский полк, имевший около 400 штыков121, увидал, как при нем закололи немцы его полкового командира, он освирепел и избил в бою до одного целый немецкий полк в полном составе. Некоторые предпосылки для такого одушевления были, но две вещи убили его. Первая – это преступная, трижды проклятая, подлая, безжалостная политика наших союзников. Они не пошли на нашу программу мира, и они, именно они, взорвали Россию. Это и резонировало и выделяло голос так называемых интернационалистов122. Для выяснения их роли приведу параллель. Я не социалист, я фрейдовец.
Человек спит и слышит, как звонит звонок на парадной. Он знает, что нужно встать, но не хочет. И вот он придумывает сон и в него вставляет этот звонок, мотивируя его другим способом, – например, во сне он может увидать заутреню.
Россия придумала большевиков как сон, как мотивировку бегства и расхищения, большевики же не виновны в том, что они приснились.
А кто звонил?
Может быть, Всемирная Революция.
Но не все заснули или не все смогли увидеть тот же сон. К моему описанию армии необходимо внести следующую поправку. У меня было каторжное занятие: мне приходилось являться в худших частях и в худшие моменты. У нас были целые здоровые пехотные дивизии. Называю первую попавшую, ну, например, 19-ю. Поэтому большевикам пришлось резать и крошить армию, что и удалось сделать Крыленко, уничтожив аппарат командования и его суррогат – комитеты123.
Почему армия наступала? Потому, что это была армия. Для армии наступать не тяжелее, психологически не тяжелее, чем стоять на месте. И наступление менее кровавое дело, чем отступление. Армия, чувствуя свое распадение, не могла не использовать шанса своей силы, своего веса, пытаясь ею кончить войну. Это все же была армия, и потому она наступала прежде, чем умереть, а не умерла, потому что наступала. Наступление могло удаться и не удалось по обстоятельствам политическим, а не военным, части уже «засыпали». Они уходили в «большевизм» так, как человек прячется от жизни в какой-нибудь психоз.
Я буду писать дальше; я опишу корниловщину, как я ее знаю, и свое персидское сидение, но то, что я написал сейчас, я считаю важным, я написал это, помня о трупах, которые я видел.
Еще одно слово. Когда будете судить русскую революцию, не забудьте бросить в чашу жертву, в чашу, слишком легкую, вес крови принявших смерть среди галицийских кукурузных полей, вес крови бедных моих товарищей.
КОРНИЛОВЩИНА
Я приехал в Петербург слабым, почти больным. Пошел в свою часть. Видно было, как она расшаталась. Там, где было 30 машин, – ходило 5.
Пошел в Таврический дворец. В саду дежурили броневики с буквами ВСРСД, написанными красной краской на зеленой броне. Меня просили сделать Петроградскому Совету доклад. Я сказал что-то. Не знаю, поняли ли меня. Я хотел сказать, что армия гибнет124, и гибнет не только потому, что политика коснулась ее, но и потому, что, коснувшись, она не переделала все до конца.
Большевики были разбиты, разгромлены… Но это не значило ничего – они снова создавались.
В Питере встретил Савинкова и Филоненко. Главным их занятием было презирать Керенского.
После нашего бегства-отступления произошло заседание армейских комитетов Юго-Западного фронта, фронтового комитета и комиссаров в Каменец-Подольске. Оно проходило под гнетом сознания разгрома. И, несмотря на то что в середине заседания инициатор его Савинков ушел, оставив Филоненко одного, Корнилов был выбран главнокомандующим. Так вышло из отчаяния. Дальнейшая игра состояла – насколько я это понимаю сейчас – в том, что Филоненко, состоящий верховным комиссаром при Корнилове, должен был пугать Корниловым Временное правительство, а не Корнилова Временным правительством.
В это время и творились всякие государственные совещания125, на которых Корнилов произносил речи, написанные ему Филоненко.
Характерно, что в содержании этих речей и точности описания развала железнодорожного транспорта так и чувствуется голос и знание инженера.
Всему этому способствовали разные корреспонденты, раздувая игру. Один из них сказал Филоненко:
«Я помогаю вам, но, если вас повесят, у меня выйдет из этого прекраснейшая корреспонденция».
Шло запугивание. Правое крыло Временного правительства запугивало левое. В то же время шли еще и другие интриги. Часть командного состава – часть, как я знаю, очень небольшая – имела гораздо более широкие планы, чем простое «поправение» правительства. Позднее мне пришлось увидеть маленькие записки, которыми переписывались между собою люди этого лагеря. Писал командующий одной армии непосредственно командиру кавалерийского полка из другой армии о том, что необходимо выделить надежных офицеров и отправить их в Ставку для обучения метанию бомб. Таких метальщиков, я думаю, стягивали к Могилеву отовсюду, понемногу и, думаю, неудачно. Таким образом, корниловщина представляла из себя, с одной стороны, реакцию против разложения старой армии, с другой же – суммирование двух не совпадающих, но переплетенных друг с другом и в одну сторону направленных интриг. Корнилов находился под влиянием просто черносотенцев, хотя они и не имели много своих людей в штабе. Группа Савинкова не хотела этого «мятежа», – но ей нужен был нажим, нужно было воплощение военной необходимости в лице Корнилова, но она просчиталась. Филоненко превысил полномочия, – говорю предположительно. Керенский устроил истерику, и Корнилов бросил на чашку весов свою храбрость и три сотни своих текинцев126; на другой чашке лежала революционная инерция 180‐миллионного народа.
Весы заколебались.
Подготовка корниловщины прошла мимо меня. Я ее не заметил. Самый горячий момент я пролежал в лазарете, а потом поехал на две недели в Кисловодск, где жил за городом и ночью смотрел вниз с крыши. И здесь чувствовалась русская революция, страшная и причудливая. В Пятигорске солдаты ходили в незашнурованных ботинках и с поясами, одетыми не вокруг талии, а через плечо, как портупея. Я понимал причины этого убого-странного костюма. Эти люди хотели, чтобы все было по-новому.
Мне не хотелось возвращаться на фронт, но нужно было возвращаться. Я оторвался от базара с виноградом, усеянного осами, от крутого переулка и мостовой из острокраевого известняка. Оторвался, вернулся в Питер, а там в Могилев-Подольский, обратно в свою армию127. В этот момент все комиссары были собраны в Могилев128 на совещание к Корнилову. Из 8-й армии поехал Анардович, так как Ципкевич перешел с Черемисовым в 9-ю армию, а Филоненко был уже комиссарверхом.
Я приехал в Могилев129. Меня узнали на вокзале и сказали: «По железнодорожному проводу пришли две телеграммы». Мне показали их: это была телеграмма Корнилова о том, что он не слагает с себя звания главнокомандующего и приказывает себе повиноваться; в конце телеграммы было обещание прибавки жалованья железнодорожникам и телеграфистам, и одновременно пришла телеграмма Керенского, объявляющая Корнилова мятежником.
В Могилеве были только хозяйственные части штаба; операционная часть штаба находилась в Липканах. Я представил себе, что сейчас делается или, вернее, сделается в армии, какой клин вбит в нее, и мне было страшно подумать о возможности выступления штаба.
Бросился к прямому проводу.
«Получена ли вами телеграмма Корнилова, как вы думаете, не провокация ли все это?» – мне отвечают: «Сейчас все возможно!» Наскоро поговорил с Могилевским Совдепом. Предложил поставить охрану на телеграф и станцию. Поговорили с армейским комитетом и решили ехать в Липканы. Сели в два санитарных автомобиля и поехали. Нас предупреждали, что возможен наш арест, но мы этому не верили и, конечно, были правы. Во главе армейского комитета стоял в то время тов. Ерофеев, мрачный с.-р., уже не молодой; он был товарищем председателя армейского комитета.
Ехали всю ночь по широким, как поле, подольским дорогам, накатанным чуть ли не в шесть Невских шириной. К утру остановились у деревни и в руках крестьянина нашли свежеотпечатанное воззвание Корнилова. Откуда оно взялось – не знаю. Искали, старались выяснить, но так и не добрались. Оно доказало мне, что корниловская вспышка или сама была организована кем-то, или была использована кем-то организованным.
Приехали в штаб. Там только что получена телеграмма Корнилова с приказанием снять все радиотелеграфы.
Отменил приказание, поставил охрану на телеграф, разослал по всем корпусам комитетчиков с правом корпусных командиров. Напечатали приказ, что приказы по армии временно должны быть подписанными мною и комитетом130.
Нужно было торопиться, чтобы не произошло какое-нибудь выступление, спровоцированное этой историей. Приказ вышел аховым, хуже «номера первого»131. В нашей армии вопрос об отношении к командному составу был особенно болезнен: ведь это была армия сперва Каледина132, потом Корнилова.
Послал телеграмму, что право арестов принадлежит мне, и предложил никому не заниматься этим на свой риск.
У армейского комитета был свой список ненадежных офицеров, который, думаю я, был правилен, но комитеты хотели еще заменить этих людей другими, более надежными. Вот в надежность этих я не верил.
Я предпочитал не трогать армию. Во всяком случае, мы настолько удачно предупредили момент выбора для командиров между исполнениями приказаний главнокомандующего и правительства, что за Корнилова не поднялся ни один человек.
Впоследствии, когда комитет был захвачен большевиками, то они, ругая комитет, признавали его заслуги в деле ликвидации корниловщины. Моя же заслуга состоит в том, что никто не был убит и армия, глубоко потрясенная, все же не произнесла страшного панического слова об измене офицерства.
Судьба нашего офицерства глубоко трагична. Это не были дети буржуазии и помещиков, по крайней мере в своей главной массе. Офицерство почти равнялось по своему качественному и количественному составу всему тому количеству хоть немного грамотных людей, которое было в России. Все, кого можно было произвести в офицеры, были произведены. Хороши или плохи были эти люди – других не было, и следовало беречь их. Грамотный человек не в офицерском костюме был редкость, писарь – драгоценность. Иногда приходил громадный эшелон, и в нем не было ни одного грамотного человека, так что некому было прочесть список.
Исключение составляли евреи. Евреев не производили. В свое время не произвели и меня, как сына еврея и полуеврея по крови. Поэтому в армии очень большая часть грамотных и более или менее развитых солдат оказалась именно евреями. Они и прошли в комитеты. Получилось такое положение: армия в своих выборных органах имеет процентов сорок евреев на самых ответственных местах и в то же время остается пропитанной самым внутренним, «заумным» антисемитизмом и устраивает погромы.
Теперь об офицерах. Эти отобранные по принципу грамотности люди, конечно, носили в себе отпечаток русского режима, они были обучены им. Но такой отпечаток носили мы все. Посмотрите, как легко переходят к старым навыкам даже представители пролетарской «власти на местах». Например, телесное наказание уцелело даже при диктатуре пролетариата. В Пермской губернии оно представляло из себя прямо повальное явление. Точно так же, когда армия побежала после тарнопольского прорыва, то для того, чтобы остановить бегущих, летучие комитеты, составленные самими солдатами неразбежавшихся частей, ловили беглецов и, взбешенные тем, что дело происходило уже на русской земле, где горят волынские села, пороли людей. Ни комитет, ни комиссар тут были ни при чем. Дезертиру предлагался или расстрел, или порка. Изобретена была какая-то чудовищная присяга, при которой он отрекался от гражданских прав и свидетельствовал, что то, что с ним делается, делается с его согласия…
У России скривлены кости. Кости были скривлены и у русского офицерства. Навыки России, походка ее мыслей были им понятны. Но революцию они приняли радостно. Война тоже измучила их. Империалистические планы не туманили в окопах и у окопов никого, даже генералов. Но армия, гибель ее застилали весь горизонт. Нужно было спасать, нужно было жертвовать, нужно было надрываться. Наилучшие жертвовали и надрывались; таких было много. Положение офицера было, конечно, тяжелее положения комитетчика: он должен был приказывать и не мог уйти. «Окопная правда»133 и просто «Правда» преследовали его и указывали на него как на лицо, непосредственно виновное в затягивании войны. А он должен был оставаться на месте. Лучшие оставались, именно они и пострадали больше всего после Октября. Мы сами не сумели привязать этих измученных войной людей, способных на веру в революцию, способных на жертву, как это они доказали не раз. Такова была судьба всех грамотных русских, имеющих несчастье попасть на ту черту, где кровавой пеной пенилось море – Россия.
В нашей армии никто не принял сторону главнокомандующего. Пришли представители «Дикой дивизии» от дагестанского и осетинского полков и сказали, что они за демократическую Россию и Керенского. А заодно попросили поставить их полки отдельно, так как кто-то из дагестанцев убил осетина, или наоборот, и сейчас они оказались кровниками и убивали друг друга поочередно. Мы исполнили их просьбу. Скоро они были отправлены на Кавказ отдыхать, к сожалению неразоруженными. Потом именно эти превосходно вооруженные люди – у них было по два револьвера, кроме винтовки, у каждого – грабили наши поезда и жгли казачьи станицы, добывая свои исконные земли.
Верхом приехал священник с крестом на георгиевской ленте, председатель комитета какой-то казачьей дивизии. Там было спокойно. Вскоре между мною и комитетом произошло некоторое охлаждение. Комитет хотел провести целую программу перемещений и отвода командного состава. У него были свои кандидаты. Я не был согласен с этой системой. Я думал, что заместители, из которых некоторые были мне известны, были не надежны, а только более услужливы, чем сменяемые люди.
Комитет сердился на меня, а может быть, только огорчался. Мне говорили очень ласково, что я не оправился еще от ран, что я работаю из последних силенок.
Из Могилева приехал Анардович. Мрачный, он разочаровался в Петроградском Совете, который был за войну, и в то же время приходил в ужас от смертной казни, разочаровался и в Филоненко, оказавшемся «пистолетом»134.
Он изменился. В непромокаемом пальто и брезентовой шапке, во френче, он уже не был тем, каким я его знал. И привычки у него были уже другие – привычки приказывать.
Анардович не принял дел, но пробыл несколько дней в ожидании своего назначения. Он был переведен в Особую армию на место убитого Линде, начальника первого отряда, пришедшего в Таврический дворец, предводителя Финляндского полка в дни первого выступления его против Милюкова, Линде, приколотого солдатами через шею к земле.
Не знаю, что стало с Анардовичем дальше. Больше я о нем ничего не слышал.
Я остался один. Дела было много. Но характер дел изменился. Наступили будни.
Со всех концов армии, а главным образом из тыловых частей, ползли ко мне толстые «дела» пальца в три толщиной, написанные чернилами или простым карандашом. Обычный тип – жалоба кого-нибудь на кого-нибудь о покраже упряжи, веревки. Дела ползли, распухали, через все комитеты и следственные комиссии взбираясь ко мне. Я мало понимал в них. Мне было тяжело. Вызовешь обвиняемого, обругаешь, а он уходит веселый. Может быть, его нужно было повесить?
Продовольствие и квартирный вопрос для армии стояли остро. А надвигалась зима. Крупные поместья – из них некоторые давали более миллиона пудов хлеба каждое – были подорваны.
Иные солдаты вели агитацию среди крестьян: «Не давайте нам хлеба, а не то мы еще пять лет будем воевать».
Собрали съезд крестьянских разнокалиберных комитетов, так как землеустроительные комитеты не были еще организованы. Хлеб достали.
Единственное воспоминание о нескольких свободных часах, во время которых я отогнал от себя заботу, по крайней мере, на длину руки, – это воспоминание о поездке на автомобиле в Яссы. Поехал я с генерал-квартирмейстером для того, чтобы выяснить положение в штабе фронта. Ехали через Батушаны, где стоял штаб 9-й армии. Здесь я в первый раз увидал румынские войска. Знал о них только по старой памяти, что они плохи, офицеры красятся, на позиции не бывают, солдаты бегут. Но тогда уже, переобученные французскими инструкторами, они производили очень хорошее впечатление. Помню их шаг. На меня, привыкшего к замедленному шагу нашей пехоты, их марш произвел впечатление полубега, сильного и уверенного.
С нашими войсками отношения у них были натянутые…
Девятой армией командовал Черемисов. Сейчас он торжествовал. В свое время Керенский, помимо Корнилова, назначил Черемисова командующим фронтом. Корнилов обиделся и предложил Черемисову по прямому проводу отказаться от незаконно принятого поста. Черемисов ответил, что «будет защищать свой пост с бомбой в руках». В результате оба отказались от командования. Их примирил Филоненко, и Черемисов занял место командующего 9-й армией. Армейский комитет был в него в тот момент положительно влюблен.
С Черемисовым переехал в 9-ю армию Ципкевич в качестве комиссара. Но властный характер Ципкевича, пережившего глубокое разочарование после Калуша, помешал ему поладить с аркомом. Он подал в отставку. Не знаю, куда поехал потом. Хотел ехать за границу, в Америку. Он говорил, что войну могут кончить только американцы как специалисты по налаживанию крупных предприятий.
Уже была ночь. Автомобиль втягивал в белый сноп лучей из прозрачных пылинок, в двойной белый сноп фонарей дорогу, покорно бегущую под колеса. Звеня чисто и тихо, сосал воздух карбюратор, машина стрекотала, когда одинокие дубы замахивались над дорогой, отраженный от них шум мотора острел – будто кто-то свистящими ударами хлыста стриг листья. Мы летели вперед, втягиваемые далью… Летели, сбившись с дороги, неслись степью, ровной, широкой степью…
Зайцы, внезапно вырванные из тьмы, остолбенело застывали, поднявшись бледной тенью. Но встал день. Встало утро сперва и загребло меня скучной лапой снова в дела.
Комиссара Румынского фронта не было, он тоже застрял в Ставке. Кстати, на Румынском фронте было два комиссара, один Временного правительства, другой Совета солдатских и рабочих депутатов. Это было материализированное двоевластие. Правда, эти люди старались работать дружно. Только ни одного из них не было на месте. Заведовал всеми делами какой-то растерянный офицер для поручения. От него я узнал, что Щербачев – командующий фронтом135 – сперва хотел присоединиться к Корнилову и даже дал соответствующую телеграмму, но его удержали и переубедили. Не знаю, насколько это было правильно. Положение с румынами было тоже острое. Король прислал Черемисову орден Михаила 1-й степени136, величиной в ладонь, но кроме этого, он присылал в штаб фронта каждый день кипу жалоб толщиной в четверть аршина.
Наши войска хотели произвести в Румынии революцию, думая сделать ее самым простым способом, то есть «стащить короля сверху вниз». Но для революции в Румынии у нас не хватало самого главного: авторитета среди населения. Военного авторитета у нас тоже не было: румыны помнили наши прежние насмешки над ними и повадку почти победителей и не прощали нам сегодняшнего бессилия, а для авторитета революционного мы слишком плохо обращались с населением, – хотя не так плохо, как во многих других местах, в частности, не так, как с евреями или персами.
Поехал обратно.
Вернулся в Липканы. Анардович уехал. В качестве комиссара приехал бывший председатель армейского комитета той же армии тов. Вьенцегольский137, поляк, называвший себя социалистом-индивидуалистом. Несмотря на такую причудливую фракцию, это был очень неглупый человек, умевший подчинять себе людей.
На 8-ю армию у него были свои взгляды. В частности, относительно целой кадрили перемещений. Может быть, здесь был и личный, скажем, бессознательно личный элемент. Мы встретились дружелюбно, так как я не сомневался, что я уйду. Я и ушел.
Для отчета о посещении Петербурга был собран армейский комитет. Вьенцегольский рассказывал, что на мир союзники не согласны, воевать мы не можем и мириться тоже не можем, остается «стучаться у дверей союзников и умолять».
Кстати, выбрали представителей на Демократическое заседание138. Отправили всех оборонцев, хотя я и предлагал отправить пропорционально и большевиков. Большевики в армейском комитете были. Это были люди с психологией не классовой борьбы, а политического саботажа. Из практических предложений у них было одно: обратиться с воззванием к народам всего мира.
Я говорил что-то, сейчас не помню что; только помню, что, смертельно уставши, ушел с заседания, лег на чужую кровать и спал, долго, ожесточенно долго, как-то сознательно вцепившись в сон, чувствуя, что у кровати стоит отчаяние и что оно заговорит со мною, как только я открою глаза.
Я был выбран делегатом для посылки на совещание в числе других, послали еще товарища председателя комитета, Ерофеева, человека крепкого, но не знающего, что делать, одного учителя-мордвина, одного меньшевика-офицера и еще кого-то. Я выехал вместе с ними, решив искать себе нового ярма и обратно не возвращаться.
ПЕРСИЯ
Начинаю писать опять. Итак, я остановился на отчаянии. Иду дальше. Приехал в Петербург, началось совещание.
Победа большевиков выясняется. Правда, они на совещании в меньшинстве, но это благодаря тому, что созваны разные представители ученых и других обществ. Армейские комитеты не большевистские, но я знаю, как мало связаны эти комитеты с массой. А средний солдат устал и не видит цели войны; ему нужна перемена правительства, как пешеходу переобуться.
Усталый Чхеидзе, с видом старика купца, смотрящего на погром своего дела и пытающегося смеяться, – усталый Чхеидзе ведет заседание. Люди говорят, говорят. Представитель латгальского народа139 требует прав самоопределения, а мы не знаем, где живет этот народ. Оказывается, в Петербургской губернии.
Ярусы театра обвисают под тяжестью людей.
Приехал Керенский – волшебник, оставленный духами. Он бросает мятые, сухие слова, стараясь воспламениться и воспламенить. Наконец вспыхивает слабая истерика в партере. Кричат, кричат. Губы Керенского сухи и потрескались.
Потом было знаменитое собрание о коалиции140.
Коалиция или не нужно коалиции? Какой-то хитрый человек предложил коалицию без кадетов. Он говорил длинную речь, от которой серело в воздухе.
Голосовали. Список воздержавшихся от голосования открыл хитрый, старый Чернов141.
Я голосовал против коалиции. Я считал, что коалиционное правительство лопнет. Конечно, министры-капиталисты помогали выводить на улицу так неохотно идущие из казарм большевистские полки.
Но, конечно, не в этом дело.
Был на заседании дивизионного комитета своей части. На заседание приехал представитель Военного министерства и Чернов. Чернов говорил свои речи. С такими речами хорошо бабам пряники продавать или заговаривать женщину, раздевая ее.
Комиссаром дивизиона был изумительно тупой и панический человек М. (из фельдфебелей), он все добивался производства в прапорщики. И добился… перед Октябрем. Он тоже говорил что-то, иногда останавливаясь и обалдело соображая: что же он говорит?
Заседание происходило в нашей школе шоферов, в зале которой мы устроили для учеников амфитеатр. На верхних скамьях сидели, положивши головы на столы, солдаты одной команды. Их было шестеро, из них трое были пьяны так, что не могли поднять голову.
А Чернов пел, пел с присвистами и перекатами.
В конце заседания был скандал. Пьяных выводили. Я пошел в Военное министерство, в Совет и сказал, что я хочу ехать куда угодно, но только подальше. Мне казалось, что я нахожусь в комнате, в которой лампы коптят уже 48 часов.
В это время в Военном министерстве буксовал Верховский142. Вы знаете, как буксует автомобиль? Происходит это так. Попадает автомобиль колесом в грязь или на лед и не может тронуться с места. Мотор дает полные обороты, машина ревет, цепи, намотанные на колеса, гремят и выбрасывают комья грязи, а автомобиль – ни с места.
Так буксовал генерал Верховский. Это был человек решительный, инициативный, с нервами, с напором.
Его идея сократить армию на 40 процентов была смелой мыслью. Но провести ее уже было нельзя. Ткани страны переродились.
Ах, кстати! Сколько раз я получал от Керенского телеграмму: «Немедленно ввести в армии железную дисциплину и об исполнении телеграфировать!»
В Военном министерстве я еще прежде встретил комиссара, отправляющегося в Персию; это был бывший председатель Киевского Совета, меньшевик Таск143. О нем я буду писать много. В Персию меня отпустили, хотя и удерживали. Но тоска меня вела на окраины, как луна лунатика на крышу. Сел в поезд, поехал в Персию. Тогда это было очень просто. До Тифлиса 5 суток без пересадки и от Тифлиса до Тавриза двое суток, тоже без пересадки. Поехал. В районе Минеральных Вод чеченцы уже устраивали крушения. Ничего, проехали.
Под Баку увидал Каспийское море, холодно-зеленое, не похожее ни на одно море. И верблюдов, идущих мягкой походкой.
Со мной ехали офицеры на Кавказский фронт.
Один из них, раненный в живот разрывной пулей и полукастрированный ею, все время пел:
- Цыпленки варены,
- Цыпленки жарены,
- Цып-лен-ки тоже
- Хочуть жить.
- Зачем ты вареный,
- Зачем ты жареный, —
и так далее… Ему было лет восемнадцать. Он был совершенно не интеллигент и тосковал, как умел. Вот и все.
Да, кстати о кастрации. Когда я в Петербурге заходил в госпиталь (с меня снимали рентгеновский снимок, чтобы выяснить, каким образом рана не оказалась смертельной), там я увидал одного офицера. Он тоже был кастрирован ранением. К нему ходила невеста. Она ничего не знала. Он не решился сказать ей, когда она пришла в первый раз, а потом все становилось трудней и трудней. И кругом никто не решался сказать. Раненый просил доктора, чтобы сказал он, а доктор просил сестру, а сестра не говорила.
Да ведь и не в том дело было, чтобы сказать. Случай был слишком нелепо тяжел.
Приехал в Тифлис. Хороший город, «под Москву». На улицах стрельба, грузинские войска в восторге, палят в воздух, не могут не палить. Национальный характер. Одну ночь провел среди грузинских футуристов144. Милые дети, тоскующие по Москве хуже «чеховских сестер».
Город спокоен, не разрушен, правда, хлеб кукурузный, но трамваи ходят, и люди еще не одичали.
Поехал в Тавриз. Поезд лез все выше.
Вцепились в горы деревья с темно-золотыми листьями. Внизу не то провожает нас, не то бежит навстречу речка. Поезд лезет наверх, извиваясь от усилий.
В Александрополе145 прицепили к другому поезду. Поехали до Джульфы. Приезжаем – одинокая станция. Бежит под горой мутный Аракс. На другой стороне – домики из глины с плоскими кровлями, мне они кажутся домиками без крыш. Ночь.
Пишу 22 июля 1919 года. Когда я 19‐го этого месяца приехал из Москвы и привез одному близкому мне человеку хлеб (10 фунтов), то этот человек заплакал – хлеб был непривычен.
Так вот – домики были без крыш, люди немножко без голов, но это было для них издавна привычно.
Наш вагон опять отцепили. Потом составили новый поезд, всего из 4–5 вагонов с двумя паровозами, один спереди, другой сзади.
Перевезли через мост, поверхностно осмотрели на таможне (персидские таможенцы, которые нас боялись), и поезд, надрываясь и тужась, начал снова карабкаться ввысь.
Уже кругом не было рыже-золотого леса, а одни только красные горы и красные уступы, оттененные снегом, снег на вершинах совсем близко. Поезд, надрываясь, временами почти останавливался – казалось, что мы сейчас покатимся вниз.
Кругом пустынно. Только арык, проведенный на чьи-то поля с самого верха гор, стремительно бежал нам навстречу, стараясь выкатиться из дна и берегов.
Редкими оазисами внизу виднелись кое-где сады. Станции были пустынны. Влезли. Чувствуешь, что высоко, но ничего – плоско.
На станции Сафьян, в пункте Земского союза146, пообедали; отсюда поезд шел в Тавриз, а мне было нужно ехать в Урмию, где был штаб армии. Или, вернее, штаб 7-го Отдельного Кавказского корпуса, так звали персидскую армию147.
Пересел и очень скоро приехал в Шерифхане.
Здесь я увидел нечто невиданное. Пустыня-солончак. Лежит громадное, явно мертвое, гладкое озеро-море. В воду тянутся длинные молы на сваях. Несколько больших черных барж грузятся чем-то.
Но самое странное: на берегу нет жилых зданий, не видно людей.
Одна пустыня. И пустынные склады. Лежат товары. Лежат мотки колючей проволоки. Видно несколько амбаров. Десяток вагонов стоит на рельсах. Но порт – мертв. Это главный порт Урмийского озера, место с громадным, говорят, будущим. Противоположного берега не видно. А левее виден остров, зовут его Шахский, там была раньше шахская охота.
Переночевал в фанерном домике Земского союза. Вышел утром. То же море и те же внизу белые от соли сваи. Безлюдная тишина. Склады охраняются пленными турками. Так – вернее. Ездят через озеро двумя путями: или на барже, которая буксируется катером, или на катере просто, если дело спешно. Всего пароходиков на озере штук 7–10, из них один «Адмирал», довольно большой, вроде тех пароходов, что ходят между Кронштадтом и Петербургом, но с двигателем внутреннего сгорания. Пароходы привезены из Каспийского моря и здесь собраны.
Поехал в Урмию на маленьком катере. Ехать верст 60–70.
Над озером летают фламинго, розовеющие при взлете. У них розовые подкрылья. Машина стучит и режет еще не мятые волны.
В соленое озеро, всегда пустынное, пустынное при халдеях148, при ассирийцах, всегда окрайное, затащили флот, воткнули сваи, распугали птиц – и все для войны.
Едущий со мной корпусный интендант рассказывает, как трудно кормить армию. «До озера – ничего, железная дорога, потом перегрузка на баржи, барки выручают, можно везти на некоторых сразу до 30 000 пудов до пристани, их на озере штук пять; потом перегрузка на конный или воловый транспорт, потом в горах перегрузка на верблюдов, мулов или ишаков – и так каждый фунт».
И вот в Персию оказались согнаны чуть ли не все верблюды, лошади, ослы, мулы и быки Кавказа и Туркестана. Нам их увезти оттуда не удалось.
Нас в Северной Персии тысяч до шестидесяти, на фронте тысяч пять, а остальные составляли команды транспорта и охраны путей; ведь нужно охранять четыреста верст пути от фронта до Шерифхане, и в результате армия голодает.
Катер подошел к пристани… Скалы уже не красные, а серые… Пустынно, виден только один маленький глиняный домик. Это Геленжик.
Вышли на берег. Глухо, как у глухого забора.
Бродят какие-то дети, почти голые, в лохмотьях, обращенных уже в бесформенные пряди.
Не стал ждать автомобиля, попросил лошадей, подобрал компанию, и загремели по камням в Урмию.
Дорога вырвалась из солончака и пошла полями, обнесенными глиняными стенами. Как фабричные трубы, торчат в поле пирамидальные тополя с ветвями, будто припеленутыми к стволу.
Ехали довольно долго вдоль глухой глиняной степи, мимо бедных кладбищ с памятниками из осколков камня, поставленных дыбом. Потом повернули в кирпичные ворота и въехали в город Урмию. За городской стеной виднелись красные горы, небо было высоко, на горах лежал сверкающий снег. Подъехали к серой стене, через двери и узкий коридорчик вошли во дворик. Громадные виноградные лозы со стволами изогнутыми, крепкими и толстыми подымались по стенам, образуя зеленую сетку над всем двором. В глубине двора стоял одноэтажный дом с громадными окнами, переплет которых оклеен коленкором. Я вошел через темные сени в комнату.
Белые стены. Потолок сделан из бревен, положенных на пол-аршина одно от другого. Между бревнами перекинуты тонкие дощечки, к дощечкам прикреплены плетеные маты.
Комната залита рассеянным светом, проникшим через коленкор.
Здесь встретил Таска и еще одного своего старого знакомого, некоего Л. Л. был в панике, он приехал на Восток и ждал Востока пестрого, как павлиний хвост, а увидел Восток глиняный, соломенный и войну совершенно обнаженную. Нигде не была так ясна подкладка войны, ее грабительская сущность, как в персидских щелях. Неприятеля не было. Где-то были турки, но они отделены от нас горами с непроходимыми перевалами, где верблюд проваливался в снегу по ноздри. Конечно, турки только с невероятными усилиями могли проникнуть к нам, как они и сделали в 1914 году149.
Но дело было не в них. Дело было в Персии, занятой русскими войсками уже 10 лет150.
Мы пришли в чужую страну, заняли ее, прибавили к ее мраку и насилию свое насилие, смеялись над ее законами, стесняли ее торговлю, не давали ей открывать фабрик, поддерживали шаха. И для этого нами держались войска, держались даже после революции. Это был империализм, и главное – это был русский империализм, то есть империализм глупый. Мы провели в Персию железную дорогу, создали в Урмийском озере флот, провели колоссальное количество дорог по долинам, проложили дороги через перевалы, в которых со времен Адама не было никаких дорог, кроме ишачьих троп, где курды только кострами выжигали самые тяжелые места и выковыривали потом раскрошенный камень чуть ли не ногтями.
Денег в Персию было убито много. И все это было бесполезно, все это был крепостной балет. Мы жали и душили, но не ели труп.
Февральская революция не улучшила положения в Персии. Прежде всего мы именно здесь были перепутаны с Англией всякими договорами151: ведь Персия была одна из частей предполагаемой добычи, а, кроме того, революция, отведя в общем от Персии угрозу поглощения нами, заменила одного тупого, но организованного насильника-государства мелкими вспышками русской насильнической воли. Люди государства-насильника были сами насильниками. Если бы в Персии произошел потоп и мне бы пришлось стать Ноем, строить ковчег и в нем спасать чистых и честных, просто честных и активно честных людей, я не стал бы строить большой посудины.
Пошли мы с Л. смотреть город. Весь город вымощен. История этой мостовой такая.
Некий генерал приказал персам вымостить улицу. За неисполнение приказа домохозяина прибивали к косяку двери ножом за ухо.
Так вот, город вымощен. Кругом идут одни и те же глиняные, в два человеческих роста вышиной стены. В стенах низкие двери, ворот нигде нет. Несколько мечетей с невысокими минаретами и куполами в изразцах. На одном минарете свил гнездо аист. Священную птицу не трогают. Вдоль всех улиц быстро бежит вода по каналам-арыкам. На перекрестках кладбища – пыльные, бедные и маленькие. Памятники – просто куски камня, поставленные дыбом. Прохожих мало. Редко проходят закрытые черным покрывалом персиянки. Из-под покрывала видны концы грубых солдатских кальсон. Ходят персы. Попадаются ассирийцы. Маленькие ослики с грузом кирпича на спинах трусят на улице, погонщик кричит: «Хабарда!»152 – это везут материал для починки базара после погрома. Когда хотят заставить ослика немного свернуть, то соскакивают с него и упираются ему в бок. Идем к базару. Прохожих все больше и больше. Глиняные стены сменяются лавками, торгующими то пестро раскрашенными колыбелями, то вяленым, очень сладким виноградом и миндалем. Вот и вход в базар. Базар состоит из многих туннелей с острым сводом, в котором кое-где пробиты отверстия. По бокам лавки почти пустые. В красном мануфактурном ряду почти все двери, закрывающие магазины, из свежего, не успевшего потемнеть дерева. Здесь был главный погром. Хозяева посудных лавок сидят, сверлят черепки, оставшиеся после погрома, и скрепляют их между собой при помощи цемента и маленьких железных скобочек. Товара мало, нет привоза, да и боятся показывать, что есть. Тихо стучат копыта подвозящих кирпич осликов. Один ряд занят сапожниками. Они тут же шили сапоги. На окраинах базара, в больших и глубоких лавках вили из шерсти веревки и валяли круглым камнем на болванках шапки, расширяющиеся кверху, как митры. В другом проулке выбивали ударами молотка на грубой красной и синей ткани маленькой дубовой доской величиной в две ладони узор черной краской. Целый улей, но везде лежит еще не убранный глиняный мусор.
Посмотрели, как жарят над углями, раздуваемыми веером из плетенки, как пекут лаваш – тонкий, точно картон, хлеб, который делают, намазывая тесто на внутренние стенки печи, – и пошли домой.
В эту же ночь Л. уехал в Питер. Уехал на фронт и Таск. Я остался один. Наши войска были единственной силой в Персии, и я должен был ими руководить.
А сейчас пишу это 30 июля 1919 года, на карауле, с винтовкой, поставленной между ног. Она не мешает мне. Я думаю, что я сейчас так же бессилен, как и тогда, но на мне не тяготеет ответственность. Теперь расскажу, что это была за страна, в которую я попал.
Азербайджан и часть Курдистана – вот места, занятые нашими войсками. Население смешанное. Персы, армяне, татары, курды, айсоры-несториане153, евреи – вот состав этого населения. Все эти племена жили испокон веку друг с другом довольно плохо. Потом пришли русские, стали жить по-новому. Еще хуже.
На другой день после приезда пошел знакомиться с армейским комитетом. Произвел он на меня впечатление очень тяжелое. Совершенно серые люди, которые сами не знают, что делать. Председателем был сперва товарищ Степаньянц – армянин; председателем он был плохим и дела комитета запутал чрезвычайно.
Вместо него был избран Геоббекиан, впоследствии товарищ председателя краевого Совета154. Этот был хуже. С ним нельзя было знать, что будет через несколько минут; в одной и той же речи он кидался от кадетов до большевиков.
Забавна была его манера посреди речи останавливать оратора и говорить: «Я вам разъясню, товарищ», – а потом гнал речь на час. Так и говорил один. А дело шло к Учредительному собранию155. Нужно было в невероятно разбросанной армии с маленькими командами провести выборы. Председателем выборной комиссии избрали одного солдата-толстовца, который внезапно оказался дельным человеком156.
А остальной комитет – да простит он меня за плохую о нем память – занялся устройством любительских спектаклей.
Ведь это было понятно. Так тоскливо жить: без газет, без женщин, при замкнутости персидского населения; ну вот и образовалось что-то вроде дачной труппы с невероятно дачным репертуаром.
Играли в большом глиняном сарае, темном и обставленном бедно, беднее, чем театр каторжников в «Мертвом доме»157. Репертуар был водевильный. Солдат набиралось туча. По мысли устроителей, театр должен был быть передвижным.
А в тихом городе с глиняными стенами, с дверями, всегда закрытыми, было неладно.
Всю ночь гремели выстрелы. Стреляли в воздух. Были пьяные; вино находили у ассирийцев и у евреев, а может быть, и у мусульман.
В пограничном городе Ушнуэ произошел погром, все было разбито и растащено. Выехал Таск; ему удалось найти роту, случайно не принявшую участия в погроме, и при ее помощи отобрать награбленное, а полк в наказание оставить на позиции без смены.
Боев нигде не было.
Готовили выборы. Переизбрали армейские комитеты. Армия слабела и распадалась.
Персия привычно страдала.
Власть шаха ничтожна в Персии. Он раздает, правда, свои земли, и вся земля в стране – его земля, но это только слова. Скорее ханы соглашаются признавать себя его вассалами.
Я не берусь объяснить этот странный, давно себя переживший, но не разрушенный строй. Кажется, ханы отдают деревни в аренды. Или сильный и вооруженный человек, живущий в деревне, организованно грабит ее и уделяет часть ханам.
Крестьяне – крепостные в том смысле, что они в руках господина, пока живут на его земле. Им предоставляется проводить воду с высоких гор, чистить арыки, стоя по колени в быстро текущей воде, жариться на солнце. Эмиграция развита очень сильно: идут в Баку, в Туркестан, идут куда глаза глядят – всюду, где кормят.
В городах живет купечество, богатое, по-своему образованное; детей своих они учат в школах французской миссии. Они тоже имеют свои деревни. Появление буржуазии не разрушило крепостного права.
Кажется, однако, у ханов есть уже наследники. Персидскую революцию производили купцы и армяне158. Это была революция меньшинства. Отряды в тридцать – сорок человек свободно проходили всю страну. Теперешний губернатор Урмии сам был в таком отряде вместе с здешними миллионерами братьями Манусурьянцами.
У персов была конституция, о которой они говорили, что она либеральнее швейцарской. Губернатор – революционер, то есть участник персидской революции. Он тоже имеет свои деревни и крепостных. Правда, в Персии были персидские казаки, части на службе шаха, рекрутируемые из персов под командой наших инструкторов.
Персидские казаки, вернее, люди, которые пользовались ими как своим оружием, встречали среди населения почти единодушную ненависть. Но они зависели не от губернатора, а прежде от русского правительства.
Сейчас же, кажется, ни от кого не зависели.
При нашем отходе они попытались на нас напасть.
Конечно, губернатора никто не слушался. Он просил у нас 10 кубанских казаков, «чтобы его слушались». Не слушались его ханы-курды, так как они были сильнее, каждый имел по нескольку десятков всадников, а один из них, Синко159, имел большой отряд. Это одна из ошибок русской дипломатии. Великий князь Николай Николаевич в ту эпоху, когда строил себе дворец на Ленкоранской долине и замышлял создать в Армении казачество160, решил привлечь на русскую сторону одного из курдских вождей. Выбор пал на Синко, хана племени, сидящего в районе Кущинского перевала, связывающего Хой-Дильманский район с Урмийским. Синко были даны винтовки и даже пулеметы, что и сделало его постоянной нашей угрозой. Он принимал участие в резне христиан161 и в конце концов смеялся над нами, говоря, что «мои сто сорок всадников разгонят ваш полк».
Не слушались армяне, хотя они были лояльны, но лояльны потому, что они представляли собою в Персии аристократию. У них была крепкая организация «Дашнакцутюн»162. Не знаю, был ли «Дашнакцутюн» где-нибудь на Кавказе социалистической партией типа наших эсеров, но в Персии это было могучее общество самообороны.
Айсоры, христиане-несториане, тоже представляли нечто вроде государства. Они считали себя прямыми потомками древних ассирийцев и говорили на арамейском языке163. Одна часть их была старыми насельниками окрестностей Урмии. Когда-то они занимали весь край. Постепенно курды вырезали их. Сейчас число их пополнилось горными аширетными ассирийцами164, людьми дикими, спокон веков живущими в самом центре Курдистана, в районе Джеламерка в Ванском вилайете165; родственные им яковиты166 жили вокруг Мосула.
В горах жили они родами под предводительством меликов – князей, каждой деревней управлял священник, все же мелики были подчинены патриарху Востока и Индии, Мар-Шимуну, черноглазому румяному сирийцу с седой головой. Сан патриарха – наследственный, и переходит он от дяди к племяннику. Предание выводит род патриархов от Симона, брата Господня167.
Несториане знали славное прошлое. Когда православные оттеснили в VII веке их из Сирии, они, перейдя через горы, пришли в Персию, и были здесь приняты радушно, как враги Византии. Здесь они развили литературную деятельность и распространили свое влияние на Сибирь, Индию и особенно на Туркестан. Бывали и в Китае, где осталось и сейчас несколько совершенно ассимилировавшихся несторианских семей.
Тимур оттеснил их в горы Курдистана, там они жили теперь, дичая. Они черноволосы, семитообразны и румяны.
Миссионеры несториан заходили в Индию, и там появились целые христианские колонии. На севере они прошли Сибирь, на востоке достигли Японии. Шрифт, изобретенный ими, лег в основу монгольского алфавита, а кажется, и корейского168. Может быть, они были народом Иоанна Индийского169, помощи которого ждали крестоносцы. Сейчас это было маленькое племя, загнанное в те горы, которые даже на подробнейших немецких картах показаны просто пятнами. Турки глодали племя, а оно все держалось. Главным селением их был Орамар. Но Орамар был занят курдами еще в 1914 году. Когда же русские войска, создав из ассирийцев дружины, ушли, бросив их на произвол судьбы, участь племени стала ужасной. Доктор Шед170, глава американской миссии, говорил мне, что свыше 40 000 было вырезано, сложено кострами и сожжено. Оставшиеся сели в бест171 американской миссии. Но персы подсыпали в хлеб железных опилок, и мор прошел среди спасшихся. В 1916 году разведывательный отряд русских казаков с ассирийской дружиной Ага-Петроса Элова172 ходили на Орамар, то есть в расположение неприятеля более чем на триста верст. Дорога была трудна. Мулы не могли ввезти горных орудий. Их внесли айсоры на руках. Кавалерия ловчилась как могла, айсоры шли гребнем горы, потому что смысл горной войны в том, кто займет командующую высоту. Предлагаю сравнить с описанием способа ведения войны у кардухов (Ксенофонт, кн. 4)173.
Орамар был обойден, взят и ограблен. Лошадей кормили виноградом, ослов пшеном. Мар-Шимун и епископы – они носят чалмы, накрученные на красные фески, – ходили в атаку в штыки и дорезывали пленных. Наш урмийский консул Никитин174 участвовал в экспедиции и, между прочим, рассказывал мне, что в местности, некогда занятой ассирийцами, а ныне уже курдской, он нашел маленький каменный храм без окон и украшений. Его звали храм Марии-Мем. Этот храм не был разрушен курдами. Мало того, они оставили даже в живых родню христиан – священников храма. Объяснилось это тем, что, по преданию, под этим храмом был заключен Великий Змий, который вышел бы, если бы храм разрушили. Змий один раз в жизни каждого хранителя храма показывался ему, но теперешние хранители храма Змия еще не видели.
Жили изгнанные ассирийцы, голодали, грабили, возбуждая жгучую ненависть персов. Одетые в маленькие войлочные шапки, в штаны, широкие, как шаровары, сшитые из маленьких кусочков ситца и подвязанные выше щиколотки веревками, в цветном жилете, ходили они по базарам. Религия, которая связывала айсоров, уже давно ослабела и сохранилась только в форме противопоставления себя как христиан мусульманам.
В Урмии работали религиозные миссии: русская, немецкая, французская, американская – все они охотились за душами бедных несториан и, конечно, преследовали политические цели. Миссии вмешивались в гражданские дела и тяжбы, тоже представляя собою суррогат государства. Благодаря этому создалось такое положение, что миссия оказывала покровительство своим новым одноверцам. Из-за этого некоторые меняли веру по два-три раза. В одной семье бывали представлены чуть ли не все христианские вероисповедания.
Странно выглядела французская миссия в Урмии. Большой монастырь с колоннами, с людьми в черных сутанах и круглых шапках с помпонами. Это было самое крупное сооружение в городе.
Русская миссия, построенная, между прочим, на незаконно отнятой от частных владельцев земле, выглядела большим новым монастырем с кирпичными красными стенами. Во время моего пребывания миссия уже заглохла, епископ уехал, влияние пало.
Все эти организации работали среди урмийских айсоров, горные аширетные айсоры держались крепче.
В районе Урмии айсоры жили давно; они появились здесь не позднее VII века. Но в наше время отношение персов с ними резко обострилось. Главной причиной было участие айсоров в войне. Ассирийцы имели партизанскую дружину, которая дралась на нашей стороне. С нами их связывало христианство, а также и тяготение к нашим союзникам. Ассирийцы по-своему народ энергичный, многие из них ездили в Америку, где даже издавался ассирийский журнал. Я помню, мне показали айсора, который шел по улице в своем национальном костюме, в лоскутных штанах и башмаках из невыделанной шкуры, и сказали, что он доктор философии американского университета.
Вот эти фантастические люди и имели свою партизанскую дружину, дружину страшную по тысячелетней ненависти к курдам и персам. Предводителем дружины партизан был некий Ага-Петрос Элов, черноволосый человек с низким лбом, курчавыми волосами и широкой выпуклой грудью. Штаны из диагонали и форменная тужурка с красным кантом делали его похожим на телеграфиста. Элов имел шумное прошлое. Консул показал мне печатную характеристику его в секретном официальном издании министерства иностранных дел. Не помню ее наизусть и привожу по памяти довольно точно:
«Ага-Петрос Элов, тот самый, который был в таком-то году в Урмии турецким консулом, а в таком-то году управлял такой-то местностью в Турции и разорил население неслыханными поборами, в бытность в Америке сидел в Филадельфии на каторге. В настоящее время держит сторону России и состоит нашим нештатным драгоманом175. Пользоваться его услугами с крайней осторожностью».
Ага-Петрос со своей дружиной оказал нам большие услуги при походе на Орамар. Случайно мне пришлось спасти ему жизнь через несколько дней после моего приезда в Урмию. Пьяные солдаты 3-го пограничного полка арестовали его на улице и грозили приколоть. Я отнял его от них, сказав, что арестовываю его, и привез на свою квартиру. Он хорошо говорил по-французски и английски и плохо по-русски.
Дружину его мы не кормили и ничего ей не давали, кроме винтовок и патронов. Да и винтовки отпускались неважные, трехзарядные французские «лебедь» без дульных накладок. Такой винтовкой можно сжечь руку, если взять ее неосторожно после стрельбы. Эта дружина испортила и без того, по существу, плохие отношения между персами и айсорами. Но, во всяком случае, Ага-Петрос был смелым и по-своему честным человеком. С ним случались такие вещи. Несколько лет тому назад он до вступления на русскую службу, будучи вызван персидским губернатором по какому-то обвинению, арестовал самого губернатора и заставил у ханов признать губернатором его – Агу. Шах вызвал Петроса к себе, но он не поехал, благоразумно полагая, что дома лучше, и сам вызвал шаха. Наконец, за уход с поста шах прислал ему звезду. Таков был этот нештатный драгоман. Да, я забыл еще сказать: он не был меликом – князем-старшиной, но на службе его состоял один мелик по имени Хаму. Партия Мар-Шимуна косилась на Петроса, считая его выскочкой.
Третьей, а по численности второй группой населения были курды. Они жили в мирное время на границе между Турцией и Персией. Вернее, Турция и Персия граничили с землями, в которых они жили. Часть их была в турецком подданстве, часть в персидском. Всего курдов около двух миллионов. В восьмидесятых годах они пытались создать свое государство176. Почин шел от персидских курдов. Но культурный уровень курдов не дает им возможности создать крупную организацию. Живут они до сих пор кланами. Скотоводство, широко развитое у них, а отчасти и земледелие позволили им жить в мирное время богато. Наши солдаты говорили, что «курды богаче казаков».
Но сейчас они были совершенно разорены, страшно пострадав от войны. Прежде всего оттого, что война закрыла им пути кочевья.
Раньше они зимою гнали скот в Месопотамию, а летом переходили в горы от жары.
Война закрыла пути. Часть стад осталась в долинах и гибла от жары, часть – пропала в горах.
Кроме того, русские пришли в Курдистан с ненавистью к курдам, унаследованной от армян, ненавистью, у армян понятной177.
Формула «курд – враг» лишала мирных курдов, и даже детей, покровительства законов войны.
Генерал, взявший Соложбулак (забыл его имя), гордо называл себя: «такой-то истребитель курдов».
При всей своей храбрости курды не могли оказывать сопротивления нам. Они все еще не живут племенами даже, а кланами, разобщенными между собой.
После Февральской революции среди курдов было большое движение в сторону соглашения между свободными курдами и свободной Россией. Происходили большие сходбища, и были посланы к нам люди для переговоров.
Посланные вернулись, говоря: «Русские свободны, но свободу они понимают по-русски».
Я знаю, как жестоки курды, но Восток вообще жесток. Лет 30 тому назад около Джеламерка айсоры сняли кожу с нескольких англичан, раздраживших их неосторожным списыванием надписей. А курдов я видел не в то время, когда они резали персов и засовывали отрубленные половые части в рот убитого врага, а в то время, когда их рассеянно – от скуки – убивали тоскующие русские. Курды умирали с голоду и ели уголь и глину вокруг Соложбулака, когда-то цветущего.
Так же бедствовали курды в долинах Мергевара и Тевгевара.
Впрочем, совсем не так, – из этой долины, в которой когда-то жило богатое племя, имевшее там 200 000 баранов и тысяч 40 крупного скота, жители были изгнаны. Здесь стояли забайкальские казаки. Назвали их в армейском комитете «желтой опасностью» не только за желтые лампасы. Широколицые, крепко-смуглые, на маленьких лошаденках, способных есть буквально корни, забайкальцы были храбры и жестоки, как гунны.
Впрочем, я думаю, не зная точно гуннов, что жестокость забайкальцев была более задумчивая.
Один перс говорил мне: «Когда они рубят, они, по всей вероятности, не думают, что рубят, а считают, что они хлещут».
В непоколебимости забайкальцев мне пришлось убедиться.
Я приезжал в Гердык, наш пост в Мергеваре.
Широкая долина. На пригорке – разрушенное курдское укрепление. Рядом пни, много пней. С горы падает водопад высоко-высоко, разбиваясь в пыль.
С другой стороны долины из горы бьет струя воды, толщиной в обхват. Безлюдье и тишина. Ночью лают шакалы. Лисицы, серые лисицы ловят с берега форелей в реке.
Я приехал просить забайкальцев, чтобы не мешали нам возвращать курдов в их родные места, где они могли бы питаться когда-то посеянным и еще не вполне осыпавшимся просом.
Я говорил им о детях, бродящих вокруг лагерей, о том, что мы все равно уходим. И не добился ничего.
В географическом единстве, называемом Россией, живут разные люди.
Кстати, вся эта долина принадлежала одному армянину Манусурьянцу, кажется; и хан ее ему принадлежал.
Так пропадали курды в Персии. Сами персы были к ним враждебны из‐за религиозных разногласий. Персы были шииты, последователи Гусейна, курды были сунниты178; друг к другу эти мусульманские секты относятся, как католики относились к протестантам (в эпоху гугенотов).
Немногим лучше было положение курдов в Турции. Турки пользовались ими как боевым материалом, причем держали их как нерегулярные части, не на пайке, а на подножном корму.
Все эти племена – персы, курды, айсоры, армяне – ненавидели друг друга. Временами у всех из чувства самосохранения появлялось желание примириться.
При мне был устроен даже праздник «примирения народов». Собрались знатнейшие представители каждой национальной группы и поклялись в прекращении междоусобной войны. Было даже трогательно, все целовались, а оружие было оставлено при входе.
Не знаю, откуда оно взялось, предполагалось, что мы разоружили население.
В честь этого события было решено учредить ношение особой зелено-белой розетки.
Все это было проделано очень серьезно, лукаво и наивно. Они не вводили в свои отношения еще иронии.
Меня на празднике поразили муллы с красными бородами своими неторопливыми, благородными движениями. Они двигаются красивее, чем европейцы.
Русские власти были представлены в Персии консулом, командующим армией, комиссаром и комитетами, а на местах – каждым комендантом этапа, из которых многие занимались вымогательством у населения, и каждым солдатом с винтовкой.
В городе было неспокойно, всю ночь слышалась стрельба – один из признаков, что гарнизон уже распустился. Со всех сторон тянулись серые, скучные жалобы. Армия тихо гнила. Я тосковал на Востоке, как тосковал в Палестине Гоголь, пережидая дождь на скучной станции Назарет179. Главная жалоба была на фураж. Громадные транспорта голодали. Сено, заготовленное где-то в горах в районе Дизы Геверской, было заготовлено неумело или слишком хитро. Его не успели вывезти в свое время. Не хватало веревок, курд хан Синко не дал перевозочных средств. Началась осень. Забили ключи, и сено погибло. Таск долго расследовал эту историю, перессорился со всеми, но виновного не нашел. Резервом для поставки фуража оказался Хой-Дильманский район. Район этот богат, но расположение неудобно – на правом фланге нашего фронта. Самана – соломы, смятой и скрученной при молотьбе в особых персидских молотилках, – люцерны и сена было заготовлено довольно много, но его нужно было прессовать, а рабочая рота, которая стояла в Диламе, на прессовке саботировала, прессовала плохо и ломала прессы. Грузчики работали нехотя, голодные транспорта тоже.
На левом фланге в Бане лошади ели дубовый лист и кору, грызли изгороди и дохли табунами. А конные части в нашей армии преобладали. Упадок работоспособности сказывался во всем. Мы послали из аркома на все пристани своих людей в качестве наблюдателей – помогло мало. Положение осложнялось тем, что на многих пристанях погрузочные и этапные команды состояли из немцев-колонистов, и там было сильно германофильское отрицание войны.
Наемные команды персов могли бы выручить, но население уговаривало их бросать работу и не помогать русским. Падеж лошадей тяжко сказался на нашей кавалерии. Она состояла из казаков, то есть из людей на собственных лошадях – значит, особенно чувствительных.
Ко всему этому в армии возник вопрос о валюте, который скоро и стал центральным.
Для того чтобы было яснее дальнейшее, скажу несколько слов о персидских деньгах, «собачках», как их называли наши солдаты. «Собачками» персидские деньги звали потому, что на них вычеканено изображение льва.
Денежной единицей являлся кран – серебряная монета меньше нашего полтинника, стоила она раньше копеек 30.
Пятикранник назывался полутуманом180, по величине он был больше рубля и чеканился раньше в Петербурге на Монетном дворе. Стоил пятикранник 1 р. 50 к. – 1 р. 80 к.
После того как мы перестали ввозить в Персию товары, наш кредитный рубль упал, было решено платить нашим войскам персидской валютой, считая полтумана за 1 р. 80 к.
Значит, уплата жалованья валютой была для войск очень выгодна. Но серебра, необходимого для этой уплаты, у нас не было. О валюте поговорили и забыли, а рубль все падал и падал. Я сам видел на перевале Кущинского ущелья осликов, хурджины – переметные сумки – которых были туго набиты кредитками. Это был не очень дорогой товар. Дело осложнялось тем, что некоторые тыловые части получали жалованье валютой.
Вопрос обострялся. В нем были заинтересованы все. Значит, задерживающие центры не работали.
Особенно требователен был третий пограничный полк. Громадный полк четырехбатальонного состава. Наконец с трудом достали серебра на одну оплату, на остальную сумму выдали, по предложению Таска, сберегательные книжки, в которых была записана недостающая сумма как вклад. Тогда появилось новое затруднение. Нельзя представить себе ничего причудливее курса денег в Персии. Мелкое серебро имело свой курс, рубли – свой. Даже золото имело курс не по весу, а по чеканке, так что один и тот же вес золота в турецких лирах стоил гораздо больше, чем тот же вес в русских золотых. Мелкие русские кредитки ходили по своему курсу. Сторублевки и пятисотрублевки имели опять другой курс, думская тысячерублевка – свой, только что вышедшие керенки – тоже свой. Кроме того, курс русского рубля изменялся буквально по два раза в день, в зависимости от последнего телеграфного сообщения из Тавриза. Кстати сказать, русский банк в Тавризе русских денег не принимал. Получалось такое положение, что каждый раз при размене солдат чувствовал себя обманутым, да и в действительности был обманут.
Как только жалованье серебром было выдано, все солдаты бросились менять серебро на бумажный рубль, чтобы везти деньги домой. Банкиры-сарафы181 моментально взвинтили рубль до 15 копеек (шай) и выше, и солдаты, считая себя обиженными, устроили ряд погромов – впрочем, погромы были перманентны.
Опишу один из них. Уже давно по городу шли слухи, что погром будет. Какой-то солдат-еврей предупредил об этом соотечественника на базаре. Однажды утром, зимой, когда на камнях лежал снег, я вышел в город. Арыки мерзли. Страшные персидские нищие, почти голые курды из разоренных мест жались, замерзая у стен. Прохожих почти не было. Знакомый перс, пробегая, закричал мне: «Грабят базар!»
Я жил напротив штаба, бросился к командиру, князю Вадбольскому182. Он подтвердил мне известие. Вадбольский был смелым и честным человеком. Сейчас он растерялся. Кого отправить на погром? Нет дисциплинированных частей! Каждая сама будет грабить. Вызвали из пригорода забайкальцев, но все знали, что это рискованное забрасывание костра дровами. Можно было отправить еще кубанцев, кубанцы не грабили, по крайней мере в Персии, но они держались хитрого хохлацки-казацкого нейтралитета и грабежу не помешают. Больше же всего они боялись испортить отношения с пехотой. Их программа-максимум – попасть домой. Я метнулся в арком. Арком сидел в полном составе и совещался о мерах борьбы с погромами вообще. На погром, в частности, никто идти не хотел. Все боялись, и особенно страшила мысль о том, чтобы разогнать погромщиков оружием. А между тем армейский комитет вместе с полковым комитетом города составил бы группу человек в 150, то есть являлся уже силой. Я сказал комитетчикам, что пойду один. Таск был в отъезде.
Пошел на базар. У входа толпилось несколько человек. Два-три испуганных перса-полицейских да несколько французских офицеров, наблюдавших за всем с видом спокойного презрительного изумления. Мимо них, сгибаясь, пробегали солдаты, неся в охапках всякую рухлядь и теряя ее. В самом базаре было темно от пыли и стоял крик… гау, гау, гау… как в бане. Мною овладело слепое и тупое бешенство. Я взял доску и с криком побежал по темному туннелю, ударяя встречных. Разбитые ставни магазинов висели на петлях. Люди рылись во внутренностях темных лавок, выкидывая оттуда длинные полосы материй, как кишки. Нищие подхватывали куски и прятали.
Громили башмачников. Инструменты, колодки, куски кожи, разрозненные туфли из желтой кожи валялись на земле.
Несколько персов, сидя на корточках перед своими взламываемыми лавками, голосили высоким безумным голосом, царапая себе лицо. Базар гремел от ударов камнями по дверям, гулким, как барабаны. От пыли, поднятой взломщиками, хотелось кашлять и выплюнуть внутренности. Я гнал перед собою толпу, безумную и слепую, как сам я.
В ковровом ряду было всего больше народу. Один, в кожаной куртке, очень высокий и плотный, взламывал крепкие двери маленьким ломом. Я бросился к нему и ударил его неловко. Он отступил и не побежал от меня, а пустил в меня ломом. Я получил удар в плечо и сразу, автоматически, начал стрелять в него, не целясь, раз за разом не попадая. Этим я нарушил какой-то погромный неписаный закон.
Погромщики были не вооружены винтовками и поэтому считали, что с моей стороны допустимо бить их доской, но недопустимо стрелять.
На выстрел сбежались люди.
Дело было на перекрестке туннелей. Я побежал. Это не доказывает большой храбрости.
И все казалось сном. У меня еще раньше был такой кошмар, будто я бегу по узкому, низкому коридору с выбеленными стенами, переходящими в потолок. Похоже немножко на коридоры Александрийского театра, только раз в пять уже и ниже. Кругом двери и двери. Ровный белый свет, а сзади погоня. Бежишь и прячешься за двери.
Я вспомнил и вновь пережил уже наяву этот кошмар в серых туннелях урмийского базара.
За мною бежали с криком. На повороте с двух сторон стрелами сходящихся туннелей набежали две толпы. Я скинул короткую шубу, которая была надета на мне, и бросил ее назад.
Успел даже вынуть из кармана документы.
Две волны загнулись и встретились у шубы, вцепились в нее, полупозабыв меня.
Я выиграл несколько шагов и бросился в узкий проход. Три-четыре человека побежали за мною.
Я, не глядя, выстрелил назад. Они исчезли. Я выскочил из базара.
Было холодно. Падал снег и таял. Мостовая блестела, мокрый фонарь на кронштейне висел, совсем как в Петербурге.
Базар гудел.
Я обошел базар и опять вернулся к выходу.
Приехали широколицые забайкальцы183. Плоскость висков почти не образовала угла с плоскостью лица. Не знаю, где начинали округляться их головы.
Они стояли и спокойно прятали в сумки разбросанные материи, жалкую, грубую персидскую набойку…
Я велел им выйти.
Пришли спешенные кубанцы. Вид спокойных людей в черных шубах, не принимающих участия в погромах, проходящих мимо погромщиков с полунасмешливой, полуснисходительной усмешкой, несколько рассасывал погром.
Персы не сопротивлялись; они знали, что если бы они убили или ранили хоть одного солдата, то погром перешел бы на город.
Пришел отряд айсоров, они услыхали, что меня убили.
Их пустить тоже нельзя, так же как и дашнаков, – нельзя ссорить их с нашими войсками.
Наконец пришли комитетчики. Конечно, без оружия.
Им тоже дали знать, что я убит.
Мы взяли доски и пошли по проходам разгонять людей. Громили уже часа четыре.
Мы бегали по галереям, вытаскивали из лавок солдат, выбрасывали их оттуда пинками. А местами громилы оказывались в большинстве.
Комитет держался чисто демократической программы.
Помню… В воздухе пыль. Гремят выбиваемые двери. Один милый, очень честный и смелый когда-то комитетчик стоит на широком и высоком карнизе, тянущемся вдоль всех лавок, и кричит: «Товарищи, что вы делаете! Разве так борются с капитализмом? С капитализмом нужно бороться организованно!»
А иногда три-четыре человека окружали одного, у которого рубашка раздулась от поднапиханных туда вещей, и лепетали взволнованно: «Брось, брось, куда тебе эта дрянь, брось».
Было странно. Бежит человек с кинжалом в руке и с обезумевшими глазами, поймаешь его, вытрясешь, и у него оказываются: две позолоченные рамочки, два сапога с левой ноги и несколько горстей кишмиша.
Князь Вадбольский однажды, между прочим, верно сказал мне: «Пассивно честных среди солдат – 75%, но они нейтральны».
Одного такого «нейтрального», бьющегося в истерике, вели два солдата под руки, а он кричит: «Грабят. Позор… Я большевик… Позор… Я вам не верю».
Но большинство пассивных все же относилось к погрому как к озорной игре.
Мы забаррикадировали все входы, кроме одного, и вытеснили всех из базара.
Вечером обходили команды, отбирали награбленное. Настроение у всех озлобленное против нас: «Грабить нельзя. А нас мучить можно?»
Меня солдаты очень жалели. Как же, у человека из‐за каких-то персов шуба пропала! Шуба дорога. А человек хороший. Усердно искали шубу.
Приблизительно так были ограблены Ушкуэ, Шерифхане, многие местности, и по два, по три раза.
Дильман грабили позднее, уже при отходе наших войск в Россию, но грабили не проходящие войска, а гарнизон города. Город был разделен на участки, каждая команда громила свой квартал. Для освещения город зажгли.
Город Хой был ограблен войсками, идущими через него в Джульфу при эвакуации из Персии.
Тавриз не грабили. Тавризский базар – мировой; это большой город, в котором товары лежат горами. Он так велик и запутан, что сами торговцы, попав в незнакомую часть, берут проводника из нищих.
Несколько раз погромщики входили в базар, но уже не выходили… Их там растаскивали и, по всей вероятности, расщипывали по кусочкам.
Тавриз не разгромили.
Но судьба курдского города, стоящего на турецкой территории, богатого Соложбулака, который когда-то был значительным торговым центром и лежал на караванной дороге, была печальна. Его разграбили до крыши, то есть дотла, так как глиняные стены никто не грабит, но без крыши они расплываются при дожде и от них остаются только валики. Крышу же сняли и продали.
Я не говорил еще о том, как информировали нас из Петербурга. Посылали нам все время сводку о Демократическом совещании184.
Помню, позовут ночью. Идешь узким переулком, входишь через двор, покрытый уже почти обнаженными виноградными лозами, в помещение телеграфа. Одна стена, как вообще в Персии, из стекла (то есть она была из коленкора, ну а мы вставляли стекла без замазки), за окнами темно.
Подходишь к «бодо». Это – аппарат прямого провода с Тифлисом. Сверкая в темноте, кружится грузило регулятора, медленно опускается гиря механизма. Стучит что-то, ползет лента со словами.
Иногда аппарат сбивается, начинает печатать: т-т-т-т-ччччч-ввв…
Из аппарата ползет белой макароной какая-то болтовня. Перебиваешь: «Скажите, что у вас, как большевики?.. Пришлите белье войску, валюту…»
Аппарат тихо теркает: «Тер… тер… тер… Терещенко говорит… демократия…» Белая глиста ползет…
Терещенко185 полз через аппараты до Октября…
Потом смятение, сообщение о перевороте, о том, что фронт и Рада «стоят на точке зрения Временного правительства»… потом потрясающая телеграмма разгоняемых почтовиков… потом сообщение о взятии Керенским Петрограда… потом… лента из России оборвалась, как та телеграмма, что в романе Уэллса посылал бессмертный изобретатель каварита с Луны186.
Мы остались одни…
Армейский комитет вынес о большевиках резкую резолюцию. Со стороны большевиков тогда говорил только один из аркома – заседание было общее, аркома и полковых комитетов, – некий товарищ, кажется Новомыский. Он сказал: «Товарищи, у нас нет ни мануфактуры, ни кожерни, как же воевать?» Это был хороший человек, который впоследствии много помог нам. Но веру в народ, я думаю, он оставил в Персии…
Таск и я повисли в армии комиссарами несуществующего правительства.
Теперь о Таске.
Ефрем Таск был старый партийный работник, меньшевик. Специальностью его в партии являлась установка подпольных типографий.
Такого рода предприятия требуют колоссальной выдержки, и выдержка у Таска была.
Много сидевший по тюрьмам, много раз бегавший, он пронес через всю жизнь одну мысль – он был типичный революционер-профессионал, в лучшем и самом чистом значении этого слова.
Мне – дилетанту – прямо страшно было смотреть на его упорство и преданность идее. Его недостатком являлась вспыльчивость много мученного человека, поэтому для непосредственной работы с массами он был не годен.
Но вся техника съезда, резолюций и весь тот организационный опыт, который лежит за этой техникой, были ему прекрасно известны.
После резкой резолюции, которую вынес армейский комитет, после телеграммы о перемирии187, которую мы получили, при том положении, когда войска были русские и правительство Закавказское188 и солдаты хотели домой, вести дело было безумно тяжело. Проще всего было уехать. В соседней армии комиссара арестовали. Нас не трогали.
Таск собрал съезд189, сумел возбудить к нему внимание и привлечь силы. Заседание было публичное, происходило оно в помещении театра.
На съезд уже приехали большевики; их было около трети, из них помню только одну фамилию – Бабуришвили.
Нужно было на чем-то сговориться.
В то время Учредительное собрание не было еще разогнано190, мы и сговорились на Учредительном собрании и на признании Закавказского правительства с тем, однако, что мы считаем одной из его задач борьбу с Калединым как представителем русской реакции191. Перемирие признали как факт – о нем уже была телеграмма из штаба фронта, но решили ждать конца переговоров. Во всяком случае, механизм армии был сохранен.
К этому времени меня вызвали в Соложбулак.
Мы получили телеграмму, что в Соложбулаке погром; кроме того, произошли беспорядки на почве формирования национальных войск; из одного стрелкового дивизиона вызвали грузин в тыл для формирования какого-то национального полка; оставшиеся русские тоже поехали в тыл. Одновременно из этого же района, но уже с фронта, пришла следующая телеграмма: афанская колонна Грозненского полка решила идти в тыл, о чем нас извещает, чтобы мы приняли соответствующие меры для охраны бросаемого имущества.
Выехал ночью. Промелькнули высокие стены американской миссии, дом русского полковника Штольдера192, командира персидских казаков.
Дом Штольдера стоял за городом, окна были освещены изнутри ярким светом спиртовых ламп.
