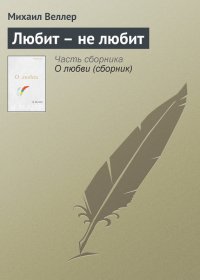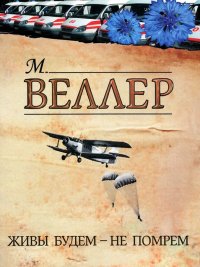
Читать онлайн Живы будем – не помрем бесплатно
- Все книги автора: Михаил Веллер
Живы будем – не помрем
– Корпуса первых английских торпедных катеров были никак не стальные, а из красного дерева, – сказал Звягин, обернувшись с переднего сиденья в салон. «Скорая» бортовой номер 21032 свернула с Литейного и затормозила у ресторанчика, где в тихие дневные часы обедают при случае бригады, обслуживающие вызовы неподалеку.
Заняв столик, – врач, два фельдшера, шофер, – заказали, что побыстрее. «Скорую» здесь обслуживали в темпе, слегка гордясь финансово маловыгодными клиентами: престиж борцов со смертью, отчаянно мчащихся с сиреной и мигалками по осевой, все-таки иногда срабатывает.
– А моторы на катерах стояли бензиновые, авиационные, – продолжал Звягин просвещать свою команду, прихлебывая молоко. Его лекции на неожиданнейшие темы давно вошли в притчу.
Подошел человек:
– Леня! Все катаешься!
– Сколько лет, зим, весен! – Звягин от удовольствия сощурился. – А ты все киснешь в своей онкологии?
Онколог вздохнул и махнул рукой.
– Что хмурый?
– Э… Сейчас перед уходом мальчишку смотрел. Двадцать шесть лет… Сплошные метастазы. Жалко пацана. Еще несколько месяцев… Двадцать лет привыкаю, а все не привыкну как-то.
Как ни привычна подобная ситуация врачам, повисла секундная пауза. Эта пауза, также привычная, обозначает собой утешение, скорбь, примирение с собственным бессилием.
Звягин помрачнел. Сосредоточился. Пробарабанил пальцами.
Пауза неловко затягивалась, меняя тональность и настроение.
– Двадцать шесть? Рановато ему… Рано.
Фельдшерица виновато пояснила:
– Мы сегодня больную не довезли… – Фраза подразумевала: «Вот Папа Док и нервничает, переживает…»
– Хотите опротестовать приговор, Леонид Борисович? – небрежно осведомился Гриша, лохматый, очкастый, вечный студент, вечный фельдшер «скорой», внемлющий Звягину с преданностью щенка. Прозвучало неуместно – льстивой подначкой, которая попахивает безграничной верой в кумира.
Звягин зло зыркнул, скривил рот:
– Подъем! Поели – нечего рассиживаться, едем на станцию.
Дежурство длилось своим чередом: автослучай на Охте, электрошок на Ждановском… Вечером Джахадзе, вчерашний именинник, выставил торт; пили чай с тортом.
Осадок от встречи не исчезал.
Звягин спустился в диспетчерскую, позвонил онкологу. Перекинулись словами. Спросил и о том больном, так просто… Неженат, один у родителей, работал программистом, – обычный парень…
– Он знает диагноз?
– Сразу все почувствовал, понял. Я же знаю, говорит, что у меня рак; и все отговорки его только убедили в этом.
– Боится?
– Очень. На этой почве ведь часто происходит нервный срыв; он в сильнейшем стрессе, подавлен, угнетен… довольно обычно, к сожалению.
– Радиоизотопы, гистология?.. Ошибка возможна?
Он поднялся в комнату отдыха, недовольный собой.
Смутные обрывки мыслей роились в голове.
– Десять тридцать два, на выезд! Огнестрельное… – прожурчал динамик голосом диспетчерши Валечки.
Сменившись с дежурства, Звягин не лег спать. Расхаживал по пустой с утра квартире, посасывал ледяное молоко через соломинку, сопел мрачно и сосредоточенно… – Ерунда, – объявил сам себе хмуро… – И чего меня заело? Ну есть же такие заболевания: клинический прогноз – неблагоприятен… При чем тут я, и что я, собственно, могу сделать, и что это вообще на меня нашло? Дичь какая-то…
Достал из холодильника еще бутылку молока. Посмотрел на себя в зеркало: резче выступившие после ночи морщинки у глаз (поспать почти не удалось), на висках уже седины полно.
– Давно никуда не встревал? – брюзгливо спросил он свое отражение. – Спокойная жизнь надоела? Пей свое молоко и иди спать, старый хвастун… Как говорится, дай мне силы бороться с тем, с чем можно бороться, дай мне терпение смириться с тем, с чем нельзя бороться, и дай мне ума отличить одно от другого…
Разделся и влез под одеяло. Повертелся, устраиваясь. Затих.
Свербило. Не шел из головы тот, двадцатишестилетний…
Крякнул, встал и пошел в ванную бриться. Жене оставил записку.
Прогулка излюбленным маршрутом по гулким гранитам набережных успокаивала: Фонтанка, Михайловский замок, Лебяжья канавка (Летний сад закрыт на просушку)… Мысль одна всплывала в сознании, как перископ отчаянной подлодки.
А чем мы, собственно, рискуем, спросил он себя, догуляв до Василеостровской стрелки. Что, собственно, терять?..
А почему бы и нет, продолжал он, пройдя через Петропавловку на Кировский. Какие препятствия?.. Никаких.
Мысль разрасталась в идею, и идея эта овладевала им все полнее. Начали вырисовываться детали и складываться в план. Чем дальше, тем реальнее план виделся, – Звягин не заметил, как очутился на Карповке, заштрихованной сереньким дождем.
Домой он вернулся голодным и продрогшим – злым и веселым – как некогда в крутых передрягах боевых операций.
Жена встретила Звягина кухонной возней.
– Гулял? – доброжелательно поинтересовалась она.
– Гулял, – согласился Звягин.
– После суточного дежурства?
– После суточного дежурства.
– А это что? – Жена обличающе указала на молочные бутылки.
– Это бутылки из-под молока, – честно ответил Звягин.
– Сколько?!
– Ну, четыре… Тебе что, жалко?
– Мне тебя жалко, Леня, – в сердцах сказала жена и швырнула передник на стол с посудой. – Что у тебя опять – глаза горят, подбородок выставлен! – что ты опять задумал?
– Очередной подвиг, – закричала из своей комнаты дочка. – А разве лучше, когда папа изучает историю разведения верблюдов или коллекционирует карандаши? – Она всунулась в дверь, состроила гримасу. – Должно быть у мужчины хобби или нет? А быть суперменом и все мочь – разве это не достойное настоящих мужчин хобби?
– Слышала глас подрастающего поколения? – приветствовал поддержку Звягин.
– Мужчине нельзя подрезать крылья!
– Мне нельзя подрезать крылья.
– Дон-Кихот на мою голову… – вздохнула жена. – Ты не видел моих очков? У меня еще полпачки тетрадей не проверено.
Звягин насвистывал «Турецкий марш» и сверял с образцом упражнение по английскому ее пятиклассников (не впервой).
– Это очень важно? – мирно спросила жена из спальни.
Он присел на край постели, погладил ее по щеке, – рассказал.
– Несчастные родители, – тихо сказала она. – И чем ты можешь помочь?.. Утешить их?
Звягин завел будильник и выключил свет.
– Есть одно соображение, – непримиримо произнес в темноту.
Отменно выспавшись, закатил себе часовую разминку, поколотил боксерский мешок и поехал в диспансер. Жизнь была хороша.
– Снимки, анализы, – сказал онколог. – Ты же врач.
– Не-а, – возразил Звягин с усмешкой оживленной и жестокой. – Просто я зарабатываю на жизнь медициной. Ну имею диплом.
– Ты авантюрист, – поморщился онколог.
– А разве это плохо? Мне интересно жить. Дай адрес.
Он позвонил из уличного автомата:
– Квартира Ивченко? Судя по голосу, вы Сашина мать? Лидия Петровна, очень приятно… Если у вас есть время…
Они встретились в маленькой мороженице на Петроградской.
– Зачем вы меня расспрашиваете? – безжизненно спросила пожилая женщина с запудренными следами слез.
Мороженое в вазочке таяло перед ней.
Звягин прошел весь путь пешком и за этот час успел собраться и прийти в форму – был легок, уверен: заряжен.
– Не устраивайте похорон раньше времени, – жестко сказал он. Разломил ложечкой шарик крем-брюле, отправил в рот, при чмокнул. Женщина взглянула с мучительной укоризной и встала.
– Сядьте, – тихо одернул Звягин. – Я – ваш единственный шанс, другого не будет, ясно?
Мысль о шарлатанстве отразилась в ее глазах:
– Вы – экстрасенс?.. Или есть какие-то новые средства, и вы можете их устроить? Что вы хотите?..
– Ешьте мороженое, пока совсем не растаяло, – улыбнулся Звягин. – И возьмите себя в руки. Еще не все потеряно. Еще есть время. Нет, я не экстрасенс, я могу лишь то, что в человеческих силах. А это – почти все, а?
Он не убеждал – он просто и с очевидностью раздвигал границы возможного. Женщина слушала – и происходящее с ней можно было как бы уподобить факирскому трюку со скомканной веревкой, приобретающей прямизну и твердость вертикального шеста.
Она хотела верить. Она боялась верить – боялась пытки надеждой.
– Но это – нереально… – прошептала она.
– Хуже не будет, – отрезал Звягин. – А вот лучше – может.
– А вы сами в это верите?..
– А зачем я здесь торчу? Надеюсь, вы не собираетесь предлагать мне деньги за услуги?
– А почему вы вообще вмеша… принимаете участие в… – Она смешалась. – Почему вы мне позвонили?
– Как вам объяснить, – лениво пожал плечами Звягин. – Жалко стало. Молодой.
– Молодой. Совсем мальчик, – сказала женщина и закинула голову, удерживая на глазах слезы.
Через стол Звягин накрыл ее руку своей твердой ладонью:
– Я сказал вам, что надо делать. Сказал вам, потому что мама – первое и последнее слово, которое человек произносит. Если мы не выиграем, не победим – пусть хоть парень будет счастлив столько, сколько проживет. Но мы не можем проиграть! Если это ваш единственный сын, ваша надежда и будущее – надо сначала расшибиться в лепешку, вдребезги, в пыль!! а потом уже плакать. Мне от вас нужно одно: безоговорочное доверие, безоговорочное послушание. Вот – мои документы, это телефоны – смотрите, не отталкивайте: вы должны знать, кто я такой, и быть во мне уверены. Ваш муж уже вернулся с работы? Посылайте его сюда, я подожду. И скорее, не стоит терять время. Ответ утром – за ночь все обсудите. И – Саша ни о чем, ни в коем случае, никогда в жизни, не должен догадываться. Вам все понятно?
Буфетчица за стойкой второй час решала вопрос: кто эти двое – тоскливая женщина и резкий, подтянутый мужчина (моложе ее), что-то энергично толкующий. Расстающаяся пара? Аферист и жертва?
Утром Звягин отправился в гости к знакомой медсестре. Медсестра была немолодая, толстая и добрая – как требовалось по замыслу. Медсестра сварила кофе, подперла ладонью толстую добрую щеку и приготовилась слушать.
– Женя, – начал Звягин, – от тебя требуются пустяки. Ты должна прийти в дом, привезти парня к себе, чтоб вы были вдвоем…
– О! – удивилась добрая Женя. – Ты решил наладить мне на старости лет личную жизнь? Кому опять плохо?.. Кто он?
– Погибающий больной, рак-четыре, но…
Весеннее солнце плавило окно. Кофе кончился. Женя кивнула.
– Ты должна разговорить его, понимаешь? Пусть он выложит тебе все свои страхи и ужасы, не стыдясь ничего, пусть выговорится! Отцу-матери сознаться в мучениях и кошмарах он не может: их жалко, мужское достоинство не разрешает утешения молить. А это первое, что необходимо – выговориться начисто, открыть свои тревоги, выплакать терзания, – своего рода промывка нервов, что ли.
– Как же я его к себе привезу?
– Родители в курсе. Ему скажешь – поговорить. Он сейчас, похоже, совершенно обезволен – пойдет куда угодно, ничего не спрашивая. Возьмешь такси. Слушай, ты двадцать лет работаешь, ты же классная медсестра – найдешь правильный тон! Пожалей его, чтоб расслабился, размяк, отбросив все сдерживающие факторы выплакался, сознался в страшном, – сними с него нервное напряжение, понимаешь?
– Хорошенькую работенку ты мне задал… А знаешь, чем ты не такой, как другие, Звягин? Думаешь, красив? Да нет, мне красивые никогда не нравились… Тем, что никогда не ставишь вопрос: «Можно ли это сделать?» А всегда: «Как именно это сделать?» Еще кофе хочешь?..
Вечером Саша сидел в ее комнатке. Руки его вздрагивали, глаза застыли в черных впадинах: парализованный страхом, беззащитный перед смертельной бедой человек. Мысленно он уже уходил за грань бездны, ужасаясь ее и почти отсутствуя в этом мире.
– Страшно тебе, милый?
На тонкой шее запульсировала жилка.
– За что тебе такое… Ночью не спишь?
Веки медленно, утвердительно опустились.
– Папу с мамой жалко?..
Тихая слеза ползла по его лицу. В плену своего состояния, он не отдавал отчета в странном направлении беседы с ее мучительными вопросами. Вопросы звенели в резонанс его собственной муке.
– Так мало ты еще пожил… – Она причитала шепотом, скорбя. – Милый, хороший, и не женился еще, и деточек своих нету, ты поплачь, поплачь, бедный мой, облегчи душу, я с тобой вместе поплачу, расскажи мне все, я-то знаю, пойму, я тебя пожалею…
Сидя рядом на диване, обняв, гладила его, всхлипывала, и он, вцепившись слабыми пальцами в ее толстые добрые плечи, глухо зарыдал, с судорогами и стоном.
– Страшно… я боюсь, я не могу! нет сил… за что, за что, почему? И ничего не будет, ничего!.. Земля, солнце, воздух, люди, все… и обои в моей комнате, книги, окно… ничто, черное, ничто… так хотелось пожить, какой ужас, какой ужас, ужас! Зачем все в жизни, все вещи такая ерунда, только бы жить, так замечательно, жить везде можно, видеть, слышать, дышать, ходить…
Она поглаживала его по теплому вспотевшему затылку, и безостановочно захлебывался свистящий полушепот:
– Мама, папа, кладбище, гроб, я, они уже старенькие, у них никого не будет, ничего не будет, не станут бабушкой и дедушкой, их жизнь кончится, никакого смысла, ничего не останется от них на земле, за что же им так, за что, зачем, зачем, зачем…
Он хлюпал носом в ее кофту, конвульсии сотрясали его:
– Я боюсь оставаться один, не могу ничего делать, думать, читать, все только одно, одно – что скоро, уже скоро, уже скоро, все, все, я ничего не понимаю, не слышу что мне говорят, о чем, зачем, не знаю… Нет! нет! нет! я не хочу! Не надо! Нельзя! Навсегда, конец, ничто, смерть, мамочка, я не могу, все что угодно, нет!! Помогите мне, спасите, сделайте что-нибудь, я все буду делать, все выполню, перенес у, смогу, буду слушаться, помогите, милая, хорошая, ну пожалуйста, слышите, пожалуйста, пожалуйста…
Час за часом лилась бессвязная мольба, нескончаемый поток отчаянья, – невозможность примириться с неизбежным, столь страшным и неотвратимым, готовность к любым мукам и лишениям, только бы жить, жить!.. Он замолчал и затих, обессилевший и пустой. Дыхание успокоилось. Он впал в полусон, в полузабытье.
Женя осторожно уложила его на диване, укрыла пледом. Вскипятила чай. Он покорно выпил, покорно вдел руки в рукава пальто.
В такси он сидел такой же тихий – спокойный спокойствием изнеможения. На эту ночь ночные страхи были исчерпаны. Сегодня он мог спать.
«Умница, – сказал Звягин Жене. – Выпустила ему этот яд из головы. Теперь едем дальше».
Рассчитав время, на следующий вечер он вошел под арку на Петроградской, сверившись с номером дома. Лидия Петровна открыла ему, указала на дверь Сашиной комнаты и собралась скрыться: сидеть с мужем и не показываться, как было условлено.
– Как он? – шепотом спросил Звягин.
Она горько качнула головой:
– Вчера ночью приехал получше. Утром даже улыбнулся. А нынче к вечеру – опять…
Звягин выждал перед дверью, накручивая и разжигая себя: резкое лицо побледнело, ноздри раздулись, рот сжался в прямую ножевую черту. Властно постучал и, не дожидаясь ответа, шагнул, дверь за собой захлопнув с треском.
– Встать! – сдавленным от ярости голосом приказал он.
Худощавый, неприметной внешности парень лежал на кровати, обернув к нему непонимающее лицо. Лицо было изможденное, глаза мутные, тревожные, больные. «Вот он какой».
– Встать, дерьмо! – бешено повторил Звягин, грохнув кулаком по шкафу.
Саша апатично подчинился, уставившись на него равнодушно: всем существом он был далек от происходящего.
– Ты знаешь, кто я? – карающе лязгнул Звягин.
– Нет, – флегматично ответил Саша, пребывая в глухом омуте собственных переживаний: его уже не задевали мелочи внешних событий.
– Я – Звягин!! – загремел Звягин. – Здесь камни отзываются на это имя! – оскалясь, прокричал он[1]. – И я пришел, чтобы вытряхнуть из тебя твою вонючую трусливую душонку! Ты слышишь меня?!
Саша машинально кивнул. Его начало пронимать: глаза обретали осмысленное выражение.
– Чего ты разлегся, подонок! – орал Звягин. – Что ты разнюнился! Что, страшно?! А ты как думал – что это не для тебя?! Это не минует никого! Никого, будь спокоен! Что, себя жалко?! А ты вспомни тех ребят, которые погибли под пулями, в девятнадцать лет! Тех, кого сжигали на кострах! Кто умирал на плахе! Расстрелянных у стен! Задохнувшихся в газовых камерах! Они что, были не такими, как ты? Или не хотели жить?! Или не были моложе тебя?! Что, любил кино про героев, а сам чуть что – наклал в штаны?!
Он набрал в грудь воздуха полнее:
– Доля мужчины – смотреть в лицо смерти!! Нет на свете ничего обычнее смерти! Японские самураи делали себе харакири, если так велела им честь! Викинги, попавшие в плен, если хотели доказать врагам свое мужество и презрение к смерти, просили сделать им «кровавого орла»: им живым вырубали мечом ребра и вырывали из груди легкие и сердце. В Азии некогда казни продолжались часами, там делали такое, что тебе и не приснится, и палачей подкупали, чтоб они убили осужденных сразу!
Саша начал глубже дышать, прикованный взглядом к раскаленному оратору, поддаваясь мощному напору звягинского магнетизма.
– Тебя не будут пытать, перебивая ломом кости, выматывая жилы на телефонную катушку, сверля зубные нервы бормашиной насквозь с деснами! Не взрежут брюхо, чтоб вымотать щепкой кишки и развесить их перед тобой на колючей проволоке! Не четвертуют, чтоб ты смотрел, как отпадают и лежат рядом твои отрубленные руки и ноги! Тебя не сунут головой в паровозную топку, в белый огонь! Не спустят в прорубь, чтоб ты задыхался подо льдом, срывая об него ногти и захлебываясь ледяной водой! Чего тебе еще?!
Под тобой не разломится сбитый самолет, и ты не полетишь вниз с километровой высоты! Тебя не поставят на колени у ямы и не убьют обычной мотыгой – скучно, как при надоевшей работе! Тебе не войдет между ног осколок снаряда, тебе не перережут горло ножом над канавкой, как это делалось в Бухаре! Ты не будешь подыхать ночью в луже, гнить от цинги в таежном снегу, бредить в палящей пустыне с распухшей от жажды глоткой! Не будешь тонуть полярной ночью в мазуте, который растекся поверх воды и сжигает тебе легкие и желудок прежде, чем дикий холод воды прикончит твое сердце! Что еще тебе надо?!
Тебя не шарахнет молния, или кирпич с крыши, или инфаркт во сне, или нож из-за угла, – так что переходишь в небытие, никогда не узнав, что ты покинул жизнь. Нет, – у тебя есть время сделать все последние дела, привести в порядок совесть и мысли, раздать долги и завершить начатое, попрощаться со всеми и облегчить душу. И умрешь ты в тепле и в сухе, в собственном доме, в чистой теплой постели, и добрые папенька с маменькой достанут тебе морфий, и ты спокойно уснешь – уход по классу люкс, мечта миллионов мучеников всех времен! Так что ты воешь, вшивый щенок?!
Звягин рванул с шеи галстук, отскочила и покатилась по полу пуговка.
– Это все равно неизбежно! так подними голову! Подыхать – так с музыкой! Так мужчиной! Так, чтобы потом вспоминали, как ты ушел! Как умирали римские императоры – стоя! Скулящий щенок вызывает презрение и брезгливую жалость, умирающий герой – преклонение!
Да – герой умирает один раз, а трус – постоянно! И умереть надо так, чтобы внушить окружающим мужество, гордость, достоинство своим поведением! Смерть – дело житейское, и его тоже надо уметь делать!
Смело! Храбро! Гордо! Как мужчина! Улыбаясь до конца! Живя как человек – до конца! Делая дела, шутя и смеясь, спокойно и твердо, как любое обычное дело!
Мы все уйдем, и останемся только в наших делах и в памяти людей. И доколе живут эти дела и живет память – мы тоже живем, это все, что нам остается и после смерти. Так не дрожащей тварью, которая своим ужасом и страданиями терзает души близких, – а опорой, образцом для подражания, достойнейшим из достойных, сильнейшим из сильных, недосягаемо высоким примером того, как должен жить и уходить из жизни настоящий человек! Тогда это – не страшно, тогда превыше всего в человеке гордость своим мужеством, своей силой, и радость от сознания, что даже это он может достойно преодолеть, быть выше других, слабых и недостойных! Удовлетворение тем, что он все сумел испытать и вынести в жизни! Это высшее самоутверждение – оставаться человеком, глядя в глаза смерти! Сказать себе: я могу, я настоящий человек, я мужчина, я герой! Я вам покажу, как уходят настоящие мужчины!
Звягин перевел дух. Катил пот, голос осип от напряжения.
Саша застыл завороженно, порывисто дыша от передавшегося ему волнения, вцепившись побелевшими пальцами в спинку стула. Звягин снова собрал все силы воедино, выжигая последний запас нервной энергии и направляя этот очищающий огонь в заросшую и разъеденную страхом душу стоящего перед ним человека, как выжигают гудящей паяльной лампой, клинком огня всю дрянь и краску на металле, обнажая металлический остов.
– Щенок!! – проревел он. – Трус! Подонок! Сопляк!
И, шагнув вперед, отвесил Саше две резкие, тяжелые пощечины. Тот ахнул сведенным горлом, голова дернулась влево-вправо, с судорожным всхлипом вздохнул, он смотрел на Звягина в оцепенении, как загипнотизированный.
– Струсил! Заскулил! Обмочился со страху! – рубил в раже Звягин. – Дрянь, ничтожество, слизняк! Как ты мог, как ты мог!.. Ну не-ет: поднять голову, стиснуть зубы, наслаждаться каждой секундой бытия, наслаждаться борьбой с самой смертью!
Жизнь всегда коротка, сколько бы ни прожил. Жизнь все равно проносится мгновенно. Жизнь – сама себе мера, сколько лет ни живи – мало, мало. Так сейчас или через сорок лет – все едино: умирать никому неохота.
Так идти по своему пути ровной твердой поступью, ничего не боясь, глядя в лицо всему! Сколько отпущено – счастливо, полноценно, на все сто процентов! Чего там долго думать о неизбежном – думать надо о жизни, о том, что еще можно успеть сделать: дышать, видеть, читать, есть, пить, ездить, любить, бороться! И бороться – с собственной слабостью, с любыми трудностями, преодолевать себя – и уважать себя за свою силу, уважать себя за свое мужество, за свою гордость!
Уважать!! – прокричал Звягин, потрясая кулаком. И вышел, шарахнув дверью: штукатурка посыпалась. С громом покинул квартиру, прогрохотал каблуками по лестнице. В асфальтовом колодце двора обернулся к окну Сашиной комнаты (знал – тот смотрит), грозя кулаком, вылепил губами ругательства и, развернув грозящий кулак, попрощался старым ротфронтовским жестом.
Он свернул на Большой проспект, достиг темнеющего пролета Тучкова моста. Рваные тучи неслись над Невой. Пронзительно золотилась в луче прожектора Петропавловская игла. Сырой ветер рвал плащ.
«Я т-тебе сдамся, – повторял себе зацикленно, – я т-тебе сдамся…»
– Ты решил простудиться? – посетовала жена, поднимая голову от тетрадей. – Что у тебя с воротником? А где галстук?..
– Знаешь, – признался Звягин, – я сейчас как после двадцатикилометрового марш-броска… Ох нелегок хлеб оратора.
Сбросил пропотевшую сорочку и открутил обжигающий душ.
– Что, за трудного взялся больного? – Жена подала чистое полотенце. – Хм, – добавила она, – я вдруг подумала, что слово «больной» во всех этих твоих историях впервые имеет буквальное значение…
– Сказать, почему я на тебе женился? – непоследовательно спросил Звягин.
– Сама скажу. Потому, что я дала на это согласие.
– Потому что с тобой обо всем можно было разговаривать…
– И только? – невинно поинтересовалась она.
– При детях вы могли бы быть и поскромнее, – ехидно зазвенел из-за двери голос дочки (ну разумеется, чтоб она да не встряла).
– Порядочные дети не подслушивают взрослых! – возмутился Звягин. – Невозможно поговорить в собственном доме.
– Сначала расскажи, как дела? – закричала дочка.
– Я вырву из него эту душевную скверну, как гнилой зуб, – пообещал Звягин. – Сначала его надо как бы шарахнуть шоком – чтоб вышибить другой шок, от сознания болезни. Я ему сегодня дал по мозгам, которые вчера ему промыли. Теперь, похоже, можно будет завтра приводить эти мозги в правильное состояние – рабочее, активное.
– Ты пытаешься подменить его характер своим? – не веря, пожалела жена…
– Чего ж я стою, если не смогу вложить в одного хилого парня свою волю, подчинить себе его дух? Дух! – вот что определяет все…
– Дух!! – ураганно кричал он назавтра в обмирающее Сашино лицо. – Дух может все! Дух может то, что человеку и не снилось! Сила воли, желание, вера, фанатизм – могут все! делают человека всемогущим! всемогущим!
Ты слышал, что влюбленные и солдаты не болеют?! Что раны у победителей заживают быстрее?! Ты не представляешь себе, как огромна власть человека над собой, своим организмом, своей жизнью! Эта власть бесконечна, безгранична, безмерна, она может все!
У африканских племен колдун приговаривал виновного к смерти – и через несколько дней тот умирал, сам, его никто не трогал, он ничем не болел – он умирал оттого, что был уверен в смерти, умирал от страха! от одного страха и уверенности в смерти!
В одной американской тюрьме осужденному вместо электрического стула завязали глаза и, сказав что вскрывают вены, провели линейкой по запястьям и стали лить теплую воду: чтоб он чувствовал, будто кровь течет из вен, – так он умер!! умер от того, что кровь отлила от мозга, умер так, как будто вены на самом деле были вскрыты!! умер только от уверенности, что вены вскрыли! а он оставался невредим! – вот что такое страх и убежденность!
Люди, заблудившись или потерпев кораблекрушение, вскоре умирали от голода – хотя без еды можно жить многие недели! они умирали от уверенности в том, что без еды скоро умрут! А блокадные ленинградцы выживали на таком пайке, которого по всем немецким расчетам не могло хватить для выживания: они должны были умереть, но они жили – работали и сражались, ибо должны были это делать, это горело в их душах!! Вот что такое дух!
В концлагерях первыми умирали те, кто сдавался: опускался, переставал мыться и следить за собой, рылся в помойках: они ели больше, расходовали энергии меньше – и умирали первыми! А те, кто держался, кто вопреки всему сохранял человеческий облик любой ценой, верил в жизнь, в то, что выйдет, победит, доживет, вынесет все – жили! жили вопреки тому, что по законам науки должны были умереть! они обманывали расчеты палачей – они жили сами! и еще спасали других!
Вот что такое человеческий дух!
Любой врач знает, как сдает деятельный человек, выйдя на пенсию: исчезает цель, уходит напряжение нервов, психика демобилизуется – и обрушиваются болезни, приближается смерть! А люди, увлеченные своим делом до самого конца – живут дольше! болеют реже! выздоравливают быстрее! дух! дух!
В войну смертельно раненные летчики сажали свои самолеты: когда их вынимали из кабин, они были мертвы – они были убиты наповал! Но они жили до тех пор, пока не дотягивали машину до аэродрома и сажали ее – только тогда чудовищное напряжение их оставляло, и они умирали – когда уже было сделано последнее главное дело их жизни!
Вот что такое дух!!
Двадцать лет назад я был младшим полковым врачом, и на парашютных прыжках у одного солдата не раскрылся парашют. Знаешь, сколько падает человек с высоты в один километр? двадцать одну секунду! и превращается в мешок с киселем от удара. За двадцать секунд, когда снизу мы увидели, что парашют отказал, мы схватили брезентовый стол – полотнище креста, выложенного для приземления, – и понеслись туда, куда он, по нашим расчетам, падал, чтоб подхватить его. Мы бежали вчетвером – я и трое солдат – и мы добежали! и поймали его! и он остался жив! такого не бывает – но мы это сделали! Когда потом измерили расстояние, оказалось, что не в силах человеческих было пробежать столько за секунды, которые нам оставались, – но мы пробежали все! а потом уже, мы пробовали замерять время, – никто не мог повторить этого даже в трусах, а мы бежали в полной форме, четверо, с брезентом в руках!
Вот что такое вера, страсть, порыв, необходимость! Вот что такое дух! Потом об этом писали в газетах – ты тогда был еще пацан.
Акробат срывается из-под купола цирка, ломает позвоночник, обречен на полный паралич, положение безнадежно – но он хочет жить человеком! он стискивает зубы и борется – вопреки всему! и встает на ноги, становится одним из сильнейших людей в мире! держит на плечах тонный груз, жонглирует пятипудовыми гирями! Ты телевизор смотришь – видел это?
Вот что такое человеческий дух!!
А забытые эпидемии оспы, чумы, холеры, тифа? Врачи лечили больных, были в гуще заразы, – такие же простые смертные, как те, кому они помогали, – и почти никогда не заболевали сами! Вот что такое дух! Им было некогда болеть, их долг и профессия заключались в том, чтобы лечить больных – и они делали это! Их психика была мобилизована, их иммунная система давила микробов, – вот что такое дух!
И воля человека, сила его духа, его убежденность – могут заставить заболеть любой болезнью, могут заставить умереть – но могут заставить организм победить любую, ты слышишь, любую болезнь, любую беду, преодолеть любую задачу – и выжить, выжить! Победить!
И Звягин стал выхватывать из карманов плаща книги, швыряя их, как гранаты. Книги неслись через комнату, треща листами и крутясь. Саша неловко ловил их, прижимая к себе и роняя.
– Вот – о слепом, который стал академиком. Вот – о глухонемом паралитике, получившем за совершенные открытия Нобелевскую премию. Вот – об учителе, заболевшем раком, который лихорадочно писал роман, чтоб деньги за него остались семье, когда он умрет: он никогда раньше не писал книг, он спешил, он горел в торопливом напряжении – и когда издательство приняло роман – кстати, ставший знаменитым, по нему был знаменитый фильм, – оказалось, что он выздоровел! Вот – о студенте, тоже заболевшем раком: он, чтоб отвлечься от черных дум, стал учиться играть в шахматы, выучил учебники наизусть, стал мастером, чемпионом города – в считанные месяцы; через год – врачи считали, что он уже умер, – он оказался совершенно здоров и не болел никогда больше!
И случаев таких не так мало!
Вот что такое сила человеческого духа!!
Драться!! драться! – хрипел Звягин, брызгая потом и рубя воздух кулаком. – И мы будем драться!! – заорал он, хватая Сашу за плечи и тряся, как тряпичную куклу. – Мы будем драться, ты понял меня?! Как мужчины, как подобает! Волк умирает, сцепив челюсти на горле врага! мертвой хваткой!
Никто и ничто не может победить настоящего человека, который умеет хотеть и драться. Никто и ничто, ты понял?! Кто решил победить или сдохнуть, любой ценой, несмотря ни на что, – тот всегда победит!
И только это – настоящая жизнь! Только эта борьба делает двуногое существо настоящим человеком! Да ты еще никогда не боролся, ты плыл по течению, ты не знал трудностей, – теперь настало время! Настало время с оружием в руках встретить беду, и твердо посмотреть ей в глаза, драться с ней и победить! потому что у тебя нет другого выхода! нет! нет! Ты ничего не можешь потерять – ты все выиграешь! Все силы, все нервы, всю веру, все мужество – собрать воедино, в кулак, в одну точку, встречать каждый новый день как сражение, каждую минуту – как битву! Отковать из себя стальной клинок, закалить свой дух, как сталь, не бояться ничего, драться за победу – как рубились в битвах настоящие мужчины во все времена! Чтоб упереть взгляд во взгляд врага, чтоб мечом встретить его меч, чтоб мысль жгла одна – победа! победа! ты не будешь изрублен на месте – ты победишь! как будешь побеждать всегда!
«Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой!» Вся правда жизни – в этих словах! Только теперь для тебя начинается настоящая жизнь – настоящая борьба! Борьба со смертельным, страшным противником! И он будет побежден, как бывал уже побежден не раз!
Ты еще не знаешь себя. Не знаешь себе цену, не испытывал своих возможностей. Не проверял в настоящем деле, как проверяется мужчина в бою. Вот – твой бой. И если ты чего-то стоишь – ты победишь! Ты понял меня, мальчик? Ты победишь!! – загремел Звягин на весь дом, сотрясая голосом стены и стекла. – Драться! С этой минуты, с этой секунды, каждое мгновение – отковывать себя, крепить себя, крепить все мужество, всю веру, все упрямство, все мужское презрение к любым трудностям, почуять азарт борьбы, познать наслаждение борьбой – чем она круче, тем острее это наслаждение, это ощущение настоящей жизни, высшей жизни, той доли, которая достается лишь избранным, мужчинам из мужчин, бойцам из бойцов, солдатам из солдат. Это – твой Клондайк, твоя Брестская крепость, твой тайфун, твоя танковая атака, твоя королевская корона, твоя доля мужчины, бойца, первопроходца, победителя! сурового, несгибаемого, мужественного, сильного, с открытыми глазами встречающего любую опасность и выходящего победителем из смертельных схваток. Вот что дремало на дне твоей души все предыдущие годы – и это ты должен сейчас увидеть в ней, поднять, укрепить, чтоб это стало привычкой, стало твоей истинной натурой, твоим характером, твоей сутью, стало тобой – настоящим, ибо до этого момента ты был только заготовкой мужчины, но еще не мужчиной!
И ты будешь таким – ибо ты на самом деле такой, просто раньше не было случая собой стать – а теперь ты становишься им. Ты станешь собой – и ты будешь побеждать и жить, ты понял меня?! Ты будешь, мальчик. Ты будешь.
…Он шел по темной набережной, опустошенный до звонов. Горячий пот стыл на ветру. Хотелось рухнуть и заснуть. Весь внутренний заряд выгорел там, перед завороженным мальчиком.
Жена горестно промолчала, подумала, тихо захлопотала печь блины.
– Ты сейчас похож на донора, отдавшего больше крови, чем мог, – попеняла она, открывая мед.
Звягин дал себе поблажку, запил молочком кофеин с глюкозой, поусмехался:
– Ценю красивое сравнение. Ну – лучшего сеанса внушения я провести не в силах… Та-акого наговорил, без стеснения… ничего. Должен прочувствовать, ободриться, – чтоб воля к жизни появилась. – Он расслабленно привалился спиной к стенке. – А хорошая рифма – я по дороге придумал – шаман, шарлатан, обман, хулиган?
– Титан, – добавила дочка. – Ураган.
– Счастье еще, что вы стихов не пишете, – трезво оценила жена, оперируя тремя сковородками. – Хватайте блины, пока горячие. Слушай, куда ты вмещаешь столько молока?..
– Сливаю в деревянную ногу, – ответствовал Звягин.
Назавтра в знакомой мороженице он крепко диктовал Лидии Петровне:
– И не давайте ему ни минуты сидеть в покое! Пусть крутится по восемнадцать часов в сутки. Моет, стирает, строгает, ремонтирует, пусть бегает в магазин, учит английский язык, чинит телевизор, носит кирпичи на стройке – что угодно, но не задумываться ни о чем ни секунды! Пусть постоянно будет в действии, пусть к ночи валится с ног от усталости, чтоб сутки были насыщены действием! Это необходимо, это поможет, это укрепляет дух и снимает беспокойство. Пусть ходит в бассейн, бегает по утрам, подметает подъезд – что хотите, но это необходимо. И никаких на него жалостливых взглядов, никаких в разговоре несчастных интонаций – жестче, суровей, требовательнее! Вы поняли меня?
Они его поняли. Саша закрутился. Несся с сумкой в булочную, когда путь преградила цыганка: клетчатые юбки мели асфальт, золотые серьги брякали, черные очи – с сумасшедшинкой пронзительной и мудрой.
– Постой, миленький, минутку, ничего не попрошу у тебя, помочь тебе хочу. Беда у тебя, горе душу иссушило, всю правду знаю, иди со мной…
Смуглой рукой уцепила за рукав, утащила в подворотню:
– Один ты у отца-матери, нестарые еще, ничего тебе не жалеют… Дай закурить, красивый, бедной девушке… не куришь? – Достала из кофты зеркальце: – Постучи по нему пальцем, три раза!
Взглянула в зеркальце, посыпала ласковой скороговоркой, впилась лаковыми глазищами:
– Смерть к тебе близко подошла, чуешь ты ее, тайная болезнь тебя точит, боишься ее, страх мучит, сны черные, нет радости и покоя, – но я скажу, как все исправить, научу горя избежать, помогу, дай Гале рубль на счастье, не жалей, вот в этом кармане…
Саша ошеломленно извлек из кармана рубль, она сжала его в кулачке, дунула, с улыбкой раскрыла пустую ладонь:
– Первую свою любовь ты потерял, не понимала она тебя, не ценила душу твою, гордая была, плакал от нее, за другого замуж вышла, но нет ей счастья, встретишь ее, будет она по тебе плакать, твоей любви просить, твой верх будет… волос у нее черный, глаз черный, сладка была, да не умел ты ей боль причинить, не умел на место поставить, все делал, как она хотела, вот и ушла от тебя – но вернет ее Галя, надо для этого желтое зеленым покрыть, дай платок зеленый, или бумажку, вот отсюда…
И трехрублевая бумажка последовала за рублем. Саша следил суеверно. Затрещала колода карт, лег пиковый король:
– Сильный человек тебе поможет, ему верь, огромная сила в нем, а сердце к тебе лежит. Ты сам сильный, ты щедрый, настоящий мужчина, слабости поддался – это бывает, не страшно все, обманешь смерть, косая она, не сладит с тобой, Галя поможет, выручит, Галино слово верное, нас случай свел, удача свела, удачу нельзя обижать, покрой зеленое красным, чтоб ворожба сбылась…
Десятка пошла за трешкой. Цыганка схватила его левую руку, развернула вверх:
– Ладонь правду скажет… Много неба здесь, много огня, храбрые мужчины… Встреча с кралей ждет, любовь ждет, свадьба будет, сын у тебя будет, только это все – через год… А скоро легла дальняя дорога, дом казенный, проводы, разлука с кровными… богатство будет, весело будет, семьдесят семь лет проживешь, счастлив будешь… но через большие муки это, много трудов на пути написано…
Саша внимал, целиком во власти этой ясновидящей, этой колдуньи в плещущих юбках, в огромных бусах: она знала все!
Она отступила шаг, полыхнула из-под крутых бровей:
– А когда сбудется все, когда счастье придет – вспомнишь Галю? Найдешь? Отблагодаришь Галю за помощь?
– Отблагодарю, – заикаясь, сказал Саша.
Цыганка захохотала, потрепала его по щеке:
– Смотри же, не обмани! – Взмахнула юбками и исчезла.
Он еще долго оставался в обшарпанной подворотне. Нехитрое гадание легло на душу по точной мерке – потрясло. Отрывистые картины всплывали и тасовались в возбужденном мозгу, и были картины эти просечены резким и чистым солнечным светом. Надсадно и яростно пела победу боевая труба. Кулаки его сжимались, стиснутые зубы скрипели, – он не замечал этого.
…На дежурстве, ночью между вызовами, лохматый Гриша спросил, устраиваясь отдохнуть на кушетке:
– А если бы вы не нашли на Финляндском вокзале эту цыганку?
– Уговорил бы какую-нибудь актрису, – ответил Звягин.
– А если б родители не знали о его несчастной любви?
– Рассказали бы что-нибудь другое – чтоб он поразился и поверил.
– А деньги-то она с него слупила, – заметил Гриша.
– А иначе нельзя, – возразил Звягин. – Чтоб поверил.
Ритм Сашиной жизни резко переломился. Время уплотнилось и понеслось. В пять утра трещал в темноте будильник. Гремела музыка из магнитофона, Саша прыгал под ледяной душ и несся в дворницкую: скреб грязь с тротуаров, мел двор, сгребал мусор в баки (жэк принял на эту работу в течение пятнадцати минут – с ходу). В девять бежал в магазин за продуктами, глотал чай и принимался обдирать старые обои, красить потолки и двигать мебель – в квартире начался ремонт. Гудела стиральная машина, мешались в голове английские слова, – он засыпал в полночь с учебником в руках.
На второй день этой новой жизни Звягин повез его в Песочный, где добился пяти минут времени именитого профессора. (Можно было, конечно, ограничиться и кем-нибудь поскромнее, но профессор – звучит солидно, внушает доверие.)
Профессор совершал обход во главе почтительной свиты. Он бегло кивнул Звягину, скользнул взглядом по Саше, повертел на свет рентгеновские снимки. Гмыкнул, стал смотреть снимки по второму разу, лицо его выразило интерес.
– Любопытно, – бормотал он, – явное замедление… на последних снимках прогресс не прослеживается, и анализы на прежнем уровне? ах, даже так… Трудно сказать что-либо определенно, но в любом случае крайне любопытно. Ваше мнение, Петр Исаевич? – обратился он через плечо к бородатому гиганту.
Гигант посмотрел, пошевелил бородой, пробасил.
– Возможно, что-то недосмотрели там? – И добавил пару латинских фраз.
Профессор жестом указал ему вернуть Звягину ворох снимков и анализов, покивал Саше благосклонно, кинул назад в свиту.
– Толя, запишите; может пригодиться для статистики. Возможен обратный процесс.
И они проследовали дальше, шурша белыми халатами и тихо переговариваясь на ходу.
Через час в своем кабинете, сдвигая с полированного стола дареные цветы, профессор кратко выговорил Звягину:
– Ложь во благо у нас обычна. Но вообще ваша позиция меня несколько… удивляет. Воля к жизни, да, конечно… У нас здесь сотни больных – они что же, по-вашему, не хотят жить…
На что Звягин рассудительно отвечал:
– Всем помочь не в силах. Это не повод, чтоб не помочь одному. В конце концов у каждого – есть свои друзья, родные, свои возможности.
– Вы похожи на мальчика-фантазера, которому вздумалось опровергнуть таблицу умножения – неизвестно с чего.
– Если он не выживет, я наймусь к вам в санитарки, – предложил Звягин.
Профессор достал белоснежный платок, посморкался; согласился:
– Заметано. Санитарок у нас не хватает…
В доме Ивченко вспыхнула надежда. Возможно, это вспыхнула та соломинка, за которую хватается утопающий. Но искорка жизнелюбия и веры в чудо затлела в Сашиных глазах.
Звягин был не тот человек, чтобы упустить малейшую возможность раздуть из искры пламя – тем паче что эту искру он же и заронил. Сомнения его не одолевали – он гнул свое.
К Ивченко, вежливо испросив по телефону разрешения и отрекомендовавшись, пожаловал биолог, кандидат наук. Биолог был солиден, седоват, разглядывал Сашу с открытым и доброжелательным любопытством. Да, услышал о нем от своего друга, профессора-онколога. Да, наука еще не все знает, существуют удивительные исключения. Есть необъяснимые, поразительные случаи самоизлечения. Очевидно, дело в ломке стереотипа, в чрезвычайной мобилизации психики, что влечет за собой реализацию неведомых ресурсов организма, перенастройку клеткообразования. Он лично наблюдал средних лет мужчину: операция по поводу опухоли желудка закончилась ничем – разрезали, посмотрели и зашили, выписали умирать. Мужчина уехал в деревню и сгинул. Через год его разыскали открыткой – вызовом в диспансер: строго говоря, вызов был формальный, были уверены в его смерти, но – учет есть учет… Ко всеобщему изумлению, больной явился на собственных ногах и вид имел цветущий. Рентген и анализы показали полное отсутствие каких-либо болезней. На расспросы, как это стряслось, мужик пожимал плечами, счастливо хмыкал, и рассказывал, что плюнул на все, всем все простил, отказался от всех надежд, тревог и амбиций, – жил в деревне, собирал по утрам землянику, пил парное молоко и даже работал на сенокосе – чтобы не очень скучно было. Вот так-с… С тех пор минуло лет десять, мужик хозяйствует в деревне, записался колхозником, семья переехала к нему: он совершенно счастлив и здоров, ни на что не жалуется…
Биолог пил чай с вареньем, интересовался Сашиной биографией: спрашивал, не произошло ли с ним чего-нибудь необычайного в последние недели или даже дни. Ответы заносил в тетрадку: он набирал статистику для докторской диссертации, где анализировал переломы в развитии злокачественных опухолей под влиянием стрессов и смены фенотипа, то есть окружающей среды. Просил раз в неделю звонить ему и информировать о ходе дел.
Звягин, услышав от Саши о визите, изобразил гнев и велел всех биологов и прочих любознательных ученых гнать в три шеи, а в крайнем случае подарить им десяток морских свинок из зоомагазина. Но к идее уехать куда-нибудь и сменить образ жизни отнесся одобрительно:
– Первый шаг сделан! сделан! – рубил он кулаком. – И – вы видите? сдвиг налицо! Значит – возможно! возможно!
Его слушали – с горящими глазами, бледнея от надежд…
– Не останавливаться! только не останавливаться!! – вбивал Звягин. – Каждый день, каждый час – шаг вперед, к цели, к победе! Развить успех, развить, это еще не победа – но это предвестие победы, это краешек ее возможности – за этот краешек надо ухватиться зубами, когтями, изо всех сил, и тащить, тащить!! Высоты боишься? – неожиданно спросил он Сашу.
Тот от неожиданности растерялся, поморгал. Сознался:
– Боюсь…
– Ты ничего больше не боишься! – закричал Звягин. – Отбоялся, хватит! В среду поедешь со мной – будешь прыгать с парашютом, с высоты в километр, чтоб небо с овчинку показалось, чтоб сердце ухнуло от страха, когда встаешь в дверце над свистящей бездной – и шагнешь вниз – и полетишь в пустоту! Вот так надо жить – остро, опасно, на полную катушку, испытывая новое, неизведанное, пьянящее! Совершать то, о чем всегда мечтал – здесь и сейчас, – вот что такое жить! Идти навстречу тому, чего боишься больше всего на свете, – и побеждать! – вот что такое жить! Испытывать себя на прочность в самых острых ситуациях – и выходить из них обновленным, счастливым своей силой и пережитым чувством – вот что такое жить!
(Вечером жена не выдержала, упрекнула:
– В своих странных увлечениях ты бываешь слишком жесток. А если он что-нибудь сломает? И зачем ему теперь сутки волноваться? Мог не предупреждать, а – сразу…
– Я еле начальника аэроклуба уломал, а теперь ты то же самое повторяешь, – грустно сказал Звягин. – Клин-то клином вышибают. Пусть трясется. Нужны сильнодействующие средства. Чтоб обмочился со страху – а потом запел от радости. Не могу же я его отправить замерзать в Антарктиду или спасаться из кораблекрушения. А в аэроклубе у меня все свои, я договорился.)
Среда выдалась пронзительно-ясной. На краю летного поля, где сквозь пожухшую прошлогоднюю траву пробивалась зелень, механики гоняли мотор «Яка». В парашютном классе семнадцатилетние ребята укладывали на длиннейших столах красные парашюты.
– Мой личный практикант, – представил Звягин, хлопая Сашу по плечу.
Начальник аэроклуба, отставной полковник, с неудовольствием посмотрел на значок-парашют с жетоном «350», демонстративно поблескивающий на светло-сером звягинском пиджаке. Перевел беспомощный взгляд на фотографию на стене своего кабинета – Галлай среди первого отряда космонавтов, с дарственной надписью – как будто прославленный испытатель Марк Галлай, успешно выходивший из любых передряг в воздухе, мог помочь ему сейчас на земле.
– Официально разрешить не могу… – страдая, сказал он.
– У меня есть удостоверение инструктора по парашютному спорту или нет? – удивился Звягин. – Я числюсь в вашем активе?
– Ты можешь прыгать… Я дал команду.
– Спасибо. А обо всем остальном вы ничего не знаете.
– Леня, ты понимаешь, чем мне это грозит?
– Мы же договаривались, Константин Лазаревич. В наихудшем случае вызываю своих ребят по «скорой» и оформляем бытовой травмой.
– А если…?
– Тогда они составляют акт, вызывают транспорт, несчастный случай, аэроклуб опять же не при чем.
Саша при этих фразах слегка позеленел и затравленно глянул в окно, где рокочущий «Як» рулил по полю.
Инструктор, паренек деловой и разворотливый, почтительно поздоровался со Звягиным и потащил их обмундировываться: комбинезоны, шлемы, башмаки на высокой шнуровке: «В час – старт, после обеда синоптики обещали погоду испортить».
– Твоя фамилия – Поливанов, запомнил? – вполголоса сказал он Саше.
Вдесятером, парашюты на спине, запасные на груди, они выстроились перед «Ан-2»: проверка, перекличка.
Когда раздалось спокойное:
– Поливанов.
– Я! – сипло выдавил Саша: его уже колотило; лямки давили плечи, терли между ног; он вспомнил мальчишек в парашютном классе и понял, что парашют может быть уложен небрежно, так, что не раскроется, и запасной не лучше. Еще можно было сказать, что он плохо себя чувствует, что он не готов, что он не Поливанов!..
– Напра-во!
«Уж лучше – сразу!» – отчаянно подумал он, спотыкаясь на лесенке.
Негромко ревущий «Ан» подпрыгнул и пошел вверх, казалось, почти без разбега. Лег на крыло – и далеко поплыли постройки и ряд самолетиков, а дальше, за пространством леса и полей, открывалась затуманенная сероватой желтизной панорама Ленинграда. Саша, вывертывая шею, прилип носом к иллюминатору, чувствуя коленом сидящего рядом Звягина.
Над пилотской кабиной зажглась лампочка и загудел зуммер. Инструктор проверил крепления вытяжных карабинов на тяге и открыл дверь. Туго зашелестел в проеме осязаемый, плотный ветер. Лица у всех напряглись.
«Уже?! Сейчас… прямо… кто первый? я ведь ни разу…»
– Поливанов! – вдруг скомандовал инструктор резко.
Саша вдруг одеревенел, тело стало чужим, он словно наблюдал со стороны: вот встал с дюралевой скамейки, негнущиеся ноги сделали четыре маленьких шага до дверцы, вот повернулся к свистящему проему, уперся руками в верхний край, оглянулся на инструктора. Хотел независимо улыбнуться, но только скривился.
– Па-шел! – закричал инструктор, весело щерясь.
Вниз смотреть не надо было, Саша знал, но взглянул, и тотчас возникло ощущение кошмарного сна, нереальности, подкатила кислая слюна, качнуло головокружение…
– Не трогай! – предостерегающе крикнул Звягин инструктору, собиравшемуся сноровисто выпихнуть новичка, как и водится в таких случаях. – Пусть сам!
– Сам! – заорал он, встав рядом с Сашей, сжав жесткой рукой его лицо и тряся. – Ну – делай шаг!
Саша шагнул одной ногой на порог, невольно зажмурился, оттолкнулся, опуская руки, – и стал падать в бесконечную бездну!.. Обожгло холодом, ударило, швырнуло, исчезла ориентация, сознание угасло, холодным комком провалилось в живот и остановилось сердце. Через миг – через вечность – резко рвануло бедра и подмышки лямками подвески, мощно хлопнул наверху раскрывшийся купол, – и только тогда он вспомнил: раскинуть руки-ноги крестом, не прогибаться, голову поднять…
Но ужас и счастье уже слились воедино, остро и пьяняще: он плыл под парашютом между синим небом и зеленой землей. Сердце колотилось бешено, перехваченное горло отпустило, он вдохнул порывисто, со всхлипом. Задышал ровнее. Осторожно, боясь нарушить свое положение, повернул голову влево-вправо: мир был огромен и раскрыт до дальних пределов.
Лишь холодный ветер снизу, слезящий глаза, свидетельствовал о движении. Переполняло такое ощущение полноты бытия, которого он не испытывал никогда в жизни. Вобрав покалывающего воздуха, Саша неожиданно для себя запел-заорал «Коробушку»!..
Далеко внизу белел посадочный крест.
Земля оказалась совсем рядом – полетела навстречу стремительно. Густо и тепло ударили земные запахи – прогретой почвы, трав, набухших почек, бензина. «Ноги вместе, напряжены и чуть согнуты в коленях, приземление на всю ступню!» Земля подскочила вверх.
Удар произошел несильный – он успел разочарованно удивиться, – но ноги подогнулись, он сложился на корточки и тогда – как учил Звягин – повалился на бок. Его куда-то потащило – забыл, что надо гасить купол, да и не сумел бы, – но уже подбежали к нему, потянули стропы, отстегнули лямки, поставили на ноги, похлопали, тиснули:
– Молодец! Ну – как?
– Ага, – невпопад ответил он, глупо и блаженно улыбаясь.
Он плохо соображал, его качало. День сиял, как сон.
Только в стучащем, привычном вагоне метро Саша недоуменно вытаращился на Звягина:
– Леонид Борисович! Как же… я прыгнул первый – а в-вы меня в-внизу встретили… в-ведь вы меня подняли?!
– А я обогнал тебя в воздухе, – засмеялся Звягин. – Затяжным летел, понимаешь?
«Полученного заряда ему хватит на сутки. А потом…»
А на следующий вечер позвонила Рита.
Саша снял трубку – и услышал голос…
Пространство поплыло волнами, как мираж, и зазвенело тонким хрустальным звоном. Все эти долгие годы он в глубине души ждал, мечтал, в самые черные часы находил прибежище в грезе: зазвонит телефон – и это окажется Рита.
Этого не могло быть, но это случилось.
– Не ждал? – тихо спросил голос из семилетней дали, из юности, из надежд.
– Нет, – сказал Саша. – Ждал, – сказал он.
– Я увидела тебя вчера в метро. Ты был такой счастливый, прямо светился… А ты меня не заметил…
– Ты, – сказал он. – Это ты…
– Ну, как живешь? – спросила она, так же, как спрашивала всегда, когда он сходил с ума, ожидая ее звонка.
– Хорошо, – сказал он, проглатывая комок в горле. Снял телефон со столика в коридоре и, путаясь в разматывающемся проводе, понес в свою комнату, закрыл дверь. – А ты как живешь?
Голос в трубке помолчал и ответил:
– Плохо…
И это «плохо» вызвало в нем радость и боль одновременно: боль, потому что Рита (его Рита…) живет плохо, – и радость, потому что и она, через столько лет, несчастлива без него.
– Радуешься? – спросила Рита.
– Чему? – ответил он. – О чем ты… Как ты, расскажи…
– Так… Окончила институт, осталась в Ленинграде, работаю…
Он не решался спросить.
– Ты, наверное, женился, – сказала она.
– Нет, – сказал он.
– А я разошлась, – сказала Рита. – Почти сразу…
Раздались короткие предупреждающие гудки автомата.
– Подожди, еще монетку брошу, – сказала она.
– Я могу тебя увидеть? – спросил он. – Если хочешь.
– Если б не хотела – не позвонила бы, наверное.
– Где ты? – спросил он сорвавшимся голосом. – Я сейчас приеду. Ты где?..
– Уже поздно, – сказала она. – Завтра. Я очень хочу тебя видеть, слышишь? Ты придешь? Завтра в шесть, у метро «Балтийская»!
Он так и сидел с трубкой в руке, пока часы не уронили одиннадцать тяжелых бронзовых ударов. До встречи оставалось прожить девятнадцать часов.
…В двух случаях людям нечего сказать друг другу: когда они расставались так ненадолго, что ничего не успело произойти, – и когда разлука так затянулась, что изменилось все, в том числе и они сами, – и говорить уже не о чем.
Саша увидел, как она выходит с толпой из метро – вороная прядь, быстрая улыбка: она была та же самая, она не изменилась, она пришла. Он удивился своему спокойствию, только вдруг вылетели из головы все приготовленные слова – он не знал, что сказать, стоял и смотрел, пока она не протянула ему руку.
Он взял эту руку, помедлил отпускать, смотрел неотрывно, словно зрение насыщалось за все те семь лет, что минули.
Она что-то говорила, он что-то отвечал, ничего не понимая. Он только сознавал, что это она, рядом, оказалось, что они куда-то идут, и она держит его под руку, и он сквозь одежду ощущает тепло ее руки, а потом они очутились за столиком и официантка принесла кофе, и вдруг сразу наступил вечер, звук шагов рикошетировал от каменных стен узкой улочки, он споткнулся на лестнице, больно ударился лодыжкой, и увидел себя в маленькой комнате, свеча дважды отражалась в черном окне, скрипнул под ногой пол, а в углу дивана умостилась с ногами Рита, так, как она всегда любила сидеть, это была она, в том самом норвежском свитере. И постепенно до него стал доходить смысл звучащих слов.
– Помнишь – ты говорил, что это ошибка; что тоска сгрызет меня; что я пойму, что ты значишь для меня, но будет поздно; что я буду каяться… Да: я каялась, и тоска грызла меня, и часто казалось, что-то самое главное внутри она сгрызла.
– Почему же ты не пришла… не позвонила?..
– Это была для меня прошлая жизнь, в которой осталась другая я – лучше, моложе, чище. Разбитого не склеишь. Мне было очень плохо, и некуда деваться, и не могла я прийти за милостыней к тому, кому испортила жизнь. Что, просить прощения? ненавижу…
– Тебе не за что просить прощения. Человек не виноват в том, что он чувствует… Если я был тебе хоть на миг нужен…
– Ты был мне очень нужен. Один ты. Может быть, именно поэтому я не приходила раньше. Я помню все, все-все, что у нас было… Я никого не знала лучше тебя. И ни для кого я столько не значила, никто не понимал меня так, как ты, не умел угадать, о чем я думаю, и рассмешить, когда грустно. Мне было хорошо с тобой. Но я была девчонкой и не знала цену тому, что имела. А когда узнала, было уже поздно. В жизни всегда так… А ты забыл меня. Я была уверена, что ты давно женился…
– Ты знала, что я никогда не смогу забыть тебя. Я думал о тебе все время… Ты знала, что я не могу жениться на другой.
– Ты совсем ребенок.
– Нет. В разлуке с любимыми старятся быстро.
– А мне ведь часто хотелось, чтобы ты… Я мечтала, что ты сам меня найдешь, – и ненавидела за то, что ты смирился, как нюня, где-то там горюешь себе в тряпочку, когда мне плохо и я нуждаюсь в тебе. В твоей поддержке. В поддержке мужчины, понимаешь?
– Прости. Я идиот. Я ничтожество.
– Не надо. Не принимай мои слова близко к сердцу. Это я со зла… Оттого, что много выстрадала… Оттого, что мучила тебя, а сама была во всем виновата, и осталась у разбитого корыта…
Горящая свеча становилась все короче, и пропасть прошедших семи лет все сужалась между ними, и края сомкнулись, когда он услышал свой голос, произносящий сквозь все эти годы:
– Я люблю тебя, Ритка…
И обожгло ее дыхание, оглушил шепот:
– Я не хочу больше терять тебя, слышишь, Сашка… Я умру, если потеряю тебя еще раз, слышишь?..
И он не знал, говорит это, или ему только кажется:
– Как я мог жить без тебя, Ритка… Как я мог без тебя жить.
Простучали во дворе шаги, взвыл кот, звякнуло стекло.
– Только не надо торопиться, – сказала она. – Мы не должны торопиться… Я должна привыкнуть к тебе, слышишь. У нас еще все будет, у нас все впереди, слышишь?..
– Да, – отвечал он. – Да. Да. Как тебе лучше. Тебе. Да. Да.
И только невесть где в темной улице, забыв о закрытом метро, он вдруг остановился – как налетел на препятствие: цыганка нагадала правду!! Вдохновенный восторг охватил его: судьба, везение, фортуна вмешалась в его жизнь! Он же всегда знал, чувствовал, он верил, что произойдет какое-то чудо – и все станет хорошо!
Тот, кто сделал это чудо, потратил неделю. Каждый день (кроме выходных, на которые он и поменял два своих суточных дежурства) Звягин ждал в четверть шестого у подъезда проектного института на проспекте Огородникова. Оглядывались выходящие, появлялась тихая молодая женщина – тихая той неброской женственностью, которая особенно неотразимо действует на два противоположных типа мужчин, – на отъявленных авантюристов и робких мечтателей (возможно, потому, что вторые – те же авантюристы, но лишь в мечтах?..).
Женщина замечала его, вороная прядь вздрагивала, углы губ бессильно опускались: положение ее становилось невыносимым.
– Речь идет о человеческой жизни, – с тяжестью танка давил Звягин. – От вас не требуется ничего невозможного. Только позвонить ему, встретиться, провести один-два вечера.
– Где? Как? О чем вы?
– Я все объяснял. Комната есть. Что сказать ему – знаете.
– Я замужем, – привычно и устало отвечала она, – у меня ребенок. У меня свой дом, своя жизнь…
– Каждый из нас в ответе за того, кто его любит.
– Разве это поможет?.. – безнадежно говорила она.
– Поможет! – гвоздил Звягин. – Неужели так трудно: несколько ваших вечеров – и вся его жизнь?! Ну представьте себе: если б вы были санитаркой и надо вытащить раненого с поля боя – неужели бы вы дезертировали?
– Как вы можете сравнивать?!
– Очень просто. Там вам грозила бы смерть – а здесь вы не рискуете ничем. Неужели мирное время дает больше поводов для равнодушия к человеческой жизни?
Они ехали через весь город. Она слушала измученно.
– Вы никогда не простите себе его смерти. Не простите себе равнодушия, эгоизма и бессердечия к умирающему, который не задумываясь отдал бы за вас жизнь.
– Но где вы слышали о таких… диких, невозможных спектаклях?! – восклицала она.
– Что, что конкретно – невозможно из того, о чем я прошу?
Они сходили с трамвая, вместе с ней Звягин заходил в магазин и нес ее сумку с продуктами до угла.
– В каждой женщине должна жить сестра милосердия, неужели вы не можете несколько вечеров в жизни побыть ею – с тем, кто любит вас и смертельно болен?
– Да что ж это за сводничество!.. – Она выхватывала у него сумку и почти убегала к своему дому.
Назавтра все повторялось. Очевидная для Риты абсурдность плана Звягина сменялась сознанием его высшей – принципиальной – правоты…
– Но у меня муж!
– Он мужчина. Он поймет. Если он вас любит – поймет и другого, который вас тоже любит.
– Он меня страшно ревнует!
– Саша звал вас королевой Марго – помните? – молил и уламывал Звягин. – Вы целовались в белые ночи у разведенных мостов, вам было по восемнадцать лет – помните?
– За что ж вы меня мучите!.. – В ее голосе звенели слезы…
Звягин посылал к ней Сашину мать. Отца, Гришу. Он торопился. Натиск и измор. Мытьем и катаньем.
– Хорошо… – обреченно сказала она. – Вы правы. Я, в общем, с самого начала знала, что вы правы, оттого и дергалась. Но я не могу сказать это все мужу… Я не знаю, как…
Звягин знал, как. К мужу он отправился сам.
– Так, – сказал славный парень, мрачно выслушав Звягина. – Вы вообще нормальны или псих?
– Врезал бы я тебе сейчас, – сказал Звягин, – да толку с этого не будет. Не понимаешь ты просто…
Он с силой развернул парня к окну: на детской площадке мельтешила малышня.
– У тебя есть все: любимая жена, дочка, квартира, работа. Здоровье, планы, будущее. У твоих отца-матери есть внучка, а его родители лишаются единственного сына. У него – ничего нет; ничего. Понимаешь? Есть единственный шанс выжить. И этот шанс в твоих руках. Тебе стоит сказать «да» – и останется жить человек, который тебе ничего плохого не сделал. Он тебе не соперник, не враг: Рита тебя любит!
– Ну а дальше?
– Через несколько дней он уедет. Видимо, навсегда. Но встретиться с ней, поверить ей – это для него такой мощный толчок к жизни, такой взлет счастья, такой подъем желания жить, – что он может выжить. И должен выжить, понимаешь?..
Он гнул и ломал сопротивление осязаемо, как стальной прут.
– Помоги ему, браток, – тихо попросил он и отвернулся, сунув руки в карманы бритвенно отутюженных черных брюк. – Нельзя же, нельзя бросать человека в беде только потому, что тебе на это наплевать. Неужели он должен умереть, чтоб ты жил спокойней?..
– А… что она будет делать? – Муж смотрел в сторону.
– Ничего. Встретится с ним. Поговорит. Поврет ему… Может, он ее пару раз поцелует. Это ведь не так страшно, а. А ему это даст жизнь. Подарите ему жизнь, понимаешь? Тебе легче будет жить на свете, парень, когда ты будешь знать, что кто-то живет благодаря тебе. Ведь в конце концов вы же два мужчины, два человека, два солдата, вы же братья – неужели ты дашь своему же подохнуть зазря? Он же свой, свой!..
Минуты катились тяжело, как вагоны. Прут гнулся и треснул.
Славный парень, ее муж, крутнул головой и насупился.
– Она не согласится, – глухо сказал он.
– Она согласна, – ответил Звягин.
Саша не узнал об этом никогда. Звягин обо всем позаботился.
…Так же, как он позаботился о скором Сашином отъезде. Подробности и детали вызревали не один день. «Смена обстановки, суровые условия, физические перегрузки, стрессы и победные исходы, – короче, в пампасы его загнать! Психика мобилизуется, организм переключится на иной режим…»
– Идеальным вариантом было бы кораблекрушение на не обитаемом острове, – задумчиво говорил он жене, меря комнату из угла в угол с пустым стаканом в руке. – Жаль, это не в нашей власти. Хорошо бы к рыбачкам на траулер – да сложновато: минимум шесть месяцев курсов, визирование…
Жена листала учебник географии и терла пальцами виски:
– А в экспедицию, к геологам?
– Ну что – экспедиция. Там от работы не переламываются. Не те нагрузки… Р-рымантика – нет… Плоты бы его сплавлять в Сибирь – так не сумеет, свалится с бревна и утонет.
Дочка разгибалась от шитья какой-то «необыкновенной» куртки:
– Я читала в одной книжке – на Алтае перегоняют баранов в горах: все лето верхом на лошади, настоящие ковбои!
Звягин цедил молочко, листал записные книжки.
– Как-то к нам в дивизию, когда ребята увольнялись в запас, пришло приглашение на работу в воздушные пожарные: десантник – это ж готовый специалист. Как бы по междугородной дозвониться в полк замполиту – он должен быть в курсе…
И в результате Звягин полетел в Галич – достаточно далеко, и в то же время под боком, при нынешнем развитии средств связи и транспорта.
В общежитии воздушных пожарных валялся на койке курчавый крепыш и тенькал на гитаре Окуджаву.
– Здорово, Боря!
Крепыш изумился, обрадовался, встал:
– Товарищ майор?! Какими судьбами?..
– Меня зовут Леонид Борисович, – сказал Звягин, стискивая руку не слабее своей. – За помощью приехал, Боря…
В городском саду было еще прохладно, влажно, они смахнули липкие почки со скамейки на солнечной прогалине. Закончив рассказ, Звягин сунул Боре томик Джека Лондона:
– Прочти «Страшные Соломоновы острова» – для ясности дела. Надо нагнать на него страху, понял? Чтоб ему пришлось собрать все силы, весь характер – и держаться, держаться! Ни ласки, ни участия – пусть трясется, ощущает страшные опасности.
– Нагоним, будьте спокойны… А – не сбежит?
– Нет. Не до смерти пугайте, а то знаю я вас, крутых десантников. Ребята как – поймут? Поддержат?
– Ребята хорошие. Пожарные. Парашютисты. Свои ребята.
– А после – подружись с ним. Похвали, ободри, чтоб расцвел от счастья и гордости, что – выдержал, смог. А?
Замысел был прост, но в наше время, когда любой поступок обрастает бумажным валом справок, свидетельств, разрешений и инструкций, – требовалось утрясти множество деталей, и каждая грозила превратить здравую мысль в несбыточную фантазию.
– Медкомиссия, – хмуро сказал Боря, обмозговывая задачу.
– Пройдешь вместо него, – приказал Звягин.
– Курсы подготовки, – был назван следующий риф.
– Узнавал. Сдаст теорию экстерном – начальник согласен.
– А практику?
– Договорюсь с преподавателем, сделает зачет по-быстрому.
– Количество прыжков.
– Привезет справку из Ленинграда.
– Вас не смутишь, – рассмеялся Боря. – Но… нечестно, а?
– Боря, – сказал Звягин, – тебе никогда не приходилось слышать, как ваши ребята делают запись в журнале, что видят огонь, и прыгают в зеленый лес подышать воздухом – чтоб получить по лишней десятке за прыжок и премию за пожар?
– Все бывает, – дипломатично отозвался пожарный.
– Летчик-испытатель Игорь Эйнис, Герой Советского Союза, был близорук, как курица, полжизни обманывал окулистов – таблицы для проверки зрения он выучил наизусть. Про одноглазого Анохина все знают. Про безногого Маресьева напомнить? Про хромого Гаринчу, второго после Пеле футболиста мира? Мне ли тебя, молодого парня, учить, что инструкции – не флажки, которыми волка обкладывают, они – для пользы дела, так? Вот и я – о пользе дела. Мы вреда никому не причиняем. На преступление не толкаю – сам первый удержу.
Звягин провел в Галиче сутки. Одаренный счастливой способностью располагать к себе людей, он «подготавливал почву». Да ведь и люди идут навстречу, когда к ним обращаешься по-человечески.
…Саша воспринял отъезд как счастливую необходимость. Он вернется через несколько месяцев здоровым. Семейство больше не выглядело подавленным – настроилось на борьбу. Это напоминало проводы в опасную экспедицию, которая обязательно увенчается успехом и принесет славу. Саша улыбался. Лицо его, еще недавно юношески неоформленное, приобрело жесткую определенность мужских черт.
Если б Звягину сказали сейчас, что победы не будет, он в первую очередь крайне удивился бы, а уж потом пришел в бешенство.
Рита стояла у вагона. Смеялась и плакала. Сыгранная легенда коснулась ее души: это уже не была неправда – это была одна из правд, сосуществующих порой в жизни. Она будет ждать. Она напишет и позвонит. Она приедет. Они расстаются ненадолго.
Выходной семафор в перспективе перрона вспыхнул зеленым.
От названия Галича веяло древнерусскими тайнами, а оказалось – город себе как город. Но рассматриваемый как поле сражения и будущей победы, он представлялся Саше необычным во всем – и улицы, и дома, и магазины. Это было его Бородино, и фитили были поднесены к наведенным пушкам.
У вокзала он вбился в разъезженный автобус и сошел через двадцать минут на проселке. Апрельское солнце грело черные поля, и по ним расхаживали черные грачи. Укатанная колея сворачивала к белеющему вдали флигелю с диспетчерской башенкой. Два вертолета – «Ми-8» и огромная «летающая цистерна» «Ми-6» – соседствовали с парой неизменных «Ан-2», растопыривших стрекозиные крылья.
– Ивченко… – протянул начальник пожарной части, проглядывая Сашины документы и разворачивая сопроводительное письмо от Звягина. – Прыжки есть? Так. Служили в инженерно-саперных? Неплохо… – Он откинулся в кресле. – Начинается теплый сезон, пожароопасность возрастает, люди нам требуются. Итак…
Количество формальностей расстраивало: скорей, скорей! Вернувшись из отдела кадров управления в общежитие, получил у коменданта матрас и постель и понес в комнату.
– Куда пр-решь?! – осадил его на пороге рык. Здоровенный парень осмотрел его разбойничьим нехорошим взглядом.
– Поселили сюда… – неуверенно объяснил Саша.
– Еще один смертник, – насмешливо прохрипел парень. – Давай сюда, – кивнул на пустую койку. – А то Леха сгорел недавно, скучно одному.
Саша положил скатанный тюфяк и помялся.
– На пожаре?.. – неловко спросил он.
– Нет, в пепельнице, – хрюкнул крепыш. – Меня видишь?! Шесть лет работаю – и все жив, и не инвалид. Долгожитель! Достопримечательность! Так что смотри, дело рисковое.
Он схватил Сашу за руку, спрессовал пальцы в слипшийся комок, представился:
– Борис Арсентьев. Старший сержант. Командир отделения. А теперь вали гуляй до шести – ко мне сейчас подруга придет. Ну?!
К шести часам спектакль был готов. Идею застращать новичка наскучавшиеся за зиму пожарные приняли с восторгом.
Саша застал в комнате скорбную тризну. На него не обратили внимания. Пьяные головорезы надрывали души.
– Мир праху его, – трагически возгласил один.
– Все там будем, – мрачно откликнулся другой.
Звякнули граненые стаканы, булькнула изображающая водку вода. Смачно выдохнули, зажевали бутерброды, хрустнули лучком.
– Наливай. Витьку тоже помянем.
– Какой парень! Два года в живых оставался…
Звяк! Бульк! Чавк. Хрусть. Огрызки летели на пол, в окно.
– Приземляюсь – а он уже висит на суку, как бабочка на булавке… Только вчера день рождения праздновали…
Боря заметил, наконец, Сашу, притулившегося в углу на койке.
– На лес прыгали, Витек и напоролся на дерево, – поведал он. – Сгоняй на кухню, притащи наш чайник – синий, без крышки.
– Совсем?.. – выговорил Саша.
– Нет – на минуточку! – рассердился тот и с чувством изобразил руками, как человек накалывается на кол.
Ландскнехты, горько подумал Саша, снимая с газа чайник. Бесчувственные скоты. Еще чай пить будут, бутерброды жрать. Тут их друзья гибнут, а они…
– …так и накрылся, – звучал хмурый голос. – Дают ему приказ – в огонь! И гаси чем хочешь. Сгорел дотла, только черепок нашли беленький…
Рассказ прервался придушенным рыдающим звуком.
Встали, выпили по полстакана воды за сгоревшего дотла.
– Такая наша судьба – светить другим, сгорая, как говорится.
– Ладно бы сгорая, – вздохнул маленький, похожий на подростка. – Вот у Швыдко парашют не раскрылся, собирали его с кочек, как кисель.
(Швыдко был толстый старик-каптерщик, отродясь не прыгавший ни с чего выше табурета.)
Сидели за полночь, кляли судьбу. Из воспоминаний следовало со всей очевидностью, что жизнь воздушных пожарных измеряется неделями и заключается в том, чтобы гореть, тонуть в болотах, задыхаться в дыму и разбиваться, причем иногда всем отделением вместе с самолетом. Гладиаторы по сравнению с ними имели спокойную и безопасную профессию.
– А Андрюха как на полосе препятствий шею сломал? А ведь целый год проработал! Невеста повеситься хотела…
– А Толяна на танцах зарезали, – присовокупил коротышка. Перечень жертв был бесконечен. Каждый выступал с жуткой историей, стараясь затмить остальных.
В разгаре ужасов вломился всклокоченный мужик и сообщил, что час назад Славка умер в больнице от ожогов. Возник ожесточенный спор, кому достанется Славкин серый костюм. Боря грохнул по замусоренному столу так, что лампочка под потолком заплясала: брать джинсы теперь его очередь. Остальное имущество покойного разыграли по жребию.
– Вот так и твое будут делить, салага, – зловеще предрек коротышка, последним покидая комнату. Саша сидел застывший, с ненадкушенным бутербродом в руке.
Ночь он пролежал в ознобе. Дремотная темнота расцвечивалась картинами катастроф, и реквиемом плыла последняя реплика: «С этой работой до зарплаты не доживешь».
Засерел рассвет, потянуло холодком из форточки, затрещало птичье пение. Да, это было здорово – жить и работать среди людей, постоянно рискующих жизнью: это ставило его в равные условия, любой из этих здоровяков мог погибнуть раньше его, и здоровье тут ни при чем. Такая доля – мужская! Достойная! Честная игра!
– Не раздумал? – внимательно спросил его Боря утром.
– Нет! – с подъемом ответил он.
Неожиданно Боря схватил его за подмышку, легким вращающим движением сбил с равновесия и послал через всю комнату – Саша плюхнулся на койку.
– Хилый, – было заключение. – Твое счастье: у меня в отделении человека не хватает. Медкомиссию за тебя пройду. Если б не Звягин за тебя просил, – сказал он, – я б тебе живо глаз на пузо натянул и моргать заставил. Нич-чо: сделаю из тебя мужчину. – Стянул с себя майку, напряг мышцы: – Вот таким надо быть, иначе хана, понял?!
Саша с завистью смотрел на рельефный торс, где перекатывались мощные бугры мускулов. Такой атлет врежет – мокро станет…
– Гонять тебя буду, как сидорову козу, – мечтательно пообещал атлет.
И гонял! Две разминки в день: час утром и час вечером. Десятикилометровый кросс. Окатываясь в умывальнике ледяной водой, Саша топырил бицепсы перед зеркалом (растут?..). Через день парился в бане, до полусмерти отхлестанный в жгучем пару веником, коим орудовала безжалостная рука. Коснувшись подушки – проваливался в сон.
– Нашел себе жертву наш сержант, – гоготали из окон, когда Саша на спортплощадке спотыкался и падал от изнеможения.
– Пошел! – кнутом стегал Борин голос. – Пош-шел, ну!!
Задыхаясь и щурясь от пота, курсант Ивченко взбирался, подтягиваясь на руках, по лестнице, бежал по бревну на семиметровой высоте, скользил по тросу на площадку, прыгал через ров, взбирался на дощатый фасад – гремя пудовыми сапогами, путаясь в асбестовой робе, теряя каску. И чем приходилось круче, чем мучительнее болело тело от нагрузок – тем крепче делалась уверенность: он сможет, сможет, сможет!
– А старается парень, – вынесли общую оценку.
Он старался. Он спешил. Черные поля стали зелеными, деревья покрылись листвой. Он зубрил инструкции и выполнял нормативы. Домой шли бодрые письма. Каждый день он бегал на почту. Рита писала дважды в неделю: он заучивал бисерные строчки наизусть.
Ночью за окном пел соловей, птица влюбленных и поэтов. Саша его не слышал: ему снились полоса препятствий, штанга и огонь.
Первый вылет разочаровал. Три с половиной часа они патрулировали над квадратами, изредка ложась на крыло и меняя курс. Нескончаемые зеленые массивы прорезались жилками рек. Озера блестели, как монеты. Изредка проплывали вкрапления сел с аккуратными прямоугольниками полей.
В самолете дремали, переговаривались, крича друг другу в ухо, Боря читал в затрепанном «Знамени» «Экспансию» Юлиана Семенова, длинный Шурик спал в хвосте, удобно пристроив парашют под голову.
– И это все?.. – обескураженно спросил Саша, когда они приземлились на родном аэродроме.
– Хочешь подвигов в огненной стихии? – засмеялся Боря. – В лесу еще сыро… Погоди, летом сушь ударит – напрыгаемся, будь оно неладно. Туристы нас без работы не оставят…
Жара пришла в середине мая. Пляж заполнился загорающими. По выходным толпы любителей природы хлынули в лес.
…Они болтались в «Аннушке» – парило, машину швыряло в восходящие потоки и воздушные ямы, желудок подкатывал к горлу и обрывался вниз: Сашу слегка мутило. Они болтались в «Аннушке» и со смехом и ором играли в «балду».
– Вижу дым! – прокричал наблюдатель, правый летчик, перегибаясь в салон.
Срезало смех и ор. Отвердели лица. Проверили крепление парашютов. Разобрали сумки с инструментом. Двинули к дверце грузовой контейнер со снаряжением.
С двухкилометровой высоты пожар не выглядел пожаром. Пламя рыжело в лесу, как лисий мех на зеленом пальто.
– Гектар сорок, – сказал наблюдатель.
– Все семьдесят, – сказал Боря, просунувшись в дверцу кабины и опираясь на его плечо. – До реки все равно выгорит и встанет, а вот здесь надо полосы валить и пропахивать. Техника нужна. До колхоза тут сколько по карте? Километров двадцать? Гоните оттуда технику быстро, ребята…
Самолет снизился, тарахтя на малых оборотах.
– Пошли!
Саша прыгнул последним. Уже на высоте пахло гарью. Он подтягивал стропы, метя на поляну, куда опускались белые купола.
– Быстро, быстро! – кричал Боря, помогая ему гасить парашют. – Руби там, Шурик покажет!
Минуты, часы, день, вечер слились в одном непрерывном действии, в бешеном темпе, в отчаянном напряжении: рев бензопилы, стук топоров, тяжкие удары рушащихся стволов, треск ломающихся ветвей, загнанное дыхание, – оттаскивать мелочь, снимать дерн, рубить сучья; отлетает пот на рукоять топора, немеют руки, липнет и колется хвоя, – быстрее, быстрее, давай-давай!
Они пустили встречный пал и остановились перед стеной гудящего с треском ружейной пальбы огня. Миллиарды искр взлетали фейерверком в ночную высь. Гигантский огненный вал катился навстречу пожару. Где-то впереди две стены огня встретились, схлестнулись, сожрали в чудовищной вспышке весь кислород в воздухе над собой – черное небо улетело вверх над фантастическим всполохом, раскатился хлопок, словно великан хлопнул километровой простыней, – и все кончилось. Пламя задохнулось без пищи.
В рдеющей угольками чаще змеились, перебегали синеватые язычки по обугленным головням. Пожар агонизировал.
Саша осознал, что сидит на пне, уронив руки на колени. Услышал грохот бульдозера, сдиравшего дерн заодно с кустарником и подлеском. Увидел цепь измученных закопченных людей с мок рым тряпьем и пучками веток в руках привезенных из деревни колхозников. Различил тускло блестящий багровый бок пожарной автоцистерны и белеющую «скорую помощь», пробравшиеся сюда от лесной дороги по пробитой трактором колее.
– Похоже, успели, – спокойно сказал Боря и сел на подножку грузовика. И будто по команде чумазые, тяжело дышащие люди оживленно загалдели: риск спал, дело было выиграно и окончено – сейчас они являлись как бы единой командой победителей, спаянной тем самым огнем, который они покорили.
Неотчетливо Саша помнил, как ехали в грузовике, где под ногами брякали и катались пустые огнетушители, как пожимали протянутые руки, как поскрипывал колодезный ворот, кричали петухи, оказалось, что уже утро, и родная тарахтящая «Аннушка» вынырнула из рассветной мути, прокатилась по деревенскому лугу и встала, и они полезли в ее нутро, отработавшие свою работу воздушные пожарные.
– Ну как – нравится? – проорал ему Шурик сквозь вой мотора.
Он чувствовал себя королем. Ради этого дня стоило жить!
– А ты ничего, – скупо обронил Боря в душевой. – Не сдрейфил.
Не сдрейфил он и в следующий раз, когда они десантировались на небольшой, с четверть гектара, очаг загорания – явно последствия костра, оставленного в лесу какими-то разгильдяями.
– Сами управимся, – определил Боря, глядя сверху на выглядящий невинным огонек, ввинтивший в зеленое небо штопор прозрачного дыма.
И они управились: топоры, лопаты, бензопила и пеногоны. Они окружили, отсекли пламя и не пустили его дальше. Над полыхающими кронами рокотал пузатый «Ми-6», рубя лопастями зыбкое марево и извергая из чрева потоки воды, взрывающейся облаками шипящего пара. Страшно не было. Было здорово – драться и побеждать.
«Вот что такое настоящая жизнь, парень», – вслух произнес Саша, когда «восьмерка» – вертолет «Ми-8», – отгибая кусты тугой струей от гремящего винта, садился на лесную прогалину, где собрались они семеро – усталые, в саже и поту, собрав парашюты и инвентарь, отхлебывая из фляжек и закусывая НЗ. Они были главные здесь, с весомой основательностью в повадке, они были хозяева, они были – пожарной охраны бойцы.
Небрежной развалочкой проходил теперь Саша по тротуарам города, глядя слегка поверх голов. Лелеемый знак касты проявился в нем: его уделом было единоборство с огнем и смертью, и победа была ему по плечу. Ему было за что уважать себя. Он недаром жил. Взгляд его приобрел медлительную тяжесть. Он вдруг обнаружил у себя какую-то новую улыбку (которую тайно, для себя, назвал «бойцовой»): верхняя губа вздергивалась двумя уголками, в полупрезрительной гримасе обнажая передние зубы.
Блаженный угар первых недель минул. Чередование дежурств и отдыха втягивалось в колею. Прыжки на пожар случались отнюдь не каждый день.
Беспощадно Боря учил его, «как мужчина должен уметь постоять за себя» (так он выражался). Синяки от этой учебы не сходили с ноющего тела. По утрам умывальник оглашался воплями и кхеканьем, крепкими звуками ударов и прыжков.
– Окреп, окреп, – приговаривал он, ощупывая Сашу здоровенными твердыми руками. И за его интонациями взмывал, грохотал для Саши непримиримый звягинский голос: «Сжав челюсти! Храбро! Гордо! Вот что такое дух! Все может настоящий человек!!»
Он не мог знать, что в эти дни голос Звягина звучал не так…
Звягин сидел в квартире Ивченко и с видимым удовольствием ел шоколадный торт – потолстеть ему не грозило. Сашины родители обменивались взглядами, что-то подсчитывая в уме.
– Говорите, с детства мечтал о машине, о путешествии? Надо покупать.
– Если это может помочь – какие разговоры…
– Понятно. Никаких «но». Деньги надо найти. Не хватает – лезьте в долги. Продавайте все.
«Да: сын дороже всего, но расставаться со всем нажитым тоже нелегко… Не собирались они раньше никогда покупать машину…»
Считали долго. Сберкнижка. У кого одолжить. Что продать.
На машину набиралось – но машина машине рознь. Звягину требовалась эффектная машина. Такая, чтоб пахло сбывшейся сказкой.
– Меняйте квартиру, – подытожил он. – С приплатой. Поживете не в центре. Да хоть и в одной комнате! Но туда к вам будет приходить ваш сын с вашими внуками. А если нет – много ли радости здесь, – он обвел рукой стены, – где все будет напоминать…
– Вот какая трудность, – нерешительно сказал отец. – Саша всегда был гордым мальчиком, он никогда не примет такого подарка от родителей: он понимает, чего это нам стоит, и это его может только огорчить, подействовать хуже…
– А подарки и не годятся, – согласился Звягин. – Нужен вариант посильнее. Ослепительный случай. Улыбка фортуны – в тридцать два зуба. Кое-что я продумал…
Надо было торопиться, торопиться – формальности съедали массу времени, а время сейчас было бесценно, время решало все.
Надо было найти машину. Обменять квартиру и собрать деньги.
«Привлечь в сообщники» Джахадзе и оформить покупку на него.
Перегнать машину в Галич и отрепетировать там спектакль.
Звягин чувствовал себя превосходно – в постоянном действии он цвел. Он пребывал в своем любимом состоянии – выступать в роли творца жизни, создавать события и лепить судьбы.
– Иногда мне кажется, что тебе опять двадцать лет, Ленька, – сказала жена.
– Папа самоутверждается через свои поступки, – важно известила дочка, читающая «Социологию личности» Игоря Кона.
– Я его научу любить жизнь! – сказал Звягин. – Я ему покажу, как поджимать хвост!
Нередко в погожие дни Боря сажал Сашу на свою «Яву», и они летели полчаса на тихое безлюдное озерцо. Валялись на горячем песке, отрабатывали приемы самбо, пекли картошку в золе. Боря утверждал, что живя с восемнадцати лет в казарме и общежитии, нуждается раз в неделю в тишине и одиночестве. Вот женится, получит квартиру – тогда все, только семья и коллективный отдых.
Саша давал ему читать Ритины письма и выслушивал мнение:
«Ты блюди себя! В кулаке ее держать!» Вообще ему по рассказам Рита не очень нравилась.
– Приперлись на наше место, – с досадой сказал он, когда однажды они обнаружили на своей излюбленной полоске песка белую «Волгу» в тени ивы. – Автомобилисты, чтоб им…
Не то пират, не то грузинский князь раскинулся в шезлонге, выставив к солнцу мохнатую грудь, и листал красочный журнал. Невысокий паренек, видимо, его сын, стоял по колено в воде со спиннингом. Играл приемник в машине.
– Одни головастики здесь. Горе-рыболов! – сплюнул Боря.
Похоже, ветерок донес его слова до соседей, потому что они посмотрели на мотоцикл, обменялись тихим замечанием и дружно отвернулись.
– Сделаю пробежечку, – сказал Боря по своему обыкновению, вылезая из бодрящей водички после первого купания.
– Десяток километров по хвойному лесу – это ж заменяет месяц в Сочи, как говорил на марш-броске наш старшина.
Растерся полотенцем, завязал кроссовки и легким размашистым шагом исчез между сосен.
Саша перевернулся на спину, закрыл глаза и задремал. Здесь его не гоняли – организм должен отдохнуть в недельку раз.
Открыл он глаза от крика:
– Помоги-те! Тону-у!..
Метрах в полустах от берега выныривала и скрывалась под водой голова. Грузинский князь торопливо вылезал из-под машины. Он сорванно вторил крику:
– Помогите! – и побежал в воду, как был, в туфлях и синих комбинезонных брюках с лямками. Влетев по пояс в озеро, вдруг остановился, суматошно стал стаскивать комбинезон, туфли, швырнул их на берег.
Саша вскочил, оцепенело глядя на тонущего. Черная голова скрылась под серой гладью, показалась снова. Руки беспомощно хватались за воздух.
– …ону… – с хрипом донеслось оттуда.
Грузин достиг глубины по горло и беспорядочно заметался.
Саша с разбега прыгнул в воду и поплыл саженками, пытаясь переходить на кроль. Он плавал не слишком, но тут выкладывался.
– Помоги! Скорее! – кричал, захлебываясь, грузин: он отчаянно взбивал пену в двадцати метрах от берега, где дно уходило из-под ног: видимо, плавать не умел.
– Спаси! Дорогой! Скорее! – орал он. Опрометью бросился на берег, схватил надувной резиновый круг и кинул его зачем-то вслед Саше. Плюхнулся сам за кругом, рывками спеша вперед.
Голова по-прежнему иногда выныривала, высовывались руки и колотили суматошно, пеня воду.
Саша проплыл уже половину расстояния.
– Держись! – завопил он.
Грузин, наконец, додумался: продел круг под мышки и, неловко загребая раскоряченными руками, дерганными зигзагами двигался теперь к месту происшествия, издавая бешеные гортанные клики.
«Судорога? Холодный источник со дна? Как бы он меня самого не утопил», – опасливо мелькало в голове. Саша припоминал плакаты на спасательных станциях. Схватить за волосы. Или сзади за подбородок. Не дать обхватить себя и утащить на дно. Именно это ему и грозило. Тонущий, с выпученными в ужасе глазами и разъятым ртом, хрипел и бился – вцепился в него обеими руками, подмял под себя, сомкнулась волна над ними. Саша поджал ноги, уперся коленями в живот парня, резким толчком разорвал объятие, стукнул его кулаком, целя в висок, пытаясь оглушить…
«Утонем ведь! – сверкнуло в сознании. – Где Боря, где? Когда вернется?» Понимал, что не успеет вернуться. Не успеет!..
Парень судорожно боролся, никак было не схватить его сзади.
«Нет! – зазвенел беззвучный голос. – Ну нет… Нет!!!»
Снова оплел душащий спрут, поволок вниз, вглубь.
Исчезло представление о том, где верх и где низ. Мутная зелень, косо просвеченная солнцем, окружала сцепившиеся тела. Саша снова поджал ноги к самому подбородку, уперся ступнями тому в плечи, оттолкнулся изо всех сил. Освобожденно всплыл.
Грузин барахтался на мелководье, круга на нем уже не было. «Утопил, кретин, дырявую резинку… Что делать?!»
Возделась над поверхностью рука – и исчезла.
Саша опустил лицо в воду, увидел еле шевелящееся тело, осторожно нырнул, дотянулся до головы, схватил за густые короткие волосы, потянул кверху. Конечности утопающего слабо дрогнули.
Задыхаясь, он глотнул воздуха. Глаза парня были закрыты. Кажется, уже не дышал.
Саша взял его сзади сгибом левого локтя под подбородком, перевернулся почти на спину и медленно, экономя иссякающие силы, двинулся к берегу, загребая правой и толкаясь ногами.
Он оглох от усилий. Свистящее дыхание перехватывало кашлем от попавшей в бронхи воды. Руки немели. Все тяжелее давался каждый метр, мышцы наливались свинцом. Его неотвратимо тащило книзу. Счастье еще, что парень теперь держался спокойно, безжизненно, обмяк, только лицо из воды торчало.
Он не доплывет… Не доплывет. Где же Боря…
Запрокинутое небо стало розовым, красным. Он вдыхал с резким стоном. Спазмы пережимали горло. Он захлебывался.
Отпустить. Утонем вместе. Все, тонем. Еще один гребок. Все. Еще один – и все. Последний. Еще один…
Протянулись откуда-то сильные волосатые руки, подхватили парня под мышки, поволокли. Саша стоял по плечи в воде. Он стоял на прочном, устойчивом дне и дышал, почти теряя равновесие, уже не понимая происходящего. Потом вышел и, деревянный, негнущийся, рухнул на песок. Его тошнило.
Грузин, моля и причитая, делал сыну искусственное дыхание.
– Живет! – восторженно объявил он. – Живет!
Саша повернул голову. Грудь спасенного высоко вздымалась. Раскрылись глаза. Губы скривились в измученную улыбку. Он приподнялся на дрожащие локти и упал навзничь.
Саша встал на четвереньки и тихо засмеялся.
– Живы будем – не помрем! – сказал он грузину и подмигнул.
Тот поднял его, обнял до хруста, поцеловал жарким твердым ртом, ободрал щеку невыбритой щетиной.
– Один у меня сын, – сказал он, вытер глаза, ушел к машине.
«Фьюти-пьють» – свистела птичка в ветвях березы.
Грузин вложил что-то Саше в руку, сжал.
– Сын мне будешь, – сказал он. – Родной будешь. На. Дарю тебе.
Саша разжал ладонь. На ней лежали автомобильные ключи.
– В-вы что? – пробормотал он. – Нет, что вы!.. Не надо…
– Возьми, – сказал грузин. – Возьми, пожалуйста. Скажешь – отдай дом – отдам дом. Скажешь – отдай все – отдам все. Ты его спас! – он ткнул пальцем в сына, который сидел на песке и виновато улыбался. – Я тебя за это не могу меньше отблагодарить.
Боря, рысцой вернувшийся с пробежки, остолбенел при виде сцены. Грузин в княжеской позе, бледнея от гордости, говорил, что он не бедный человек, что деньги – прах, что он еще купит, что Саша теперь – член его семьи и не оскорбит его отказом. Саша мямлил и достойно отнекивался.
Сын поднял с песка ключи и завернул Саше в кулак.
– Возьми, – сказал он. – Можешь продать. Можешь подарить. Можешь выкинуть. Твоя. Иначе сейчас в озеро загоним. Он такой, – гордо кивнул на отца. – Или думаешь, моя жизнь меньше стоит?
– Я ему на свадьбу такую же подарю, – сказал грузин.
Боря осознал происшедшее и разинул рот. Он раздирался противоречивым чувством. «Волга» была ослепительна. Честь была дороже.
– Байские замашки, – отверг он, обретая дар речи.
– В Грузии никогда не оскорбят гостя, – ответил грузин.
От растерянности Боря напустился на всех троих:
– А если б ты сам утонул, спасатель? А вы чего в воду полезли, не умея плавать! Тьфу… Ладно, – дипломатично заключил он, – обедать все равно надо.
У костерка грузин вывалил гору снеди, расстелил махровую простыню, торжественно указал Саше на середину, между сыном и собой: «Садись, дорогой!» Протянул Боре фотоаппарат: «Сними нас – на память». Саша растрогался и слегка очумел.
Сытый человек податлив. И долго ли он может противиться уговорам о том, о чем мечтал. Час за часом Саша свыкся с мыслью, что «Волга» – его. Это было неправдоподобно – но факты, как известно, бывают неправдоподобнее любого вымысла.
– А, бери, – махнул Боря. – Погоняем!
Кипучая кавказская энергия Джахадзе – а именно так была фамилия «горского князя» – помогла молниеносно оформить необходимые процедуры (благо они были продуманы и подготовлены заранее). Назавтра составили в нотариальной конторе доверенность, провернули через автомобильный салон и ГАИ и поставили «Волгу» на платную стоянку.
Возник вопрос о водительских правах – Саша их не имел…
– Во-первых, есть у меня, – утешил Боря. – Порядочный десантник должен уверенно ездить на всем, что едет, и кое-как – на том, что по идее не едет. А во-вторых, в ДОСААФе свои ребята, пройдешь по-быстрому курс, сдашь экстерном, сделаем тебе справку из части, что давно водишь машину… устроим, не сомневайся.
Утром у общежития они садились в служебный автобус – ехать на аэродром на патрулирование. Джахадзе с сыном уже ждали их. Джахадзе поклонился с достоинством кинозвезды. Сын повторил. Обнялись и расцеловались.
Ребята таращили глаза, потрясенные невероятной историей. Всем по очереди Джахадзе церемонно потряс руки.
(Вместо своего адреса, надо заметить, он оставил адрес двою родного брата в Гори. Звал всех в гости.)
Долго махал вслед автобусу…
Общежитие скрылось за поворотом, и на Сашу набросились:
– Расскажи! Кто, как, чего? Во Саня дал – сына миллионера спас!
А Джахадзе с сыном – с настоящим своим сыном, кстати, который с энтузиазмом пропустил три дня школьных занятий, – поехали на вокзал, где прогуливался с тремя билетами Звягин, ночевавший в соседнем номере гостиницы: не желая риска, он руководил лично.
Они были втроем в купе. Поезд тронулся. «Миллионер» Джахадзе перевел дух. Проводница принесла чай. Звягин извлек из портфеля бутылку молока, кинул в нее соломинку и откинулся к стенке.
– И еще клевещут, якобы на Кавказе водятся аферисты, – поразился Джахадзе. – Такого делягу, как ты, Леня, свет не видел. Если б ты поселился в Грузии и задумал делать деньги…
– То-то ты их много делаешь, – хмыкнул Звягин.
– Я хорошо живу и честным человеком. В конце концов я врач.
– Я тоже. Но ты был так похож на грузинского князя, так сверкал глазами: благородная осанка, дивный акцент! Ты где научился декламировать с таким акцентом! Ты Отелло никогда не играл?
– А ты никогда не пробовал сочинять авантюрные романы? Со счастливым концом?
– Жена утверждает, что вся моя жизнь – это серия авантюрных романов со счастливым концом; но она предпочла бы быть их читателем, а не женой их героя – это хлопотно и накладно.
– Тебе повезло жениться на умной женщине.
– А тебе идет белая «Волга».
– Э. Похожу пешком. Дольше инфаркта не будет.
Сын Джахадзе вышел с пустыми стаканами за чаем.
– А твой парень здорово плавает, – одобрил Звягин.
– Мастер спорта, – самолюбиво сказал Джахадзе. – В сборную «Буревестника» за Ленинград берут. А здорово он изображал утопленника, ты не представляешь. А твой десантник не проболтается?
Поезд с грохотом летел по мосту. Внизу белый катерок тащил баржу по шершавой сини реки.
– Спасибо тебе, старик, – сказал Звягин.
– За что? – возмутился Джахадзе. – Разве мы не врачи? Разве мы не друзья? Разве мы не живем в одном городе? Почему ты, кстати про один город, в гости никак не заходишь?
– Вот послезавтра сменюсь с суток – и зайду, – пообещал Звягин.
– Послезавтра я дежурю, – сказал Джахадзе.
Реакция Риты на «Волгу» – Саша написал ей все на следующий же день – поразила его немного неприятно. Рита захлебывалась от восторга. Рита писала, что всю жизнь мечтала именно о белой «Волге». Рита рассуждала, что вообще ее можно и продать, раз пока денег у них немного, причем продавать лучше на Кавказе или в Средней Азии, там дадут дороже. У нее есть друзья, которые это устроят и возьмут очень умеренные комиссионные. Рита делила деньги за непроданную «Волгу»: квартира, гарнитур, шуба; из ее слов явствовало, что это сущие гроши для настоящей жизни. Рита вздыхала по серьгам с бриллиантами, «хоть маленькими», которые он ей обязательно подарит, правда же? И надо будет завести афганскую борзую, это очень современно. Рита считала, сколько денег они могут скопить, если он станет работать чуть больше, а пожары станут чаще… М-да…
Саша разложил пачку писем по числам и стал медленно перечитывать…
Нет, письма не давали ни малейших сомнений в том, что все в порядке, были полны слов о преданности, верности и терпении: для нее существует он и только он. Кроме этих постоянных уверений шли рассказы о подругах, которые ему были, по правде говоря, довольно безразличны и представляли интерес лишь как часть ее, Ритиной, жизни. Случаи были какие-то банальные: кто с кем живет, кто что купил, у кого какая квартира, – «а у нас будет лучше».
Опять рассуждения о тряпках, телевизорах, мебели. Неприятно царапнуло упоминание о знакомстве в книжном магазине, так что удастся составить приличную библиотеку, а если с соответствующей переплатой покупать детективы по нескольку экземпляров, то их можно выгодно продавать и менять на черном рынке. Все это так, но… То, что месяц назад, когда он дрожащими пальцами вскрывал конверты, воспринималось как трогательные попытки вить гнездышко и казаться практичной, сейчас выглядело как-то… ну не самым лучшим образом выглядело.
Она писала, что готова на все, в любой момент все бросит и приедет, пусть он только скажет: она всем пожертвует, от всего откажется! И тут же намекала, что это ей дорого обойдется, но неважно, лишь бы ему было хорошо… Пусть только скажет.
И по телефону на переговорной она повторяла то же самое.
Что ж – он не требовал, чтоб она все бросала и приезжала. Она плохо себя чувствует. Ее подсиживают на работе. Она так любит театр. Ее мать положили в больницу и надо ежедневно ее навещать… Если она готова пожертвовать всем, лишь бы ему было хорошо – что ж, жертву должен, конечно, принести он, мужчина. Он потерпит. Вынесет. Он любит – значит, он обязан прежде всего заботиться о том, чтобы ей было хорошо, чтобы она была счастлива. Она не должна жертвовать собой – ему было достаточно и того, что она на это готова. Знание того, что она принадлежит ему, и ради ее блага он жертвует желанием видеть ее, быть с ней сейчас, всегда, – это знание наполняло его спокойствием и самоуважением. Он чувствовал себя хозяином ситуации. Все будет.