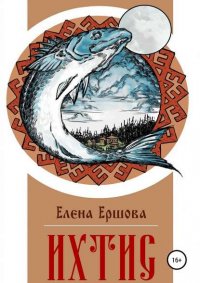
Читать онлайн Ихтис бесплатно
- Все книги автора: Елена Ершова
Елена Ершова
Ихтис
Царство Небесное подобно неводу, закинутому в море и захватившему рыб
всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в
сосуды, а худое выбросили вон.
(Матф.13:47,48)
1. Порча
– Порча на тебе!
Старуха указала артритным пальцем на Павла.
– И на тебе, девка!
Палец качнулся стрелкой барометра и уперся в Нину. Та вздрогнула, нашарила под столом руку Павла, сжала. Пламя свечей затрепетало, сильнее пахнуло ладаном, густые тени зазмеились по стенам. Бабка Ефимия завела глаза и забормотала что-то неразборчивое, но Павел прочел по губам: «…порчу навели… свечи не зря трещат… болезни… ах ты!»
Он ободряюще стиснул руку Нины в ответ, другой придерживал у живота медный крест. Металл нагрелся и больше не холодил кожу, но все равно напоминал о прикосновении хирургических инструментов из прошлой, почти забытой жизни.
Бабка Ефимия закончила бормотать, перекрестила Нину, потом Павла:
– Вынимайте!
Оба креста – литой мужской и узорчатый женский – беззвучно упали на стол. Павел приподнял край рубашки: на коже расцветали зеленоватые пятна. Краем глаза заметил, как шевельнулись губы Нины, повторяя за бабкой:
– Порча…
Знахарка удовлетворенно кивнула:
– Снимать будем.
Поднялась, заковыляла в недра дома. Павел поглядел на Нину и вопросительно поднял брови. Девушка мотнула головой, слова сложились в узнаваемое:
– Все хорошо.
По комнате поплыл запах ладана, такой густой, хоть черпай горстями. В воздухе дрожала дымная взвесь, и лики с закопченных икон смотрели неласково и строго. Отчего-то накатило беспокойство. Павел сунул руку в карман и со вздохом облегчения нащупал прохладный пластиковый цилиндрик. Не выронил, не потерял.
Вернулась бабка Ефимия с подносом, на котором оказались молитвенник, стакан воды и куриное яйцо. Аккуратно поставила на стол, обтянутый липкой клеенкой. Отблеск свечей полыхнул на гранях стакана.
– Сюда! – знахарка указала рядом с собой. Павел послушно пересел. Темные глаза Спасителя смотрели, не мигая, будто спрашивали: «Веруешь?»
Знахарка встала за спиной. Шею Павла обожгло ее горячее дыхание, влажные руки коснулись лба. Краем глаза он увидел, как зашевелились губы Нины и понял, что она шептала молитвы. Он повторил за ней:
– Да воскрес-нет Бог… и рас-то-чатся враги его… да исчезнут… тает воск от огня… так по-гибнут бесы от лица лю-бя-щих Бога…
Бабка Ефимия несколько раз обвела куриным яйцом вокруг головы Павла, а тот уже не повторял за Ниной, а просто крутил в кармане Пулю и смотрел, как в полумраке мигают оранжевые огоньки, да к потолку тянутся зыбкие тени.
Закончив молитву, знахарка пошла к столу. Павел потянулся следом, но со стула не встал. С его места было хорошо видно, как Ефимия разбила яйцо над стаканом, и в воду потек зеленовато-бурый желток, в котором копошилось что-то белое и живое.
Нина подскочила и прижала ко рту ладони. Бабка повернулась к Павлу и выгнула черненые брови:
– Сколько зла! Черви клубятся… Вот порча… Отмаливать надо.
Она открыла изрядно потрепанный молитвенник, отслюнила несколько страниц и сунула Нине:
– Читай!
Нина склонилась над книгой. Темные локоны почти полностью скрыли ее лицо, и Павел не мог разобрать, читает она или только делает вид. Он покорно ждал, а знахарка важно кивала, крестила притихшую девушку и время от времени шлепала губами, приговаривая:
– Так, так… сохрани от неверия… и несчастий… так! – и укоризненно грозила Павлу. – А в тебе бес! Морщишься? Искушает тебя… неверием и гордыней. Оттого детей нет… Господь не дает…
Нина дочитала, откинула со лба налипшие пряди. Ее грудь взволнованно колыхалась, лицо блестело от пота. Она что-то спросила, но Павел не успел разобрать. Зато Ефимия протянула руку:
– Давай!
Девушка полезла в сумочку и вытащила фотографию. Павел вытянул шею, но и так знал, кто изображен на снимке – родители Нины.
Знахарка аккуратно положила фотокарточку на клеенку, бережно разгладила сухими ладонями, потом взяла резную свечу, привезенную из паломничества и пропитанную эфирными маслами. Сквозь плотность ладана донесся едва уловимый тонкий аромат елея.
– Мать суставами мается, верно? – сказала бабка, косясь на гостей и, дождавшись кивка, продолжила: – А у отца простатит… Пусть молится. Порча… Могу по снимку откатать… в следующий раз. Подходящего яичка нет…
– Мне по-га-дайте! – сказал Павел. Видимо, слишком громко, потому что девушка вскинула голову, а бабка Ефимия глянула удивленно. Павел улыбнулся извиняющейся полуулыбкой и достал черно-белый снимок.
– Вот. Пле-мянник, – он постарался, чтобы голос прозвучал как можно естественнее. Бабка Ефимия покачала головой, но снимок приняла бережно, заметила:
– На тебя похож.
Повела свечой слева направо. Восковая капля скользнула вниз, кляксой расплылась по краю снимка, и Павел подался вперед. Бабка ткнула его в грудь сухой ладонью.
– Ш-ш! Не волнуйся… На племяннике порчи нет. Здоровый… Ждет судьба светлая… легкая. Сто лет проживет!
Она вернула снимок. Темноволосый паренек с фотокарточки сверкнул белозубой улыбкой. Павел не улыбнулся в ответ, аккуратно сложил фото и сунул во внутренний карман. В вечную жизнь он не верил, и знал, что парень с фотографии не верит тоже.
– А напоследок погадаю, – сказала Ефимия, достала потертую карточную колоду и принялась умело тасовать, пришептывая:
– Тридцать шесть…сестры и братья… черные, красные… скажите правду! Что было? Будет? Не утаите!
Замелькали пестрые рубашки, в глазах зарябило, будто в калейдоскопе, и карие глаза Нины блеснули от любопытства. Павел подсел ближе, впился в шевелящийся рот знахарки, стараясь не пропустить ни слова.
– Вижу свадьбу, – бормотала бабка Ефимия, поддевая скрюченными пальцами карты и шлепая каждой о клеенку. – Будет у тебя, девка, двойня. В церковь ходи… Сорокоуст… молебен. Спасителю и Богородице… а еще целителю… всем святым. Ты, парень, молись Николаю… архангелу Рафаилу, целителю. Сила окрепнет… бесплодие отступит. Сскоро дорога, – указала на шестерку треф, – дальняя, сложная. Нехорошее… А что? Не разгляжу. Шестерка бубей с пиками – болезни. Обман. А тут, – ткнула в короля пик, – дурной человек. Рядом пиковая дама. Ох, неприятности… а пользой закончится или вредом, не пойму. Карты путают. Только здесь пиковый туз при семерке. А это значит…
Она замолчала, нахмурилась. Нина подняла на бабку испуганный взгляд, и Павел прочел по губам:
– Что же?
Знахарка не ответила. Что-то мягкое ткнулось в ноги, блеснуло зелеными плошками глаз.
– Что там? – повторила Нина.
– Кош-ка!
Павел нагнулся и с удовольствием погладил лоснящуюся спинку. Зверек широко зевнул, а, может, мяукнул и начал тереться о щиколотки, вздымая подрагивающий хвост. Ефимия разулыбалась:
– Дашка моя. Она болезни чует. Вишь, льнет? Ну, будет, будет!
Она похлопала по скамье рядом с собой, и кошка прыгнула к хозяйке, свернулась черным клубком. Бабка смахнула колоду на край стола, затушила витую свечку.
– Помните наказ, – прошамкала она, старательно выговаривая слова. – Читайте молитвы десять дней, а после ко мне возвращайтесь. Поняли?
Павел кивнул. Кивнула и Нина. Оба поднялись, попрощались. В благодарность оставили у порога крупу, молоко и масло – деньгами Ефимия не брала.
После задымленной избы воздух показался Павлу освежающим. Березы, черные и мокрые после дождя, клонили к плетню отяжелевшие ветки. У дороги притулилась белая «Нива», а кругом стояла тишина, да такая, что в ней вязли все звуки мира, и Павел видел только, как трепещет на ветру листва, как дворовый пес бесшумно разевает пасть, как гравий под подошвами откатывается в стороны. Павел тонул в тишине, как в омуте, и в этом было какое-то болезненное наслаждение.
Лишь по вибрации понял, что заработал мотор. Нина пихнула его локтем. Павел повернулся и встретился с ее вопрошающим взглядом. Нахмурившись, она намекая постучала себя по уху. Игра закончилась.
Павел вытащил Пулю. Пластиковый корпус был черным, а звуковод и регуляторы – серебристыми. Поэтому слуховой аппарат напоминал Павлу трассирующий снаряд. Он и был снарядом, однажды пущенным в голову и оставшимся там навсегда.
Завиток вкладыша нырнул в слуховой канал. Павел завел цилиндр за ухо, щелкнул регулятором и тишина взорвалась.
Это слегка дезориентировало его. Каждый раз, включая слуховой аппарат, он чувствовал себя выброшенной на берег рыбой. За треском помех Павел безошибочно узнал гул работающего двигателя и нетерпеливый голос Нины:
– Так что думаешь?
Павел пожал плечами.
– Ни-че-го инте-ресного, Нинель, – ответил он, и собственный голос показался ему неожиданно громким и резким. Он подкрутил регулятор громкости, и продолжил уже более спокойно и внятно: – Обычная бабка, таких в любой деревне навалом. Пользы от них нет. Но и вреда немного.
– Значит, помиловать? Или все же… – напарница выдержала паузу и повернула книзу большой палец. Павел хмыкнул:
– Сама-то как думаешь?
Нина, счастливая в браке за некрупным чиновником, рассмеялась.
– Моя Анька только на прошлой неделе ходить начала. К двойне я пока не готова. Но папеньке скажу, чтоб проверился. Чем черт не шутит?
– Поверила?
– Кто знает. Говорит, порча на всех. Еще и этот пиковый туз при семерке. Ты поищи по справочникам, что это может значить?
Павел подозревал, что ничего хорошего, но вслух этого не сказал, а Нина и не ждала ответа, спросила снова:
– Червей в яйце видел?
– Не в первый раз. У деревенских знахарок это популярный фокус. Можно птицу заразить, а можно скорлупу проколоть, посадить внутрь опарыша, потом воском запечатать. Слышала ведь, что она сказала? Мол, сейчас такого яйца нет, а к следующему ритуалу приготовит.
– А как же это? – Нина задрала блузку и продемонстрировала на животе зеленые отпечатки. – Говорят, если металл следы оставляет, это первый признак порчи.
– Это первый признак оксида, а не порчи. Ты, Нинель, в школе училась? Кресты у бабки медные. А медь от пота окисляется и темнеет.
Нина надула губы.
– А так хотелось поверить в настоящую деревенскую колдунью! Бабка Ефимия, порчу снимает, мужскую силу возвращает, бесплодие лечит, лад в семью приносит. А она даже не поняла, что мы не пара! – Нина, шутя, ткнула Павла в плечо. – А все ты, вредина!
– Работа такая, – Павел перекинул через плечо ремень. – Поехали, Нинель. Мне до обеда статью сдать.
Нина вздохнула, погладила оплетку руля.
– Одно радует, хоть на ком-то порчи нет. Ты передай племяннику.
Павел отвернулся к окну. Над избами лениво текла облачная река. Май в этом году выдался холодным и дождливым, и, верно, к вечеру снова зарядит ливень.
– Нет никакого племянника, – сказал Павел, не заботясь о том, слышит ли его Нина. – Брат это мой. Он умер десять лет назад.
2. Червоточина
Однажды фотокор Денис приволок аквариум на восемьдесят литров.
– Переезжаем, а жена против, – пояснил он. – Говорит, лучше кошку заведем. Ее хоть погладить можно.
Рыбки пугливо трепыхались в наполненном водой пакете. Мертвый меченосец лежал на дне, некогда ярко-алое тело обесцветилось, его плавники вяло пощипывал сом. На другой день после новоселья скончался гурами: повредили сачком. Зато остальные прижились и чувствовали себя неплохо в стеклянном мирке, приютившимся между кадкой с фикусом и затертым диванчиком. Старожилом аквариума был Адмирал – жемчужная скалярия. Поврежденный в драке глаз зарос бельмом, но рыба держалась королевой, величественно проплывая мимо пластиковых кораллов и вздымая плавник, будто потрепанный штормом парус.
Из всех сотрудников «Тарусского калейдоскопа» Адмирал особенно выделял Павла, и сразу подруливал к стеклу, стоило спецкору появиться в поле зрения.
– Чувствует родственную душу, – подшучивала Нина.
– Я просто не забываю их кормить, – отвечал Павел, но этим утром рыб кормила бухгалтерша Оля, и Адмирал недовольно прятался в искусственных водорослях, повернувшись к миру хвостом.
К обеду все-таки пошел дождь, и вскоре окна заволокло водяной пленкой, а здание редакции само превратилось в аквариум. Лампы изливались электрическим светом, теплым и тусклым, как в бане. Павел зажмурился, помассировал пальцами веки, а потом снова попытался прочесть фразу:
«Если туз пики находится острием вниз, это означает убытки, плохие известия. В сочетании с семеркой, девяткой, десяткой – крупные неприятности, болезни. Иногда смерть».
Буквы расплывались и таяли в желтизне страниц. Смертью пугали многие уличные гадалки. Дешевые фокусы.
Павел пролистал штук пять брошюрок, с обложек которых глядели лукавые цыганки. Страницы пестрели изображениями карт во всевозможных комбинациях, но толкования разнились.
В раздражении Павел отодвинул книжки на край стола. Рассеянно тронул в подстаканнике ручки, красную – к правому краю, синюю – к левому, между ними выстроил карандаши. Выровнял стопку нарезанных для записей бумажек – в редакции их называли «склеротничками», – и покосился на соседа. Артем иногда посмеивался над педантизмом коллеги, но сейчас не замечал ничего. Нацепив наушники, он выпал из реальности, поглощенный и материалом, и музыкой.
Окно осветилось молнией, в отдалении раздался приглушенный хлопок. Павел порадовался, что вовремя выключил Пулю – в грозу электроника барахлила.
– Глухота после травмы никогда не бывает полной, – повторяли врачи и обещали, что слух вскоре восстановится. Но если верить старой поговорке: обещанного ждут три года. Для Павла тишина длилась уже десять лет.
Едва подумалось, не сделать ли перерыв на кофе, замигала и погасла лампочка, и кабинет на мгновение провалился во тьму. Потянуло сквозняком, словно кто-то настежь распахнул окно. Потом в нос ударила вонь перегноя и гари – запах, характерный скорее для ноября, чем для середины мая. А когда свет загорелся снова – в комнате что-то изменилось.
Что именно – Павел понял не сразу. Все так же ровно, будто солдаты на построении, замерли в подстаканнике карандаши. Все той же аккуратной стопкой лежали книги по гаданию. И Артем размеренно тыкал в кнопки клавиатуры, согнувшись в три погибели. Павел потянулся к регулятору громкости.
«Ты видел, а? – хотел сказать он. – Когда только починят эту чертову проводку!»
Но так и не включил Пулю, потому что заметил: Артем печатал на неработающем компьютере.
Безжизненный квадрат экрана темнел, как и окно, по которому нескончаемым потоком лилась вода. Индикаторы системника не мигали. Но пальцы Артема по-прежнему бегали по клавиатуре, и если бы Павел передвинул рычажки аппарата, то вместо гула работающего компьютера услышал бы только сухое пощелкивание клавиш.
Шею снова обдало сквозняком. Павел хотел поправить воротник, но вместо этого зачем-то взял карандаш и вытянул из стопки «склеротничок».
Лицо Артема, повернутое вполоборота, приобрело желтушный оттенок. По впалой щеке побежали черные нити капилляров, на лбу вздулась и лопнула вена, но вместо крови на кожу выплеснулась черная муть. Его губы шевельнулись, и Павел ткнул острием грифеля в бумажку, проводя первую черту.
В мигающем оранжевом свете рот Артема казался черным провалом. До Павла донесся удушливый запах разложения, и он понял: Артем мертв. А может, кто-то лишь прикидывался Артемом, надев его кожу, как деловой костюм. И теперь этот кто-то двигал чужими пальцами, шептал чужими губами:
– …ер… в… ы…
Настало оцепенение, когда нельзя ни встать, ни отвести взгляд, а лишь механически выводить на бумаге каракули, повторяя за мертвецом: «Черв…»
Ощутимый тычок в плечо заставил Павла вздрогнуть. Он выронил карандаш, моргнул раз, другой. Предметы обрели четкость, и прямо перед глазами всплыло встревоженное лицо Нины.
– В порядке? – шевельнулись ее губы.
За соседним столом привстал Артем. Его брови озадаченно хмурились, наушники болтались на шее. Ни лопнувших вен, ни копошащихся червей под кожей. С экрана компьютера лился мягкий свет, и Павел различил развернутое окно пасьянса. Все карты показывали узорчатые спинки, кроме двух: туз пик в сочетании с семеркой.
– Все… хорошо, – сердито ответил Павел и включил Пулю. Голова тотчас наполнилась щелканьем и потрескиванием статических помех.
– Ну, слава Богу! – вздохнула Нина. – Я подумала, в обморок грохнешься.
– Давление упало. Кофе бы, Нинель… У тебя есть?
– Как раз собрались. Только сели – ни Пашки, ни Артема. Ну, думаем, совсем заработались мальчики! Прихожу, а ты бледный, как будто мертвеца увидал, – Нина сглотнула, покачала головой: – Это все бабка, да? Напугала нас, вот ты и…
– Ерунда! – перебил Артем. – Вспомни, как за Пашкой два года назад сатанисты охотились. Вся Таруса на ушах стояла! А тут – бабка.
Они засмеялись. Павел вежливо улыбнулся и украдкой взял со стола листок, исписанный небрежным подростковым почерком. С обеих сторон читалось: «черви», «червон», «не ходи».
Павел скомкал бумажку и швырнул в мусорную корзину.
Внизу пахло кофе. Фотокор Денис, шмыгая носом, шумно прихлебывал из кружки.
– Как некультурно! – кокетливо скривилась бухгалтерша Оля и завела за ушко крашеную прядь.
– Культура есть ошибка цивилизации! – тут же среагировал Денис. – Лишь в дикой природе человек чувствует себя свободным.
– То-то в последнем походе на Чертов перевал ты ныл, как девчонка! – заржал Артем и плюхнулся на свободный стул.
– Да, – грустно согласился Денис. – Горняшка не щадит ни хрупких красоток, ни мужчин в расцвете лет. Так что вы в следующий раз без меня. Я лучше на рыбалку.
– После такого дождя ох и черви попрут! – подал голос мечтательный верстальщик Юра, а Павел вздрогнул. – Может, махнем на выходных? Паш, ты с нами?
– Можно, – без энтузиазма согласился тот. – На Быструю или Рыбень?
– Быстрая ближе, – ответил Юра. – А карпы там – во!
Они заговорили о рыбалке, наперебой вспоминая былые победы и обсуждая, где дешевле докупить недостающую оснастку. Павел не был заядлым рыболовом, но его отец был. По крайней мере, на шестнадцатилетие ему с братом подарили по новенькому спиннингу. Подарили до того, как…
– Ребята! Там кто-то есть.
Оля вклинилась в разговор и подскочила к Денису, испуганно потянув его за рукав.
– Чего выдумываешь, дикая? – фотокор шутливо приобнял бухгалтершу за талию. Она не отстранилась, как прежде, а ухватилась за руку, ища поддержки.
– Я слышала, как хлопнула дверь, – прошептала она. – Кто-то вошел. И сейчас он стоит в холле.
Вообще посетители не были редкостью для «Тарусского калейдоскопа», но в обеденный перерыв редакция запиралась на ключ. Павел уставился на дверь кухни, приоткрытую на ладонь, и подкрутил регулятор громкости, но услышал только щелчки в микрофоне, поскуливание Оли и шумное дыхание коллег.
– Пошли, посмотрим! – первой решилась Нина.
Ее слова звоном отдались в голове, и Павел поспешно снизил громкость до привычного уровня. Пока он возился с Пулей, все уже выкатились в холл и остановились, заслоняя дверной проем. Павел невежливо пихнул Юрку локтем, тот посторонился, но не проронил ни слова.
В редакцию действительно вошел чужак. И он был мокрым с головы до ног.
«Босых ног», – отметил Павел.
Цепочка следов тянулась от самого порога, словно незнакомец долгое время брел по лужам, нарочно выбирая самые глубокие и грязные. Под темным дождевиком угадывался камуфляж, а вот лица не разглядеть: капюшон нависал так низко, что виднелся только кончик носа и спутанная, изрядно вымокшая борода.
К груди незнакомец прижимал штыковую лопату.
– Куда поставить? – глухо донеслось из-под капюшона
Журналисты переглянулись.
– Я говорю, лопату куда поставить? – повторил незнакомец.
– А вон туда! – не растерялся и махнул рукой Артем. – Ставьте в уголок, за фикус.
Мужик повернулся. Движения у него были заторможенные, от одежды исходил запах выпотрошенной рыбы, и Павел поежился. Вспомнился оранжевый свет, шепчущие губы мертвеца: «Черв…»
– Там у вас рыбы, что ль? – мужик указал на аквариум.
На этот раз никто не отозвался. В воздухе накапливалось напряжение, но чужак не спешил уходить, а стоял, раздумывая и покачиваясь с мыска на пятку.
– Рыба на червя хорошо идет, – наконец прогудел он. – В дождь надо добывать. Вот этим! – он потряс лопатой, и Оля с Ниной тотчас шмыгнули за спины мужчин. Денис ободряюще потрепал Олю по руке, а вслух сказал:
– Ты ставь. Мы как раз на рыбалку собрались, будет, чем накопать.
– А это правильно! – обрадовался мужик. – Червь сыроту любит. А как выползет на свет Божий, тут его и бери.
Он покрутил головой, будто принюхиваясь, но с места не сошел и лица по-прежнему не показал, только сбивчиво забормотал:
– Чую… чую его… жирный… красный… Прямо тут она, червоточина, – он постучал согнутым пальцем по лбу. – Да только в ком из вас? Не разберу.
И шумно засопел, втягивая воздух. Павел тронул за руку Нину, шепнул:
– Беги к Евген Иванычу. Пусть полицию вызывает.
Девушка испуганно кивнула и отступила на шаг.
– В тебе! – мокрый палец с обломанным ногтем вытянулся и уперся в Дениса. Парень заозирался, но быстро взял себя в руки и ответил:
– Нет во мне никаких червей. Могу справку предъявить.
– И верно, верно, – мужик засопел снова, а Нина продвинулась еще на пару шагов. – Тогда в тебе!
Он указал на Олю. Девушка пискнула и обмякла в руках Артема. Тот сдвинул брови, прошипел:
– Ну и урод!
Нина тем временем обогнула диванчик и поравнялась с аквариумом.
– Может, вам такси вызвать? – предложил Павел, с некоторой брезгливостью оглядывая незнакомца. – Я оплачу.
Он достал из кармана сложенные купюры. Но это произвело на незнакомца совершенно неожиданное впечатление. Он завопил и отшатнулся. Капюшон, наконец, слетел с головы, и Павел увидел его глаза – выцветшие до прозрачной голубизны, совершенно безумные.
– Бесовские бумажки! – мужик указал на Павла и зачастил: – Вижу теперь! В тебе червь сидит! В тебе червь! Вижу! В тебе!
Девушки завизжали. Павел заметил, как Нина наткнулась на кадку с фикусом и едва не опрокинула ее. Безумец повернулся на звук, зарычал по-звериному:
– А-а! Черви! Кормите рыб!
И швырнул лопату.
Раскат грома и звон разбитого стекла раздались почти одновременно. Артем первым бросился на мужика, пнул его в голень. Тот зашатался, размахнулся, чтобы ударить в ответ, но следом навалились Денис и Павел. Мужик плевался, пробовал отбиваться, но силы были не равны, а потому его быстро скрутили и обмотали принесенным из кухни удлинителем.
– Что ни день, то праздник, – тяжело дыша, резюмировал Денис, и повернулся к Павлу: – Машинка цела?
Павел поправил за ухом Пулю, пригладил всклокоченные волосы и нервно ответил:
– В порядке. Чертовы фанатики…
Денис кивнул и буркнул:
– А вот Адмиралу, кажется, хана.
Павел обернулся. На полу, среди осколков аквариума, стояла Оля и ревела в голос. Возле ее ног трепыхались рыбы.
– Чего разнюнилась? – грубовато прикрикнул на нее Артем. – Быстро банку тащи!
– Какую? – всхлипнула девушка.
– Любую!
Оля закусила губу и ринулась на кухню. Павел рванул следом, но как раз в эту минуту в холл спустился Евген Иваныч. Остановившись на нижней ступени, он хмуро окинул поле боя и сказал безапелляционно:
– Верницкий, ты идешь со мной.
– Евгений Иванович, надо рыб спасти! – откликнулся Павел.
– Спасут без тебя. Полицию вызвали?
– Едут уже! – по лестнице сбежала запыхавшаяся Нина и с опаской глянула на чужака. – Жив хоть?
Мужик замычал что-то невразумительное, показывая, что жив, и пустил в бороду слюну.
– Чтоб в последний раз! – пригрозил Евген Иваныч. – Оплачивать охрану будете из своего кармана.
Он развернулся и быстро поднялся по лестнице. Павел поплелся за ним, но остановился на полпути. Оглянувшись, увидел, как из кухни с литровой банкой прибежала Оля, и, причитая, принялась подбирать рыб. Юрка бросился ей помогать, и первым выпустил Адмирала в новое жилище. Скалярия заметалась от стенки к стенке, но вскоре успокоилась, замерла посреди банки, распушив ободранный хвост. Только тогда Павел вздохнул с облегчением и, перепрыгивая через ступеньки, взбежал на второй этаж.
Шеф терпеливо ждал в кабинете.
– Твой клиент? – осведомился он.
Павел пожал плечами. С тех пор, как он приобрел репутацию «охотника на ведьм» в качестве ведущего рубрики «Хрустальный шар», в редакцию нет-нет, да и заглядывали странные личности вроде сегодняшнего гостя. Иногда приходили письма с угрозами, иногда под дверью находили кости мелких животных или нанесенные мелом оккультные знаки. Евген Иваныч нанял охрану – бойкого старика, судя по лицу неровно дышащего к водке, но вскоре шумиха поутихла, тиражи упали, и старика отпустили на вольные хлеба.
– Ладно, забудь, – сказал главред. – Скоро психи с лопатами и бабки с медными крестами ерундой покажутся. Ты последнюю передачу «Тайного мира» смотрел?
Висок заломило, и Павел вспомнил пустой и далекий голос Ани:
– Нам надо отдохнуть друг от друга.
И гудки, разрывающие тишину квартиры.
Павел потер лоб, выровнял на чужом столе раскиданные листы, придвинул к краю карандашницу, параллельно друг другу положил ластик и авторучку, ответил:
– Простите, Евгений Иванович, некогда было.
– Вот и плохо! – редактор бросил на стол флешку. – Держи, сегодня же посмотришь. А к концу недели оформим командировку.
– Куда? – машинально спросил Павел.
– Узнаешь. Да чтоб не ударить в грязь лицом! Чтоб все на высшем уровне! – главред постучал пальцем по столу. – Сделаешь достойный репортаж, на всю страну прославимся! Золотая жила эти «червонi пояси»!
В отдалении громыхнуло: гроза уходила на запад, но электроника отозвалась в голове слабым потрескиванием, и сквозь помехи почудилось призрачное: «Черви… червон… не ходи!»
– Сделаем, Евгений Иванович, – сказал Павел, пряча флешку в карман. – Если вы рекомендуете, значит, это и вправду что-то стоящее.
3. Чудо старца Захария
Говорят, любовь проходит за три года. Ане хватило двух с половиной.
Павел познакомился с ней в центре сурдологии. Слуховой аппарат он сдал на сервисное обслуживание, а сам томился в ожидании диагностики и отирался возле кофейного автомата. Здесь его и облила шоколадом светловолосая незнакомка.
«Извините», – жестом показала она, поспешно выудила из сумочки влажную салфетку и протянула Павлу. Салфетку он принял, а злиться на очаровательную растяпу не стал, поднял большой палец: «Все в порядке!»
Девушку звали Аня. Она привезла на обследование маму, и хотя сама глухонемой не была, но освоила и дактильную азбуку, и язык жестов.
«Ты говоришь? Слышишь?» – спросила она у Павла.
Он ответил вслух:
– Гово-рю… Слышу… нем-ного. Читаю… по губам.
Аня заулыбалась.
Так начался их роман: яркий и закончившийся нелепо и быстро.
Павел стоял, сжимая и разжимая кулаки, пока Аня собирала вещи и кричала:
– Ты весь в работе, в работе, в работе! А я? А мы? А наше будущее?
– Это дело моей жизни, – зло твердил он, но Аня не понимала, только всплескивала руками:
– Желтая газетенка – это дело твой жизни? А если тебя убьют? Все эти экстрасенсы, маги, ясновидящие, сектанты… Что тебе вообще до них?
– Ненавижу, – отвечал Павел, стискивая зубы до хруста. – Всех ненавижу.
Аня, кажется, не слышала, или не хотела слушать.
– Тебя ведь звали в отдел новостей, чего не пошел? – и с горечью добавила: – Одержимый!
Отчаяние и злость копились внутри, но не находили выхода. Аня не понимала его, как не понимали и коллеги. Откуда им, нормальным, знать, с чем приходится жить ему? Жить с пониманием, что все можно было повернуть вспять, накопить денег на операцию, вернуть слух, если бы только…
Сейчас Павлу хотелось отключить Пулю и провалиться в тишину. Аня заметила его жест.
– Только попробуй, – с неожиданным спокойствием сказала она. – Только попробуй, и я возненавижу тебя.
Он опустил руку и процедил:
– Давай успокоимся. И подумаем. Оба.
Аня кивнула, подняла спортивную сумку с уложенными вещами.
– Ты прав. Нам нужно успокоиться и подумать. И отдохнуть друг от друга.
Хлопнула входная дверь, квартира опустела. Павел наблюдал из окна, как девушка стремительно пересекает двор. У проезжей части она остановилась и обернулась.
Павел прижал ладонь к губам: «Люблю тебя». Аня поднесла кулак с оттопыренным мизинцем к уху: «Я позвоню». И действительно перезвонила через неделю, предложив расстаться.
Сказкам свойственно заканчиваться.
Сначала он с головой ушел в работу. Потом набрал смс: «Ты хорошо подумала?» и «Давай встретимся», но стер, так и не отправив. По пути домой зашел в магазин, кинул в корзинку четыре банки пива, упаковку кофе и вафли. Но, пока шел к кассе, передумал, вернулся и выложил пиво: знакомиться с материалом предпочитал на трезвую голову.
Без Ани в квартире непривычно и пусто. Она привносила толику хаоса в разложенный по полочкам мирок, хотя Павел часто сердился на беспорядочно разбросанные баночки, тюбики и флаконы. Но пока Аня находилась рядом – демоны отступали. А теперь одиночество сочилось из каждого угла, стекало с каждой опустевшей полки, и тишина вновь стала постоянной подружкой Павла – зачем слуховой аппарат, если некого слушать и не с кем говорить?
Павел прошелся по дому и зажег во всех комнатах свет. Прежде, чем снять мокрую куртку, вытащил из шкафа фотоальбом. Красный бархат протерся и почернел на сгибах, поэтому Павел держал альбом в целлофановом пакете – не столько в целях сохранности, сколько для собственного спокойствия. Склеенные страницы переворачивались нехотя, под пальцами мелькали счастливые лица: круглое, обрамленное темными кудрями – матери, улыбчивое и курносое – отца. Свадьба. Рождение близнецов. Новогодние посиделки. Первый класс. Старшая школа.
На последнем фото за праздничным столом – двое подростков. Одинаковые курносые носы, одинаковые ямочки на щеках, толстовки с одинаковым принтом. И подписано старательно: «Андрюха и Пашка. Уже шестнадцать!»
Через две минуты они задуют свечи на праздничном торте. Через десять минут отец подарит близнецам по спиннингу. Еще через два часа семья закинет палатки в автомобиль и выедет на трассу по направлению к реке Рыбень. А через пятьдесят километров от города у летящего с горы большегруза откажут тормоза…
Как там обещала бабка Ефимия? «Здоровый парень. Сто лет проживет!»
Знахарка лгала. Они все лгали.
Павел вытащил из-за пазухи карточку и сунул в пустой кармашек альбома. Траурная полоска, нарисованная маркером, перечеркнула уголок по диагонали и закрыла пятно от воска. Ниже чернели буквы:
«Андрей Верницкий».
И даты: рождение, смерть.
Павел захлопнул альбом и убрал подальше в шкаф. Лучше провести этот вечер без воспоминаний.
Он наспех поужинал вчерашними макаронами, взял вафли, кофе и вернулся в комнату. Ноутбук подмигнул огоньком диода, на флешке оказалась только одна запись, озаглавленная: «Таежный мессия». Стоило нажать воспроизведение, как на экране появилась заставка: призраки, появляющиеся на лестнице и проходящие сквозь стены, огненные пентаграммы, молящиеся люди в белых одеждах, звездное небо, в котором спиралью раскручивалась галактика. Затем экран погас, и в центре вспыхнули огненные буквы «Тайный мир».
Настолько тайный, что никто его не видел.
Павел усмехнулся и отхлебнул кофе – крепкий, без сахара, как приучил отец.
– Удивительное рядом, – тем временем, заговорила с экрана ведущая. Внизу появилась отбивка: «Софья Керр». Павел знал, что настоящее имя девушки Ирина Глазова, но Софья Керр звучало эпатажно. Девушка и выглядела соответствующе: черное до пола платье, корсет, аккуратное каре красных волос, густо подведенные глаза. С Павлом у нее негласное состязание, сенсации рвали друг у друга из рук, кто первый успеет – тот и победил. Сейчас счет был явно не в пользу Павла.
– Призраки, ведьмы, потомственные ясновидящие, – продолжила Софья. – Они живут рядом с нами. Об этом рассказано в прошлых передачах. Но сегодня мы стали свидетелями настоящего чуда. Чуда, которое пришло в семью Краюхиных.
Кадр сменился. Крупный план выхватил бледное лицо ребенка лет десяти. Глаза распахнутые, на губах недоверчивая полуулыбка.
– У Леши ДЦП, – послышался закадровый голос Софьи. – Серьезные нарушения опорно-двигательного аппарата приковали малыша к инвалидному креслу. Мама Светлана долгие годы обивала пороги больниц. Она уже не надеялась на чудо. Но чудо все-таки случилось.
План изменился на общий. Мальчик уперся ладонями в подлокотники инвалидного кресла. Привстал. Сделал робкий шаг, потом еще один. Лицо покраснело от волнения, но испуганная улыбка превратилась в уверенную, ребенок протянул руки:
– Мама! Я хожу!
В кадр ворвалась плачущая женщина и сгребла сына в охапку. Заиграла волнующая мелодия, и Павел закатил глаза. Телевизионщики умело играли на эмоциях: в такие моменты домохозяйки плакали от умиления.
– Мы почти не надеялись, смирились, – заговорила Светлана Краюхина. Ее щеки блестели от слез, но женщина не утиралась: так зрелищнее. – Лешенька спрашивал: мама, а я навсегда инвалид? А что я ребенку отвечу? Он когда видел, как мальчишки в футбол гоняют, глаза загорались, от окна не оттащить, – женщина все-таки смахнула слезу, но в уголке глаза тут же набухла новая. – Я решила, что жизнь положу, а сына спасу. Как услышала про старца, думаю: вот она, последняя наша надежда!
В кадре снова появилась Софья. Она картинно прошлась по железнодорожной станции, остановилась под деревянной табличкой:
– Последняя надежда Леши Краюхина живет здесь. Доброгостово. Таежный тупик. От Тарусы до станции четверо суток пути. От станции до деревни – пару часов на «Уазике».
Павел недоверчиво хмыкнул: такие как Софья на поездах не ездят. Им покупают билет в бизнес-класс или даже выдают в личное пользование компактный вертолет. С утра вылетел – к обеду на месте. Вечером – материал.
– А ты не завидуй, Верницкий, – однажды сказала ему Софья. – В нашем деле не клювом щелкать надо, а впахивать, как негр на плантациях.
Тем временем по экрану поплыли таежные виды, снятые с высоты птичьего полета. Щетина тайги меняла оттенки с нежно-зеленого на черный. У горизонта вырастали обточенные зубы гор, их склоны белели снежными проплешинами. Река тянулась широким серым шрамом, а на правом берегу притулилась деревенька.
– Доброгостово. Не правда ли, говорящее название? – продолжила Софья. – Добрый гость. У славян Доброгостом звали посланника богов, покровителя добрых вестей.
Павел считал, что о славянах Софья Керр знает столько же, сколько корова о балете. Вряд ли она ночами просиживала за книгами по оккультизму, чтобы втереться в доверие к сатанистам. Вряд ли выписывала из закрытых столичных библиотек последние экземпляры «Хаоса непознанного». Да и в подлинности «чуда» Павел сомневался: половина сюжетов «Тайного мира» оказывалась на проверку спектаклем.
– Отшельника Захария знает и стар, и млад, – Софья широко улыбнулась, сунула микрофон под нос смущенной женщине неопределенного возраста, одетой по-деревенски неброско и бедно.
– Захария-то? А что ж, знаем! – заговорила та, с любопытством косясь на камеру. – Вон его дом, крайний к лесу. Отшельником живет. Болящие к нему частенько приезжают, а которые тут остаются и быт налаживают. Краснопоясники, значит.
– Старец Захарий – местный мессия, – снова заговорила ведущая. – В Доброгостове живет почти шестьдесят лет, сейчас разменял девятый десяток. Всю жизнь зарабатывал плотничеством, пока не случился инсульт. Захария парализовало, зато открылся дар целительства. Прозрение слепых, исцеление недужных, очищение от бесов – вот неполный список чудес старца. Правда, попасть к отшельнику непросто. Но мы все же попробуем.
Софья заговорщически подмигнула зрителям и постучалась в ветхую избу. Дверь распахнулась, и на порог вышла женщина в белой домотканой рубахе.
– Чего нужно? – недружелюбно осведомилась она и хмуро глянула в сторону оператора, но тут же опустила взгляд, затеребила красный, расшитый узорами кушак.
– Нам бы старца Захария увидеть, – елейным голосом попросила Софья. – С телевиденья мы.
– Мирское нам нельзя! – отрезала женщина.
– Мы отблагодарить за исцеление Леши Краюхина! О нем передачу снимаем!
– Нельзя! – упрямилась женщина и хотела захлопнуть дверь, как из глубины дома донесся надтреснутый голос:
– Маланья! Пусти…
Женщина поджала губы, прибрала под белую косынку выбившуюся прядь и посторонилась:
– Раз сам зовет, то входите.
В избе царил полумрак. Грязное окошко почти не пропускало свет. Электричества не было, в углах потрескивали лучины, и комната походила на ощетинившегося ежа. На скамье, застеленной шкурами, полулежал старик – совершенно седой, заросший от бровей до самого выреза расшитой, но давно не стираной сорочки.
Софья остановилась посреди комнаты, слегка нагнув голову – потолок в избе невысок. Павлу показалось, что на миг губы ведущей брезгливо опустились, но она тотчас справилась с эмоциями и вежливо заулыбалась, даже попробовала отвесить поясной поклон:
– Доброго здоровья, дедушка!
Старик поднял дрожащую левую руку, перекрестил Софью двуперстием и ответил:
– И вам, гостюшки дорогие. Зачем пожаловали?
– Мы с телевиденья. Передачу снимаем об исцелении Леши Краюхина.
– Помню мальца, – слабым голосом ответил старец. – Неходячий был. Ходит теперь?
– Ходит! – радостно отозвалась ведущая. – Вашими стараниями! Откуда дар у вас такой, дедушка?
Старец протяжно вздохнул.
– Да вот, одно Господь забрал, другое взамен дал, – он поднял левую руку: – В этих перстах Божий дар теплится. А вот эти, – дотронулся до согнутой правой руки, – и не чую вовсе. Да не ведает шуйца твоя, что творит десница твоя.
Захарий цитировал Священное Писание, только на старославянский манер. Павел вспомнил медные кресты и темные образа в доме знахарки Ефимии: вера – лучший друг и оружие любого шарлатана. Только не покидало ощущение, что в избе старца чего-то не хватало.
– Как вы живете здесь, дедушка? – спросила Софья.
– Так и живу. Хорошо, люди добрые помогают по хозяйству. Вот Маланья, например, – Захарий поманил женщину здоровой рукой. – Подойди, сестра. Подойди, не бойся. Сядь сюды.
Маланья присела, все так же теребя засаленные концы кушака. Захарий погладил ее по плечу, она не отстранилась, прижалась доверчиво. Куда подевалось прежнее недружелюбие?
– Бесом девка маялась, – пояснил старец. – Скажи, Маланья, сколько в тебе бесов сидело?
– Шесть… – блеклым голосом ответила женщина.
– Ше-есть, – протянул Захарий. – Дьявольское число. А скажи, Маланья, откуда они в тебе народились?
– Грешила я, батюшка, – залепетала женщина, уставившись в пол. – Телом торговала. От плода избавилась, а потом новый плод родился, сатанинский.
– А теперь-то как? Мучают бесы?
Маланья мотнула головой.
– Нет. Как ты мне на чрево ладонь наложил, так я тут же бесовским бременем разрешилась. Одному Господу я теперь служу, да еще тебе, батюшка.
Старец заулыбался, погладил женщину по спине.
– Так, моя хорошая. Так. Ну, ступай теперь.
Маланья встала со скамьи, по-прежнему не глядя в камеру, скользнула в тень.
– Так и живем, – вздохнул Захарий. – Ты-то, девка, тоже городская. Тоже в тебе, поди, черви клубятся. Во всех вас, мирских да пришлых, червоточина…
По спине Павла мазнуло холодком. Он понял, чего не хватало в избе старца – на стенах не было икон.
План снова поменялся. Теперь Софья стояла у покосившегося плетня, а ее крашеные волосы трепал ветер.
– Многие из тех, кого исцелил Захарий, остались в Доброгостове, – ведущая указала на одинаковые аккуратные срубы. – По примеру старца люди бежали от мира и зажили отшельниками. Что заставило их пожертвовать благами цивилизации? Ответа на этот вопрос нет. «Рыбари Господни», или как их называют местные, Краснопоясники, наотрез отказались разговаривать с журналистами. На собрание общины тоже попасть не удалось. Однако мы заполучили ценную запись: ее украдкой сделал один из родственников девушки, над которой проводился обряд экзорцизма. Просьба отойти от экранов впечатлительным людям, детям и беременным женщинам: следующие кадры повергнут вас в шок!
Экран погас и оставался темным несколько секунд. Затем по нему замельтешили разноцветные мушки, изображение запрыгало – видимо, действительно снималось из-под полы. Потом Павел увидел людей в белых балахонах: они стояли полукругом, воздев руки в молитве. Павел покрутил настройки слухового аппарата, но вскоре понял, что на записи не было звука изначально.
В центре круга билась девушка, простоволосая и босая. Ее тело выгибалось дугой, затылок колотился о доски. Каждый раз, когда девушка открывала рот, с губ срывалось темное облачко, похожее не то на рой насекомых, не то на клуб пыли. Потом в круг вошел старец Захарий. Вернее, его ввел высокий и плечистый мужик, лица которого Павел не разглядел. Старец наклонился над девушкой и зашептал что-то, осеняя ее двуперстием. Бесноватая замолотила ладонями в пол, выгнулась так, что касалась досок только затылком и пятками. Ее глаза завращались и уставились в камеру – совершенно белые, как отшлифованная галька. И, наверное, никто, кроме глухого Павла, умеющего хорошо читать по губам, не понял бы, что на выдохе протянула она:
«Чер-во-о…»
Изо рта вынырнул язык – тонкий и верткий, как гусеница. Чашка в руках Павла накренилась, и остывший кофе тонкой струйкой потек на колени.
Старец коснулся лба бесноватой. Белесые глаза заволокло мглой, от уголка глаза потекла темная капля.
Старец коснулся ее груди. Девушка мелко задрожала, и вдруг начала медленно отрываться от пола. Павел не верил своим глазам, но все же видел совершенно точно, что тело теперь висит в воздухе где-то сантиметрах в тридцати от пола.
Старец коснулся ее живота. Бесноватая разинула рот, да так широко, что в уголках губ треснула кожа. Ее горло напряглось, раздулось, будто зоб. А потом бесноватая изрыгнула поток клубящейся мглы.
Чашка выпала из расслабленных пальцев. Остатки кофе выплеснулись на ковер. И в этот же самый миг бесноватая грянулась оземь.
Экран зарябил, пошел полосами, и вскоре на нем снова показалась ведущая Софья.
– Сотворил ли чудо таежный мессия? Правда это или вымысел? Мы не беремся судить, – заговорила она. – Для Леши Краюхина и бесноватой девочки ответ очевиден. Мы же покидаем Доброгостово, но не прощаемся с мудрым отшельником и обязательно сюда вернемся. Кто знает? Может, в следующий раз мы сами станем свидетелем самого настоящего чуда.
Камера крупным планом выхватило лицо старца Захария – нависшие брови, слегка опущенный после инсульта уголок рта. До Павла донесся надтреснутый и тихий старческий голос:
– …Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит.
4. Ночные гости
Центральный вход городской библиотеки смотрел прямо на главную площадь Тарусы. Причудливая лепнина на фасаде и атланты, поддерживающие балкон, придавали бывшему купеческому особняку очарование ренессанса.
По городу ходили слухи, будто по ночам в бывшем танцевальном, а ныне читальном зале видят призрака купца Смородина. Мол, ходит мимо стеллажей черный, всклокоченный, ищет зашитые в матрасе червонцы. А где теперь те матрасы? Сгнили давно, но призраку о том не скажешь: вышагнет из угла, поведет горящими глазами и спросит: «Ты червонцы взял?» И откупиться можно, если монетку или пуговицу в угол кинуть со словами: «Что найдешь – все твое!» А иногда из пустого зала раздавались легкие шаги по паркету, смех и музыка – отзвуки прошлых балов.
Павел не раз пользовался услугами ночного абонемента, но никаких призраков, разумеется, не встречал, и никакой музыки не слышал, о чем однажды написал в рубрике «Хрустальный шар». Но слухи после этого не прекратились.
– Совсем позабыли о нас, молодой человек, – пожурила директриса, пожилая и ухоженная женщина с осанкой аристократки, подавая изящные сухие пальцы, унизанные перстнями. – Сейчас и без того в библиотеку не часто заходят, все в Интернете сидят.
Павел пожал руку, улыбнулся:
– Мы с вами вымирающий вид, Ирина Петровна. Мне бы поработать пару часов. Разрешаете?
– Составишь компанию даме? – в голосе директрисы послышалось лукавство. – Ваше счастье, молодой человек, что я с отчетами задержалась. И, похоже, надолго. Так что читальный зал и книгохранилище в вашем распоряжении. Сторожа предупрежу.
– Спасибо, Ирина Петровна. Я ваш должник.
– Ну-ну, пустое! – она снова заулыбалась. – Хотя роль мисс Марпл мне не светит, побыть информатором великого Шерлока я могу.
У директрисы библиотеки было две страсти: старинные украшения и детективы.
Пустой читальный зал выглядел неуютно. Ряды стеллажей уходили в густой сумрак: директриса попросила экономить электроэнергию, и Павел расположился поближе к выходу, включив минимальное количество ламп. Запустив компьютер, он вытащил блокнот, где на первом листе схематично зарисовал план деревни: домики на берегу реки, лес и горы. Вверху подписал «Доброгостово – добрый гость». Дальше шли заметки, которые Павел сделал дома, повторно пересмотрев телесюжет. Старец как старец, не злой и не добрый, взгляд простой, бесхитростный, правая рука висит плетью – паралитик. Зато Маланья, женщина в платке, настораживала. Павел записал в блокнот: «Враждебность, покорность, страх. Типичное поведение сектанта», перевернул страницу и добавил: «В избе старца нет икон. Почему?» Вопросительный знак жирно обвел и дважды подчеркнул.
Ритуал экзорцизма просмотрел с особой тщательностью. На стоп-кадрах изображение рябило, и сколько Павел ни присматривался к воспарившей над полом девушке, но так и не разглядел поддерживающих тросов. А ведь они должны быть, правда? Должны, иначе придется признать, что это действительно…
– Чепуха, – сказал вслух и записал в блокноте: «Левитация – иллюзия!!»
Павел решил, что к фокусам вернется позже: работать он привык планомерно, и сейчас его больше интересовали материалы по краеведению. Часть из них, благодаря всемирной паутине, разыскал еще дома.
Доброгостово – деревенька на реке Полонь, в таежной глуши между Новой Плиской и Сосновцами. Когда-то обладала статусом села, а теперь насчитывала не больше тридцати дворов и делилась на две части: в новой возвышалась Троицкая церковь, вокруг которой и текла размеренная деревенская жизнь, раз в неделю устраивалась торговля, а по выходным даже работал местный дворец культуры. А на отшибе, ближе к лесу располагалась старая часть – наверное, там и жили сектанты, но подтверждений догадке Павел не нашел, зато нашел кое-что другое.
Он тщательно скопировал найденный фотоснимок в блокнот: на фоне черного леса, возвышаясь деревянным куполом над крестами и надгробиями, стояла Всехсвятская кладбищенская церковь. И называлась тогда деревня – Погостово.
«…остов», – эхом отозвалось в Пуле.
Павел распрямил спину и огляделся: он находился в зале совершенно один. Лампы освещали ближайший стеллаж и десяток столов, а дальше все проглатывал полумрак. В окно бил желтый и теплый свет фонаря, от рамы на подоконник падала косая тень – крест-накрест. Ветки клена царапали стекло, и в слуховом аппарате неприятно потрескивало. Павел поморщился и отключил Пулю.
Тишина окутала, как периной. Подумалось, что хорошо бы чашечку кофе, но спускаться вниз и отвлекать Ирину Петровну не хотелось. Павел потянулся, разминая мышцы, зевнул и вернулся к сохраненной заметке:
«Погостово – бывшее ссыльное поселение. Сюда свозили каторжан и бродяг. Часть ссыльнопоселенцев задействовали в добыче угля и леса, осужденные батрачили в кулацких хозяйствах и промышленных заведениях купцов, однако экономическое положение оставалось крайне тяжелым. Местное население встречало ссыльных недоброжелательно и настороженно. Не было возможности освоить землю, обзавестись скотом и сельскохозяйственным инвентарем, а многие поселенцы некрестьянских сословий и вовсе не имели навыков к земельному труду. Жилища располагались по большей части на окраине деревни и строились из плохого леса, обмазывались глиной для тепла. Многие ссыльнопоселенцы уходили на заработки и редко возвращались назад: кто-то по-прежнему занимался кражей, кто-то погибал в тайге. В Погостове хоронили преступников, в народе – окаянников, со всего Новоплисского уезда, отчего Всехсвятская церковь получила второе название – Окаянная. Небольшой процент ссыльнопоселенцев все же сумел приспособиться к создавшимся условиям и влился в крестьянское сословие. Дети ссыльных либо наделялись земельными угодьями, либо жили работой по найму. Последующие поколения уже ничем не отличались от местных крестьян, в результате чего жители подали прошение о переименовании поселения в Доброгостово, чтобы прежняя лихая слава не нависала над деревней».
Переименование состоялось около сорока лет назад. А если верить материалу «Тайного мира», старцу Захарию исполнилось девяносто. Значит, целитель – старожил деревни, а если старожил, то…
На блокнот упала тень, словно кто-то встал за спиной и глянул через плечо. Шею обдало морозным дыханием. Павел быстро оглядел помещение. Стеллажи стояли незыблемые и ровные, как надгробия. Кошачьим глазом подмигивал за окном болтающийся фонарь, и крест – тень от рамы – покачивался туда-сюда, как маятник гипнотизера.
Павел поднялся, дошел до выключателя и щелкнул клавишами. Одна за другой вспыхнули лампы, разбрызгивая свет над мертвым залом. Павел заглянул за ближайший стеллаж: никого. Коридор, сложенный из пестрых книжных корешков, был прямой и пустынный, как ночная автомагистраль, и упирался в противоположную стену, выкрашенную в теплый персиковый цвет. Павел дошел до ближайшей развилки, глянул вправо-влево. Лампы слепили глаза, словно он попал не в библиотеку, а в операционную или того хуже – в мертвецкую. На миг показалось, что стол, за которым он только что сидел, блеснул хромированной поверхностью, и по краям выступили бурые пятна. Павел моргнул, и пятна исчезли. Он вернулся к столу, провел рукой – ни пятен, ни хромированного блеска, только дерево и лак.
– Бред! – произнес Павел и включил Пулю снова: именно теперь, в полной тишине и одиночестве, он чувствовал себя наиболее уязвимо.
Стараясь не обращать внимания на статические помехи и постукивание веток по стеклу, Павел вернулся к материалу, но замер в недоумении: это была совсем не та статья, что он просматривал несколько минут назад, и которая одной из первых выпадала на запрос «Деревня Доброгостово». Та называлась: «Новоплисский уезд. История края». Эта же – «Лешачья Плешь, Окаянная церковь и другие проклятые места».
Взгляд зацепился за фразу:
«…беглые каторжане рассказывали. Они по тайным тропам ходили, вот и вышли к Лешачьей Плеши».
Павел плюхнулся на стул, поджал одну ногу и принялся читать дальше:
«Испокон веков деды твердили: нечистое место, гиблое. Зверь ли наткнется, человек ли – все одно пропадают, и только кости находят. Если птица пролетит – так камнем падает. Ну да каторжане народ бойкий, голод глаза застилал, уж готовы друг другу глотки перегрызть, как вдруг, откуда ни возьмись под ноги заяц бросился. Каторжники его поймали, да и голову свернули. Стали судачить, как жарить-варить. А ни спичек нет, ни котелка. Вот судачат, а сами не видят, как ноги по тропке все дальше и дальше несут. Только один очнулся, когда ногу на сук напорол. «Глянь! – говорит. – Куда это мы с тобой, братуха, забрели?» Огляделись, и верно – место чудное. Посреди чащи круг, и не растет на нем ничего – ни травы, ни деревьев. Одна голая земля, и та черная-пречерная, зыбкая, как багно – торфяное болото. Вот и говорит первый: «Давай-ка отсюда выбираться. Место со всех концов просматривается, не разберешь, откуда пулю поймаешь». Вот и пошли обратно к лесу. Идти тяжело – ноги в земле вязнут, а лес все не приближается, будто на одном месте стоишь. Вот уже и шаг ускорили, вот и побежали – по щиколотку в землю уходить начали, семь потов сошло, а с места – ни на пядь. Тут и второй каторжник взмолился: «Не могу больше. Видать, в трясину попали. Еще и этот чертов заяц, почитай, целый пуд весит! Выкину его!» И только взялся за лапы, чтобы как следует размахнуться, а заяц повернул мертвую голову, глянул человечьими глазами да как захохочет…»
Павел подвинул блокнот, перелистнул страницы и нацарапал карандашом: «Лешачья Плешь. Окаянная церковь», а глаза уже бежали по строчкам дальше:
«А вот что про Окаянную церковь рассказывают. Известно, часто хоронили в Погостове народ лихой. Эти люди редко своей смертью умирали, потому и считалось в этих краях, что в Царство Небесное их Господь не пускал. Вот и хоронили в два круга: в первом, внутреннем, всех православных христиан. А уж во втором, за оградой, лиходеев. Одним из таких, недобрых да пришлых, был старик, которого в народе колдуном прозвали. Вот как пришла ему пора помирать, мучился он сильно, вокруг его избы пыль столбом ходила, в крышу молнии били – значит, черти его мучили, пока он силу другому не передаст. Но не было у колдуна ни детей, ни внуков. Так и помер, измучившись. А перед смертью сказал: «Как хоронить меня будете, обейте гроб железными обручами. А после пошлите в церковь мальчика черненького аль девочку рыженькую. Дайте свечку, которую освящали на Сретенье, и Псалтырь. А после отрок или отроковица пусть одну ночь проведет в церкви, жжет свечку и читает Псалтырь. Что бы ни случилось, только сидит и читает Псалтырь». Так и сделали. И вот понесли на кладбище. Когда несли, налетела откуда-то буря, и лопнул один обруч. Люди и говорят: «Ничего. Еще два есть». Как поднесли домовину к яме, лопнул и второй обруч. «Ничего – сказали люди. – Ведь один остался». Так и закопали колдуна. Только на погост никого не отправили – кто ж своего ребенка пустит? Вот закопали, и прошло семь дней, а потом этот колдун стал приходить и кровь у живых сосать…»
Павел протер глаза и посмотрел на часы: они показывали десять вечера. Мышцы затекли, Павел потянулся, хрустнул суставами и принялся читать дальше:
«…тогда объявился дьячок, который сказал, что так и будет колдун деревню мучить, пока его наказ не выполнят. Но он готов горю подсобить. Взял пастушонка, мальчишечку черненького, привел с собой в церковь и наказал читать Псалтырь и жечь свечку, освященную на Сретенье. А еще насыпал мальчику полный карман конопляных зерен, и говорит: «Ты не бойся ничего. Как колдун явится, ты знай себе читай, а между делом зерна щелкай, а на вопросы отвечай вот что…» И научил. Потом обвел мальчика кругом, а сам за клирос спрятался. И вот настала ночь. Раскаркались на погосте вороны, поднялся вихрь и услышал мальчик за стенами церкви лязг – это лопнул последний обруч с гроба колдуна. Но мальчик вспомнил, что сказал ему дьячок, принялся читать Псалтырь, а между делом конопляные семечки щелкать. И хоть страшно ему было, но наказ выполнял. Тогда заходили ходуном стены церкви, ворвался ветер и задул все свечи, кроме тех, которые в центре круга горели. А вместе с ветром в церковь ворвался колдун – синий, раздутый, волосы и борода до пят свисают, ногти на руках, будто волчьи когти. Ворвался и закричал: «Кто меня от дела оторвал, помешал у новорожденной и некрещенной кровь пить?» А ведь верно – не так давно у молодых ребенок родился, а покрестить не успели. Колдун хотел мальчика схватить, туда-сюда, но не пускает его круг. А мальчик знай себе читает, конопляные зерна ест, а они трещат. Остановился колдун на самой границе круга и спрашивает: «Что ты, отрок, делаешь?» А мальчик отвечает ему: «Псалтырь читаю да голову чешу». – «А что ешь?» – «Вшей». – «А разве можно вшей есть?» – удивился колдун. – «А разве можно, чтоб мертвые к живым ходили?» – ответил мальчик. Тут из-за клироса и выскочил дьячок. Облил колдуна святой водой, припечатал крестом. Мертвец завертелся волчком, закричал по-звериному, от савана повалил дым, а тело раздулось и лопнуло. И брызнули из него во все стороны кости да черви. Дьячок и принялся червей топтать, а кости в саван собирать. Да только не уследил – в одном месте круг стерся, и к ногам мальчика подкатилась косточка махонькая, самый мизинчик. Нашло на мальчика помутнение, он косточку подобрал и в карман спрятал. А саван потом похоронили во второй раз, и уж тогда забили в гроб осиновый кол, и колдун больше деревню не мучил. А кол тот пророс спустя годы деревцем…»
Хлопнула дверь, но не закрылась, а заходила туда-сюда на петлях. В проеме появилась и тут же спряталась чья-то тень.
– Ирина Петровна? – спросил Павел и подкрутил регулятор громкости.
За дверью хрипло, по-стариковски закашлялись. Конечно, это пришел сторож – нерасторопный пенсионер с вечно слезящимися глазами. Как его имя? Федор Яковлевич? Или Иванович? В прошлый раз, когда Павел задержался в библиотеке допоздна, сторож ходил под дверью читального зала, нарочито громко кашляя и ворча на «молодежь, которой заняться нечем, только ночами за книжками сидеть».
Павел выглянул в коридор. Прямоугольник света перечеркнул порог и протянулся к резным перилам. На этаже царил сумрак, но Павел все равно разглядел фигуру, застывшую у стены.
– Федор Иванович? – окликнул он сторожа. – Я почти закончил, скоро уйду.
А про себя решил, что обязательно вернется утром, чтобы найти материал о Краснопоясниках. Но сторож не отозвался. Повернувшись к углу лицом, он что-то увлеченно выцарапывал на окрашенной стене. Павел шагнул было за порог, но остановился: покидать границы желтого прямоугольника совершенно не хотелось. Он отчетливо понял, что там, в полумраке, небезопасно. Что кто-то, стоящий у стены, только притворяется сторожем, как несколько часов назад, в редакции кто-то притворялся Артемом.
Призрак купца Смородина?
Павел нащупал в кармане медяки. За годы общения с сектантами и колдунами он уяснил одно: начинать игру нужно всегда по их правилам, а заканчивать – по своим.
– Что найдешь – твое! – сказал Павел и швырнул в темноту монетку.
Ночной посетитель повернулся, и Павел понял, кто стоит перед ним: ни призрак купца, ни ночной сторож, а подросток. Щуплый и угловатый, в растянутой толстовке с принтом – в темноте надпись не разобрать, но Павел и так знал, что выведено большими желтыми буквами: «The Bullet», любимая рок-группа брата.
Подросток широко улыбнулся, отчего черная корка на правой щеке треснула, поднял сухую руку – послышался хруст, с которым ворошат в костре угли, – сунул в обгоревшее ухо провод наушника.
Висок пронзило острой болью, будто что-то острое и раскаленное пробило кость, и Павел ухватился за дверной наличник.
Призраков не бывает. Мертвые не встают из могил, не влезают в тело твоего коллеги, не поджидают в библиотеке. Это только усталость. Только игра воображения, подогретого репортажем и глупыми сказочками. Только галлюцинация…
И все же Павел вытолкнул крутившееся на языке имя:
– Андрей.
Мертвец вытянул указательный палец, его губы шевельнулись и сложились в неслышное, но узнаваемое: «Бах!»
Лампы на этаже вспыхнули.
Павел машинально вскинул руку, свет опалил роговицу.
– Эй! Парень! – донеслось со стороны.
Перед глазами еще мельтешили мушки, но, проморгавшись, Павел увидел, что стоит на этаже совершенно один, а снизу по лестнице поднимается ночной сторож – от него за версту несло пивом и копчеными крылышками.
– Ты до рассвета тут торчать будешь? Время два часа ночи!
– Как два? – машинально повторил Павел и глянул на часы: стрелки застыли на десяти.
– Да уж и третий пошел, – сторож недовольно сощурился и ворчливо переспросил: – Долго еще сидеть будешь, спрашиваю?
– Нет-нет, уже собираюсь, – заверил Павел.
Дед кивнул.
– Давай. Я двери запру. Надо мне очень, охранять тут всяких…
Павел проследил, как сторож, ворча и ругаясь, спускается обратно в холл. Потом шагнул к перилам, где несколько минут назад стоял его мертвый брат, но не увидел никаких следов и не почуял запаха гари. Павел вздохнул, провел ладонью по стене и замер.
По краске, будто гвоздем, кто-то нацарапал рисунок.
Рыбу.
5. Первое доказательство
На пыльном стекле старенькой отцовской «Лады» Андрей нарисовал здоровенную рыбеху и позвал брата:
– Гляди, вот такую я сегодня поймаю!
Павел глянул мельком, хмыкнул:
– Угу, как же!
И принялся укладывать в салон удочки, куль с шерстяными одеялами и подушки, завернутые в целлофан. Пока он возился, Андрей дорисовал рыбе внушительные буфера и подписал «Юлька».
– А вот такую поймаешь ты.
Павел оттопырил средний палец. Андрей довольно заржал и, заметив приближение отца, быстро вытер рисунок.
С Юлькой Павел дружил давно, с шестого класса, а в девятом из долговязой и тощей девчонки она превратилась в фигуристую модель, на которую оборачивалась вся сильная половина школы. Но только Павлу позволялось провожать ее до дома и целовать, запуская руки под трикотажную кофту и млея от возбуждения.
– Ну и когда ты ее наконец трахнешь? – однажды прямиком спросил Андрей.
В семье он считался за старшего, потому что родился на несколько минут раньше Павла, и в жизни тоже все успевал первым: первым научился считать, первым закурил, первым лишился девственности с веселой и разбитной Викой. Насчет последнего пункта возникали сомнения, но уж очень красочно описывал Андрей свой подвиг.
– Может, она мне после дня рождения даст? – отшутился Павел. – Классный подарок на шестнадцать лет!
– Ну-ну, ты главное до шестидесяти не досиди, – едко ответил Андрей.
Павел досадовал, что так и не сумел уговорить Юльку ехать на рыбалку с ночевкой. Может, им удалось бы уединиться в рощице и довести задуманное до конца, а теперь приходилось только мечтать о горячих поцелуях и смотреть, как в окне проносятся пятиэтажки спального района.
Андрей пихнул его локтем и указал на рекламный щит:
– Во, смотри! К нам в следующем месяце «Револьверы» приезжают! Пап, можно мы пойдем?
– Будет зависеть от вашего поведения, – отозвался из-за руля отец.
– Вот уж нет! – возмутилась мама.
– Почему нет? – завопил Андрей. – Вы слышали их последний кавер на «The Bullet»? Обещаем: никакого пива!
– Да пусть, – добродушно сказал отец, выруливая на окружную. – Я их довезу и привезу обратно.
Мама недовольно откинулась на сиденье и буркнула что-то вроде: «Посмотрим».
Братья издали ликующий клич.
– На, послушай! Вещь! – Андрей протянул брату вкладыш наушника. Голова тут же взорвалась от рева басов, и Павел показал брату «козу» в знак одобрения. Тот ухмыльнулся и сложил пальцы пистолетом: «Бах!» Павел, подыгрывая, схватился за сердце и повалился на сиденье. Краем глаза он заметил, как на боковое окно надвигается тень.
Потом последовал удар.
Говорят, перед смертью вся жизнь проносится перед глазами. Это неправда. Павел ничего не видел и ничего не запомнил, только ощутил, как затылок обожгло огнем, и навалилась тьма.
Потом Павел очнулся, но как – не помнил тоже. Только что его сознание блуждало во тьме, а в следующую секунду он уже стоял, пошатываясь, на обочине и повторял беспрестанно:
– Мама! Дай!
Слова соскальзывали в беззвучие. По лицу текло что-то горячее, неприятно липкое, и Павел сердился, потому что стоящая рядом женщина не была его матерью и не понимала, что Павел просит у нее салфетку. Женщина тормошила его за локоть и говорила что-то неразборчивое. В ушах все еще хрипели басы, и под аккомпанемент электрогитары к искореженным консервным банкам автомобилей бежали люди.
О последствиях аварии узнал гораздо позже, как и о том, что из лап смерти выкарабкался он один: брат и отец скончались на месте, мама умерла в реанимации, не приходя в сознание. Павел отделался черепно-мозговой травмой, переломом затылочной и височной костей и кровоизлиянием в барабанную полость.
Смерть близких и инвалидность – такие подарки Павел получил на шестнадцатилетие и больше дни рождения не праздновал.
Кто-то настойчиво похлопал его по плечу. Павел вздрогнул, стряхнул дремоту и воспоминания и встретился с недовольным взглядом таксиста.
– Эй, парень! Заснул что ли? Приехали мы! Старослободская, двадцать.
Павел поблагодарил, оставил водителю хрусткую купюру и выбрался из пропахшего табаком салона. Под ногой чавкнуло, и Павел чертыхнулся, выдирая начищенные утром ботинки из грязевой жижи. За городом дороги совершено развезло, но от разбитого асфальта до барака кто-то заботливо выложил тропинку из кирпичей. Перепрыгивая с одного обломка на другой, Павел радовался, что не взял с собой насмешливую Нину: уж она бы прокомментировала чудеса акробатики, а настроение после бессонной ночи ни к черту.
Злило, что информации о секте «Рыбари Господни» не нашлось никакой – сколько Павел ни просматривал страницы поисковых систем, – из чего вытекал вывод: община возникла недавно, и, судя по недружелюбному поведению Маланьи, отношения с большим миром не поддерживала.
Кое-как допрыгав до лестницы, Павел с облегчением оперся о перила и тщательно вытер ботинки о нижнюю ступень. С жестяного козырька прямо за шиворот скользнула капля. Павел передернул плечами и в два прыжка одолел ступени, дернул заржавленную ручку. Дверь оказалась не заперта и вела в полутемный коридор, где пахло кошками и прелым тряпьем. У дальней стены заворочалось что-то темное, живое, выгнулась горбом мохнатая спина. В груди тревожно бухнуло, и Павел инстинктивно отпрянул. Но серая полоска света, протянувшаяся от порога, выхватила из темноты очертания колес и спинки с накинутым на нее пледом – не призрак и не монстр, всего лишь старая инвалидная коляска. Из-под пледа вынырнула черная кошачья голова.
– Наглое животное, – буркнул Павел.
Кошка зевнула, соглашаясь, продемонстрировала красную тряпочку языка и юркнула обратно под плед. Павел пихнул с прохода эмалированную миску с остатками кошачьего обеда, вздохнул и постучался в дверь, обитую черным дерматином – на ней не было номера, но инвалидная коляска в коридоре явно показывала, что Павел не ошибся адресом. Ждать пришлось недолго: через пару минут послышались щелчки открывающегося замка, пахнуло лекарствами и жареным луком, и в коридор высунулась остроносая женщина. Павел сразу узнал ее – мать Леши Краюхина.
– Здравствуйте, Светлана… – начал Павел и запнулся, вопросительно поднял брови.
– Вячеславовна, – подсказала женщина. – Вы кто?
– Простите, что врываюсь и отвлекаю от дел, – улыбнулся Павел. – Мы не знакомы, но мне очень нужно с вами поговорить. Я видел передачу…
– Вы репортер?
В голосе женщины слышалось осторожность, взгляд оценивающе скользнул по чужаку: вверх-вниз. Павлу вспомнилось, что так же оценивающе и недоверчиво смотрела на репортеров Маланья, и поспешно ответил:
– Нет-нет! Что вы! Я просто увидел передачу про вас и вашего сына. Понимаете, мне нужна помощь. Видите ли, десять лет назад я попал в аварию, с тех пор оглох… – он указал на Пулю. – Вы не представляете, что значит жить с этим, надеяться и…
– Очень хорошо представляю, – сказала Светлана и шире распахнула дверь. – Я тоже живу с этим десять лет. Пройдете?
– Не задержу вас надолго, – пообещал Павел, протискиваясь в тесную прихожую. Макушкой задел лампочку, и она закачалась, поливая тусклым светом выцветшие обои, изъеденные грибком, и замотанные изолентой провода.
– Все проводку никак не починим, – словно извиняясь, сказала Светлана. – Мужских-то рук у нас нету. А теперь и без надобности.
– Это почему? – машинально спросил Павел, стараясь держаться подальше от стен. Тараканов он пока не видел, но подозревал, что, если не принять соответствующие меры, то унесет за собственным шиворотом парочку-другую.
– Да переедем скоро, – ответила женщина, подумала и добавила: – наверное. Вот только Леша немного окрепнет. Может, к следующему лету. Как, говорите, вы адрес узнали?
– Так весь город о вас судачит! – соврал Павел, хотя на самом деле узнал адрес у знакомого участкового. – В очереди женщины переговаривались. Может, соседки ваши?
– Может, – вздохнула Светлана. – Вы не первый уже, кто приходит.
– Потому и съехать хотите?
Светлана неопределенно повела плечом, ответила тихо:
– Да что нас тут держит? Мужа у меня нет. Работы хорошей тоже… Только ребенок и держал. А теперь вижу, не помогли ему тут, в городе. Решила: уедем в деревню. Земли много не надо, курочек заведем, огород посадим. На свежем воздухе Лешеньке лучше будет.
«Не в Доброгостово ли уехать?» – подумал Павел, а вслух сказал:
– Очень вас понимаю. Вот и меня ничего не держит: врачи давно крест поставили. Жены нет – кто ж на инвалида посмотрит?
Светлана улыбнулась, и взгляд ее потеплел, словно говорил: «А я бы посмотрела…»
– А можно мне самому с Лешей поговорить? – спросил Павел. – Не то, чтобы я не верил, но…
– Конечно, – сказала Светлана и толкнула дверь, ведущую в спальню. – Когда сказали ученики Христа: мы видели Господа! Один Фома, называемый Близнец, сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, не поверю, – и позвала в полумрак: – Лешенька? Выйди, сыночек, не бойся. С тобой дядя хочет поговорить, – обернулась к Павлу и спросила: – Как вас зовут, вы сказали?
– Не говорил, – ответно улыбнулся Павел и выдал первое, что пришло в голову: – Андрей.
В детской комнате запах лекарств ощущался острее. Через задернутые шторы плохо проникал свет, зато горел торшер: желтый кружок из-под абажура падал на разобранную постель, на которой полулежал ребенок и собирал из кусочков мозаики картинку. Увидев вошедших, мальчик свесил с кровати тощие голые ноги.
– Давай, Лешенька, смелее, – ласково подбодрила мать.
– С-сам знаю, – заикаясь, буркнул мальчик и, пыхтя, сполз с кровати, стукнул пятками о пол. Покачнувшись, ухватился за спинку, но выстоял. Шагнул раз, другой – видно, движения давались ему с трудом, непослушные ноги гнулись, но все же держали. Леша отпустил спинку кровати и победно улыбнулся: каково?
– Молодец! – похвалил Павел. – Помощник мамке вырастет! И что же, совсем не ходячий был?
– Посмотрите сами, – Светлана с готовностью метнулась к шкафу и вытащила лежащую на видном месте медицинскую карту. – Вот тут вся история. Вот диагноз.
Павел пролистал карту бегло, но внимательно изучил анамнез: спастическая диплегия, нарушена функция мышц, контрактура коленного сустава, повышенный тонус мышц, спастика в нижних конечностях выражена в наибольшей степени, сопутствующая болезни задержка психического и речевого развития. Могло ли наступить улучшение? Могло. Только почему так странно совпало с поездкой в Доброгостово?
Леша проковылял ближе и тоже заглянул в карту.
– Это ему еще расходиться надо, – сказала Светлана и потрепала сына по макушке. – Сначала тяжело, а потом привычно. Уже во двор бегает.
– Я с-скоро буду в мяч играть, к-как Мишка! – поддакнул мальчик. Видно, подобные представления были ему не в первой.
– А расскажи дяде Андрею, как тебя дедушка лечил? – попросила мать.
– Он м-мне руку с-сюда положил, – Леша нагнулся и тронул острую коленку. – Горячо было!
– Старец ему все ножки огладил, – сказала Светлана, с умилением глядя на сына. – Гладил и молился. Леша сказал, от прикосновений старца как огнем опалило. А потом, – она всхлипнула, – потом пошел мой сыночек…
– Мне дедушка с-сказал с коляски встать, – поддакнул мальчик. – Я и вс-стал.
Он покачнулся, шагнул снова, на этот раз увереннее, остановился возле Павла и, ощупав его цепким и слегка косящим взглядом, спросил:
– Дядя, а вы к-конфет принесли?
– И как только догадался? – натянуто улыбнулся Павел и выудил из кармана шоколадный батончик, хотя рука так и тянулась хорошенько встряхнуть попрошайку, но сдержался – даром, что инвалид.
– А вы все это время рядом находились? – спросил у Светланы Павел, возвращая ей карту.
Женщина смахнула слезу, кивнула.
– Да, рядом. И на колени встала, как старец велел. Поклоны земные била. Все молилась у Боженьки за исцеление.
– А жили где?
– У бабушки Матрены. Не за даром, конечно, но плата пустяковая. Что поделать, и людям надо как-то выживать, деревня заброшена, – Светлана вздохнула, погладила сына по плечу. – Ты бы, Лешенька, аппетит шоколадом не портил. Вот покушаешь, тогда…
– С-сам знаю, – насупился мальчик и поспешно завел руку с шоколадкой за спину. Растянутая футболка съехала с худого плеча, и на грудь скользнул медный крестик на засаленном шнурке.
– Что это у тебя? – Павел наклонился.
– Подарок от старца, – вместо сына ответила Светлана. – Вы только руками не троньте: заговоренный он!
Павел трогать не стал, но сразу понял, что это вовсе не нательный крестик, как он сначала подумал, а рыбка, скрученная из медной проволоки.
– Оберег это, – пояснила Светлана и встала рядом. – Велено сорок дней носить, не трогая и не снимая.
– Рыбари Господни, – пробормотал Павел и выпрямился. Женщина расцвела.
– Вы знаете! И сказал Господь своим апостолам: идите за Мною, Я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним.
– Вы их видели? – спросил Павел. – Краснопоясников?
Улыбка женщины потускнела.
– Не говорите так. Они не любят, когда их так называют, – нервно дернула плечами. – Будто какая-то секта.
– А они не секта?
– Нет же! – всплеснула руками Светлана. Леша покосился на мать испуганно, и она смягчилась, погладила сына по голове. – Иди, сыночек. Иди на кухню, я там котлеток нажарила. Покушай.
Мальчик шмыгнул носом и поковылял в коридор, время от времени хватаясь руками за стены.
– Они добрые люди на самом деле, – тихо заговорила Светлана. – Только от мира далекие. Да и что в этом миру? Я его полными ложками нахлебалась, и горя, и безденежья. Вот уедем, будет жизнь другая. Тихая, спокойная. Там знаете воздух какой? А виды какие? А река… – она мечтательно отвела взгляд к окну, будто за шторами видела другой, недоступный Павлу мир. – Нам и домик обещали построить.
– Кто же обещал?
– А игумен Степан, – женщина отвернулась от окна и глянула на Павла затуманенными глазами. – Святой человек и очень приличный мужчина. Моего Лешу на руках нес до самого дома старца. И во время ритуала помогал. Он всей общины староста. Когда прощались, так и сказал мне: «Приезжай, сестра, когда от мирского устанешь. Напускное это все, греховное. Деньги, телевиденье, Интернет, и все, что люди измыслили, не убоявшись Бога». Может, вместе поедем, а?
Павел не сразу осознал, что Светлана обращается к нему, вежливо улыбнулся:
– Мне бы сначала тут дела уладить и денег на первое время собрать. Да сами знаете, как тяжело решиться, когда уже нет надежды.
Светлана согласилась:
– Верно. Но вы не бойтесь. И не слушайте тех, кто говорит, будто там места гиблые и проклятые. Это все злые языки: мелют, что ни попадя.
Гиблые места… Погостово…
В памяти всплыла полутемная библиотека и надломленная фигура подростка у перил. Павел шумно прочистил горло, просипел:
– Извините. А вы сталкивались с чем-нибудь, – он неопределенно покрутил рукой, – этаким?
– Вы имеет в виду с чем-нибудь потусторонним? – проницательно спросила Светлана и оглянулась, зябко повела плечами. – Видела… однажды, – она понизила голос, – в ночь перед ритуалом, когда Лешеньку надо было к старцу нести, проснулась я от стука в окно. Тихо так стучали: тук-тук. Пауза. И снова: тук-тук. Будто прислушивались, проснулся ли в доме кто? Я подумала, может бабушка Матрена на двор вышла? Дверь заперла ненароком, а попасть не может. Или сосед пришел за чем-нибудь. В деревне все люди друг друга знают, все помогают, да мало ли, что понадобилось? Я уже и встать хотела, ноги с кровати свесила, чтоб Лешеньку не разбудить – он под боком сладко так сопел. Да тут и он проснулся и за руку меня схватил. «Не ходи, – говорит, – мама. Там кто-то плохой». А окна ставнями закрыты. И кто за окном – не видно. Только после этих слов стук еще настойчивее стал.
Она замолчала, затеребила край джемпера.
– Может, сон плохой приснился? – предположил Павел.
– Может, – Светлана вздохнула. – Я ему тоже сказала: «Ложись, Леша. Это, наверное, соседка за солью пришла. Я сейчас бабу Матрену разбужу, а ты постарайся заснуть». А про себя думаю: ну какая соль в три часа ночи? А Леша мне и говорит: «Нет, я вижу, мамочка. Стоит прямо за окном. Худой очень, косматый, а на руках ногти длинные, как у волка. Мамочка, не ходи. С места встанешь – он учует и стекло разобьет».
– И что же? – не выдержав, перебил Павел. Почему-то страстно захотелось уйти: в комнате пахнуло подвальной сыростью, шторы шевельнулись, будто кто-то невидимый укрылся за ними и теперь поджидал, дыша могильным холодом.
– А потом на крыше что-то загрохотало, – продолжила Светлана. – Будто камни покатились. А потом забегал, да гулко так! Леша едва не закричал, ко мне прижался, я его обняла. А сама отчего-то понимаю, что кричать нельзя, и двигаться нельзя. Ведь и правда, тогда случится что-то плохое. Молиться я начала, – Светлана оттянула край воротника и достала тоненькую цепочку, на которой медью блеснула та же плетеная подвеска-рыбка, что была и на мальчике. – Все молитвы, какие были, вспомнила. А этот кто-то грохотал по крыше долго, очень долго. То затихнет, то снова затопочет. Я так в беспамятстве и валилась, только сына крепче прижимала. Так мы до утра и просидели в обнимку. А когда рассвет забрезжил, все и стихло. До сих пор не знаю, что это было, – Светлана нервно усмехнулась и подняла на Павла болезненный взгляд. – Это ведь нечистый ходил, да? Игумен Степан говорил, что там, где святые живут, там и бесы ходят, с пути истинного сбивают. А, может, это из мальчика моего так болезнь выходила?
Павел только кивнул: стало неуютно и зябко. Шторы подергивались, будто кто-то снаружи настойчиво теребил их мертвой рукой. Он отступил к порогу, заговорил торопливо:
– Наверное. Так и есть. Но главное, что позади все. Главное, что ваш сын теперь здоров. Да и не буду вас больше задерживать. Вы только объясните, как до старца добраться?
– А это я вам сейчас скажу, – оживилась Светлана и продиктовала Павлу, каким поездом ехать, и на какой станции сходить, и как до деревни добираться. Он кивал и записывал в рабочий блокнот, и, уже распрощавшись, на пороге вспомнил последнее, о чем хотел спросить:
– Интересно, почему «Рыбари Господни» носят красные пояса?
Светлана вскинула брови, поморщилась, будто вопрос ей неприятен, но все-таки ответила:
– Опоясывание чресел – знак целомудрия, принадлежности Богу, готовность к борьбе и очищению. Как длинен этот пояс, так и путь до Царства Небесного долог. И поскольку он тернист и усыпан шипами грехов и соблазнов, пройти по нему нельзя, не изранившись. Потому и цвет его – красный. А когда грехи мирские смоются окончательно, то поменяют пояса на белые. Ибо сказано: если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю; если будут красны, как пурпур, – как волну убелю…
– Что ж, теперь мне все понятно, – сказал Павел и пожал протянутую ладонь. – Спасибо вам.
– И вам, – хихикнула Светлана. – Вы заходите, если вдруг будет одиноко. Ладно?
– Обещаю, – соврал Павел и вышел в сырой и серый майский день.
6. Прибытие
Утро встретило моросью и туманом: весна запаздывала в эти края, и хотя деревья оперились листьями, по оврагам еще лежал снег. Платформа пустовала, только под жестяной табличкой с облупленной надписью «Доброгостово» смолил папиросу парень лет пятнадцати, одетый в резиновые сапоги и черную парку. Завидев Павла, он отлепился от перил и окликнул:
– Эй, дядя! Тебе в деревню надо?
– Мне в Доброгостово, – отозвался Павел. – Дорогу покажешь?
Пацан ухмыльнулся и ткнул пальцем за спину:
– Дорога-то вон. Спускаешься с платформы и вперед.
Павел хмуро оглядел молчащий лес: грунтовая дорога петляла между стволами и исчезала в туманной пелене. Неподалеку от края платформы под тенью развесистого кедра прятался «Уазик».
– А машина чья?
Подросток пустил сероватую дымную струйку и, явно рисуясь, похвалился:
– Моя, дядя. Я для того тут и околачиваюсь, чтобы приезжих вроде тебя в Доброгостово подвозить. Только удовольствие это не бесплатное.
– Само собой, – Павел с готовностью сунул руку в карман, нащупывая командировочные. – Полтинник пойдет?
– Обижаешь! – по-взрослому протянул парень. – Две сотни и по рукам!
– У, заломил! Да тут, наверное, и недалеко вовсе. Пешком дойду, – Павел взвалил на плечо спортивную сумку. Пацан неприятно ухмыльнулся:
– Ну, иди, иди! Дорога через тайгу проложена да через болота. По весне бывает совсем топко. А если с пути не собьешься и в болоте не увязнешь, то потихоньку-полегоньку, к ночи, может, и дойдешь. Если, конечно, волки не попадутся: они по весне голоднющие…
– Черт с тобой! – не вытерпел Павел и вытащил банкноты. – Сотня сейчас, сотня потом.
– Другой разговор, дядя! – парень щелчком отбросил окурок через ограждение и вальяжно приблизился к Павлу: ростом он доходил корреспонденту до плеча, но смотрел уверенно, с вызовом, чем жутко напоминал Андрея. От пацана разило табаком и соляркой.
– Курить тебе не рано? – не удержался от язвительного замечания Павел, хотя сам первый раз попробовал в четырнадцать.
– Да ты, никак, мой пропавший батя? – делано поразился парень и ловко выхватил бумажку. – Как однажды за папиросами вышел, так девятый год по всей области ищут. А тут ты и объявился, да сразу и прие…!
– Ладно, не паясничай, – оборвал Павел соскользнувшее с языка матерное ругательство. – Вторую часть, как договорились, на месте.
– Идет, – парень спрятал за пазуху купюру и шустро спрыгнул с платформы. Павел примеру следовать не стал и спустился, как все нормальные люди, по лесенке. Правда, едва не поскользнулся на мокрой ступени, сумка соскользнула с плеча и плюхнулась в снежную проплешину.
– Ты, дядя, аккуратнее! – запоздало прикрикнул парень. – Тут по зиме Авдотиха ногу поломала в двух местах! Аж до города везти пришлось!
– Спасибо за предупреждение, очень вовремя, – буркнул Павел, проверил, не соскочила ли Пуля, и тоже спрыгнул вниз. – А что ж ваш старец не помог… как его… Захарий, что ли?
– Гы-гы! – заржал пацан, демонстрируя кривоватые зубы. – А ты, дядя, думал, он и тебя так сразу примет? Вот прямо сегодня?
– А ты откуда знаешь, что я к нему?
– А мне и знать не надо. Сюда просто так городские не приезжают, – парень распахнул дверь кабины и прыгнул на водительское сиденье. – Залезай, дядя.
Павел подергал ручку второй двери, но та не поддалась. Сквозь маленькое и грязное окно он рассмотрел, что салон завален досками.
– Дядя, ты на переднее садись! – крикнул парень, высовывая кудлатую голову. – Сзади завал, стропила для бани везу!
Павел подчинился, пристроил под ногами сумку, и сразу же перекинул через плечо ремень безопасности, чем вызывал у пацана радостную усмешку.
– Да ты не бойся, офигенно довезу! – парень повернул ключ зажигания, и мотор зафырчал. – Я не первый год езжу, дорогу знаю вдоль и поперек.
– Права-то у тебя есть, гонщик? – буркнул Павел и прикрыл глаза. После аварии он решил для себя: никогда не садиться за руль и по возможности не ездить впереди. Второе удавалось не всегда, а пацан подтвердил худшие опасения, снова улыбнувшись во весь рот:
– Кому они нужны! Тут на километры тайга, из патруля только медведи. Эх, держись, дядя! – присвистнул и тронулся с места.
«Уазик» сразу затрясло. Павел одной рукой ухватился за ручку, второй – за кресло, и пожалел, что вовремя не отключил Пулю: пацан оказался словоохотливым. Звали его Кирюха, жил он с мамкой и младшей сестрой в новой части деревни, аккурат возле Троицкой церкви, год назад бросил школу, потому что до Гласова добираться нужно километров десять, а машина на самом деле соседская, да и мужских рук дома нету.
– Мамка у меня доярка, – делился он подробностями своей деревенской жизни. – Уходит, когда мы еще спим. Сеструхе шестой год. Как мать уйдет, мне надо встать, дров наколоть, скотине корма задать, завтрак разогреть, потом сеструху кормить. Потом мамка приходит и отдыхает до следующей дойки, а я с Танюхой занимаюсь. Мамка хочет, чтобы хоть она человеком стала, если мне не удалось.
– Зачем же тогда школу бросил? – Павел одним глазом косил на пацана, другой держал крепко зажмуренным. Проглоченный утром чай плескался в желудке и на каждой кочке норовил выскочить наружу.
– Да я двоечник! – радостно ответил Кирюха, словно бы гордился этим. – Мне и учителя говорили: ничего путного из тебя, Рудаков, не выйдет! Чтоб после девятого и духу твоего в школе не было.
– Вот и закончил бы девятилетку.
– Пох! – махнул рукой Кирюха, и машина подпрыгнула. Павел стиснул зубы, удерживая рвотный позыв. – В вечерку пойду. А летом подработаю на фермерстве. Может, и в механизаторы возьмут. Я с техникой лажу. Да и если я целыми днями в школе пропадать буду, – парень перешел на доверительный шепот, так что Павел едва его расслышал за гудением двигателя, стуком гравия о днище и тресками в слуховом аппарате, – кто за Танюхой присмотрит? Скрадут ведь!
– Кто скрадет? – машинально переспросил Павел.
Пацан глянул недоверчиво, проворчал:
– Ты, дядя, полудурком не прикидывайся! К Захару едешь, должен знать, кто возле него оттирается.
– Краснопоясники?
Кирюха не ответил, насупился. Какое-то время вел машину, молчал и сосредоточенно глядел прямо перед собой. Потом не выдержал.
– Ты, дядя, как у Захара побываешь, – пробубнил он, – сразу разворачивайся и у-е домой, понял?
– А что так? – подначил Павел. – Боишься, останусь?
Пацан стиснул пальцы не оплетке руля, на скулах заиграли желваки.
– Дядя, не шути так. Думаешь, ты первый, да? Думаешь, все просто? А вот сам посмотришь, как эти «рыбари» сетями оплетут, не выкарабкаешься, – и добавил зло: – Ненавижу их! А особенно этого муд…
Машина снова подпрыгнула, проглотив окончание фразы. Павел шумно задышал носом и уставился на драный рукав Кирюхиной парки, чтобы только не глядеть на дорогу и мельтешащие по бокам деревья.
– И многие остаются? – отдышавшись, наконец поинтересовался Павел.
– Не считал, – буркнул Кирюха. – Мне до них дела нет. Лишь бы подальше от нашего двора держались. Мы их не трогаем, пусть и они нас в покое оставят.
– А они не оставляют?
Кирюха неопределенно мотнул головой.
– Не… Ходят иногда. Вынюхивают. На рынок там. Или просящего осмотреть. Дозволено ли ему к Захару попасть.
– Это что же получается, инвалидов на профпригодность проверяют? – спросил Павел и едва не расхохотался, настолько абсурдной показалась мысль. Кирюха поглядел с неодобрением.
– Сам увидишь, как приедешь. Главное, первым к ним не суйся, а просто жди. Придет к тебе тогда… ну, если не Сам, то кто-нибудь из них точно.
– Сам – это старец? – уточнил Павел.
– Какой там старец! – поморщился Кирюха, явно досадуя на непонятливого пассажира. – Старец – мессия! Безвредный, потому что парализованный, только дома сидит и просящих принимает. А Сам – это Сам. Черный Игумен, то есть. Главный он над всей общиной, понял?
«Святой человек и очень приличный мужчина. Он всей общины староста», – пришли на ум слова Светланы Краюхиной. Павел нащупал во внутреннем кармане блокнот с заметками, вспомнил имя:
– Степан Черных?
Кирюха дернул рулем. «Уазик» вильнул, взметнулся из-под колес гравий, застучал дробно о днище. Туманом заволокло глаза, и Павел схватился за горло, чувствуя, что еще немного, и завтрак точно окажется на его новых шерстяных брюках.
– Осто… рожнее! – прохрипел он.
Машина выровняла ход. Кирюха зло стрельнул на пассажира карими глазами и резко сказал, будто пролаял:
– А ты, дядя, не спрашивай того, о чем сам знаешь!
И до самой деревни больше не проронил ни слова.
Лес поредел, в стороне, за стволами потянулась серая лента реки Полонь. Туман шапкой висел над водой, как пенка на молоке. Дорога пошла под уклон. И вскоре Павел различил сначала церковный шпиль, а потом и двускатные крыши, черными кляксами выступающими из туманной белизны.
– Приехали, дядя! – сказал Кирюха и затормозил у околицы. – Вторую половину гони, как договаривались.
Павел глянул в окно. Дома казались одинаковыми и недружелюбными. Не было на них ни номеров, ни названий улиц.
– А как же мне найти Центральную, пять? – спросил у парня.
Кирюха хмыкнул.
– Я разве в экскурсоводы нанимался? Уговор был – до деревни довезти.
Павел скрипнул зубами. Руки чесались отвесить пацану подзатыльник, как обычно поступал с Андреем отец, когда тот слишком уж кочевряжился, но после поездки еще мутило, да и ссориться с первым встреченным селянином не хотелось.
– Накину еще двадцатку, – пообещал Павел.
Кирюха покосился на деньги и сдался.
– Ладно. Только бабло вперед!
И с готовностью цапнул протянутые банкноты.
– Так где ты, дядя, остановиться решил?
– Улица Центральная, дом пять, – заученно повторил Павел.
Кирюха хохотнул по своему обыкновению:
– Хых! Это у вас, городских, номера да улицы. Без карты, поди, никого не сыщешь. А у нас все просто. Ты картам не верь, это при последней переписи дома нумеровали и названия раздавали. А было это, когда меня в планах у мамаши с папашей не было. Мы здесь все соседи, друг друга в лицо знаем. Ты имя скажи.
– У Матрены Синицыной.
– А, у бабки Матрены, – протянул Кирюха и снова завел мотор. – У нее все на постой остаются.
– А сейчас живет кто-нибудь?
– Не. Последние постояльцы неделю назад съехали. А дом у нее на краю деревни. До Захара рукой подать.
Кирюха вырулил на дорогу, но здесь уже трясло не так сильно, и Павел смог разглядеть деревню получше, а заодно сделать несколько кадров на выданную ему «мыльницу». Дома, одинаковые на первый взгляд, при ближайшем рассмотрении оказались совершенно разными: вот покосившийся, с облупившейся штукатуркой и просевшей крышей, вот совсем новенький, беленый, а на голубых ставнях нарисованы задорные петушки. В одном из дворов Павел заметил молотилку, а рядом с ней бесновался привязанный цепью пес размером едва ли не с теленка.
– Это дом Грошева, – бубнил Кирюха, степенно проезжая мимо. – Агронома. А тут администрация и почта. Только почта закрыта. Теперь главный филиал в Гласове, а до него десять километров. Там, – махнул рукой, – школа была, а теперь закрыли. Магазин сделали. Продукты раз в неделю привозят. Так что если тебе, дядя, нужно чего, ты заранее у бабки Матрены закажи, она Лешихе передаст, а Лешиха Тимохе закажет. Он у нас главный снабженец, сам из Гласова, а к Лешихе ездит за самогоном, а может еще за чем-нибудь, – Кирюха хохотнул и подмигнул Павлу, чтобы у того не осталось сомнений, зачем Тимоха приезжает к Лешихе. – А ты, дядя, никак турист? Зачем снимаешь?
– На память, – ответил Павел, щелкнул в последний раз старенькой «мыльницей» и спрятал в карман. Кирюха хмыкнул и добавил:
– В общем, ты дальше околицы нос не суй, дядя. Бабку Матрену слушай, и жди, когда тебя к Захарке позовут. Если позовут.
– А могут и не позвать?
Кирюха кивнул и затормозил у выкрашенного в зеленый заборчика.
– Могут. Это уж с какой просьбой приехал. Если пустячная, то Захар на тебя время тратить не будет. Ну вот, Матренин дом.
Павел поблагодарил и выбрался из кабины, чувствуя себя моряком, ступившим, наконец, на твердую землю.
– Как Матрену по отчеству? – напоследок окликнул парня.
– А зачем тебе отчество? – отозвался тот из кабины. – Баб Матрена да и все! Вся деревня ее так зовет, и ты, дядя, не выеживайся! Бывай!
Кирюха отсалютовал и включил заднюю передачу. Павел посторонился, шагнул к калитке, и принялся искать звонок, но звонка не было, зато из будки выскочил кудлатый пес и залился лаем на всю улицу.
– Умница, – похвалил Павел. – Зови хозяйку.
И нарочно затряс калитку, отчего кудлатый принялся еще больше рваться с цепи. А потом до Павла донесся визг тормозов, чей-то пронзительный крик, и на дорогу из-под колес «Уазика» выкатился серый клубок. Взметнулись тонкие руки, плетью хлестнула коса, и оказалось, что не клубок это, а девчонка, одетая в одну только грязную сорочку до пят. Девчонка закричала, пронзительно и тонко, и покатилась по гравию, сотрясаясь всем телом и заламывая руки.
Сумка соскользнула с плеча и упала возле калитки. Не обращая на нее внимания, Павел бросился к девочке.
– Ты в порядке? Больно?
Из кабины выпрыгнул Кирюха с глазами круглыми, как плошки. Он матерился и повторял на все лады:
– Мать твою… Да как же это…
– Скорую вызывай, – отрывисто бросил ему Павел и опустился на колени. На вид девчонке было не больше десяти-двенадцати. Она дышала хрипло, ловила потрескавшимися губами сырой воздух, волосы липли ко лбу. Павел подумал, что, наверное, он сам так же валялся на дороге, когда десять лет назад выполз из покореженного автомобиля. Ноздри защекотал запах гари, вернулась дурнота. Девчонка тем временем закатила глаза и застонала протяжно и долго, будто на одной ноте:
– О-оо…
Звук срезонировал где-то глубоко под ребрами: «Черво-о…» и Павел отдернул протянутую руку.
– Да я только… Да я ведь по зеркалам смотрел! – услышал он плаксивый голос. И другой, старческий и ворчливый:
– Балбес! Как есть балбес! Что теперь Самому-то скажешь? А ежели переломана она?
Рядом на колени бухнулся Кирюха, протянул к девчонке руки.
– Акулинка! Да я ведь не хотел…
– Не трогай! – поспешно сказал Павел. – Если перелом, можно навредить еще сильнее. Нужно звонить в скорую. Есть у вас вообще телефон?
Никто не ответил. Девочка вздрогнула и обмякла. Глаза завращались, уставились на Кирюху, и Павлу показалось, что он уже видел этот стеклянный и злобный взгляд – несколько дней назад, когда смотрел репортаж об исцелении бесноватой. Вот сейчас она округлит черный рот, вот вынырнет тонкий и красный язык, похожий на дождевого червя. Девчонка и правда приоткрыла рот, и уголки губ изогнулись, словно в усмешке.
– Кирюшка, – скрипуче произнесла она. – Кирюшка-хрюшка, по бучилу ходил, лягушек давил – хрусть-хрусть! Лягушачью кожу в костер, а себе приговор.
Она тихо рассмеялась. Кирюха побелел и откачнулся. Павел тоже замер, потому что взгляд девочки медленно переместился и уставился на него.
– Вижу огонь, – проскрипела она. – Вижу гниль. Правая половина живет, левая гниет. Правая половина горит, а в левой черт сидит!
Она запрокинула голову и захохотала, заскребла скрюченными пальцами по земле.
– Акулина, прекрати! – раздался старушечий голос. Павел растерянно оглянулся и увидел стоящую рядом раскрасневшуюся потную бабку в сбитом набок платке. Губы старухи дрожали.
– А, Матрена! – проскрипела девочка, приподнимаясь и опираясь на локти. Рубаха провисла на еще не сформировавшейся груди, подол задрался до бедер, обнажив исцарапанные колени. А крови не было, и Павел с облегчением выдохнул – значит, не сильно пострадала.
– Любишь гроши, Матреша? – продолжила девчонка. – Знаю, где ты кубышку хоронишь. Да как бы тебе самой не пришлось подле той кубышки лечь.
– Умолкни, бесовка! – старуха стукнула клюкой о землю. Брызнул гравий, оцарапал голую ногу девчонки, но она даже бровью не повела. Зато у Кирюхи глаза стали испуганными и мертвыми, губы приоткрылись, словно он хотел что-то сказать, но не смог выдавить ни слова, а так и застыл, глядя куда-то за спину корреспондента.
Павел оглянулся.
Сначала показалось, что выступившая из тумана долговязая фигура бежит к ним со всех ног. Но, присмотревшись, Павел понял – мужчина не бежал, а шел такими огромными шагами, что обычному человеку вряд ли удалось бы поспеть за ним. При этом он широко размахивал руками, и от каждого взмаха туман разлетался невесомой пеной, взметался за плечами, как дымные крылья.
– Помяни черта… – проворчала бабка Матрена и быстро перекрестилась.
– Акуль-ка-а! – взрезал тишину раскатистый бас.
Кирюха подскочил на ноги, беспомощно заозирался. Павел тоже поднялся, и лишь теперь понял, насколько высок приблизившийся незнакомец – роста в нем было не менее двух метров. Распахнутая спецовка болталась на широких плечах, будто тряпье на вороньем пугале. Он и сам походил на пугало – курчавый, жгуче черный, заросший неопрятной бородой. Мужик с размаху хлопнулся на колени, и девочка узнала его, протянула руки:
– Ба… тя…
Лицо ее покривилось, из глаз брызнули слезы – куда девалась прежняя нечеловеческая злоба? Обычный, насмерть перепуганный ребенок.
– Цела ли, Степушка? – елейно протянула бабка Матрена.
Мужик поднял голову. Из-под крупных надбровных дуг ненавистью сверкнули цыганские глаза.
– Кто Акульку обидел? – глухо выдохнул он.
Кирюха отступил, забормотал сбивчиво:
– Я… не нарочно! Не видел! Она сама…
– Я думала, конфеты приехали! – девочка разревелась.
– Кирюха-а! – с оттяжкой произнес мужик и, подхватив дочь на руки, выпрямился во весь рост. – Вот я… – он поднял громадный кулак, и парень совершенно съежился, посерел, пролепетал жалкое:
– Я нечаянно! – и оглянулся на Павла, словно ища у того поддержки.
Павел вдохнул и сказал как можно спокойнее и мягче:
– Мы и вправду не видели девочку. Может, она у забора играла? Вот тут, в смородине. Надо бы кусты подрезать.
– Ой, не говори, мил человек! – подхватила бабка. – Я бы с радостью, да силы уже не те! Мне бы помощника.
– Помогу, если нужно, – пообещал Павел. – А девочку надо в больницу. Вдруг у нее перелом? Или сотрясение?
– Не надо… никуда, – мужик прижал девчонку к груди, погладил по спутанным волосам, и та уткнулась ему в плечо, прохныкала:
– Б-больно…
– Идем домой, птенчик.
Мужик поцеловал дочь в макушку, и шагнул было на дорогу, но на полпути остановился, оглянулся, и Павел поежился – настолько неприятно и зло сверкнули черные глаза.
– А ты, Кирилл Рудаков, запомни! – прокатился тяжелый бас. – Будешь по-прежнему скакать да под ногами путаться, не ровен час, споткнешься. Вот тогда каждой своей косточкой за мою Акулину поплатишься.
Развернулся окончательно и пошагал прочь. И только когда в тумане растаяла долговязая фигура, Кирюха прижался спиной к забору и разрыдался.
7. Погостово
– Он меня проклял, проклял!
Бабка обняла мальчишку за плечи.
– Ну будет тебе, сыночек! Мало ли, что в сердцах сказано!
Кирюха оттолкнул ее руки, упрямо вздернул подбородок:
– А то я не знаю, что у Степки глаз черный! Слыхала, что Акулька накаркала?
– А ты Акулину не слушай, – бабка погладила парнишку по плечу. – Соврет – недорого возьмет.
– Как же! – шмыгнул носом Кирюха и утерся рукавом. – Она и про тебя сказала, и вот про дяденьку…
Мотнул головой в сторону Павла, и тот натянуто улыбнулся.
– Если бы я гнил, разве стоял бы тут? – Павел постарался говорить как можно спокойнее, но память подсунула картинку: обугленное лицо брата, рисунок рыбы на стене… Павел привычно поправил за ухом Пулю, стряхивая оцепенение.
– Ты бы и не стоял, если б помощь Захара не требовалась, – проворчал Кирюха, и, проглотив последние слезы, успокоился окончательно. – Поеду я, баб Матрен. Мне еще машину Михасю возвращать.
Он взлохматил чуб, ссутулился и побрел к «Уазику». Бабка Матрена дождалась, пока мальчик запрыгнет в кабину, прижала к груди кулак и вздохнула:
– Ох, лишенько… Как бы и правда чего не вышло.
Павел скептически поднял бровь, бабка пожевала губами и спросила:
– Ну а ты, милок, чьих будешь? Никак, на постой ко мне?
– Да, мне вас рекомендовали, – Павел заметил, как из кабины Кирюха махнул ему рукой, улыбнулся и помахал в ответ – в запыленном стекле лицо мальчика казалось пепельно-серым.
– Так идем, – бабка отворила калитку. Пес во дворе завертелся юлой, замахал хвостом, приветствуя хозяйку. Павел подождал, пока «Уазик» медленно протарахтит мимо, поднял с земли сумку и последовал за бабкой.
В сенях оказалось прохладно, пахло ношеной обувью – у входа стояла пара галош. На лавке валялся старый тулуп, с потолка свисали связки чеснока.
– Надеюсь, с девочкой все в порядке, – произнес Павел, чтобы сказать хоть что-то.
Хозяйка открыла вторую дверь, пропуская постояльца.
– Акулина-то? Что ей будет! К Захарию понесли, не куда-нибудь.
– Неужели старец на самом деле чудотворец? – поинтересовался Павел и шагнул в дом. Здесь было гораздо теплее, из кухни доносились приятные запахи хлеба, настоянного на травах чая.
Бабка загремела засовами, откликнулась:
– А ты, милок, верь! Чем вера крепче, тем хвори слабее! Только верь с умом, а то некоторые ум-то теряют.
– Вот и мне показалось, что девчонка немного, – Павел покрутил пальцами у виска, – не в себе. Почему ее старец не вылечит?
– Тело исцелить просто, душу сложнее, – бабка вздохнула, скинула платок – волосы у нее оказались на удивление темные, едва тронутые сединой. – Одно дело, когда кость сломана или глаза не видящие. Совсем другое – когда душа гниет.
Тут она покосилась на Павла, перекрестилась и продолжила торопливо:
– Ты на Акулину зла не держи. Бесноватая она. Кликуша, – и, поманив Павла, Матрена пошла вглубь дома. – Ты проходи, милок! Вот тут твоя комната, коли по нраву.
– Говорят, кликуши будущее видят, – заметил Павел, повесил куртку на рожки вешалки и, переложив блокнот из кармана куртки в задний карман брюк, прошел в комнату.
Спальня – небольшая и чистая. Кровать, видимо, перестилалась недавно, хозяйка убрала ее накрахмаленными наволочками и подзорами. На столике – подсиненная скатерть, обвязанная по краям цветочным узором. Покосившийся шкафчик и стул – вот и вся мебель.
– Очень уютно, – сказал Павел и только теперь понял, насколько устал. Ночь, проведенная в поезде, прошла почти без сна, и аккуратная пирамидка подушек – мал мала меньше – влекла свежестью и покоем. Хотелось уткнуться в прохладную наволочку и спать, спать…
– Вот и отдыхай, – бабка Матрена будто прочла его мысли. – А я обед сготовлю и баню истоплю. Умыться можно из рукомойника. Водопровода у нас нет, воду из колодца носим. За баньку, правда, доплатить надобно.
Павел покорно отдал задаток и, оставшись один, сделал пару кадров. После чего, скинув одежду, нырнул под одеяло и заснул почти сразу. Сны ему не снились, но незадолго до пробуждения почудилось, будто кто-то тронул за плечо мягкой лапкой, ткнулся влажными губами в щеку.
– А-ню-та, – сонно выдохнул Павел и повернулся на другой бок, но его руки встретили только пустоту. Павел зевнул и приоткрыл глаза: мимо прошмыгнуло что-то маленькое, темное. Колыхнулась занавеска, и худая черная кошка на миг замерла на подоконнике, уставив на человека внимательные зеленые глаза. Кошка была точной копией той, что мурчала на лавке у знахарки Ефимии. Или той, которая спала на старой инвалидной коляске Леши Краюхина. Впрочем, мало ли на свете худых черных кошек? У этой к тому же оказалось белое пятнышко на лапе, и Павел попытался вспомнить, были ли белые пятна у тех, оставшихся в Тарусе?
Между тем гостье надоело играть в гляделки, она махнула хвостом, словно прощаясь, и ловко нырнула в открытую форточку.
«Разве я открывал ее?» – подумал Павел и проснулся окончательно.
В комнате посвежело. За окном тянулся унылый серый день. Часы показывали половину третьего.
Ежась, Павел прошлепал босыми ногами к окну и закрыл форточку. Круговыми движениями потер лицо. Приснилась ему кошка или нет? А была ли сном Акулина, катающаяся в пыли и выкрикивающая пророчества нечеловеческим скрипучим голосом? В голове клубился туман, и отдохнувшим Павел себя не чувствовал.
Чтобы развеяться, он принялся разбирать вещи. Их было немного: сменные брюки, пара свитеров, белье, бритвенный набор и носки. Подумав, достал и открыл блокнот. Присев на край кровати, Павел отлистал последнюю страницу, расчерченную на две колонки. В шапке одной значилось «За», в другой – «Против».
В графе «За» написал: «Мальчик ходит». В графе «Против» – «Результат лечения».
Перед отбытием в Доброгостово Павел проконсультировался с неврологом. Наверняка мальчику назначались процедуры вроде массажа, лечебной гимнастики для профилактики атрофии мышц, назначали медикаментозное лечение, электрорефлексотерапию. Лечение, конечно, дорогостоящее, немудрено, что Светлана Краюхина, в конце концов, обратилась к народному целителю. Говоря проще – к шарлатану.
В том, что мессия Захарий шарлатан, Павел был уверен если не на сто процентов, то на девяносто девять точно. Один процент содержал зерно сомнения, ведь мальчик все-таки ходил.
Павел захлопнул блокнот.
Чудо произойти не могло просто потому, что его не существовало в природе. Верующая мама не отвела несчастье, подвесив в машине иконку. Когда бабушка взяла Павла под опеку, вместо того, чтобы отвезти внука на операцию, она пять лет таскала его по целителям, которые отмаливали, отчитывали, поили святой водой, кормили заговоренными яйцами, заказывали молебны. А он верил, верил и ждал… и ничего не происходило.
Слух не возвращался, как не возвращались из могил мертвые.
Павел верить перестал. Все чудеса и исцеления оказывались совпадением или эффектом плацебо, и он больше не ошибался, а лишь убеждался в своей правоте. Но где-то глубоко нет-нет, да и поднимала голову надежда, робко нашептывая: а может, все-таки…?
Решив, что, если не попробуешь – не узнаешь, Павел спрятал блокнот, оделся, закрепил за ухом Пулю и вышел из комнаты. В нос тут же ударили аппетитные запахи – жареной картошки и свежих котлет. Из кухни выглянула бабка Матрена, облаченная в фартук, проворчала:
– Проснулся? А я уж хотела тебя будить. Иди скорее, обед стынет! Руки вон там вымой.
– За обед я тоже должен? – шутливо спросил Павел и сунул ладони под носик рукомойника.
– А ты, милок, хочешь святым духом питаться? – все так же ворчливо отозвалась хозяйка. – С голоду, гляди, опухнешь! А ресторанов тут нету. Что я тебе сготовлю, то и покушай, не побрезгуй.
– Как же брезговать, когда так вкусно пахнет! – Павел тщательно обтер руки и сел за стол, привычно выровняв на столе тарелку и вилку.
Бабка Матрена поджала губы, но скрыть улыбку не смогла. В конце концов, заулыбалась открыто и подала гостю тарелку наваристого борща, на который Павел накинулся волком, изрядно соскучившись по домашней пище. Матрена наблюдала за ним, продолжая улыбаться, и когда Павел выскреб остатки со дна, подала второе, заметив как бы невзначай:
– Видать, жены-то у тебя нет? Вон какой голодный да худющий!
– Кто же за меня пойдет? – завел привычную пластинку Павел и указал на слуховой аппарат. – Инвалид я.
– А по виду не скажешь, – покачала головой бабка. – А что за машинка-то? Глухой что ли?
– Оглох, – подтвердил Павел. – Несчастный случай.
И вспомнил, как поначалу стыдился признаваться в своей глухоте. Ловил насмешливые или того хуже – жалостливые, – взгляды. Но годы шли, и он сросся с Пулей, словно она всегда была его частью, но можно ли было смириться с потерей близких?
– Теперь понятно, что тебя к старцу привело, – сказала бабка Матрена. – Только ты с этой машинкой к нему не ходи. Все равно снять потребует. Не любит он ничего мирского. А так, может, и вылечит.
– А долго мне ждать, пока позовут? – спросил Павел, прожевав последний кусок и потянувшись за чаем. – Кирилл сказал, чтобы я сам никуда не совался. Что сами придут и оценят, достоин ли я встречи.
– Так уже приходили, – отозвалась бабка и принялась шустро убирать со стола. – Степан тебя приметил, а он чужака сразу распознает. Да и то – мы все тут, как на ладони. Все друг друга в лицо знаем.
– А как он поймет, с какой бедой я приехал? – усомнился Павел и вспомнил тяжелый цыганский взгляд, от которого становилось неуютно и жарко, словно к раскаленным углям прикасаешься.
– Узнает, в этом не сомневайся, – убежденно ответила бабка. – Ну, поел? Отдыхай теперь с Богом.
– Спасибо, баб Матрен, – ответил Павел, поднимаясь из-за стола. – Я прогуляюсь, пожалуй. С деревней познакомлюсь. Дождя вроде нет?
– Иди, иди, – махнула бабка. – Только к лесу не ходи: в лесу темнеет рано. И от Червона кута подальше держись! – Павел вопросительно приподнял брови, и бабка пояснила: – Это община Краснопоясников. Не любят они, когда чужаки подле них рыскают и что-то вынюхивают.
– Не буду, – пообещал Павел, хотя именно это и собирался сделать, а на пороге помедлил и спросил:
– Баб Матрен, а правда, что старец парализованный?
Хозяйка прекратила сметать со стола крошки, покосилась хмуро.
– Рука у него высохшая, – буркнула она. – Ноги ходят, только держат плохо. А почему ты, милок, спрашиваешь?
– Так если старец такой чудотворец, то почему себя не исцелит?
Матрена вздохнула, протянула:
– Эх! Не ты первый спрашиваешь, ну да секрет невелик. Епитимья это, милок. Наказание за прегрешения наши. Одной рукой Господь дает, другой отнимает.
Она перекрестилась и вернулась к уборке, давая понять, что разговор окончен. Павел настаивать не стал, обулся, набросил куртку и вышел на улицу. Пес снова выскочил из будки и принялся отрабатывать хозяйский кусок, усердно облаивая Павла и роя задними лапами землю. Дождя действительно не было, хотя облака текли лениво и низко. Туман истончился, и улица просматривалась от края до края. Справа над избами возвышался шпиль Троицкой церкви. Слева дорога шла под уклон, ныряла в неглубокий овраг, выныривала снова и уходила к прилепленным друг к дружке срубам.
Червонный кут.
Красный угол, значит. Когда-то так называли почетное место в избе, где стоял иконостас и куда сажали особенно дорогих гостей. Павел сделал мысленную пометку: записать вечером в блокнот. Обычно его коллеги брали в командировку диктофон, но Павел не хотел остаться без информации на случай, если вдруг в Пуле сядут батарейки. А вот визуальную память имел цепкую, да и камера не подводила.
Узнал и покосившуюся избу, стоявшую чуть в стороне, едва ли не на склоне оврага – дом старца Захария. Он так и спросил у пробегающей мимо девчушки:
– Подскажи, это дом старца?
Девчонка замерла, поджав одну ногу, как цапля, глянула испуганными глазищами, но ответить не успела. Из соседнего дома выскочила растрепанная женщина, закричала:
– Верка! А ну быстро сюда!
Девчонка опустила поджатую ногу и, прошмыгнув мимо Павла, нырнула в приоткрытую калитку. Женщина замахнулась на нее, девчонка вжала голову в плечи и скрылась в сенях.
– Я только хотел спросить, – крикнул Павел, – не это ли…
Женщина зыркнула недобро и захлопнула за собой дверь.
– …дом старца, – закончил Павел и усмехнулся. В деревне явно недолюбливали чужаков.
Он спустился к оврагу, нарочито небрежно обойдя избу Захария, но успел сделать снимок, быстро окинув взглядом пустой и чистый двор с аккуратно прореженными грядками, сохнущие на бельевой веревке штаны, поленницу дров у вросшего в землю сарайчика. Старец явно не бедствовал.
Долго задерживаться на склоне Павел не стал, чтобы не вызывать лишних подозрений, а перешел мелкий ручеек по самодельным мосткам и очутился по другую сторону оврага – отсюда, с косогора, хорошо просматривалась старая часть деревни. Троицкая церковь стояла на самой возвышенности, от нее редкими извилистыми лучами расходились дороги. Самый длинный тянулся к лесу и исчезал за густым частоколом сосен и лиственниц, другой же конец «луча» проходил прямо под ногами Павла и упирался в Червонный кут. Избы тут и, правда, отличались от деревенских – построенные добротно, но совершенно одинаково. Они стояли на невысоких деревянных сваях, будто сказочные дома на птичьих ногах. По дворам неспешно прогуливались куры, где-то в хлевах возились свиньи, но ни один человек не встретился на пути. Прорубленные под самой крышей окна были темны, и хотя Павел не мог сказать достоверно, наблюдает ли кто-то за ним, всей кожей он ощущал настороженные и недружелюбные взгляды. Это чувство преследования не прошло, даже когда Павел миновал Червонный кут и приблизился к лесу – березы и осины соседствовали с елями и лиственницами, меж ними пролегала узкая тропинка, скользкая от влаги, увитая выступающими корнями. И кто-то прошел по ней совсем недавно: на грунте отпечатались свежие следы.
Павел шагнул в сырой полумрак. На щеку упала невесомая нить паутины, словно предупреждая: «…черво… не ходи…» Он брезгливо вытерся ладонью, но упрямо двинулся вперед, отодвигая нависшие над тропинкой ветки и ежась от пробирающего ветра.
Первый крест стоял прямо возле тропинки – это был голбец с прибитыми сверху дощечками в виде крыши. Прогнивший, обломанный, будто пустивший корни во влажную землю. Ни имени, ни дат уже не разглядеть.
Павел тронул крест – древесина набухла, крошилась от малейшего касания, из борозд деформированной резьбы выскочил и шлепнулся на землю жучок-шашель. Павел отдернул руку и вернулся на тропу – из-под подошв беззвучно покатились осклизлые комья глины.
Еще через несколько шагов на пути попалась поломанная оградка – тропинка огибала ее по дуге, и Павел послушно обошел, нырнул под заваленную сосну, едва не зацепившись воротом куртки за выступавший сучок, и наконец увидел настоящее лицо деревни.
Погостово.
Старообрядческое кладбище.
Здешние могилы давно просели, поросли можжевельником, волчьим лыком и папоротником. Восьмиконечные кресты и голбцы торчали вкривь и вкось, кое-где виднелись деревянные надгробия в виде домиков, сложенные из досок и замшелые настолько, что казались обычными колодами. И впереди, над крестами и могилами, прячась в тени осин, стояла деревянная Всехсвятская церковь, прозванная в народе Окаянной.
Она сама походила на надгробие: черная от смолы, покрытая резьбой, почти не тронутой временем, с чешуйчатой маковкой купола и заколоченными окнами. Церковь вросла в землю, будто старый валун, но не обветшала, не покосилась, а стояла прочно – созданная на века. И вокруг такая тишина – ни треска сучка под ногой, ни щебета птиц. Ветер дул в спину непрестанно и ровно, будто сзади работал гигантский вентилятор, и листва колыхалась на ветру, но не шелестела. Павел покрутил туда-сюда регулятор громкости – ничего не изменилось. Воздух сгустился и отяжелел, и какое-то неясное чувство снова заворочалось под ребрами – как тогда, в темной библиотеке.
Павел огляделся, почти ожидая увидеть нескладного подростка в обугленной толстовке, и вздрогнул, когда действительно заметил чью-то фигуру, склонившуюся возле рассохшегося голбца. Сердце ухнуло в пятки, и первой мыслью было: «Бежать!» Но Павел не побежал, только стиснул в кармане камеру и присмотрелся.
Это был ни призрак, и ни подросток, а девушка. Приникнув к кресту так близко, что почти касалась его лбом, она плакала, а, может, что-то говорила – ее плечи вздрагивали, а до Павла по-прежнему не доносилось ни звука. Он осторожно отступил вбок, прячась за кустом можжевельника, потом еще и еще, пока не увидел ее профиль, правильный и бледный, как полумесяц. Она действительно бормотала что-то под нос, а руки сновали вокруг креста быстро-быстро, будто пряли на невидимой прялке. Тишина обволакивала и густела, ветки лениво покачивались над головой, и тьма постепенно наползала на кладбище. Вот черное щупальце скользнуло между голбцами, вот тронуло длинную, до пят, юбку незнакомки. Девушка испуганно вздрогнула, выпрямилась и обернулась.
И тотчас увидела Павла.
Ветер сдул с ее лба тугие черные кольца волос, распахнул не застегнутую душегрею, под которой оказалась сорочка, подпоясанная длинным алым кушаком. Какое-то время девушка внимательно смотрела на Павла, но в ее взгляде не было страха, а только молчаливая сосредоточенность. Он тоже смотрел на нее, и в голове не возникало ни одной мысли, но наконец решился и окликнул:
– Эй!..
В ту же секунду лопнул мыльный пузырь тишины. Собственный голос показался Павлу невероятно громким, и он втянул воздух сквозь сжатые зубы, тронул регулятор громкости. А девушка подобрала юбку и скользнула в тень.
– Подожди! – крикнул Павел, доставая фотокамеру.
Он перепрыгнул через надгробие, едва не споткнулся о поваленный крест, да куда там! Девчонки и след простыл, только за деревьями протянулась и скрылась красная нить кушака, а вокруг того самого креста, где еще недавно стояла девушка, ровным кругом лежала рассыпанная соль.
8. Слово живое
Акулина впала в забытье. Между приоткрытыми веками влажно поблескивали белки, дыхание вырывалось со свистом. Обмякла на руках. Степан шёл тяжело и размашисто. При каждом шаге раздавался хруст, будто крошились раздавленные кости, но это только гравий летел из-под подошв.
– Мала-анья! – Степан толкнулся плечом в покосившуюся дверь. – Помоги!
Он согнулся в три погибели, перехватил обмякшую Акулину, и она испустила тихий и протяжный стон, отчего в животе заворочался страх, расправляя ледяные иголки.
– Маланья!
Женщина выскочила из темноты, запыхавшаяся и шальная, неуклюже толкнула Степана в плечо. Блюдо в руках Маланьи подпрыгнуло и накренилось. Белая крупа взвилась тяжелым облаком, просыпалась на порог. Степан откачнулся и стукнулся затылком о притолоку. Голову обдало жаром.
– Маланья, чертова девка!
Перед глазами заплясали белые искры. Маланья перехватила блюдо, зачастила, кланяясь:
– Простите, батюшка! Простите… рыбу я солить шла. Уж не чаяла, что вы придете…
Блюдо накренилось еще сильнее и на порог потек соляной ручеек. Степан зашипел и отдернул ногу:
– Да что ж ты делаешь, окаянная?
Маланья отшатнулась, затравленно озираясь.
– Что мешкаешь? – послышался из глубин дома надтреснутый голос Захария. – Веник неси!
Женщина по-сорочьи подпрыгнула и нырнула обратно в полумрак, но вскоре вернулась и принялась сметать рассыпанную соль. На всякий случай Степан отступил еще на шаг. Лоб покрылся испариной, но вытереться он не мог – Акулина оттягивала руки, будто весила вдвое больше, а от ее тела исходил такой жар, что рубаха вымокла насквозь.
– Шевелись! Видишь, дочке нехорошо? – рявкнул Степан и выругался.
– Все, батюшка, я уже и все, – ответила Маланья, тщательно вытерла порог тряпкой, и, отойдя в сторону, поклонилась в пояс: – Пожалуйте, батюшка! Проходите в дом!
Жар еще распирал грудь и голову, но белые мушки перед глазами исчезли. Степан поднырнул под низкую балку, но, выпрямляясь, все равно задел головою связку трав и снова выругался.
– Чего сквернословишь? – ворчливо отозвался из темного угла старик. – Благодари, что впустил!
Закряхтел, приподнимаясь с лавки. Серенький свет, едва пробивающийся сквозь стекло, выхватил недовольное лицо старца.
– Благодарствую… – выдохнул Степан и протянул обмякшее тело дочери. – Акулька!
– Положь сюды, – велел Захарий.
Степан осторожно опустил девочку на оленьи шкуры, а сам отошел, сгорбился, задевая макушкой низкий и закопченный потолок.
– Сученыш Рудаковский ее сбил, – хрипло произнес Степан и стиснул кулаки. – Поплатится за это. Сгорит в пламени. Переломанными ногами не двинется. Выколотым глазом не моргнет. Зашитым ртом не…
Захарий поднял ладонь:
– Будя!
Степан осекся на полуслове. Пот заливал глаза, отчего лицо старца подернулось рябью, будто отражение в воде.
– Ты, Степушка, не забывайся, – донесся дребезжащий голос Захария, – норов при себе держи, и худые речи в моем доме не заводи.
– Как утерпеть, когда дочь единственная…
– Тихо! – Захарий снова махнул рукой, приказывая молчать. Степан послушно замолк, утерся рукавом, глядя исподлобья, как старец поводит ладонью над вздрагивающим телом Акулины, ощупывает ее лицо, ключицу, руки, живот, ноги.
– В порядке твоя дочь, – проговорил Захарий, и ледяные иголочки, покалывающие изнутри, истаяли, как иней. Степан глубоко вздохнул и рухнул на колени.
– Помоги, Захар! – забормотал он, ловя руку старика. – Заклинаю!
Прижался к сухой ладони лбом, потом щекой, потянулся губами. Захарий выдернул руку, махнул куда-то за спину Степана:
– Ступай пока на двор, Маланья! Понадобится помощь – позову!
Стукнула дверь, но Степан не обернулся. Смахнул с густых бровей пот, глянул на старика:
– Прошу…
Захарий не ответил, только ласково погладил Акулину по голове. Перекрестил двуперстием, положил ладонь на лоб. Девочка вздохнула, выгнулась, дрожа всем телом. Под склеенными веками заворочались глазные яблоки.
– Ш-ш… – медленно выдохнул Захарий. И Акулина повторила за ним, протяжно, по-змеиному выдыхая: «С-ссс….»
Руки расслаблено упали на лавку. Девочка задышала спокойнее, ровнее. Затрепетали и поднялись ресницы.
– Вот хорошо, умница, – тихо сказал Захарий. – Цела, дуреха. Да только испужалась.
Он улыбнулся девочке, и Акулина робко улыбнулась в ответ, глядя на старика чистыми блекло-голубыми глазами. Степан сгорбился, коснулся лбом пола. В нос ударили запахи пота и прелых шкур.
– Навеки твой должник! – пробасил он и услышал, как тихо рассмеялся Захарий:
– И так уже, Степушка. Ну да ничего! Придите ко Мне, и Я успокою вас. Ибо Я кроток и смирен сердцем, и бремя Мое легко.
– Слава Тебе! – пробормотал Степан и размашисто перекрестился, поднял тяжелую голову и напоролся на льдистый взгляд Акулины.
– Что же ты, птичка? Пойдем домой.
Девочка качнула головой и опасливо отодвинулась, прижалась к старцу, глядя на отца настороженными круглыми глазами.
– Родных в страхе держишь, Степушка? – Захарий снова рассмеялся, и пальцы Степана помимо воли сжались в кулаки. – Кровное дитятко тебя боится!
– Я Акулину пальцем не трогал и не трону!
– Акулину не трогал, а Ульянка от тебя на всю деревню воет.
– Да убоится жена мужа своего, – огрызнулся Степан, поднимаясь с колен.
– Каждый да любит свою жену, как самого себя, – возразил Захарий. – Ты смотри, грех-то на душу не возьми.
Степан скрипнул зубами, ощущая, как в груди снова закручивается пульсирующим жаром клубок, произнес глухо:
– Грехи на нас обоих давят.
Захарий тотчас перестал улыбаться, ответил примирительно:
– Ну, полно тебе. Не серчай, Степушка. Иди с Богом домой. А дочка пусть у меня побудет, коли ей тут легче, – погладил Акулину по спутанным лохмам. – Легче со мной, касаточка?
– Легче, деда, – пролепетала она и положила голову на стариковские колени. Сердце Степана заныло, наполняясь ревностью, как ядом. Он закусил губу и, не глядя на дочь, буркнул:
– Ты девке голову морочь, да не заигрывайся. Ей не от тебя – от Слова живого легче!
– А пусть от Слова, – согласился Захарий. – Оно по жилам течет, как благословение Господне. Всяка тварь его чует и ему радуется. И птичка лесная, и гад ползучий. И даже ты, Степушка.
– И даже я, – эхом подхватил Степан и, помолчав, добавил: – Только одного не пойму, почему на тебя такая благодать сошла?
– Неисповедимы пути Господни! – закатил глаза Захарий, но в его голосе послышалась фальшь, и окатило омерзением, как волной. Степан уперся в стену ладонями, навис над стариком.
– А вот тут не лукавь! Ты об этих путях меньше моего слышал. А ходил по другим дорогам, все больше по кривым, и не с десницей исцеляющей, а с ножиком…
– Ну что ты, Степа? Что ты? – забормотал Захарий, и глаза его забегали, заюлили. – Я же для тебя и для Акулины твоей стараюсь! Господь-то меня уже наказал…
– До Господа далеко, – хрипло ответил Степан, – до солнца высоко. А я вот он. И слово мое, – он сжал кулак и потряс им перед посеревшим лицом Захария, – вот здесь! Не живое, не благодатное, но тоже сильное! И терять мне, Захар, сам знаешь – нечего!
Рядом тонко, по-девичьи пискнули. Степан опустил взгляд, и в груди защемило нежностью и обидой.
– Нечего, – повторил он и выпрямился. – Кроме Акулины…
Девочка обняла старика и разревелась.
– Злой ты, папка! – сквозь всхлипы забормотала она. – Уходи, уходи!
Степан обтер ладонью испарину, растерянно оглянулся, будто в поисках помощи. Но темные углы только щерились погасшими лучинами и молчали. Возились под полом мыши. Где-то взбрехивала собака. И Акулина плакала тихо, но горько, пряча лицо на груди старика.
– Ладно, – сказал наконец Степан, и Захарий вздохнул с облегчением, откинулся на бревенчатую стену. – Но прежде, чем уйду, еще одно скажу. Чужак в деревне объявился.
– Просящий?
– Кто разберет.
– Теряешь хватку, – качнул головой Захарий и обратился к девочке. – А ты, касаточка, что скажешь?
Акулина подняла заплаканное лицо, заговорила тоненько:
– Странный человек, деда! На вид здоров, а болезнью тянет. Вроде живой, а гнильем несет. Один – а в груди два сердца: одно красное, другое черное, одно огонь, другое уголь. Да и то, где огонь, с одного края уже прогорать начало.
– Умница ты у меня, касаточка, – Захарий наклонился, поцеловал девочку в рыжеватую макушку, после чего, сощурившись, глянул на Степана: – Так приводи, коли просящий. Слово-то без выхода не может, – старик поскреб ногтями по горлу и протянул плаксиво: – Жжется!
Степан мрачно ухмыльнулся:
– А ты Слово мне отдай!
– Спорый какой! – погрозил пальцем Захарий. – А это, Степушка, не мне решать. Только, – ткнул вверх, – Ему! Вот разве что тело мое бренное земной путь окончит, тогда…
– Тогда я сам возьму, – перебил Степан.
– Возьмешь, коли на то Божья воля будет. А пока не помышляй, Степушка. Не думай даже! Забудь! Понял?
– Понял…
– А коли понял, то иди себе с миром.
– Благодарю за исцеление, – Степан отвесил поясной поклон и вышел на улицу.
Ветер налетел, встрепал волосы, огладил бороду сырой ладонью. Степан оглядел двор и заметил хлопочущую под клеенчатым навесом Маланью.
– А ну, девка, подь сюды!
Женщина вздрогнула, обернулась, тут же бросила засолку и подбежала, комкая рушник.
– За Акулиной моей проследи, – велел Степан. – Как совсем поправится – веди домой. Нечего ей у Захара прохлаждаться.
– Сделаю, батюшка игумен! – она поклонилась, а Степан отступил на случай, если и теперь неуклюжая баба что-нибудь просыплет на его любимые сапоги. Он не попрощался, молча вышел за калитку, и гравий снова захрустел под ногами – шух-шух.
Будто по костям идешь.
Степану хотелось, чтобы это были кости Кирюхи Рудакова. А еще, пожалуй, рябого Лукича. И бабки Матрены, привечающей чужаков. Остальные молчали. Или делали вид, что молчали, и кланялись Степану при встрече, а он чуял страх – прозрачный и липкий, тянущийся от избы к избе, сетью раскинутый над деревней от Троицкой церкви до церкви Окаянной. И он, Степан, тянул за каждую из нитей, потому что знал человеческую природу – гнилую и лживую, которую не исцелить никаким Словом, а можно только задавить или умертвить.
Восток серел, по небу текла вечерняя мгла. Лес полнился призрачным шепотком. Степан поднялся по скрипучим порожкам к дому, рывком распахнул дверь:
– Ульянка!
Жена выбежала по первому зову – в темном сарафане, с прибранными под повойник волосами. Ее мышиное лицо, в полумраке похожее на вечно испуганное лицо Маланьи, сморщилось, будто Ульяна хотела чихнуть. Зато глаза – два бледно-голубых фарфоровых блюдца – стали еще больше и тревожнее.
– С возвращением, Степушка, – жена поклонилась, а он выставил вперед правую ногу и спросил:
– Готов обед?
– Готов, Степушка, – покладисто ответила Ульяна, стаскивая с мужа сначала правый сапог, потом левый, приняла от него спецовку. Степан сполоснул руки и прошел за стол, накрытый скатертью с красным круговым узором по краям. Ульяна поставила перед ним тушеную капусту и расстегаи. Степан склонил голову на скрещенные пальцы, делая вид, что молится, хотя голова полнилась жаром и звоном, слова на ум не шли, и он только беззвучно и фальшиво шевелил губами, искоса поглядывая в окно, откуда открывался вид на реку – широкую ленту, столь же безжизненную и серую, как ее близнец-небо.
Ульяна ждала.
Степан неспешно съел капусту, почти не чувствуя вкуса, потянулся за расстегаем. Она все стояла, потупив взгляд и переминаясь с ноги на ногу, будто хотела что-то спросить, но не смела. Степан делал вид, что не замечает жены. Дожевал один расстегай, взял второй.
– Киселя бы…
Ульяна поджала губы, не говоря ни слова, вернулась к столешнице, налила в стакан киселя, обтерла края и поднесла мужу. Кисель охладил разгоряченное нутро, и Степан выпил с удовольствием, причмокивая и утирая рушником бороду. Ульяна ждала.
– Ну? – он поднял на жену тяжелый взгляд.
Она вздохнула и спросила тихо:
– Где же Акулина, Степушка?
Он крякнул, неспешно скомкал и отложил рушник. Поднялся, огладив ладонями бока и одернув рубаху. Перекрестился двуперстием, а потом с размаху отвесил жене оплеуху.
Ульяна охнула, схватилась за щеку. Фарфоровые глаза увлажнились, задрожала нижняя губа.
– А ты сначала скажи мне, как дочь одну во двор выпустила? – ровным голосом спросил Степан.
– Не… доглядела, – Ульяна всхлипнула, но не заплакала, только лицо перекосило еще сильнее.
– Не доглядела-а! – передразнил Степан и снова замахнулся. Жена зажмурилась, отступила, уперлась спиной в беленый бок печи, но удара не последовало.
Степан так и замер с поднятой рукой, когда с улицы донеслись крики:
– Е… ей! У-у…
Кто-то завыл, как почуявший беду пес. И внутри у Степана тоже заныло, заскулило черное предчувствие. Забыв о жене, он кинулся в сени, натянул сапоги и выскочил на улицу как раз в тот момент, когда мимо избы пробегал Ануфрий.
– Что? – выпалил Степан.
Мужик приостановился, безумно завращал глазами, заозирался и выдохнул куда-то в вечерний полумрак:
– Евсейка утоп!
Воздух треснул, наполнился голосами. Вдали возник и принялся набирать силу протяжный и горестный бабий вой.
9. Второе доказательство
Павел понял, что заблудился, когда в третий раз наткнулся на сгнивший крест. И вроде тропинка одна, и перелесок негустой – вот-вот выйдешь к Червонному куту, – только самих домов не видно, лишь оседают на ветках клочья дыма из печных труб. Павел перешагнул корягу, поднырнул под сваленную сосну и снова оказался возле креста. Из-за осин подмигнула слепым глазом Окаянная церковь: не уйдешь, мол.
– Да что б тебя! – выругался Павел и, вытерев вспотевший лоб, добавил крепкое словечко.
Вечер замешивал акварельные сумерки. Сырость гладила по спине лягушачьей лапкой, и ноги начали ощутимо подмерзать.
Павел вернулся на кладбище и обошел обсыпанный солью крест-голбец, вспоминая, в каком направлении исчезла девушка. Повернулся к церкви так, что она оказалась за спиной, отсчитал шагов двадцать, двигаясь перпендикулярно тропе. Потом развернулся параллельно кладбищу и отсчитал еще пятьдесят, тщательно обходя муравьиные кучи, неглубокие овраги и поваленные ветки. Когда по его подсчетам кладбище осталось позади и справа, Павел повернулся к нему лицом и попытался вернуться на тропу, полагая, что небольшой крюк поможет ему выйти из «заколдованного круга». Но внутренний компас все-таки дал сбой, потому что ни через двадцать, ни через пятьдесят шагов никакой тропинки не оказалось, зато за деревьями плеснуло водной гладью, стволы поредели, расступились, и Павел вышел на косогор.
Река Полонь катила воды молчаливо и сонно. На другом берегу тянулись поросшие лесом холмы, в наступивших сумерках почти сливающиеся с небом. А ниже по косогору к причалу бежали люди: ветер доносил отрывистые крики и горестный плач.
Павел принялся спускаться к реке. Теперь он хорошо различал белые рубахи под распахнутыми телогрейками, красные пояса, развевающиеся, как узкие языки. В стороне двое мужиков поспешно отвязывали лодку, а у кромки воды билась в истерическом припадке простоволосая женщина.
– Уто… ул! Ев… мой! – звенело в слуховом аппарате.
И серая лента реки на миг превратилась в автомагистраль, лодка – в пробитый автомобиль, а люди в белых одеждах – конечно же, в фельдшеров скорой. И вой звенел, эхом отдавался в голове, вплетаясь в статические помехи и рев электрогитар.
Павел ускорил шаг, потом побежал. Подошвы скользили по глине и прошлогодней траве. Один из мужиков в лодке повернулся в его сторону, приставив козырьком ладонь над рябым лицом, потом решительно двинулся наперерез.
– Чего тебе?
Иллюзия рассыпалась мозаикой, захрустели под ногами мелкие камешки.
– Вам, наверное, помощь нужна! – выпалил Павел. – Я могу!
Мужик качнул головой, сложил на груди руки.
– Ступай своей дорогой! Разберемся!
Павел глянул через его плечо. Женщину держали подруги, но она вырывалась и снова валилась на берег. Соскользнувший платок подхватил ветер и, протащив по берегу, макнул в воду.
– Кто-то утонул?
Рябой мужик сощурился, процедил сквозь зубы:
– Ее сын.
Второй, оставшийся возле лодки, нетерпеливо махнул товарищу рукой, крикнул:
– Куда удрал? Помогай!
– Не вишь, с чужаком говорю? – огрызнулся рябой и добавил с ненавистью: – Скоро вся деревня сбежится.
– Возьмите меня с собой! – Павел на ходу принялся стаскивать куртку. – Я хорошо плаваю. Я…
Рябой шагнул навстречу – на Павла повеяло запахом пота и кислой капусты, – сощурил бесцветные глаза:
– Ты глухой, парень? Или не понимаешь? Вали отсюда! Пока…
Мужик не закончил, но недвусмысленно потряс кулаком.
Сердце болезненно толкнулось в грудь. Воздух уплотнился, словно между двумя мужчинами возникла преграда из тонкого стекла: тронь ее – разлетится осколками.
– Идут! Идут! – закричал кто-то.
Рябой мужик обернулся на голос. Павел проследил за его взглядом: у причала собралось человек тридцать, и все подходили новые. Безутешная мать обессилела, и ее оттащили от реки, где, будто кувшинка, покачивался на воде белый платок. Мужики стояли с окаменевшими лицами, и никто не пытался помочь – все смотрели, как по косогору спускается долговязый Черный Игумен. Но теперь он нес на руках не обморочную дочь, а старика, закутанного в тулуп.
– Да черт с ним! – тут же донеслось из лодки. – Не наша забота, пусть Сам разбирается!
Рябой мужик широко раздул ноздри и отступил.
– Уходи, – глухо проговорил он, и, сгорбившись, пошагал обратно.
Павел медленно разжал руки – пальцы свело от напряжения, – и, поправив за ухом Пулю, упрямо двинулся к причалу.
Люди отходили с дороги, отвешивая поясные поклоны, и старик медленно, будто нехотя, поднимал левую руку и крестил перед собой воздух, но не произносил ни слова. Молчали и люди. Только заходилась в рыданиях женщина:
– Батюшка, помоги-и…
Черный Игумен прошествовал мимо, загребая сапогами землю. Остекленевший взгляд скользил над головами, но ни на ком не задерживался. Зато старик, будто по наитию, повернул голову – глаза оказались холодными и водянистыми, как у речной рыбы, – и сразу выцепил из толпы чужака: Павлу показалось, словно в лицо ему бросили слипшийся ком водорослей, и мокрая петля обернулась вокруг шеи, затрудняя дыхание.
«Не любят они, когда чужаки подле рыскают…»
Павел осознал, что ему очень нужно остаться здесь, у причала, где от воды несет тиной, и сонно хлопают по воде весла. Остаться во что бы то ни стало, потому что сквозь щелчки и помехи слухового аппарата колотилась в висок мысль: что-то случится. Что-то важное, то, что много лет пряталось от Павла, проскальзывало сквозь пальцы, как юркая плотва, и уходило на глубину.
У причала Черный Игумен остановился и бережно опустил старика на землю. Тот покачнулся, сгорбился, опустив плечи и втянув голову в ворот тулупа, как в панцирь. Сам Игумен Степан встрепенулся, черные глаза недобро блеснули и уставились на Павла.
– Чужак! – глухо пробасил Степан.
Люди разом повернулись. Их взгляды опалили Павлу лицо, и за воротник скользнула горячая капля.
Что-то случится именно сейчас.
Старик выпростал руку – белую, как ветка, с которой ободрали кору, и дотронулся до своего уха:
– Машинку… сними. Коли хочешь остаться.
Голос у Захария тихий, как шорох сброшенной листвы. Так на старообрядческом кладбище шелестел в кустарнике ветер. Павел хмуро оглядел вставших полукругом людей – из-под картузов и платков настороженно поблескивали глаза, и надвигающиеся сумерки накладывали на лица густые тени, превращая их в одинаковые глиняные маски.
– Не бойся, – снова сказал старец. – Слово Мое сильно, но мирского не терпит. А вера вот здесь сидит, – он дотронулся до груди, – в сердце. Оно и узрит, и услышит.
Павел увидел: лодка выгребала к середине реки, и плеск весел становился все тише, а платка уже не видать – унесло течением. Сколько времени прошло с момента, когда утонул мальчик? Сумерки обесцветили пейзаж, придав небу и реке одинаковый свинцовый оттенок. Полоска тайги пролегла между ними. Теперь только водолазов вызывать, да помогут ли водолазы? Мертвые не поднимаются с илистого дна. Но Павел все же послушно щелкнул регулятором и аккуратно вывел из уха дужку звуковода.
Люди сразу потеряли к нему интерес. Даже Игумен отвел взгляд и тяжело ступил на сходни: доски беззвучно прогибались под его весом. Следом, цепляясь за поручни и припадая на одну ногу, заковылял старик.
Павел подумал, что сейчас самое время снова включить слуховой аппарат или сделать пару снимков, но не решился. Сквозь тишину, давящую на виски, проникал пульсирующий шепот: что-то случится…
Старик остановился у края причала и вцепился в поручни. Неподалеку черным пугалом застыл Черный Игумен – его долговязая фигура отчетливо выделялась на фоне серого полотна реки. Степан запрокинул лицо к небу, широко развел руки в стороны, постоял так, покачиваясь с носка на пятку, и быстро сомкнул ладони над головой.
Хлопка Павел не услышал. Зато увидел, как люди взялись за руки и замкнули круг.
Качнувшись, хоровод двинулся вправо. Павел неосознанно повернулся следом и понял: его взяли в кольцо. Между ним и причалом замелькали фигуры в одинаковых белых рубахах. Старец и его помощник все так же неподвижно стояли над водой, но Павлу показалось, что губы Захария шевелятся, произнося – молитву? заклинание?
Павел еще раз огляделся, просчитывая пути к отступлению. Два года назад ему довелось побывать на ритуале сатанистов. Он снимал на портативную камеру из засады, со стороны замороженной стройки, спрятавшись за арматурным каркасом. И убегать пришлось так же, через стройку, прыгая по шлакоблочным плитам и рискуя переломать ноги. В итоге отделался лишь синяками и выговором начальства. Впрочем, выговор получился формальным, больше для острастки: Евген Иваныч остался доволен материалом, и номер расхватывали, как свежую выпечку. Люди падки на чудеса и их разоблачение.
Здесь спрятаться негде: впереди – река, позади – продуваемый ветром косогор, а дальше тайга и кладбище. Может, не такое и заброшенное? Может, хоронили там незадачливых просящих?
«Прекрати панику», – сказал себе Павел. Но на всякий случай прикинул, успеет ли нырнуть под сцепленными руками, если дела окажутся совсем плохи.
Ответ пришел сразу: не успеет.
Круг сузился. Зазмеились на ветру красные пояса. Люди ускорили шаг, странно вскидывая колени и притоптывая. Их лица, обращенные к небу, блестели от пота. За мелькающими спинами Павел различил, как Черный Игумен ударил в ладоши во второй раз.
Почва под ногами качнулась, следом возникло и стало нарастать гудение – Павел не слышал, но ощущал всем телом электрическую вибрацию, идущую из-под земли. Танец сектантов стал быстрее, дерганее. Наращивая темп, хоровод двигался противосолонь – быстрее, еще быстрее. Взмахи мельничных лопастей. Эпицентр бури. Ветер набирал силу, рвал подолы сарафанов и вороты косовороток, швырял в лицо водяные брызги. Голова пульсировала и гудела, отзываясь на подземную вибрацию. Со стороны пахнуло озоном, как бывает перед грозой.
И тогда Черный Игумен хлопнул над головой в третий раз.
Толчок был такой силы, что Павел едва удержался на ногах. Кружащиеся сектанты повалились друг на друга, но рук по-прежнему не расцепили. Земля вздыбилась и просела, комья глины покатились по откосу, а деревянные доски причала заходили ходуном. Павел видел, как старец что есть силы вцепился в поручни: ветер яростно срывал с него тулуп, и длинные полы тяжело вздымались, будто крылья умирающей птицы. Вода в реке пошла рябью, забурлила, а мужики в лодке побросали весла. Один из них – наверное, тот, рябой, который велел Павлу убираться подальше – выпрямился во весь рост и некоторое время балансировал на носу, будто раздумывая. А затем принял решение и шагнул за борт.
Павел рванулся вперед, но выйти за пределы круга ему не далии грубо толкнули в грудь, отчего Павел оступился, поскользнулся на мокрой глине и сел прямо в траву. Люди возобновили движение – на этот раз медленно, по часовой стрелке. За их спинами река вздувалась пузырями, будто в воду опустили гигантский кипятильник. И выпрыгнувший из лодки мужчина почти по колено погружался в кипящий бульон, поэтому шел медленно, сонно, будто на ощупь.
Шел?!
Павел поднялся на дрожащие ноги. Голова плыла, в висках колотился пульс. Павел не слышал ухом, но ощутил, как вокруг него треснул и осыпался невидимыми осколками рациональный мир.
Мертвые не поднимаются со дна реки, живые не ходят по ее поверхности. В подобное верят отчаявшиеся домохозяйки и сумасшедшие фанатики. Только не он, только не Павел Верницкий, ведущий рубрики «Хрустальный шар». Не верил…
…и все же видел собственными глазами.
Мужчина отошел от лодки не более чем на пару метров. Вода по-прежнему бурлила вокруг его лодыжек, выбрасывала фонтанчики гейзеров, но это ничуть не мешало самозваному мессии. Нагнувшись, он погрузил руки в кипящую воду и поднял то, что не нашла бы в сумерках и бригада водолазов.
Тело утонувшего мальчика.
Прижав находку к груди, мужик медленно двинулся обратно к лодке, за ним потянулись темные жгуты водорослей. Кроме Павла, в сторону реки никто не смотрел – люди двигались медленно, по инерции. Слева тяжело вздохнула женщина и расцепила руки. Хоровод распался. В это время краснопоясник с мальчиком забрался в лодку, а второй мужик заработал веслами, разворачиваясь к берегу. Тогда Павел поднырнул под сцепленные руки и рванул по сходням – доски качались под ним, но никто не сделал попытки удержать его, вернуть в круг.
Добежав до неподвижно замершего старика, Павел дернул его за плечо.
– Это… как? – выкрикнул он прямо в лицо Захария, и, не услышав своего голоса, встряхнул старца за ворот. – Что вы… сдела-ли?
Захарий фальшиво улыбался. Морщины разбежались, как трещины на глиняной посуде. Губы шевельнулись, но из-за густой бороды Павел не смог разобрать слова, и тряхнул старика снова.
– Там брод? Тросы? Что?
Мощный рывок отбросил его к перилам, где он ощутимо приложился затылком и сквозь расплывающиеся круги видел, как Черный Игумен шипит что-то с высоты своего роста и потрясает внушительным кулаком.
«Он меня проклял, проклял!» – вспомнились отчаянные всхлипы Кирюхи.
Павел вытер рот дрожащей мокрой ладонью и ошалело глядел, как Степан почтительно подхватил старика под руку и повел по сходням на берег.
Мысли неслись вскачь.
Только что перед Павлом развернули весьма убедительное представление. Допустим, на середине реки мелководье. Допустим, люди точно знали, где остановить лодку, чтобы не сесть на мель. Но как объяснить, что именно здесь оказалось тело мальчика? Вынесло течением? А непонятная дрожь земли? А кипящая, словно на плите, вода? Не говоря о том, что для такого убедительного фокуса пожертвовали жизнью ребенка.
Павел поднялся, пошатываясь, и приладил за ухом Пулю. На автомате щелкнул переключателем, и только потом вспомнил о запрете. Но, видимо, это уже не имело никакого значения: круг разомкнулся, и сошедший с лодки мужик положил мальчика на землю. В наступивших сумерках лицо подростка казалось черным, словно вымаранным сажей – так должно быть выглядел Андрей, когда его вытаскивали из горящей машины. Павлу почудилось, что он слышит хруст обуглившейся кожи, но это только в слуховом аппарате привычно шелестели помехи, да под ботинками поскрипывали сырые доски пристани.
Степан помог старику опуститься на колени, и ряды людей сомкнулись, заслоняя от Павла происходящее, но он все же успел увидеть, как ладонь старика легла подростку на лоб. Павел остановился, переводя дух и ожидая чего угодно: землетрясения, молнии, волн в высоту человеческого роста, и жалел только об отсутствии видеокамеры. Но ничего не случилось. По крайней мере, ничего внушительного: тот самый рябой мужик, который велел Павлу убираться, а потом шел по воде, аки по суху, помог подростку подняться. Тот неуверенно стоял на ногах, покачиваясь и подергиваясь, как больной детским параличом Леша Краюхин. Вода текла с мальчика в три ручья, и он подрагивал худеньким телом, обхватив себя за плечи. В остальном выглядел вполне живым и здоровым, словно всего-то попал под ливень, а не пролежал на дне реки добрый час, если не больше. И коварный вопрос «…как?» жалил висок. Но ответа не находилось.
Павел прижал к груди кулак, успокаивая сердцебиение и стараясь дышать глубоко и ровно. Что бы ни происходило сейчас на его глазах, этому есть разумное объяснение. И Павел обязательно его найдет, как находил много раз до этого. Чудес не бывает, и мертвые не возвращаются – ни утонувшие в реке, ни сгоревшие в отцовской машине. Нужно только поговорить со старцем. Поговорить и хитростью выудить все шарлатанские приемы, в том числе чудесное хождение по воде. А в том, что старец Захарий захочет говорить с Павлом, не было никаких сомнений: иначе его не пригласили бы на это представление, не так ли?
Словно отзываясь на эти мысли, старик повернулся к Павлу и поманил его пальцем.
Сенсация сама шла в руки.
«Сделаешь достойный репортаж, на всю страну прославимся! Золотая жила эти «червонi пояси»!»
Когда Павел приблизился, старик уже поднялся на ноги и опирался на суковатую палку, которую ему подал Степан. Мальчика уводили обрадованные родители, но судя по хмурому лицу отца, дома малец отведает не только материнской ласки, но и отцовского ремня.
– Ты тоже иди домой, иди, Степушка, – донесся до Павла добродушный голос старика.
– Кто ж тебя доведет? – прогудел в ответ Игумен.
– А вот он и доведет, – Захарий кивнул на подошедшего Павла. – Поможешь старику, соколик?
– Помогу, – согласился Павел и отметил, как на заросших скулах Степана так и ходят желваки.
– Добро, – процедил Игумен, повернулся и зашагал к Червоному Куту.
Старик поглядел ему вслед, вздохнул, помассировал впалую грудь.
– Устал я, соколик, – жалобно протянул он. – Не найдешь ему выхода – огнем опалит. А найдешь – как пустыню иссушит.
– Что иссушит? – машинально спросил Павел.
– Слово, – старик пожевал губами, крепче ухватился за палку и поднял слезящиеся глаза. – Пойдем, что ли?
Павел подхватил старика под локоть: Захарий оказался на голову ниже его и был хрупким, как кузнечик. При каждом шаге его суставы похрустывали, и старик кряхтел и охал, обдавая Павла кисловатым запахом старости.
– А все же, – первым нарушил молчание Павел, – как вы провернули этот фокус с хождением по воде? В середине реки какая-то каменная гряда, я прав? Если так, это ведь можно проверить!
– Попробуй, – спокойно ответил Захарий. – Завтра поутру и сходи. Плавать-то умеешь? Течение в нашей Полони быстрое.
– Если со страховкой, то и ребенок справится.
Захарий тяжко вздохнул.
– Эх, соколик! Ты ведь не просто так сюда приехал. Ты ведь за ответами приехал. А коли я даю тебе ответ, почему не принимаешь его? «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?»



