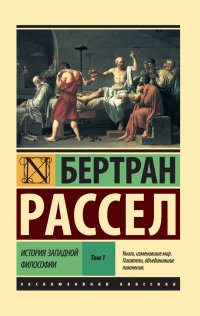Читать онлайн Сатана в предместье. Кошмары знаменитостей (сборник) бесплатно
- Все книги автора: Бертран Рассел
Bertrand Russell
SATAN IN THE SUBURBS AND OTHER STORIES
NIGHTMARES OF EMINENT PERSONS
AND OTHER STORIES
Печатается с разрешения The Bertrand Russell Peace Foundation Ltd.
© The Bertrand Russell Peace Foundation Ltd., 1953, 1954
© Перевод. А. Кабалкин, 2017
© Издание на русском языке AST Publishers, 2017
Сатана в предместье
Предисловие
Пробовать что-то новое в восьмидесятилетнем возрасте не очень-то принято, хотя прецеденты имеются: Хоббс был еще старше, когда гекзаметром на латыни написал автобиографию. Тем не менее будет все-таки нелишне сказать несколько слов в ответ на вероятное недоумение. Вряд ли читатель удивится сильнее меня самого этой попытке сочинять рассказы. По совершенно неведомой причине у меня вдруг возникло такое желание, хотя я никогда раньше об этом не помышлял. Я неспособен на критическое суждение в этой области и не знаю, стоят ли чего-нибудь мои рассказы. Знаю одно: сочинять их было удовольствием, а значит, для кого-то может оказаться удовольствием их читать.
К реализму автор не стремился, и, боюсь, читателя ждет разочарование, если он вздумает искать замки Гибеллинов на Корсике или философов-дьяволопоклонников в Мортлейке. Автор не имел никаких серьезных намерений. Первыми из-под пера вышли «Корсиканские страдания мисс Икс» – попытка совместить настроения «Зулейки Добсон» и «Удольфских тайн»[1], но другие рассказы, насколько я понимаю, меньше связаны с прежними образцами. Буду сильно огорчен, если кто-то сочтет, что мои рассказы содержат нравственный урок или иллюстрируют некую доктрину. Каждый написался сам по себе, просто как история, и если она окажется интересной или забавной, значит, цель достигнута.
«Корсиканские страдания мисс Икс» анонимно публиковались в рождественском номере GO в 1951 г.
Сатана в предместье, или Здесь производят ужасы
I
Я живу в Мортлейке и ежедневно езжу на работу поездом. Однажды вечером, возвращаясь домой, я увидел на воротах виллы, мимо которой постоянно хожу, новую медную табличку. К моему удивлению, вместо обычного уведомления о врачебном приеме табличка сообщала:
ЗДЕСЬ ПРОИЗВОДЯТ УЖАСЫ
Обращаться к доктору Мердоку Маллако
Заинтригованный, я, придя домой, написал письмо с просьбой о более подробной информации, которая позволила бы мне решить, становиться ли клиентом доктора Маллако. Полученный ответ гласил:
Дорогой сэр,
я не удивлен, что вам понадобилось объяснение в связи с моей табличкой. Возможно, вы обратили внимание на недавнюю тенденцию сетовать на скуку и однообразие жизни в пригородах наших великих столиц. Люди, чье мнение имеет вес, высказывают суждение, что немного приключений, даже опасности способны скрасить жизнь жертвам однообразия.
В надежде удовлетворить эту потребность я и занялся совершенно для себя новым делом. Полагаю, что смогу обеспечить моим клиентам встряску и волнение, которые полностью преобразят их жизнь.
Если вам потребуются дальнейшие разъяснения, они будут даны в случае записи на прием. Мой тариф – 10 гиней в час.
Этот ответ навел меня на мысль, что доктор Маллако – филантроп нового замеса, и я долго не мог решить, нужны ли мне дальнейшие разъяснения за 10 гиней или лучше употребить эту сумму на иные удовольствия.
Как-то вечером в понедельник – я еще не нашел ответ на этот вопрос – моему взору предстал сосед мистер Аберкромби, выходивший из дверей доктора. Он был бледен, растерян, взгляд имел блуждающий, походку неуверенную. Потоптавшись у ворот, он вышел на улицу с таким видом, словно заблудился в совершенно незнакомом месте.
– Господи, что с вами? – окликнул я его.
– Ничего особенного, – ответил Аберкромби, неубедительно изображая спокойствие. – Просто поговорили о погоде.
– Не пытайтесь меня обмануть, – сказал я. – Судя по ужасу на вашем лице, речь шла о чем-то худшем, чем даже погода.
– Ужас? Ерунда! – вспылил он. – Все дело в крепости его виски.
Было очевидно, что он хочет избавиться от меня и моей назойливости, поэтому я предоставил ему самому искать дорогу домой и несколько дней ничего о нем не слышал. На следующий день, возвращаясь в тот же час, я увидел другого соседа, мистера Бошама, выходившего оттуда же с той же смесью изумления и ужаса на лице, но когда я к нему подошел, он молча от меня отмахнулся. В очередной раз меня ждало такое же зрелище в лице мистера Картрайта. Вечером в четверг миссис Эллеркер, сорокалетняя замужняя дама, с которой я поддерживал дружеские отношения, выбежала из той же самой двери и прямо на тротуаре лишилась чувств. Я помог ей прийти в себя, но, опомнившись, она сумела с содроганием выдавить одно-единственное слово: «Никогда». Больше я ничего не смог от нее добиться, хотя проводил до самой двери.
В пятницу я ничего не видел, а в субботу и воскресенье не ездил на работу, поэтому не бывал у ворот доктора Маллако. Но воскресным вечером мой сосед Кослинг, зажиточный горожанин, заглянул ко мне поболтать. Я налил ему рюмочку и усадил в самое удобное свое кресло, после чего он по своему обыкновению завел разговор о наших местных знакомых.
– Слыхали о странных событиях на нашей улице? – спросил он. – Аберкромби, Бошам, Картрайт заболели и не вышли на службу, а миссис Эллеркер лежит в темной комнате и все время стонет.
Видимо, Гослинг понятия не имел о докторе Маллако и его странной медной табличке, поэтому я решил ничего ему не говорить и предпринял собственное расследование. Я по очереди наведался к Аберкромби, Бошаму и Картрайту, но ни один из них не пожелал со мной разговаривать. Миссис Эллеркер оставалась невидимой затворницей. Было ясно, что происходит нечто странное и причина этого – доктор Маллако. Я решил побывать у него, но не как клиент, а с целью выяснить, что к чему. Я позвонил в звонок и был препровожден вышколенной горничной в хорошо оснащенный кабинет.
– Чем могу быть вам полезен, сэр? – с улыбкой обратился ко мне, входя, доктор Маллако. Манеры у него были учтивые, но улыбка загадочная, взгляд проницательный и холодный; рот улыбался, глаза – нет. Эти глаза вызвали у меня безотчетную дрожь.
– Доктор Маллако, – начал я, – мне приходится ежедневно, кроме субботы и воскресенья, ходить мимо ваших ворот, и четыре вечера подряд я становился свидетелем странного явления одного и того же весьма тревожащего свойства. Ваше загадочное письмо не рассеяло моего недоумения по поводу надписи на вашей табличке, но то немногое, что я увидел, заставило меня усомниться, что вы преследуете сугубо благотворительные цели, каковое впечатление стремились создать. Возможно, я ошибаюсь, и в этом случае вам не составит труда меня успокоить. Но предупреждаю: я не буду удовлетворен, пока вы не объясните причины странного состояния, в котором господа Аберкромби, Бошам и Картрайт, а также мисс Эллеркер покидали ваш кабинет.
Пока я говорил, доктор Маллако перестал улыбаться, и его взгляд сделался очень суровым и укоризненным.
– Сэр, – сказал он, – вы призываете меня совершить низость. Разве вам неизвестно, что тайны, доверяемые пациентами врачу, надлежит хранить так же нерушимо, как тайну исповеди? И что если я удовлетворю ваше праздное любопытство, то меня справедливо обвинят в гнусном поступке? Вы умудрились так долго прожить и не узнать, что врач обязан уважать секреты доверившихся ему людей? Нет, сэр, вместо ответа на ваши дерзкие вопросы я вынужден потребовать, чтобы вы немедленно удалились из моего дома. Вот дверь!
Снова очутившись на улице, я попытался побороть свое замешательство. Если он действительно был обыкновенным врачом, то его ответ на мои вопросы пришлось бы счесть совершенно корректным. Неужели я ошибся? Неужели он раскрыл всем четырем пациентам некую болезненную правду об их здоровье, о которой они прежде не знали? Это выглядело невероятным. Но как мне было поступить теперь?
Еще неделю, минуя утром и вечером его ворота, я глядел в оба, но ничего больше не заметил. Тем не менее странный эскулап не выходил у меня из головы. Он являлся мне в ночных кошмарах, иногда с копытами и хвостом, со своей медной табличкой на груди, иногда с горящими в темноте глазами и почти невидимыми губами, беззвучно произносящими: «ТЫ ПРИДЕШЬ!» С каждым днем я все медленнее брел мимо его ворот, ощущая все более сильное побуждение войти, только уже не как сыщик, а как клиент. Я сознавал, что это безумное наваждение, но не мог от него отделаться. От этого ужасного притяжения все больше страдала моя работа. Наконец, явившись к своему начальнику, я, не упоминая доктора Маллако, убедил его, что заработался и остро нуждаюсь в передышке. Начальнику, человеку гораздо старше меня, к которому я питал глубокое уважение, хватило одного взгляда, чтобы оценить мое плачевное состояние, проявить сострадание и удовлетворить просьбу.
Я полетел на Корфу, надеясь, что солнце и море даруют мне забвение. Но, увы, там я тоже ни днем, ни ночью не знал покоя. Каждую ночь мне являлись во сне горящие глаза, причем еще крупнее прежних. Не было ночи, когда я не проснулся бы в холодном поту от потустороннего голоса, звавшего: «ПРИДИ!» В конце концов я решил, что отпуск мне не поможет, и в отчаянии вернулся, надеясь, что научные изыскания, которыми я занимался и к которым проявлял страстный интерес, восстановят во мне здравомыслие. Я с головой нырнул в темные научные глубины и заодно освоил другую дорогу со станции домой, чтобы не ходить мимо ворот доктора Маллако.
II
Я уже надеялся, что наваждение рассеивается, но как-то вечером ко мне опять явился Гослинг. Он был жизнерадостный, румяный, кругленький – именно такой человек, решил я, способен развеять мрачные фантазии, лишившие меня душевного покоя. Но первые его слова, последовавшие за глотком предложенного мной прохладительного напитка, снова опрокинули меня в бездну ужаса.
– Слыхали? Мистер Аберкромби арестован!
– Боже всемогущий! – вскричал я. – Аберкромби арестовали? Что он натворил?
– Аберкромби, как вам известно, – начал Гослинг, – всеми уважаемый управляющий крупным филиалом одного из наших ведущих банков. На его профессиональной и частной жизни никогда не было ни единого пятнышка, так же прожил жизнь его отец. Можно было не сомневаться, что по случаю очередного дня рождения он будет удостоен посвящения в рыцарское достоинство, кроме того, набирала силу кампания по выдвижению его кандидатом в палату общин в нашем избирательном округе. Но при всем длинном списке своих заслуг, он, похоже, похитил крупную сумму, да еще предпринял трусливую попытку переложить вину на подчиненного.
До сих пор я считал в Аберкромби своим другом, и это известие сильно меня огорчило. Он находился под следствием, и я, преодолев трудности, убедил тюремное начальство разрешить мне навестить его. Аберкромби исхудал, глаза у него ввалились, он не находил себе места и пребывал в отчаянии. Сначала он уставился на меня, как на незнакомца, и долго не признавал бывшего друга. Я поневоле связывал его плачевное состояние с визитом к доктору Маллако и не расставался с надеждой проникнуть в эту тайну и найти объяснение внезапно открывшегося преступления бедняги.
– Мистер Аберкромби, – заговорил я, – как вы, конечно, помните, в прошлый наш разговор я пытался постигнуть причину вашего странного поведения, но вы отказались что-либо сообщить. Ради бога, не отталкивайте меня снова. Сами видите, что вышло из-за вашего упрямства. Умоляю, скажите правду, пока не поздно!
– Увы, – ответил он, – время для ваших попыток, диктуемых лучшими побуждениями, прошло. Все, что мне осталось, – в унынии ожидать смерти для себя и бедности и позора для моих несчастных жены и детей. Будь проклят тот миг, когда я вошел в его мерзкую дверь! Будь проклят дом, где я внимал дьявольским бредням злодея!
– Этого я и боялся… – пробормотал я и взмолился: – Расскажите мне все!
– Я пришел к доктору Маллако, – начал Аберкромби свою исповедь, – в настроении беззаботного любопытства, гадая, что за ужасы он предложит. Я недоумевал, как можно надеяться заработать на жизнь, смущая людей подобными россказнями. Вряд ли, думал я, найдется много таких, как я, готовых на столь бесполезные траты. Однако доктор Маллако выглядел очень самоуверенным. Он обошелся со мной не так, как это обычно делают большинство жителей Мортлейка, даже самых видных: те стараются втереться ко мне в доверие как к влиятельной персоне, а он, напротив, сразу повел себя высокомерно, даже отчасти презрительно. Я почувствовал, насколько он проницателен, как хорошо читает даже самые потаенные мои мысли.
Сначала все это показалось мне всего лишь глупой забавой, и я старался сохранить здравомыслие, но он загипнотизировал, прямо-таки околдовал меня своей монотонной речью, в которой не угадывалось ни малейшего чувства. Воля меня покинула, на поверхность всплыли самые тайные мысли, которые до сих пор посещали меня разве что в ночных кошмарах: так морские чудища, покидая пещеры на дне, выныривают из бездны, чтобы нагнать ужас на китобоев. Подобно брошенному командой судну в южных морях, я взмывал ввысь на гребнях вздымаемых его воображением волн – беспомощный, утративший надежду, но при этом завороженный!
– Интересно все-таки, – перебил я его, – что именно говорил вам все это время доктор Маллако? Я не смогу вам помочь, если ваши речи останутся такими смутными и метафорическими. Конкретика, подробности – вот что требуется, иначе откуда взяться доброму совету?
После глубокого вдоха он продолжил:
– Сначала мы бесцельно болтали обо всем и ни о чем. Я упомянул своих друзей, разорившихся из-за усложнившихся условий бизнеса. Под влиянием его деланого сочувствия я признался, что тоже имею причины бояться разорения. «Ну что вы, – сказал он, – способ избежать разорения всегда существует, надо только захотеть к нему прибегнуть. Один мой друг попал однажды в положение, схожее с вашим. Он тоже был управляющим банком, тоже пользовался доверием, тоже допустил рискованные вложения и оказался на грани разорения. Только он не из тех, кто сидит смирно, готовый принять неизбежное. Он понял, что в его пользу говорит незапятнанная репутация, успешное выполнение всех задач, диктовавшихся профессиональным долгом; весьма удачно было и то, что его непосредственный подчиненный в банковской иерархии имел репутацию человека, способного на легкомысленные поступки, на поведение, неподобающее тому, кому доверены чужие деньги, не всегда уравновешенного, тянущегося порой к бутылке и даже однажды допустившего в подпитии политические высказывания подрывного свойства.
Мой друг, – продолжил Маллако после короткой паузы, употребленной на глоток виски, – понял – и это лучшим образом доказывает его способности, – что если на счетах банка обнаружится недостача, то не составит труда бросить тень подозрения на того безответственного молодого человека. Мой друг тщательно подготовился. Без ведома молодого сотрудника он спрятал у него в квартире пачку вынесенных из банка купюр. Действуя от его имени, он делал по телефону крупные ставки на скачках, не рассчитывая на выигрыш. Он верно рассчитал, сколько дней пройдет, прежде чем букмекер станет письменно выражать игроку неудовольствие из-за невыплаты. В нужный момент он сделал так, что в банковской наличности обнаружилась крупная нехватка. Он тут же вызвал полицию и, изображая уныние, нехотя позволил полицейским вытянуть из него имя единственного возможного подозреваемого… Полиция нагрянула с обыском в жилище незадачливого болтуна, нашла там пачку денег и с любопытством изучила возмущенные букмекерские эпистолы. Излишне говорить, что бедняга сел в тюрьму, а наш управляющий стал пользоваться еще большим доверием. Его спекуляции на фондовой бирже стали куда осторожнее. Он сколотил состояние, стал баронетом и был избран в палату общин. С моей стороны было бы неделикатно описывать его дальнейшую карьеру в кабинете министров. Эта правдивая история, – наставительно молвил Маллако, – учит тому, что даже самой скромной предприимчивости и хитроумия бывает достаточно, чтобы превратить поражение в победу и обеспечить себе глубокое уважение добропорядочных сограждан».
– Пока он говорил, – продолжил Аберкромби, – мой рассудок пребывал в смятении. У меня самого случались трудности из-за неудачных биржевых спекуляций, и у меня тоже был подчиненный, отвечавший всем характеристикам человека, подставленного другом Маллако. Я сам, хоть и не замахивался на титул баронета, надеялся на возведение в рыцарское достоинство и на место в парламенте. Эти надежды вполне могли бы осуществиться, преодолей я свои текущие трудности, – в противном случае мне грозила бедность и, возможно, бесчестье. Я подумал о жене, разделявшей мои надежды, мечтавшей стать леди Аберкромби и, быть может, завести пансион на побережье. Я боялся, что она вот-вот примется в любое время суток напоминать мне о бедах, которые я навлек на нее своим безумием. Подумал о двоих сыновьях, учащихся хорошей частной школы, готовящихся к достойной карьере и прокладывающих себе путь к высоким постам спортивными достижениями. Представил, как их выгонят из их рая и принудят учиться в плебейской средней школе, чтобы в возрасте 18 лет начать кое-как самостоятельно сводить концы с концами. Представил своих мортлейкских соседей, забывших о былом радушии и при встрече со мной отворачивающихся, чтобы избежать приглашения на рюмочку и выслушивания моих суждений о китайской политической головоломке…
Все эти ужасы предстали перед моим мысленным взором, пока звучал ровный спокойный голос Маллако. «Как все это пережить? – думал я. – Никак! И ведь выход налицо! Но как мне, уже немолодому человеку, построившему безупречную карьеру, привыкшему к приветственным улыбкам соседей, разом от всего отказаться ради полного опасностей преступного существования? Смогу ли я жить, день за днем, ночь за ночью, находясь под дамокловым мечом разоблачения? Сумею ли сохранить перед женой свой вид спокойного превосходства, от которого зависит мой домашний рай? Смогу ли по-прежнему, как подобает уважаемому отцу семейства, приветствовать возвращающихся из школы сыновей нравоучительными максимами? Смогу ли, сидя в вагоне поезда, с прежней убежденностью осуждать полицию с ее плачевной неспособностью ловить преступников, чьи уловки подтачивают опоры финансового порядка?» С холодной дрожью я осознал, что если мне не удастся хотя бы что-то одно из этого перечня, после того как я последую примеру друга доктора Маллако, то я наверняка навлеку на себя подозрение. Многие скажут: «Что случилось с Аберкромби? Раньше он провозглашал свои убеждения громко и убедительно, повергая в трепет любого злоумышленника, а теперь, заявляя то же самое, мямлит, а говоря о бесполезности полиции, даже оглядывается через плечо! Удивительное дело! Не иначе, с Аберкромби происходит что-то не то!»
Эта болезненная картина становилась в моем воображении все живее. Мысленным взором я видел, как мои мортлейкские соседи и друзья в Сити, обмениваясь впечатлениями, приходят к невеселому заключению, что перемена в моем поведении произошла одновременно с громким скандалом у меня в банке. Я боялся, что после этого открытия им оставался бы всего шаг до моего свержения с пьедестала. «Нет, – думал я, – ни за что не пойду на поводу у этого опасного соблазнителя! Никогда не сойду с дороги долга!» И все же, все же…
Вкрадчивый голос никак не умолкал, история триумфа представала простой и доступной. Разве не читал я где-то, что беда нашего мира – в нежелании рисковать? Разве не изрек какой-то прославленный философ, что надо жить? Разве не является моим долгом в более высоком смысле слова внять таким подсказкам и применить на деле способы, которые мне подсовывают обстоятельства? Столкновение доводов, надежд, страхов, привычек и устремлений повергало меня в болезненное смятение. Наконец моей выдержке пришел конец. «Доктор Маллако! – вскричал я. – Не знаю, ангел вы или дьявол, но, видит Бог, я очень жалею, что познакомился с вами». Мне оставалось только выбежать из его дома, что я и сделал. И встретил у ворот вас.
После того рокового разговора я совершенно лишился покоя. Днем, глядя на других людей, я думал: «Как они поступят, если?..» Вечером мне подолгу не спалось: я воображал ужасы разорения и тюрьмы, этот устрашающий волан летал туда-сюда, раз за разом стукая меня по затылку. Жена жаловалась, что я стал беспокойным, и в конце концов настояла, чтобы я ночевал в своей гардеробной. Там, погружаясь в сон, я чувствовал себя еще хуже, чем во время бодрствования. В своих кошмарах я пробирался по узкому проходу между работным домом и тюрьмой. Меня охватывал ужас, я шарахался от стены к стене, упираясь то в одно, то в другое отталкивающее заведение. Ко мне направлялся полицейский, его рука ложилась мне на плечо – и я просыпался от собственного вопля.
Мое состояние все больше отражалось на моих делах, что и неудивительно. Я спекулировал все отчаяннее, мои долги росли на глазах. В конце концов мне показалось, что единственная моя надежда – последовать примеру друга доктора Маллако. Но от смятения я наделал ошибок, которых тот избежал. На купюрах, которые я подбросил в квартиру своего незадачливого подчиненного, остались отпечатки моих пальцев. Полиция доказала, что букмекеру звонили с моего домашнего телефона. Лошадь, на поражение которой в забеге я рассчитывал, удивила всех, придя первой. Полиция чем дальше, тем больше верила моему подчиненному, отрицавшему, что он когда-либо делал ставки на скачках. В конце концов Скотленд-Ярд распутал безнадежный клубок моих дел. А мой подчиненный, которого я в грош не ставил, оказался племянником министра!
Но все эти неудачи, уверен, нимало не удивили доктора Маллако. Не сомневаюсь, что он с самого начала предвидел, как все обернется и к чему приведет. Мне же остается только смиренно принять наказание. Боюсь, с точки зрения закона доктор Маллако не совершил преступления, но если вы придумаете, как обрушить на его голову хотя бы десятую долю тех бед, что испытал из-за него я, то знайте, в одной из тюрем ее величества будет биться бесконечно благодарное вам сердце!
Полный сочувствия, я простился с Аберкромби, пообещав запомнить его последние слова.
III
Последние слова Аберкромби усилили мой и без того животный страх перед доктором Маллако, но, к моему изумлению, чем страшнее мне становилось, тем сильнее я был им заворожен. Ужасный доктор не выходил у меня из головы. Мне хотелось, чтобы он пострадал, но только моими стараниями. Я мечтал, чтобы у нас с ним хотя бы раз произошло то глубокое, темное, страшное, что я видел в его глазах. Однако я никак не мог придумать, как осуществить эти свои противоречивые мечты, поэтому искал отвлечения в научных занятиях. В них уже намечался кое-какой успех, но тут я снова провалился в бездну ужаса, из которой так старался выбраться. Этому поспособствовали несчастья мистера Бошама.
Бошама, господина лет тридцати пяти, я давно знал как одного из мортлейкских столпов добродетели. Он служил секретарем в компании, распространявшей Библию, а также был стойким поборником непорочности. Он неизменно был одет в черный пиджак, старый и залоснившийся, и полосатые брюки, знававшие лучшие дни. Галстук у него был черный, а манеры – самые искренние. Даже в поезде он умудрялся цитировать священные тексты. О любых спиртных напитках он говорил как о «возбуждающих» и сам ни разу в жизни не пробовал их на вкус. Обварившись однажды горячим кофе, он вскричал всего лишь: «Боже, какая досада!» В чисто мужской компании, убедившись в серьезности собеседников, он, бывало, сожалел о прискорбной частоте того, что называл «телесным соитием». Поздний ужин вызывал у него отвращение: он всегда ужинал рано и плотно – до войны «плотность» подразумевала холодное мясо, соленья и вареный картофель, а во времена строгой экономии приходилось обходиться без мяса. У него были вечно влажные ладони, руку он пожимал вяло. Никто в Мортлейке не мог припомнить ни одного его поступка, от которого покраснел бы даже он сам.
Но вскоре после того, как я увидел его выходящим от доктора Маллако, с ним стали происходить перемены. Черный пиджак и полосатые брюки сменились серым одеянием, черный галстук – темно-синим. Он стал реже ссылаться на Библию и, видя выпивающих людей, уже воздерживался от лекций о благах воздержания.
Всего лишь однажды – не более того – видели, как он торопился по улице к железнодорожной станции с красной гвоздикой в петлице. Эта нескромность, от которой все в Мортлейке вытаращили глаза, больше не повторялась, но пища для пересудов вновь появилась спустя всего несколько дней после эпизода с красной гвоздикой. Бошама видели в щегольском красном автомобиле в обществе очаровательной юной леди, одевающейся, судя по всему, у парижского портного. Все долго задавались вопросом, кто она такая. Как обычно, недостающие сведения подбросил сплетникам Гослинг. Я, подобно всем остальным, был заинтригован происшедшей с Бошамом переменой. Как-то вечером, наведавшись ко мне, Гослинг сказал:
– Знаете, кто та леди, что так заметно повлияла на нашего святошу-соседа?
Я ответил, что не знаю.
– Я только что выяснил, что это Иоланда Молинэ, вдова капитана Молинэ, чья трагическая кончина в джунглях Бирмы в последнюю войну стала одной из бесчисленных драм тех времен. Однако красавица Иоланда без особого труда пережила свое горе. Как вы, конечно, помните, капитан Молинэ был единственным сыном знаменитого мыльного короля и как наследник своего отца уже располагал крупным состоянием, которое, без сомнения, позволило справиться со всеми расходами по его погребению. Состояние это перешло к его вдове, отличающейся неутолимым любопытством по части мужчин и их сортов. Знавала она миллионеров и шарлатанов, горцев из Черногории и индийских факиров. Вкусы у нее католические, но предпочтения самые причудливые. Скитаясь по всей планете, она еще не успела познакомиться с ханжеством англиканской «низкой церкви» и, встретив оное в лице мистера Бошама, узрела в нем захватывающий предмет для изучения. Я содрогаюсь при мысли о том, что она сделает с беднягой Бошамом, ибо он донельзя искренен, а она всего лишь добавляет новый экспонат к своей обширной коллекции.
Я почувствовал, что Бошаму грозит беда, но не сумел предвидеть всей тяжести уготованного ему бедствия, так как еще не знал о деятельности доктора Маллако. Только услышав историю Аберкромби, я понял, что может натворить с этим материалом доктор Маллако. Сам Бошам был недосягаем, поэтому мне пришлось познакомиться с красавицей Иоландой, обитавшей в милом старинном доме на Хэм-Коммон. К своему разочарованию, я выяснил, что она понятия не имеет о докторе Маллако, поскольку Бошам ни разу о нем не упоминал. О Бошаме она отзывалась с веселой и несколько пренебрежительной снисходительностью, сожалея об его усилиях приспособиться в меру своего понимания к ее вкусам.
«Мне нравятся его проповеди, – заявила она, – а раньше нравились полосатые штаны. Нравится его упорный отказ от употребления горячительных напитков и то, как сурово он отвергает некоторые даже самые невинные словечки. Этим он мне и интересен, и чем больше он старается походить на нормального человека, тем труднее мне оставаться с ним на дружеской ноге, а без этого страсть доведет его до отчаяния. Но втолковывать этому бедняге то, что превосходит его психологическое понимание, совершенно бесполезно».
Я, в свою очередь, счел бесполезным призывать миссис Молинэ пожалеть беднягу.
«Вздор! – сказала бы она. – Небольшое проявление чувств и забвение ханжества пойдут ему только на пользу. Он бы стал лучше, чем раньше, справляться с грешниками, занимающими все его внимание, вот и все. Я считаю себя благодетельницей, почти его сотрудницей. Вот увидите, еще до того, как я с ним закончу, его способность спасать грешников вырастет во сто крат. Его собственная совесть в ее малейших проявлениях преобразится в пламенную риторику, и надежда самому избежать вечного проклятия позволит ему манить перспективой спасения даже тех, кого он прежде считал совершенно разложившимися и безнадежными. Но довольно о Бошаме, – продолжила бы она со смешком. – Уверена, после этого сухого разговора вы пожелаете смыть вкус Бошама одним из моих специфических коктейлей».
Я видел полную бесполезность этих бесед с миссис Молинэ, а тем временем доктор Маллако оставался совершенно недосягаемым. Сам Бошам при моих попытках с ним увидеться всякий раз торопился в Хэм-Коммон или оказывался слишком занят на службе. Занятия эти, впрочем, как было замечено, интересовали его все меньше; даже в вечернем поезде, которым он обычно возвращался домой, его уже не оказывалось на привычном месте! Я все еще надеялся на лучшее, но опасался худшего.
Мои страхи оказались небеспочвенными. Однажды вечером, проходя мимо его дома, я увидел у дверей толпу; престарелая экономка, вся в слезах, тщетно призывала всех разойтись. Хорошо зная эту славную особу по своим частым визитам к Бошаму, я осведомился у нее, в чем дело.
– Мой бедный господин! О, мой бедный господин! – запричитала она.
– Что случилось с вашим бедным господином? – спросил я.
– О, сэр, мне никогда не забыть страшной картины, представшей передо мной, когда я открыла дверь его кабинета. Кабинет, как вам, наверное, известно, в прежние времена использовался как кладовая, на потолке даже остались крюки, на которые в более изобильные времена вешали окорока и бараньи ноги. Открываю дверь и вижу: на одном из крюков висит на веревке сам мистер Бошам! Прямо под ним лежит на боку табуретка. Вынуждена предположить, что к этому отчаянному поступку бедного господина подтолкнуло какое-то горе. Не знаю, что это могло быть, но подозреваю козни одной порочной женщины, сбившей его с праведного пути!
Узнать от нее что-то еще не удалось, но я не исключал, что ее подозрения обоснованны и что некоторый свет на эту трагедию способна пролить вероломная Иоланда. Я тотчас отправился к ней и застал ее за чтением доставленного посыльным письма.
– Миссис Молинэ, – начал я, – до сих пор наши отношения оставались сугубо светскими, но теперь настало время для серьезного разговора. Мистер Бошам был моим другом, для вас он надеялся стать даже более чем другом. Возможно, это добавит ясности ужасному событию, происшедшему в его доме.
– Возможно, – согласилась она более серьезным, чем обычно, тоном. – Я как раз прочла последние слова этого несчастного, глубину чьих чувств, выходит, сильно недооценила. Не отрицаю, я достойна осуждения, но главная вина лежит не на мне. Роль основного виновника сыграл гораздо более зловещий и куда более серьезный персонаж, чем я. Я имею в виду доктора Маллако. Его роль разоблачается в письме, за чтением которого вы меня застали. Вы были другом мистера Бошама и, как мне известно, являетесь заклятым врагом Маллако, поэтому, полагаю, вам тоже следует ознакомиться с этим письмом. – С этими словами она вручила его мне, и я откланялся.
Я заставил себя прочесть письмо только у себя дома, но и тогда разворачивал его многочисленные страницы сильно дрожащими пальцами. Злая аура странного доктора, казалось, обволокла меня, когда я разложил их у себя на коленях. Я чуть было не ослеп, представив себе его глаза; прочесть ужасные слова, хоть это и был мой долг, было почти невозможно. Все же я собрался с силами и заставил себя погрузиться в пучину мучений, доведших бедного Бошама до непоправимого поступка. Вот его письмо:
Моя дорогая Иоланда!
Не знаю, опечалит вас это письмо или принесет вам облегчение. В любом случае я чувствую, что последние мои слова на этом свете должны быть адресованы вам, ведь это действительно мои предсмертные слова. Дописав это письмо, я расстанусь с жизнью.
Моя жизнь, как вы знаете, была монотонной и тусклой, пока в нее не вошли вы. Познакомившись с вами, я осознал, что в человеческом существовании есть иные ценности, а не только запреты, затхлые «нельзя», которым была посвящена вся моя деятельность. Все закончилось несчастьем, но я даже сейчас ничуть не жалею о тех сладостных мгновениях, когда вы, как мне казалось, улыбались мне. Но сейчас я пишу не о чувствах.
До сих пор, преодолевая ваше естественное любопытство, я скрывал, что произошло, когда вскоре после нашего знакомства я нанес роковой визит доктору Маллако. У меня тогда возникло желание поразить ваше воображение, а на себя прежнего я стал смотреть как на унылого олуха-святошу. Я думал, что, добившись вашего уважения, смогу зажить по-новому. Но способ сделать это открылся мне только после злосчастного визита к этому отвратительному воплощению сатаны.
Приняв меня с участливой улыбкой и пригласив к себе в кабинет, он сказал:
«Мистер Бошам, видеть вас здесь – большое удовольствие. Я наслышан о вашей благотворительности и восхищен вашей приверженностью благородным целям. Признаться, мне затруднительно представить, чем я могу быть вам полезен, но если это возможно – прикажите! Однако прежде чем мы перейдем к делу, полезно будет освежиться. Знаю, вы не употребляете напитков на основе виноградного сока и очищенной выжимки из зерна, и не стану вам их навязывать. Как насчет сладкого какао?»
Я поблагодарил его не только за учтивость, но и за знание моих предпочтений. Служанка подала какао, и начался серьезный разговор. Присущий ему магнетизм неожиданно для меня развязал мне язык. Я поведал ему о вас, о своих страхах, о переменах в своих взглядах и устремлениях, о пьянящих мгновениях доброты, позволивших мне пережить бесконечные дни, когда вы были холодны, о том, что хорошо сознаю: чтобы вас завоевать, я должен предложить куда больше в мирском смысле, но не только, ведь вам нужна более разносторонняя натура, занимательная беседа. Если он сможет помочь мне всего этого добиться, сказал я, то я стану его вечным должником, и пустячные десять гиней – плата за прием – окажутся наилучшим капиталовложением, когда-либо сделанным простым смертным.
Немного поразмыслив, доктор Маллако промолвил задумчивым тоном:
«Не знаю, поможет ли вам то, что я собираюсь сказать… Была не была, вот вам небольшая история, имеющая некоторое сходство с вашей.
Есть у меня знакомый, весьма известный человек – возможно, вы с ним встречались на профессиональном поприще; его ранние годы прошли примерно так же, как ваши. Подобно вам, он влюбился в пленительную женщину. Он рано понял, что вряд ли ее завоюет, если не станет гораздо богаче, чем смог стать, живя своей прежней жизнью. Как и вы, он распространял Библии на многих языках, во многих странах. Однажды он познакомился в поезде с одним издателем, имевшим несколько сомнительную репутацию. В былые времена он бы с таким даже не заговорил, но теперь, под освобождающим дух влиянием любовных надежд, стал снисходительнее к людям, отшатнувшимся от лона Церкви, которыми прежде пренебрегал.
Издатель рассказал о широчайшей всемирной сети распространения сомнительной литературы, переправляющей таковую в руки дегенератов, которых влечет похоть, погибель и тлен. «Трудности, – посетовал издатель, – возникают только с рекламой. Тайное распространение не вызывает проблем, но тайная реклама – это абсурдно само по себе! – Тут издатель подмигнул и продолжил с шаловливой улыбкой: – Но если бы нам помог такой человек, как вы, то заминка с рекламой была бы преодолена. В Библиях, которые вы распространяете, могли бы быть подсказки. Например, на странице, где сказано, что «лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено» (Иеремия xvii. 9), могла бы быть сноска, что за более подробной информацией об испорченности человеческого сердца надлежит обращаться туда-то и туда-то. А когда Иуда велит своим слугам искать блудницу за городскими воротами, вы объясните в сноске, что большинству читателей Священного Писания это слово, без сомнения, неведомо, но там-то и там-то им будут даны все разъяснения. Когда же Слово Божие клеймит достойное сожаления поведение Онана, весьма кстати окажется соответствующая сноска». Издатель, правда, опасался, что мой знакомый за такое не возьмется, хотя, как он объяснил задумчиво, с легким сожалением, это принесло бы колоссальную прибыль.
Мой знакомый, – продолжил доктор Маллако, – не стал медлить с решением. Прибыв на лондонский вокзал, они с издателем проследовали в клуб последнего, где после нескольких рюмок согласовали основные пункты договора. Мой знакомый продолжил распространять Библии, те стали пользоваться небывалым спросом, доходы издателя выросли, а мой знакомый, разбогатев, приобрел хороший дом и модный автомобиль. Постепенно он перестал цитировать Библию, не считая мест, которые снабжал сносками. Он стал бойким говоруном, забавным циником. Женщина, которая прежде всего лишь им играла, была впечатлена. Они поженились и с тех пор живут счастливо. Судите сами, интересна ли вам эта история. Боюсь, это единственное, что я могу сделать ради решения ваших затруднений.
Порочность предложения доктора Маллако привела меня в ужас. Мыслимое ли дело, чтобы я, всю жизнь строго следовавший несгибаемым моральным принципам, взялся получать долю от столь дружно порицаемого, даже проклинаемого занятия, как торговля непристойной литературой? Так я и сказал, не таясь, доктору Маллако. Тот ответил многозначительной загадочной улыбкой.
«Друг мой, – снова заговорил он, – разве с тех пор, как вам посчастливилось познакомиться с миссис Молинэ, вы не стали спотыкаться об узость того кодекса поведения, коему всегда следовали? Уверен, вы читали «Песнь песней» Соломона и поражались, как она могла быть включена в Слово Божие. Оставьте эти нечестивые сомнения. Раз кое-какая литература, сбываемая издателем – партнером моего знакомого, имеет много общего с сочинениями столь мудрого и женолюбивого царя, то это повод воздержаться от ее осуждения. Немного свободы, дневного света, свежего воздуха даже в темах, о которых вы отказывались думать (боюсь, тщетно), будет только полезна, поэтому ей стоило бы дать ход, хоть бы и при помощи Священного Писания».
«Но нет ли опасности, и серьезной, – вскричал я, – что подобная литература ввергнет молодых людей, да и молодых женщин, в смертный грех? Смогу ли я смотреть в лицо ближнему, мучимый мыслью, что в этот момент какая-нибудь неженатая пара занята нечестивым делом по причине моих занятий, приносящих мне прибыль?»
«Увы, – был ответ доктора Маллако, – боюсь, многое в нашей святой вере вы поняли неверно. Размышляли ли вы над притчей о девяноста девяти праведниках, не нуждающихся в раскаянии, которые радуют Небеса менее, нежели единственный грешник, вернувшийся в лоно праведности? А притча о фарисее и мытаре? Неужто вы не позволили себе извлечь моральный урок из случая с кающимся вором? Неужто не задавались вопросом, чем заслужили осуждение Господа фарисеи, утолявшие голод? Не удивлялись восхвалением разбитого и сокрушающегося сердца? Можете ли вы, не греша против правды, утверждать, что до встречи с миссис Молинэ ваше сердце было разбито или сокрушено? А не приходило ли вам в голову, что нельзя покаяться, сперва не согрешив? А ведь этому напрямую учат Евангелия. Если вы желаете повлиять на внутреннее состояние людей так, как угодно Богу, то дайте им сперва согрешить! Нет сомнения, что многие из тех, кто покупает литературу издателя – партнера моего знакомого, впоследствии раскаются и, если верить учению нашей святой веры, станут тогда любезнее нашему Создателю, чем несгибаемые праведники, заметным примером коих служили до сих пор вы сами».
Эта логика меня смутила и до крайности запутала. Колебания еще меня не оставили.
«А разве не существует, – упирался я, – страшного риска неминуемого разоблачения? Разве полиция не раскроет рано или поздно преступную сеть, помогающую извлекать столь крупные доходы? И не грозит ли тюрьма людям, втянутым в эту незаконную деятельность?»
«Как я погляжу, – отвечал на это доктор Маллако, – вам и вашим подручным все еще неведомы кое-какие изгибы и ответвления нашей общественной системы. Вы воображаете, что, когда речь заходит о таких крупных суммах, никто из наделенных властью не согласится за свою долю сотрудничать или, по крайней мере, закрывать глаза? Уверяю вас, такие люди есть, именно благодаря сотрудничеству с ними издатель – партнер моего знакомого спит спокойно. Если вы решите последовать его примеру, то вам придется заручиться слепотой официальных лиц».
Я уже не знал, что сказать, и покинул дом доктора Маллако, полный сомнений, и не только о том, как мне поступить, но и обо всем фундаменте нравственности и о цели праведной жизни.
Сначала сомнения полностью лишили меня сил. Я не являлся на работу, потому что не переставал ломать голову, как мне быть, как жить. Но постепенно доводы доктора Маллако все больше овладевали моим воображением. «Я не могу избавиться от посеянных в моей душе этических сомнений, – думал я. – Я больше не знаю, что дурно, а что нет. Зато я знаю (так думал я в своей слепоте) дорогу к сердцу моей возлюбленной Иоланды!»
В конце концов решение за меня принял случай, по крайней мере, я приписал решение случаю, хотя теперь сомневаюсь в этом. Я повстречал человека исключительной житейской мудрости, чья сомнительная деятельность заставляла его скитаться по всему свету, не брезгуя самыми злачными местами. Он утверждал, что вхож и к полицейским, и в преступное подполье. Он знал, кто в полиции продажен, а кто нет, – так говорил, во всяком случае, он сам. Оказалось, что он зарабатывает на жизнь посредничеством между людьми, замышляющими преступление, и сговорчивыми полицейскими.
«Но вам-то такие вещи, конечно, неинтересны, – оговорился он. – Ваша жизнь – открытая книга, и у вас никогда не бывало даже подобия соблазна нарушить закон».
«Что верно, то верно, – ответил ему я, – но в то же время я думаю, что мой долг – максимально расширить свой опыт, и если вы и впрямь знакомы хотя бы с одним таким полицейским, то я буду рад, если вы меня ему представите».
Он выполнил мою просьбу и познакомил меня с инспектором уголовного розыска Дженкинсом, который, как мне дали понять, не был человеком несгибаемой праведности, какими мы привыкли считать наших благородных сотрудников полиции. Моя дружба с инспектором Дженкинсом мало-помалу крепчала, и я мелкими шажками подобрался к теме непристойных изданий, по-прежнему прикрываясь любопытством к всевозможным проявлениям жизни.
«Я сведу вас со своим знакомым издателем, – пообещал он. – Нам с ним доводилось проворачивать выгодные делишки».
И он представил меня некоему Маттону, издателю, если верить его словам, как раз такого пошиба. Раньше я не слыхал про его компанию, но удивляться этому не приходилось, так как я соприкоснулся с совершенно неведомым мне прежде миром. После предварительного расшаркивания и приветствий я сказал Маттону, что мог бы оказаться ему полезен в том смысле, в каком был полезен своему издателю друг доктора Маллако. Маттон не отверг эту идею, но сказал, что безопасности ради хотел бы получить от меня что-то вроде письменного предложения. Я неохотно согласился.
Все это случилось только вчера, когда радужные надежды еще влекли меня к неминуемому краху. А сегодня… Но как исторгнуть из себя страшную правду, правду, разоблачающую не только мою порочность, но и невероятную глупость? Сегодня меня посетил полицейский констебль. Он предъявил документ, подписанный мной по требованию Маттона.
«Ваша подпись?» – спросил он.
Как ни сильно я был поражен, мне хватило присутствия духа, чтобы ответить:
«Вам еще предстоит это доказать».
«Вряд ли это вызовет трудности, а вам бы неплохо отдавать себе отчет, в каком положении вы тогда окажетесь, – предупредил он. – Инспектор Дженкинс вовсе не ступил на путь бесчестья, вас ввели в заблуждение: напротив, он привержен защите нашей нации от любой нечистоты, а репутация продажности, которую он себе создал, предназначена только для завлечения преступников в его сети. Мистер Маттон – подставное лицо. Эту гнусную личину надевает то один, то другой детектив. Увидите, мистер Бошам, вам не выйти сухим из воды». – После этих слов он удалился.
Я сразу понял безнадежность своего положения и невозможность дальнейшей жизни. Даже если бы мне повезло избежать тюрьмы, подписанный мной документ поставил бы крест на деле, служившем мне источником существования. Опозоренный, я бы не смог смотреть вам в глаза, а без вас моя жизнь лишена смысла. Мне ничего не остается, кроме ухода из жизни. Меня ждет встреча с Создателем, Чей справедливый гнев обречет меня, без сомнения, на те самые муки, которые я так часто и так живо описывал другим. Но прежде чем я закончу свое бренное существование, Он, надеюсь, снизойдет и дозволит мне прокричать главное: «Из всех когда-либо живших дурных людей нет никого хуже, никого коварнее, чем доктор Маллако, которого я молю Тебя, Боже, низвергнуть в те же бездны ада, что уготованы мне!»
Таким будет мое обращение к Создателю. Вам же, моя ненаглядная, я шлю из пропасти, в которую провалился, пожелания счастья и радостей.
IV
Спустя некоторое время после трагического конца Бошама я узнал об участи Картрайта. К счастью, она оказалась не столь ужасной, но нельзя отрицать, что большинство из нас себе такого не пожелало бы. Частично он рассказал мне об этом сам, остальное я узнал от своего единственного друга, вхожего в церковные круги.
Картрайт, как всем известно, был знаменитым мастером художественной фотографии, делавшим фотопортреты известнейших кинозвезд и политиков. Он обладал неповторимой способностью поймать характерное для модели выражение лица, вызывавшее к ней неодолимую симпатию. Ассистировала ему женщина редкой красоты по имени Лэлэдж Скрэггс. Правда, для клиентов мастера ее красота бывала отравлена излишком вялости. Впрочем, хорошо знавшие ее люди говорили, что сам Картрайт от этой ее вялости избавлен и что их связывает пылкая страсть, пусть и не скрепленная, увы, законными узами. При этом в жизни Картрайта присутствовала одна неизбывная печаль: хотя он с завидным усердием художника трудился утром, днем и вечером, а его клиентура становилась все более изысканной, алчность налогового ведомства не позволяла ему удовлетворять некоторые дорогостоящие потребности – как свои собственные, так и красавицы Лэлэдж.
«Что проку во всей этой каторге, – часто сокрушался он, – когда не менее девяти десятых моих заработков забирает правительство на покупку молибдена, вольфрама или какого-то еще вещества, не представляющего для меня ни малейшего интереса?»
Это недовольство отравляло ему жизнь и наталкивало на мысли о бегстве в княжество Монако. Увидев медную табличку доктора Маллако, он воскликнул: «Неужто этот достойный человек раскопал нечто, превосходящее ужасом избыточное налогообложение? Если так, то он, должно быть, обладает богатым воображением. Побываю-ка я у него на консультации, пусть расширит мне сознание!»
Записавшись на прием, он явился к доктору Маллако в те дневные часы, когда у него не намечалось фотосессий с кинозвездами, министрами или иностранными дипломатами. Даже аргентинский посол, суливший оплату отборной говядиной, выбрал другую дату.
После традиционных вступительных любезностей доктор Маллако перешел к делу и осведомился, какого сорта ужас привлекает Картрайта.
– Будьте уверены, – обнадежил он его со спокойной улыбкой, – ужасы у меня на любой вкус.
– Собственно, ужас, который мне требуется, связан со способами заработка, ускользающими от внимания сборщика налогов. Не знаю, способны ли вы насытить эту тему ужасом, как обещано на вашей табличке. Если да, то вы заслужите мою благодарность.
– Думаю, – ответил доктор Маллако, – у меня найдется то, что вам нужно. Затронута моя профессиональная гордость, и мне было бы стыдно вас подвести. Расскажу вам одну историю, которая, быть может, поможет вам принять решение.
Мой друг-парижанин – как и вы, гениальный фотограф. Ему, как и вам, помогает пленительная ассистентка, приверженная прославленным парижским удовольствиям. Как и вы, он изнемогал от налогов, пока честь по чести занимался своим профессиональным делом. Он и теперь живет фотографией, но пользуется более современными методами. Он взял за правило наводить справки, в какие парижские отели хлынет тот или иной поток знаменитых визитеров великого города. После этого его прекрасная ассистентка усаживается в вестибюле отеля перед заездом туда очередного героя всеобщих грез. Пока он занят у стойки администратора, она вдруг начинает задыхаться, шатается, как будто вот-вот лишится чувств. Галантный герой грез, единственный мужчина поблизости, бросается, разумеется, ей на помощь. В момент, когда она оказывается в его объятиях, щелкает затвор камеры. На следующий день мой друг поджидает его с проявленной фотографией и вопросом, сколько попавшийся готов заплатить за негатив и уничтожение всех копий. Если жертва – видный богослов или американский политик, то не приходится сомневаться в его готовности расстаться с весьма крупной суммой. Таким способом мой друг серьезно улучшил свое материальное положение по сравнению с былыми временами с 40-часовой рабочей неделей. Его ассистентка занята всего раз в неделю, а сам он – два дня: сначала когда снимает, потом – когда посещает свою жертву. Остальные пять дней в неделю парочка наслаждается жизнью! Возможно, – заключил доктор Маллако, – в этой истории обнаружится нечто полезное, благодаря чему вы покончите со своими затруднениями.
В этом предложении Картрайта обеспокоили только два момента: опасность разоблачения и неприязнь к любительскому промискуитету, которым займется белокурая Лэлэдж. Страх навевал мысли о полиции, ревность – еще более могучее чувство – рождала образы знаменитостей, чьи объятия она, чего доброго, предпочтет его. Но пока он ломал голову, как быть, от службы налоговых взысканий и добавочного налогообложения пришло требование двенадцати тысяч фунтов стерлингов. Картрайт, совершенно чуждый какой-либо экономии, не располагал двенадцатью тысячами ни в каком виде, а потому, проведя несколько ночей без сна, решил, что ему ничего не остается, кроме как пойти по стопам дружка Маллако.
После надлежащих приготовлений и изучения набора знаменитостей Картрайт решил остановиться на епископе Бориа-була-га, госте Лондона по случаю Пан-Англиканского конгресса. Все получилось на ура: нестойкая леди рухнула в объятия епископа, руки коего обвили ее без видимого замешательства. Картрайт, прятавшийся за ширмой, был тут как тут. Назавтра он поджидал епископа с очень убедительной фотографией.
– Полюбуйтесь, дорогой епископ, – начал он. – Уверен, вы согласитесь, что это настоящий шедевр. Не могу отделаться от мысли, что вам захочется им обладать, ибо всем известна ваша страсть к негритянскому изобразительному искусству, а эта картинка могла бы послужить религиозным целям в каком-нибудь туземном культе. Но ввиду накладных расходов и высокого оклада, который я вынужден платить своей высокопрофессиональной ассистентке, я не смогу расстаться с негативом и несколькими его копиями, которые сделал, менее чем за тысячу фунтов, и это еще строгий минимум, единственно из сочувствия к хорошо известной бедности епископата наших колоний.
– Это же надо! – огорчился епископ. – Вот незадача! Вы же не думаете, что я разгуливаю с тысячей фунтов за пазухой? Тем не менее, видя, как крепко вы в меня вцепились, я передам вам долговую расписку и право на удержание части дохода моей епархии.
Картрайт с облегчением перевел дух, видя благоразумие епископа. Расстались они почти по-дружески.
Однако вышло так, что данный епископ сильно отличался от большинства своих коллег. Я приятельствовал с ним в годы совместной учебы в университете; помнится, на выпускном курсе он славился любовью к розыгрышам. Порой его розыгрыши грешили дурновкусием. Его решение принять обет многих удивило; еще большим было удивление, когда распространилась молва, что при всем красноречии и убедительности своих проповедей, склонивших к богобоязненности не одну тысячу слушателей, он по-прежнему не находил сил для воздержания от поведения, снискавшего ему сомнительную славу в университетских стенах. Церковное начальство грозилось сурово покарать его за проказы, но в последний момент раз за разом не могло сдержать улыбки. Поэтому решение гласило, что наказание неизбежно, но не очень суровое: он поплатился отправкой епископом в Бориа-була-га на условии невозможности отлучиться оттуда без особого разрешения архиепископов Кентерберийского и Йоркского. Как раз в то время я повстречал его на докладе какого-то антрополога об одном центральноафриканском ритуале, по поводу которого епископ резко высказался в ходе последующей дискуссии. Я всегда ценил его общество, поэтому после заседания пригласил к себе в клуб.
– Кажется, – сказал он, – вы соседствуете с неким Картрайтом, с которым я не так давно столкнулся при любопытных обстоятельствах… И он поведал мне об этих обстоятельствах, закончив многозначительным и угрожающим замечанием: – Боюсь, ваш друг Картрайт не догадывается, что его ждет…
Технология произвела сильное впечатление на епископа, и он задумался над ее применением ради спасения душ своих чернокожих прихожан. У него родился план. Он стал изучать повадки советского посла, его мимику, жесты и походку, а потом произвел сортировку временно простаивающих актеров на предмет близкого сходства с этим видным и уважаемым дипломатом. Отыскав одного такого, он уговорил его прикинуться известным путешественником и в этом качестве напроситься на советский прием. Затем он сочинил письмо Картрайту, якобы от самого посла, с приглашением встретиться в некоем отеле. Картрайт клюнул. Мнимый посол сунул ему пухлый конверт, и в этот момент раздался до боли знакомый фотографу звук – щелчок скрытой фотокамеры. Взглянув на конверт, он, к своему ужасу, увидел на нем не только свое имя, выведенное большими четкими буквами, но и цифру 10000000 с припиской «рублей». Понятно, на следующий день епископ навестил его и сказал:
– Знаете, дружище, подражание – самая искренняя лесть, я пришел вам польстить. Эта фотография ничуть не хуже вашей, где красуюсь я, только она, знаете ли, гораздо опаснее. Вряд ли обитатели Бориа-була-га осудят меня за то, что я обнял красотку, а вот власти нашей великой страны составят о вас нелестное мнение, если увидят эту фотографию. Однако я не желаю вам зла, потому что вы восхитили меня своей изобретательностью. Поэтому мои условия будут легкими. Вам придется, конечно, вернуть мне долговое обязательство и право на доход от моей епархии. К тому же впредь, продолжая свою профессиональную деятельность, вы будете соблюдать кое-какие ограничения. Шантажируйте только видных нечестивцев, чье моральное падение, будучи преданным огласке, принесло бы только пользу истинной вере. Девяносто процентов вырученных вами таким способом денег станут поступать мне.
Да будет вам известно, в Бориа-була-га еще остаются язычники, и мы с соседом – епископом Ньям-Ньям заключили пари, кто быстрее увеличит число верующих в своем епископстве. Как оказалось, жители любой деревни все готовы согласиться на крещение, если покрестится их вождь. Еще я узнал, что вождь оценивает свое крещение в три свиньи, которые в Центральной Африке стоят дешевле, чем здесь, – скажем, фунтов пятнадцать. Предстоит обратить в святую веру примерно тысячу вождей. Таким образом, для завершения моих трудов требуется сумма в пятнадцать тысяч фунтов. Когда благодаря вашим операциям с безбожниками у меня наберется эта сумма, мы пересмотрим наши отношения. А пока что вам не грозит неприятное внимание ни с моей стороны, ни со стороны полиции.
Картрайт, удрученный, но не отчаявшийся, не увидел альтернативы выполнению епископских наставлений. Первыми его жертвами стали предводители Этического движения, сделавшего сутью своего существования утверждение, что величайшая добродетель возможна и без следования христианской догме. За ними последовали коммунистические лидеры из Соединенных Штатов, Австралии и других праведных уголков мира, съехавшиеся на важную конференцию в Лондон. Он быстро собрал пятнадцать тысяч, затребованные епископом. Тот благосклонно принял деньги и, выразив благодарность, добавил, что теперь сможет до конца искоренить язычество в своей до того момента отсталой епархии.
– Что ж, – молвил Картрайт, – теперь, уверен, вы согласитесь, что я заслуживаю освобождения от дальнейшего вашего внимания к моей персоне.
– Не торопитесь, – возразил епископ. – Оригинал фотографии, на которой зиждется наше плодотворное сотрудничество, до сих пор у меня. Мне не стоило бы труда предоставить полиции убедительные свидетельства о способах, которыми вы собрали переданные мне пятнадцать тысяч фунтов, тогда как у вас нет доказательств хоть какого-то моего участия в ваших занятиях. Не вижу, каким образом вы могли бы избавиться от моих притязаний. Тем не менее повторяю: я – милостивый хозяин и не стану делать ваше неизбывное рабское ярмо неподъемным. В Бориа-була-га сохраняются два недостатка: первый – упорное следование главного вождя вере предков, второй – то, что мы уступаем Ньям-Ньям численностью населения. Вы с вашей несравненной ассистенткой могли бы устранить оба. Я отправил ее фотографию главному вождю, и он безумно в нее влюбился. Я дал ему понять, что если он перейдет в нашу веру, то я сделаю так, что она станет его женой. Вас я попрошу поселиться в Бориа-була-га и завести большой гарем. Вы посвятите себя зачатию душ, которые я стану крестить, и если когда-либо по вашей недобросовестности в гареме упадет рождаемость, то ваша преступная деятельность выплывет наружу.
Но пожизненным приговором я это не назову. По достижении вами возраста семидесяти лет вам и вашей роскошной Лэлэдж, которая к тому времени, правда, может утратить свою роскошь, будет разрешено вернуться в Англию и зажить на деньги, извлекаемые из фотографирования для документов. На случай, если вы задумаете прибегнуть к противозаконному насилию как к способу бегства, должен вас предостеречь: я оставил в своем банке запечатанный конверт и распорядился вскрыть его, если умру при подозрительных обстоятельствах. Вскрытие этого конверта означает вашу гибель. А пока что я с удовольствием предвкушаю наслаждение вашим обществом в нашей совместной ссылке. Всего доброго!
Картрайт не нашел выхода из этого тяжелого положения. В последний раз я видел его на пристани: он отплывал в Африку. Сцена его прощания с мисс Скрэггс, которую епископ принудил плыть другим судном, вышла душераздирающей. Я не мог ему не посочувствовать, однако утешился мыслью о неоспоримых благах распространения Евангелия.
V
Злоключения Аберкромби, Бошама и Картрайта не заслонили от моего взора миссис Эллеркер. Связанные с ней события тоже изрядно меня встревожили.
Мистер Эллеркер был авиаконструктором и слыл одним из способнейших людей в своей отрасли. У него был один-единственный соперник, по фамилии Квантокс, которому тоже случилось поселиться в Мортлейке. Мнение начальства разделилось: одни отдавали пальму первенства Квантоксу, другие Эллеркеру, но этих двоих никто в Англии уж точно не мог превзойти. Во всем, помимо профессии, они были антиподами. Эллеркер получил узконаучное образование, был чужд литературе, безразличен к искусству, разглагольствовал напыщенно, позволял себе вопиющие банальности. Квантокс, напротив, был ярок и остроумен, широко образован и начитан, умел развлечь любое общество своими замечаниями, сочетавшими остроумие с проницательным анализом. Эллеркер не обращал внимания на женщин, кроме своей жены; у Квантокса, наоборот, был острый взгляд, и он вызвал бы суровое осуждение, если бы не общенациональная ценность его работы, принуждавшей моралистов, как в случае с Нельсоном, изображать неведение. Миссис Эллеркер во многом была больше похожа на Квантокса, чем на своего мужа. Ее отец читал лекции по антропологии в одном из наших старинных университетов; молодость она провела в самом интеллектуальном окружении, какое только можно было отыскать в Англии; привыкла к сочетанию острословия и мудрости, а не к тяжеловесному морализаторству, которое унаследовал у Викторианской эпохи ее супруг. Ее мортлейкские соседи делились на тех, кто ценил ее как блестящую собеседницу, и тех, кто опасался, как бы легкость в словах не помешала ей соблюдать корректность в поведении. Самые горячие из ее пожилых соседей подозревали, что она тщательно скрывает свои прегрешения против морали, и были склонны жалеть Эллеркера из-за взбалмошности его жены. Противоположная фракция соболезновала самой миссис Эллеркер, воображая, какие комментарии он отпускает за завтраком, штудируя «Таймс».
После драматического ухода миссис Эллеркер из дома доктора Маллако я стал развивать наше знакомство в надежде рано или поздно им воспользоваться. Узнав о роли доктора Маллако в трагедии Аберкромби, я счел своим долгом ее предостеречь, но это оказалось излишне, так как она яростно отвергала саму мысль о продолжении общения с ним. Вскоре у меня возникла в связи с ней новая тревога. До меня дошли сведения, что она и Квантокс встречаются чаще, чем позволяло благоразумие, учитывая соперничество между ним и ее мужем. Квантокс, при всем его несомненном даре обворожительного собеседника, казался мне опасным знакомством для женщины в том нестойком состоянии, в каком пребывала миссис Эллеркер после столкновения с Маллако. Однажды, беседуя с ней, я на это намекнул, но она прореагировала совсем не так, как на упоминание Маллако: вспыхнула, сказала, что сплетничать отвратительно и что она не желает ничего слышать о мистере Квантоксе. Она так рассердилась, что я прекратил у нее бывать и вообще с ней общаться.
Так обстояли дела до тех пор, пока, развернув однажды утром газету, я не узнал ужасную новость. Новый самолет, разработка Эллеркера, загорелся в испытательном полете. Пилот погиб в пламени, было начато расследование. Но худшее ждало впереди. Изучая бумаги Эллеркера, полиция наткнулась на убедительные свидетельства его контактов с иностранной державой; из изменнических соображений он сознательно внес в новую конструкцию погрешности. После обнародования этих документов Эллеркер покончил с собой, приняв яд.
Помня, кто такой доктор Маллако, я усомнился в том, что истина соответствует видимости, и навестил миссис Эллеркер. Я застал ее не столько в траурном, сколько в рассеянном состоянии. Она пребывала даже не в горе, а в ужасе, но в тот момент я этого не понял. Она могла прерваться на середине фразы, как будто к чему-то прислушивалась, хотя я ничего не слышал. Делая над собой усилие, она встряхивалась и произносила: «Да-да… Простите, что вы сказали?» После этого вялая беседа возобновлялась с прерванного места. Она сильно меня обеспокоила, но в тот день отказалась от откровенности, и я ничего не смог поделать.
Тем временем Квантокс шествовал от триумфа к триумфу. Его единственный соперник был повержен, правительство все больше зависело от него, своей главной надежды в гонке вооружений. По случаю дня рождения королевы он получил высокую награду, все газеты расточали ему похвалы.
Пару месяцев прошли без новых событий, а потом я узнал от Гослинга, что миссис Эллеркер в траурном вдовьем облачении явилась в министерство авиации, потребовала, чтобы ее принял сам министр, и, добившись своего, разразилась несвязными словами, которые министр счел следствием помрачения рассудка, вызванного горем. Он так и не понял, что она пытается ему поведать, кроме невероятных обвинений в адрес Квантокса, да еще самооговора. Обратились к крупному психиатру, и тот сразу решил, что миссис Эллеркер повредилась умом. Квантокс был слишком ценным для государства специалистом, чтобы пострадать из-за истерички. Миссис Эллеркер поспешно освидетельствовали и поместили в психиатрическую лечебницу.
По случайности главный врач этого заведения оказался моим старым другом. Явившись к нему, я попросил поделиться со мной по дружбе печальной историей болезни миссис Эллеркер. Услышав от него то, что позволял поведать кодекс врачебной чести, я сказал:
– Доктор Прендергаст (так его звали), я кое-что знаю об обстоятельствах жизни миссис Эллеркер и ее окружении. Полагаю, я могу надеяться на разрешение ее навестить и на то, что нам не будут мешать надзиратели, как обычно происходит при посещении подобных пациентов. В таких условиях я, возможно, нащупаю источник ее срыва, а то и подскажу способ лечения. Я говорю все это не просто так. Существуют известные крайне малому числу людей обстоятельства, связанные со странными событиями, повлиявшими на душевное равновесие миссис Эллеркер. Буду чрезвычайно вам признателен, если вы удовлетворите мою просьбу.
Доктор Прендергаст, поколебавшись, согласился.
Я застал бедную женщину в полном одиночестве, подавленную, ни к чему не выказывающую интереса. При моем появлении она просто подняла глаза, не подав сигнала, что узнала меня.
– Миссис Эллеркер, – заговорил я, – я не верю, что вы страдаете безумными галлюцинациями. Я знаком с доктором Маллако и с мистером Квантоксом, знал вашего покойного супруга. Я не в состоянии поверить, что мистер Эллеркер совершил то, в чем его обвиняли, но вполне допускаю, что Маллако и Квантокс могли сговориться и уничтожить невинного человека. Если мои подозрения верны, то вы можете на меня положиться и рассказать все, что сочтете нужным, более не считая это галлюцинациями воспаленного сознания.
– Благослови вас Бог за эти слова! – вскричала она. – Впервые я слышу хоть что-то, сулящее надежду на торжество истины. Раз вы изъявили желание выслушать мою историю, то я поведаю ее вам во всех болезненных подробностях. Я не должна себя щадить, потому что погрязла во всем этом позоре с головой. Но, поверьте, со зловредным влиянием, заманившим меня в западню, теперь покончено, и я всем сердцем стремлюсь все поправить в меру моих сил ради справедливости к запятнанной памяти моего бедного мужа. – С этих слов начался ее рассказ, долгий и устрашающий.
Полоса бедствий началась, как я и подозревал, с махинаций доктора Маллако. Эллеркер, прослышав о таком ученом соседе, решил завести с ним знакомство и, взяв с собой супругу, нанес загадочному субъекту визит в тот самый день, когда мне предстояло стать свидетелем обморока миссис Эллеркер у ворот дома доктора.
После считаных минут бессодержательного разговора Эллеркеру, настолько важной персоне, что в министерстве всегда должны были быть осведомлены, где он находится, позвонили по телефону и сообщили об острой надобности в неких документах, которыми он располагал и которые надлежало тотчас отослать с особым нарочным. Держа эти документы в своем атташе-кейсе, он решил немедленно отлучиться и найти подходящего курьера. «А ты, дорогая, – обратился он к жене, – не откажись провести то недолгое время, что я буду отсутствовать, с доктором Маллако. Закончив свои дела, я вернусь за тобой».
Миссис Эллеркер, увидевшая в речах доктора Маллако больше перспективы, чем способно было там обнаружить большинство мортлейкцев, только приветствовала эту возможность продолжить разговор, не отвлекаясь на напыщенные мужнины пошлости. Маллако, проявив проницательность, которую она тщетно пыталась обдать презрением, обратил внимание, как ее раздражала и в какую вгоняла тоску словоохотливость мужа. Она же обратила внимание – но тогда не усмотрела в этом ничего подозрительного, – что Маллако общался только с людьми примерно одного с ней пошиба. По его словам, он знавал авиаконструкторов, как нудных, так и интересных. Как ни странно, продолжил он, именно у зануд оказывались интересные жены.
– Как вы понимаете, – оговорился он, прежде чем продолжить, – я просто болтаю о разных людях, с которыми сталкивался в жизни, и никто из них, насколько я могу судить, не обнаруживает близкого сходства с кем-либо из жителей этого пригорода. С другой стороны, за то короткое время, которое я успел провести в вашем обществе, мне стало ясно, что у вас вызывают интерес человеческие драмы, и это позволяет мне повести рассказ дальше.
В свое время я знавал двоих соперников (сами понимаете, дело было в другой стране), один из которых, увы, люто завидовал успеху другого. Завистник был очаровательным остроумцем, а его визави – бирюком, интересовавшимся только своей работой. Завистник (боюсь, вы не поверите, но уверяю вас, это святая правда) закрутил роман с женой своего неинтересного коллеги. Та по уши в него влюбилась. Опасаясь, что любит его сильнее, чем он ее, она все же не могла отделаться от этого наваждения и в конце концов при вспышке безотчетной страсти заявила, что способна на что угодно, лишь бы завоевать его любовь. Он как будто заколебался, но через некоторое время сообщил, что одну услугу она и впрямь могла бы ему оказать – совсем небольшую, не требующую даже таких кратких предисловий. Ее муж, подобно многим, выполняющим схожую работу, часто приносит с работы домой незаконченные проекты, чтобы посидеть над ними в вечерние часы. Пока он спит, чертежи остаются на его письменном столе без присмотра. Не могла бы она, позволяя утомившемуся трудяге храпеть дальше, завладевать ими на рассвете и вносить в них изменения, следуя полученным от возлюбленного инструкциям? Она с радостью согласилась. Ее муж, понятия не имея обо всем этом, передал в производство новую модель самолета, соответствовавшую, как он считал, его замыслу, а в действительности с изменениями в конструкции, внесенными злокозненным возлюбленным жены. И вот муж, гордый своим мнимым достижением, отправляет готовый самолет в первый испытательный полет. Самолет гибнет в огне, конструктор расстается с жизнью. Благодарный возлюбленный, выждав требуемый приличиями срок, женится на вдове. Вы можете подумать, миледи, – сказал в завершение своего повествования Маллако, – что ее счастью мешали угрызения совести, но это не так. Ее возлюбленный был до того блестящим, до того чудесным, что она ни на мгновение не пожалела о принесенном в жертву скучном муже. Ее радость ничто не омрачало, и они по сей день остаются счастливейшей парой из всех, кого я знаю.
В этом месте миссис Эллеркер в ужасе вскричала:
– Таких порочных женщин не бывает!
На это Маллако ответствовал:
– На свете есть очень порочные женщины и очень скучные мужчины.
Пока Маллако разглагольствовал, миссис Эллеркер, которая раньше, хоть и не без труда, вела добродетельную жизнь, наблюдала внутренним взором страшные картины, которые не могла прогнать, как ни старалась. Она встречала Квантокса на всевозможных светских приемах. Он проявлял к ней интерес, который ей льстил. Для него не было секретом, что она обладает не только пленительной внешностью, но и выдающимся умом. Он всегда проявлял желание побеседовать именно с ней, отдавая ей предпочтение перед остальными присутствующими. Но только теперь, под журчание голоса Маллако, она отдала себе отчет, что после этих встреч ее посещала мысль, до какой степени иначе сложилась бы ее жизнь, стань ее мужем он, а не бедный Генри. Мысль эта проживала всякий раз не более секунды и так неумолимо изгонялась, что, пока Маллако не выпустил ее на свободу, она по причине своей хилости не имела возможности опечалить бедняжку. Но теперь она представила себе, что почувствовала бы, если бы обращенный на нее взгляд Квантокса стал страстным, если бы губы Квантокса соприкоснулись с ее губами… Такие мысли повергли ее в дрожь, но прогнать их у нее не было сил.
«Мое сознание, – подумала она, – деградирует от навевающей сон монотонности и плоского однообразия Генри. От его замечаний за завтраком на темы газетных новостей мне хочется кричать. После ужина, когда мы, по его представлениям, предаемся счастливому безделью, он обычно засыпает, хотя сразу замечает, если я пытаюсь чем-то себя занять. Не знаю, как дальше вынести его отношение ко мне как к сладкой дурочке – такие кишели в плохих викторианских романах, которых он начитался в юности и которые так и не перерос. До какой же степени по-другому сложилась бы моя жизнь, если бы ее спутником был мой дорогой Юстас, как я смею называть в своих грезах мистера Квантокса! Как бы мы ценили друг друга, как бы вдохновляли, каким новым ярким светом засияли бы мы оба и как восхищалось бы нами любое общество! А какой страстной, огненной была бы его любовь! Я бы забыла об этой тяжести непропеченного теста…»
Вот какие мысли и картины проносились у нее в голове, пока доктор Маллако произносил свою речь. Но одновременно ей слышался и другой голос, не столь громкий и пронзительный, но тоже обладавший силой: он напоминал ей, что Эллеркер – хороший человек, свято преданный долгу, что его работа пользуется уважением, а жизнь отличается достоинством. Может ли она, подобно той дурной женщине из рассказа Маллако, обречь такого человека на мучительную гибель?
Разрываясь между долгом и желанием, она металась из стороны в сторону в конфликте страсти и сострадания. В конце концов, забыв, что должна дождаться возвращения Эллеркера, выбежала из дома Маллако и лишилась чувств сразу за воротами, прямо у меня перед носом.
Находясь в смятении, миссис Эллеркер предпочла бы избежать встречи с Квантоксом, пока не примет то или иное решение. Несколько дней она, сказавшись больной, пролежала в постели, однако долго пользоваться этой уловкой было нельзя. Как только она встала, Эллеркер огорошил ее словами:
– Аманда, дорогая, моя певчая пташка! Ты выздоровела, и я хотел бы пригласить на чай нашего соседа Квантокса. Тебе, конечно, не следует забивать свою прелестную головку моими профессиональными проблемами, но мы с Квантоксом в некотором смысле соперничаем, и мне хотелось бы поддерживать с ним цивилизованные отношения, как подобает людям двадцатого века. Поэтому было бы недурно пригласить его сюда. Надеюсь, ты постараешься его очаровать: если ты захочешь, перед тобой никто не устоит.
Деваться было некуда. Квантокс пожаловал в гости, но Эллеркер, как только позволили приличия, по своему обыкновению, удрал за свой письменный стол, к своим бумагам, заявив:
– Простите, Квантокс, но обязанности не позволяют мне долго наслаждаться вашим изысканным обществом. Передаю вас в хорошие руки. Пусть моей супруге недоступны дебри нашей нелегкой профессии, зато она, без всякого сомнения, сумеет занять вас на полчасика, если вы сможете урвать столько времени у занятий, которые представляют для нас обоих главное притяжение жизни.
После его ухода миссис Эллеркер застыла в нерешительности, но Квантокс быстро вывел ее из этого состояния.
– Аманда, – начал он, – вы позволите так к вам обращаться? Этого мгновения я ждал с самого нашего знакомства на тоскливом приеме, который скрасило только ваше присутствие. С кем нам с вами перемолвиться словом в этом скучном предместье, если не друг с другом? Я льщу себе надеждой, что вы считаете меня, как и я вас, цивилизованным человеком, способным изъясняться на естественном для нас обоих языке…
Дальнейший разговор вышел менее личным. Он со вкусом и пониманием рассуждал о книгах, музыке и живописи – чуждых мистеру Эллеркеру материях, о которых в Мортлейке слыхом не слыхивали. Она забыла о своих сомнениях, и, когда он встал, готовый проститься, ее глаза остановили его своим сиянием.
– Что это были за великолепные полчаса, Аманда! – воскликнул он. – Могу я надеяться, что однажды, уже скоро, вы почтите вниманием мою коллекцию первых изданий? Кое-какие достойны даже вас. Для меня удовольствие показать их человеку, способному их оценить.
Немного поколебавшись, она уступила отчаянному желанию и согласилась. Были назначены день и время, когда Эллеркер точно будет занят на работе. И вот она, волнуясь, звонит в звонок у двери Квантокса. Дверь отпер он сам, и она смекнула, что они в доме одни. Он отвел ее в библиотеку и, едва затворив дверь, заключил в объятия…
Когда она наконец вырвалась, вспомнив, что дражайший Генри скоро вернется домой со своим неизменным игривым вопросом: «Ну, и чем занималась моя певчая пташка в отсутствие муженька?», в ней крепко засело чувство, что необходимо выковать узы более прочные, чем страсть, если их с обожаемым Юстасом (так она теперь называла Квантокса) отношениям суждено преодолеть стадию кратковременного романа.
– Юстас, – сказала она, – я люблю тебя и сделаю все, что угодно, лишь бы ты был счастлив.
– Дорогая, – ответил он, – я не стану нагружать тебя своими проблемами. Ты – мое солнце, мой свет, зачем мне даже мысленно связывать тебя с повседневными заботами?
– О, Юстас, – не уступала она, – не относись ко мне так. Я не мотылек и не певчая пташка, хотя Генри иного мнения. Я умная и способная женщина, я могу разделить жизнь даже такого мужчины, как ты. Довольно с меня и того, что меня считают игрушкой дома. От тебя, любимый, мне нужно совсем другое отношение.
Квантокс немного поломался, а потом решился. Она с ужасом услышала повторенную почти слово в слово «историю» доктора Маллако.
– Что ж, – молвил он, – есть одна вещь, которую ты могла бы для меня сделать, – так, мелочь, сущая безделица, тут и обсуждать нечего…
– Что это, Юстас? Говори, не томи!
– Я склонен думать, что твой муж часто приносит домой рабочие чертежи новых самолетов. Если бы ты сумела внести в эти чертежи кое-какие мелкие, второстепенные изменения, следуя моим подсказкам, то сослужила бы службу мне и, смею надеяться, самой себе.
– Сделаю все, только скажи! – С этими словами она выбежала вон.
Предложение Квантокса было призрачным эхом рассказанного доктором Маллако. Это эхо звучало и звучало, пока не настал день, когда торжествующий муж сообщил жене, что его новый самолет готов и назавтра поднимется в первый испытательный полет. Но с этого момента реальность стала отличаться от рассказа Маллако. Самолет поднял в воздух не сам Эллеркер, а летчик-испытатель, он и сгорел вместе с самолетом. Эллеркер вернулся домой чернее тучи, в полном отчаянии. Когда полиция обнаружила среди его бумаг улики предательской переписки с иностранной державой, миссис Эллеркер догадалась, что их изготовил ее бесценный Юстас, но хранила молчание даже после того, как муж принял яд и умер.
Квантокс, избавившись от соперника, взлетал все выше на волне общественного уважения, даже удостоился поздравления от самой королевы. Но для миссис Эллеркер его дверь была теперь заперта, при встрече с ней в поезде или на улице он отделывался кивком. Она выполнила свое назначение. Ее страсть умерла, не вынеся пренебрежения, сменившись угрызениями совести – горькими, тщетными, выматывающими душу. Ей то и дело чудился голос бедняги Генри, произносивший привычные банальности, такие невыносимые при его жизни. Когда газеты сообщили о беспорядках в Персии, ей слышался голос мужа: «Почему бы не послать туда несколько полков и не проучить этих азиатов? Уверен, при виде британских мундиров они бросятся врассыпную!» Возвращаясь вечерами после бесплодных скитаний по улицам в поисках убежища от невыносимых мыслей, она слышала голос мужа: «Осторожнее, Аманда, тебе вреден вечерний туман. Какая ты бледная! Хрупкая женщина должна себя поберечь. Водоворот жизни – это для мужчин, наша обязанность – оберегать вас, наши сокровища, от всяческих невзгод». Везде и повсюду, в разгар беседы с соседями, в магазине, в мчащемся поезде – она слышала его шепот, его звучные, но добродушные пошлости и в конце концов перестала верить, что его больше нет. Она озиралась в надежде, но ей говорили: «В чем дело, миссис Эллеркер? Вам нехорошо?» После этого в ее душе селился липкий страх. Шепот становился день ото дня все настойчивее, банальные сентенции удлинялись, выносить добродушное сочувствие мертвеца больше не было сил.
Терпение окончательно ее покинуло. Фамилия Квантокса в высочайшем поздравительном списке стала последней каплей. Она пулей вылетела из дома, чтобы поведать свою историю кому угодно, хоть первому встречному, но внимать ей могли теперь только безмолвные стены психлечебницы.
Ознакомившись с этой кошмарной историей, я бросился к доктору Прендергасту, потом к бывшему руководству Эллеркера в министерстве авиации. Я говорил со всеми, кого считал способным хоть немного помочь бедной миссис Эллеркер, но никто не изъявил готовности толком меня выслушать.
– Нет, – твердили мне, – сэр Юстас слишком ценен для государства. Нельзя допустить, чтобы на его имя была брошена тень. Без него мы проиграем соревнование с американскими конструкторами. Без него русские самолеты превзойдут наши. Даже если вы говорите правду, огласка противоречит общественным интересам, поэтому вынуждены вас просить, то есть приказываем вам прикусить язык!
И вот миссис Эллеркер чахнет, а Квантокс процветает.
VI
Неспособность помочь миссис Эллеркер – сама по себе и вместе с политическим подтекстом – вызвала у меня глубокое душевное потрясение. «Возможно ли, – размышлял я, – чтобы все эти люди, к которым я взывал, – медики и политики из числа самых уважаемых в нашем мнящем себя достойным обществе, возможно ли, чтобы они все как один обрекали женщину на страдание от незаслуженного остракизма, а преступник, истинный виновник ее несчастья, пожинал лавры? С какой целью они так ревностно продлевают подлость?» Здесь мои мысли утрачивали стройность. Мне виделась в их действиях единственная цель: чтобы благодаря ловкости Квантокса погибло много русских, которые, не будь он так ловок, выжили бы. Я не считал это достаточной компенсацией за несправедливое обращение с миссис Эллеркер.
Я испытывал все более сильное отвращение ко всему роду человеческому. Наблюдая знакомых мне людей, я видел, что они заслуживают одной лишь жалости. Аберкромби охотно обрек невинного на поношение и тюрьму, чтобы на пару с женой наслаждаться пустышкой – громким титулом. Бошам был не прочь смущать умы школьников ради того, чтобы завоевать благосклонность бессердечной и безнравственной особы. Картрайт, твердо веривший в высочайшее достоинство тех, кого чтило общество, был тем не менее готов позорить их и доводить до разорения ради собственного обогащения. Миссис Эллеркер, признавал я, тоже совершила не менее страшные поступки, чем Аберкромби, Бошам и Картрайт. Но я – возможно, подсознательно – отказывался считать ее морально ответственной за содеянное. Я видел в ней несчастную жертву зловещего дуэта, Маллако и Квантокса. Но, подобно Богу, замыслившему уничтожить Содом, я не считал одно исключение поводом для того, чтобы помиловать всю человеческую породу.
«Доктор Маллако, – думал я в те мрачные, страшные для меня времена, – потому и вершит судьбы мира, что в нем, в его злокачественном мозгу, в его холодном разрушительном рассудке скопилась в чистом виде вся низость, жестокость, бессильная злоба слабаков, мечтающих быть титанами. Маллако – нечестивец, спору нет, но отчего его нечестивость так плодотворна? Оттого, что во многих робких душах, принуждаемых к почтительности, жива надежда на сладострастный грех, жажда подавлять, потребность разрушать. К этим тайным страстям он и обращается, им он обязан своим сокрушительным могуществом. Человечество, – думал я, – это ошибка. Без него на свете было бы приятнее, как-то свежее. Когда сверкают, как алмазы, капельки утренней росы в лучах сентябрьского солнца, когда каждая травинка – сама красота и чистота, страшно подумать о том, что эта красота предстает взору грешника, который марает ее грязью и жестокостью своих поползновений. Не понимаю, как Бог, видя это великолепие, способен так долго мириться с низостью тех, кто богохульственно утверждает, будто создан по Его подобию. Быть может, – думал я, – мне еще выпадет судьба послужить самым бескомпромиссным орудием Божественного Провидения, которое превзойдет даже то, что было с неохотой применено во дни Ноя…»
Физические опыты раскрывали мне различные способы прекращения жизни человечества. Я не мог избавиться от мысли, что мой долг – довести один из этих методов до совершенства и пустить его в ход. Из всего, что я открыл, самой нехитрой выглядела новая цепная реакция, от которой закипало море. Я сконструировал прибор, позволявший получить этот эффект в любой удобный мне момент. Одно меня удерживало: пока люди будут гибнуть от жажды, передохнет рыба – сварится. Против рыб я ничего не имел: насколько я знал и насколько мог наблюдать в аквариумах, это безвредные, приятные создания, нередко красивые и наделенные вдобавок не свойственным человеку умением избегать столкновений с себе подобными.
Шутки ради я обратился к коллеге-зоологу с вопросом о возможности довести до кипения море. При этом заметил со смехом, что рыбе может не поздоровиться. Друг отвечал в духе предложенной шутки:
– О рыбе я бы на вашем месте не беспокоился. Уверяю вас, рыба так порочна, что у вас глаза на лоб полезли бы! Рыбы пожирают друг друга; наплевательски относятся к своему молодняку; сексуальные привычки у них еще те – когда что-то подобное позволяют себе люди, епископы клеймят это как грех. Не пойму, к чему вам угрызения совести из-за гибели акул!
Сам того не зная, этот человек своим весельем укрепил мою решимость. «Не только человек, – рассуждал я, – жестокий хищник. Хищничество заложено в самой природе жизни, во всяком случае, жизни животных, которые выживают за счет охоты на других. Сама жизнь есть зло. Пускай планета умрет, как Луна, и станет такой же красивой и невинной».
В глубокой тайне я приступил к работе. Методом проб и ошибок я сконструировал прибор, который, как я считал, доведет до кипения и обратит в летучий пар сперва Темзу, потом Северное море, Атлантический и Тихий океаны, даже мерзлый Северный Ледовитый океан. «По мере этих событий, – лихорадочно билось у меня в мозгу, – Земля станет все сильнее нагреваться, людей охватит нестерпимая жажда, все они обезумеют и в конце концов сгинут. Вот когда не станет греха!» Не буду отрицать, в этих моих грандиозных фантазиях особое место уделялось низвержению доктора Маллако. Я считал, что голова у него набита хитроумными схемами превращения во Владыку Мира и навязывания своей воли робким жертвам, чьи мучения только подсластят для него их подчиненное состояние. Я воображал свое торжество над этим злодеем, торжество, достигнутое посредством еще большего зла, нежели его, зато оправданное чистотой и благородством моей страсти, моих помыслов. Под кипение внутри меня этих мыслей, не менее страшных, чем надежда на превращение моря в кипяток, я доделал свой прибор и снабдил его часовым механизмом, который включил в 10 часов утра. К полудню морю надлежало превратиться в кипяток. Запустив свою адскую машину, я явился с заключительным визитом к доктору Маллако.
Тот, догадываясь, что я питаю к нему не вполне дружеские чувства, пришел в изумление от моего появления.
– Чем обязан чести снова вас принять? – осведомился он.
– Доктор, – начал я, – как вы понимаете, это не дань светской необходимости. Не надо угощать меня вашим виски и подставлять мне ваше удобное кресло. Я явился не для приятной беседы, а чтобы возвестить о конце вашего правления и того порочного морока, в который вы окунули умы и сердца несчастных, кто был с вами знаком. Отныне все кончено. Вы повержены сочетанием ума и отваги, не уступающих вашим по размаху, но зато преследующих благородную цель. Я, бедный презренный ученый, на которого вы косились с пренебрежением и чьи попытки отвести беды, которые вы упорно сеяли, были бессмысленны, как вы того желали, придумал наконец, как обуздать ваше властолюбие. Сейчас в моей лаборатории тикают часы, и когда их стрелки укажут на полдень, запустится процесс, который в считаные дни положит конец всякой жизни на этой планете, а заодно и вашей жизни, доктор Маллако!
– Скажите пожалуйста! – протянул Маллако. – Как мелодраматично! В столь ранний утренний час мне трудно предположить, что вы подвыпили, поэтому вынужден опасаться какого-то более серьезного повреждения ваших умственных способностей. Но если это вас так занимает, то я с удовольствием послушаю изложение вашей схемы, обещающей несколько катастрофический результат.
– Зубоскальте сколько хотите, – махнул я рукой. – Что еще вам остается? Но совсем скоро вам станет не до зубоскальства, и перед смертью вам придется с горечью признать свое поражение и мою окончательную победу.
– Бросьте хвастаться! – сказал Маллако с некоторым нетерпением. – Если нам и вправду остается несколько часов, то разве есть способ занять их лучше, чем умная беседа? Обрисуйте мне вашу схему, и я определю свое отношение к ней. Признаться, пока я несильно встревожен. Вы всегда были растяпой. Чего вы добились для Аберкромби, Бошама, Картрайта, миссис Эллеркер? Кому из них стало лучше из-за вашего заступничества? Разве вы навредите человеческой породе своей враждебностью? Выкладывайте свой план! Кто знает, вдруг неудача обострила ваш ум? Хотя сомневаюсь…
Я не мог воспротивиться этому вызову. Я был уверен в своем изобретении и предвкушал осмеяние высокомерного доктора. Принцип моей системы был прост, а доктор быстро схватывал суть. Не прошло и нескольких минут, как он уяснил и мою теорию, и ее практическое воплощение. Увы, результат получился совсем не тот, на который я рассчитывал.
– Мой бедный друг, – промолвил он, – это именно то, чего я ждал. Вы упустили одно небольшое обстоятельство, из-за чего ваш прибор ни за что не сработает. В полдень ваши часы взорвутся, а море останется таким же холодным, как прежде.
И он в нескольких простых словах доказал свою правоту. Опустошенный, не смея поднять глаз, я был готов ретироваться.
– Минуточку, – задержал он меня, – еще не все потеряно. До сих пор мы враждовали, но если теперь вы соблаговолите принять мою помощь, то не все ваши занятные надежды рухнут. Пока вы говорили, я не только разгадал изъян вашего устройства, но и придумал, как его устранить. Теперь я без труда соберу приспособление для решения задачи, которую вы ставили перед собой. Вы воображали, что меня огорчит уничтожение мира. Какое неведение! Вы пока что знакомы только с периферией моих возможностей. Отдавая должное нашим специфическим отношениям, я окажу вам услугу и буду с вами гораздо откровеннее.
Вы решили, что мне хочется богатства, власти и славы для самого себя. Неверно. Я всегда был бескорыстен, пренебрегал собственными интересами, преследовал надличностные, абстрактные цели. Вы вообразили, что ненавидите человечество. Да в одном моем мизинце в тысячу раз больше ненависти, чем во всем вашем теле! Бушующее внутри меня пламя ненависти испепелило бы вас в одно мгновение. У вас нет ни сил, ни упорства, ни воли, чтобы жить с такой ненавистью, как моя. Узнай я раньше о способе все погубить, который знаю теперь благодаря вам, разве колебался бы хоть минуту? Моей целью была и остается смерть. На жалких людишках, вызвавших ваше глупое сострадание, я всего лишь тренировался. Меня всегда увлекали более крупные цели. Вы задавались вопросом, зачем я помог Квантоксу. Известно ли вам (уверен, что нет), что я равным образом помогаю его противникам, разрабатывающим средства уничтожения его и его друзей? До вас не дошло (да и как могло дойти при таком убогом воображении?), что меня ведет по жизни жажда мести. И отомстить я должен не тому или другому человечку, а всей подлой породе, к которой по несчастью принадлежу.
Свою цель я осознал очень рано. Мой отец был русским князем, мать – прислугой в лондонской меблирашке. Мой отец бросил ее еще до моего рождения и нанялся официантом в ресторан в Нью-Йорке. Теперь он, кажется, познает гостеприимство тюрьмы Синг-Синг. Впрочем, он мне неинтересен, и я не позаботился проверить источники этих сведений. После его бегства моя мать искала утешения в выпивке. Мое раннее детство было голодным. Едва научившись ходить, я принялся рыться в кучах отбросов и находить хлебные корки, картофельные очистки, все, чем можно было хоть как-то подкрепиться. Моя мать была против и, приходя в себя, запирала меня, а сама шла в пивную. Вернувшись пьяная в дым, она лупила меня до крови, а потом до бесчувствия, чтобы я не драл глотку. Однажды – мне было лет шесть – она во хмелю волочила меня по улице, награждая тумаками. Я пытался увернуться, она потеряла равновесие – и рассталась с жизнью под колесами грузовика.
Мимо проходила женщина с филантропическими наклонностями, она увидела мое одиночество и беспомощность, пожалела, привела меня к себе домой, вымыла и накормила. Беды обострили мой ум, и я очень старался усугубить ее сострадание ко мне. В этом я сильно преуспел. Она не сомневалась, что я хороший мальчуган. Она усыновила меня, дала мне образование. Ценя это, я мирился с невыносимой скукой, на которую она меня обрекала, в виде молитв, посещений церкви, моральных поучений и несносной сентиментальности. Как же мне хотелось развеять ее дурацкий оптимизм какой-нибудь хулиганской выходкой! Но я старательно держал себя в руках. Чтобы доставить ей удовольствие, я ползал на коленях и славил Создателя, хотя недоумевал, чем можно гордиться в таком создании, как я. Ради нее я выражал благодарность, которой не чувствовал, старался быть «хорошим» в ее духе. Наконец, когда мне исполнился 21 год, она оформила завещание, в котором отписывала мне все, чем обладала. После этого, как вы догадываетесь, ее дни были сочтены.
После ее смерти мое финансовое положение укрепилось, но я ни на мгновение не мог забыть свои ранние годы: жестокость матери, бессердечие соседей, голод, отсутствие друзей, беспросветное отчаяние, полное отсутствие надежды; все это, невзирая на последующую удачу, стало самой сутью моего мироощущения. Не свете нет никого, кто не вызывал бы у меня ненависти, никого, кому я не пожелал бы невыносимых мук у меня на глазах. Вы предложили мне картину всего населения земного шара, сходящего с ума от жажды и гибнущего в агонии. Сладостная картина! Будь я способен на благодарность, я бы испытал к вам нечто подобное, даже решил бы, что вы мне друг. Но такие чувства перестали меня посещать лет с шести. Признаюсь, вы мне удобны, но больше этого от меня не ждите.
Ступайте домой, полюбуйтесь безвредным взрывом вашей глупой машинки. И знайте, что я, тот, кого вы тщились превзойти, я, кого вы абсурдным образом сочли хуже вас самого, достигну высочайшего торжества, которое вы готовили для себя. Вы не помешали моим планам, а лишь снабдили меня подсказкой, необходимой для моей окончательной победы. Умирая от жажды, не воображайте, что меня постигли те же муки. Запустив механизм неумолимого разрушения, я умру безболезненно. А вы протянете еще несколько часов, а то и дней, извиваясь в агонии и зная, что это зрелище доставило бы мне радость, если бы я смог его наблюдать.
Во время его прощальной речи мои мысли дали задний ход. Ни во что не верил я так глубоко, как в его злодейство. Но раз он желает уничтожить мир, значит, уничтожение мира – это злодейство. Раньше, представляя себе всеобщую погибель, я наслаждался фантазией о собственном очистительном могуществе. Но если мир погибнет по его воле, то восторжествует одна лишь дьявольская ненависть. Я не мог допустить его торжества! Он говорил – и ненавистный мне мир снова делался прекрасным. Ненависть к человечеству, которой он дышал, во мне была, как я понял теперь, всего лишь приступом безумия. Я твердо решил, что должен нанести ему поражение. Он в это время посмотрел в окно и воскликнул:
– Сколько домов отсюда видно! Уже через несколько дней из каждого с воплями побегут безумцы. Я этого не увижу, но в момент моей смерти перед моим мысленным взором развернется восхитительная панорама!
Говоря это, он стоял ко мне спиной. Я достал револьвер, который захватил на всякий случай.
– Не бывать этому! – произнес я.
Он обернулся со злобным оскалом и получил смертельную пулю. Я обтер револьвер, натянул перчатки, осторожно взял оружие за рукоятку и положил рядом с телом. Потом быстро напечатал на пишущей машинке предсмертную записку самоубийцы. Там было написано: «Оказалось, я не тот железный человек, которым себя мнил. Я согрешил, и меня пожирает раскаяние. Мои замыслы вот-вот рухнут, меня ждут позор и разорение. Мне этого не вынести, и я сам лишаю себя жизни».
После этого я вернулся домой и разрядил свою бесполезную адскую машину, успев не дать произойти жалкому взрыву.
VII
Некоторое время, расправившись с доктором Маллако, я ходил счастливый и беззаботный. Я считал, что от него исходили ядовитые миазмы, распространявшие на окрестности дух преступлений, безумия, отчаяния. Теперь, когда его не стало, снова можно было жить радостно и свободно, преуспевать в своем деле, мирно дружить. Несколько месяцев я спал так, как ни разу не спал с того момента, когда увидел медную табличку доктора Маллако, – без сновидений, подолгу, с пользой для здоровья и настроения. Правда, время от времени меня посещали воспоминания о бедной миссис Эллеркер, влачащей отчаянное одинокое существование в окружении умалишенных. Но я сделал для нее все, что мог, и дальнейшие усилия все равно ничего не принесли бы. Я решил выбросить из головы все мысли о ней.
Я повстречал прелестную умную женщину, сперва привлекшую мое внимание глубокими познаниями в психиатрии. Вот человек, подумал я, который в случае необходимости – дай Бог, чтобы ее не возникло, – разберется в причудливом лабиринте злодейств, куда я по несчастью угодил. После непродолжительного ухаживания я женился на ней и зажил счастливо. Но порой меня все равно посещали странные, тревожные мысли, и даже посреди разговора о повседневных делах на моем лице могла появиться гримаса ужаса.
– В чем дело? – спрашивала жена. – Можно подумать, ты увидел что-то страшное. Не лучше ли все рассказать?
– Нет, – отвечал я, – все в порядке, просто иногда меня посещают неприятные воспоминания.
Но я с тревогой замечал учащение мыслей этого беспокойного свойства и их возрастающую живость. В моем воображении разворачивались дебаты с доктором Маллако, наш спор в последний час его жизни. Бывало, перед моим мысленным взором появлялась его спокойная презрительная физиономия, я видел каждую ее черточку, слышал его пренебрежительный голос: «Думаете, я побежден?» Если это видение настигало меня в кабинете одного, я кричал: «Да будь ты проклят!» Однажды в такой момент меня застала жена и как-то странно посмотрела на меня из дверей.
Эти воображаемые посещения происходили все чаще. «Ты ведь не очень хорошо обошелся с миссис Эллеркер? – слышал я его голос. – Думаешь, к тебе вернулось психическое здоровье?» – шептал он. Начала страдать моя работа, потому что, оставаясь один, я все чаще прокручивал в голове фразы из его воображаемого репертуара: «Замахивался на мироздание, хотел со всем покончить – и во что превратился? В скучного респектабельного джентльмена, каких тьма в Мортлейке! Как ты мог надеяться покончить с моей властью с помощью вульгарного револьвера? Забыл, что моя власть духовная, что она коренится в твоей собственной слабости? Будь ты хотя бы вполовину тем, кем притворялся во время нашего последнего разговора, то признался бы в содеянном. Признание? Нет, гордое оповещение! Ты бы объяснил миру, от какого чудовища его избавил. Ты бы хвастался своим геройством: в храбром единоборстве ты одолел силы зла, сосредоточившиеся в моей порочной персоне. И что же? Ты трусливо помалкиваешь. Ты подбросил миру жалкое фальшивое признание от моего имени, приписав свою презренную слабость мне – мне, единственному из всех людей, не знавшему, что это такое! Думаешь, такое можно простить? Если бы ты хвастался своим подвигом, то я бы счел тебя достойным противником. Но, погрязнув в семейной незначительности, ты вызвал у меня такое презрение, что я, даже оставаясь мертвецом, попросту обязан показать, что способен тебя уничтожить!»
Вот какие речи мне слышались. Сначала я знал, что это только воображение, но со временем поверил в реальность страшного призрака. Мне уже казалось, что он стоит рядом со мной в своем безупречном черном костюме, с гладкими масляными волосами. Однажды, не выдержав, я прошел сквозь него, чтобы убедиться, что это бестелесный призрак, но в тот страшный момент, когда он обволок меня всего, я почувствовал его ледяное дыхание, закричал и чуть не лишился чувств. Жена, найдя меня бледным и дрожащим, испугалась за мое здоровье, но я заверил ее, что дело в речных испарениях, от которых у меня озноб, хотя видел, что она сомневается в моем объяснении. Призрак упорно упрекал меня в сокрытии участия в его смерти, и я все больше укреплялся в мысли, что, если я во всем сознаюсь, он от меня отстанет.
В своих снах я снова и снова видел сцену убийства, только с другим концом. Когда убитый падал к моим ногам, я распахивал окно и кричал во все горло: «Сюда, сюда, все жители Мортлейка! Полюбуйтесь мертвым злодеем! Я – ваш герой-спаситель!» Так завершалась эта сцена в моих снах. Но когда я просыпался, привидение говорило с ухмылкой: «Ха-ха, ты ведь этого не сделал, верно?»
Это становилось невыносимо, от проклятого призрака не было проходу. Прошлой ночью произошло худшее. Сон был так похож на явь, что я проснулся от своего вопля:
– Я это сделал! Это был я!
– Что ты сделал? – спросила спросонья жена.
– Я убил доктора Маллако, – сказал я. – Ты думала, что вышла за скучного ученого, но это не так. Твой муж – человек редкой отваги, решительности и проницательности, недосягаемых для других жителей этого предместья, – прикончил врага рода человеческого. Я убил доктора Маллако и горд этим!
– Тише, успокойся, – сказала жена. – Может, тебе лучше снова уснуть?
Я злился, бушевал, но все без толку. Было видно, что среди прочих ее чувств преобладал страх. Утром я услышал, как она звонит по телефону.
Сейчас, глядя в окно, я вижу у входной двери двух полицейских и видного психиатра, своего давнего знакомого, и понимаю, что меня ждет та же участь, от которой я не сумел уберечь миссис Эллеркер. Впереди у меня только долгие годы одиночества и непонимания. Мрак моего будущего пронзает лишь тоненький лучик света. Раз в год тем из умалишенных обоих полов, кто отличился смирным поведением, разрешается встретиться – под усиленным наблюдением, конечно, – на балу. Раз в год я буду встречать мою ненаглядную миссис Эллеркер, которую напрасно пытался забыть. И, встречаясь, мы будем гадать, появятся ли когда-нибудь на свете другие душевно здоровые люди помимо нас с ней.
Корсиканские страдания мисс Икс
I
Недавно мне довелось побывать у моего доброго друга профессора Эн, чей доклад о докельтском декоративном искусстве в Дании поднял ряд вопросов, которые я счел нужным обсудить. Я застал его, как всегда, в кабинете, но его обычно безмятежное, отмеченное несомненным умом лицо в этот раз было удивительно встревоженным. Книги, которым полагалось громоздиться на ручке кресла, потому что он воображал, что читает их, были в беспорядке разбросаны по полу. Очки, которые он часто искал и находил на собственном носу, без пользы лежали на столе. Трубка, которую он обычно не выпускал изо рта, дымилась в пепельнице, он же понятия не имел, что она находится не на месте. Забыто было привычное глуповатое состояние благосклонной безмятежности, оно сменилось обеспокоенностью, изумлением, даже испугом.
– Боже! – всплеснул я руками. – Что случилось?
– Дело в моей секретарше, мисс Икс. Раньше я не мог нахвалиться на ее уравновешенность, деловитость, хладнокровие, отсутствие эмоций, простительных в ее юном возрасте. Угораздило же меня предоставить ей двухнедельный отдых от трудов по декоративному искусству, а ее саму – избрать местом для своего отдыха Корсику! Когда она вернулась, я сразу заметил: что-то не так. «Чем вы занимались на Корсике? – поинтересовался я и услышал в ответ: – Действительно, чем?..»
II
Секретарши в кабинете не было, и я надеялся, что профессор Эн подробнее расскажет о происшедшей с ним незадаче. Но мне пришлось разочароваться. Он уверил меня, что больше не добился от мисс Икс ни единого слова. Она что-то вспоминала, ее взгляд был полон ужаса, но ничего более определенного он так из нее и не вытянул.
Я счел своим долгом по отношению к бедной девушке, бывшей раньше, как я понял, работящей и добросовестной, попробовать каким-то способом избавить ее от гнетущей тяжести. Мне вспомнилась миссис Менхеннет, дама средних лет и немалых габаритов, некогда мнившая себя, по уверениям ее внуков, красавицей. Как я знал, сама она приходилась внучкой корсиканскому разбойнику, который сделал то, что, увы, нередко происходило на его суровом острове: подверг насилию вполне респектабельную юную леди, и та по истечении положенного срока родила будущего грозного Гормана.
Бывая по роду деятельности в Сити, Горман и там позволял себе выходки, схожие с той, в результате которой он сам появился на свет. Крупные финансисты трепетали при его приближении. Уважаемые банкиры с незапятнанной репутацией начинали бояться тюрьмы. Негоцианты, торговавшие щедрыми дарами Востока, бледнели от мыслей о ночных рейдах таможенников. Все эти беды мог навлечь на них хищный Горман.
Его дочь, миссис Менхеннет, могла быть осведомлена о любых неприятностях на родине своего деда по отцовской линии. Поэтому я напросился к ней на разговор и добился приглашения. В ноябрьских сумерках, в четыре пополудни, я присел за ее чайный столик.
– Что вас сюда привело? – спросила она. – Только не притворяйтесь, что сражены моими чарами, те времена давно прошли. На протяжении десяти лет это соответствовало действительности, еще десять лет я этому верила. Теперь это неправда, я больше не верю. Причина вашего прихода в другом, и я трепещу от нетерпения узнать эту причину.
Эта прямота сбила меня с толку. Я предпочитаю подбираться к занимающему меня предмету по винтовой лестнице, начинать издали, а если приходится сразу подойти к теме вплотную, то как бы запускаю бумеранг: отхожу на немалое расстояние и тем, надеюсь, ввожу слушателя в заблуждение. Но миссис Менхеннет с ходу взяла быка за рога. Она была сама честность, сама прямота и верила в пользу прямого подхода – не иначе, унаследовала эту особенность от деда-корсиканца. Я был вынужден обойтись без уклончивого разглагольствования и сразу выложить причину своего любопытства.
– Миссис Менхеннет, – начал я, – как мне стало известно, в последние недели на Корсике происходят странные события, из-за которых, как я смог лично убедиться, седеют смоляные шевелюры, а юная пружинистая походка наливается старческим свинцом. События эти, судя по достигшим меня слухам, имеют необыкновенное международное значение. Мне остается только гадать, о чем идет речь: очередной ли Наполеон выступил в поход на Москву, новоявленный ли Колумб отплыл с целью открыть неведомый континент. Уверен, в этих диких горах творится что-то очень значительное, там вызревает что-то тайное, темное, опасное, а сокрытие неведомых событий наводит на мысль о преступном заговоре неизвестных, готовых жестоко расправиться с любым, кто случайно или намеренно приподнимет завесу тайны. Вы, миледи, как ни безупречен ваш чайный столик, как ни изящен ваш фарфор, как ни ароматен ваш китайский чай, осведомлены о деятельности вашего досточтимого родителя. Мне известно, что после его кончины вы взяли на себя покровительство над интересами, которые прежде защищал он. Всю жизнь он вдохновлялся примером своего отца, ставшего для него лучом света на пути к стремительному успеху. Возможно, ваши менее проницательные друзья обмануты вашей маской, но я знаю, что его мантию надели вы. Поэтому вы единственная во всем этом холодном и унылом городе, кто способен поведать мне о событиях в том залитом солнцем краю, о темных замыслах, от которых даже в полдень может случиться полное затмение, зреющих в умах благородных потомков старинной знати. Умоляю, поделитесь своими познаниями! На кону стоит жизнь профессора Эн – ну, если не жизнь, то рассудок. Вам хорошо известно, какой это доброжелательный человек, не суровый, как мы с вами, а полный любви и доброты. Это свойство характера не позволяет ему бросить на произвол судьбы работящую секретаршу, мисс Икс, вернувшуюся вчера с Корсики совершенно другим человеком: из жизнерадостной беззаботной девушки она превратилась в морщинистую, усталую, перепуганную каргу, сгорбившуюся от всех тягот мира. Она отказывается объяснить, что с ней произошло, и если мы не выясним правду, то есть все основания опасаться, что непревзойденный гений, стоящий на пороге революционного истолкования докельтского декоративного искусства, рухнет и развалится на куски, как старая колокольня собора Святого Марка в Венеции. Уверен, эта угроза не может не повергать вас в трепет. Умоляю, раскройте в меру своих возможностей страшные тайны вашей прародины!
Миссис Менхеннет слушала меня молча. Я уже умолк, а она упорно не произносила ни звука. В какой-то момент моей прочувственной речи она сильно побледнела и ахнула, но сразу пришла в себя, сложила руки на коленях и укротила сбившееся дыхание.
– Вы сталкиваете меня со страшной дилеммой, – промолвила она наконец. – Если я промолчу, то профессор Эн, не говоря о мисс Икс, лишится рассудка. А если заговорю, то… – Она содрогнулась и снова умолкла.
Я не знал, что дальше предпринять, но тут вошла горничная с сообщением, что у дверей ждет трубочист в полном профессиональном облачении, подрядившийся именно в этот день прочистить дымоход в гостиной.
– Бог мой! – воскликнула она. – Мы с вами болтаем о чепухе, а этот гордый человек, вознамерившийся совершить великие дела, терпеливо ждет за дверью! Это никуда не годится, разговор придется прервать. Скажу напоследок одно: если вам действительно не все равно – только в этом случае! – то вот вам мой совет: навестите генерала Пиша.
III
Генерал Пиш, как все помнят, отличился в Первой мировой войне подвигами при обороне своей родной Польши. Однако Польша впоследствии проявила неблагодарность и принудила его искать убежище в более безопасной стране. Боевая жизнь приучила старика, несмотря на его седины, не искать покоя. Почитатели предлагали ему на выбор виллу в Уортинге, миленькую резиденцию в Челтенхэме, бунгало в горах Цейлона, но ему ничего не подошло. Миссис Менхеннет снабдила его рекомендациями для своих самых буйных корсиканских родичей, и их общество его вдохновило, он опять загорелся, обрел дикую энергию, вдохновлявшую его на прежние подвиги.
Но хотя Корсика большую часть года служила ему духовным и физическим домом, он изредка позволял себе посещать столицы европейских государств к западу от железного занавеса. Там он переговаривался с бывалыми государственными мужами, жадно спрашивавшими его мнение о главных тенденциях текущей политики и внимавшими ему с почтением, соответствующим его возрасту и заслугам. Обратно в горы он возвращался с вестью о том, что Корсика – да, даже Корсика! – способна сыграть немалую роль в грядущих великих событиях.
Как друг миссис Менхеннет он тут же был принят в узком кругу тех, кто в согласии с законом или вопреки ему поддерживал древние традиции свободы, занесенные их предками-гибеллинами из некогда могущественных республик Северной Италии. В глубоких долинах, скрытых горами от взоров обычных туристов, видящих только камни, пастушьи хижины да кривые деревца, он был вхож в старые дворцы, полные средневекового великолепия, старинных доспехов знаменосцев, усыпанного драгоценностями оружия прославленных солдат-наемников. Гордые потомки прежних племенных вождей собирались и пировали в роскошных залах, порой забывая о мудрости, но никогда – об удовольствиях. Правда, даже в беседах с генералом они не раскрывали своих главных тайн; исключений можно было ждать только на самых бурных пиршествах, когда традиционное гостеприимство пересиливало предрассудки, которые при иных обстоятельствах принуждали пировавших осмотрительно помалкивать.
В разгар одной из таких попоек генерал узнал о замысле, родившемся у этих людей и способном потрясти мировые устои, – замысле, с которым они теперь засыпали и просыпались и который преследовал их во снах, часто завершавших их пиры. Проявив юношеский пыл, генерал сделался приверженцем этого замысла со всей горячностью и традиционной бесшабашностью родовитого польского шляхтича. Он благодарил Бога за то, что в почтенные лета, когда большинству остается пробавляться одними воспоминаниями, ему был дарован шанс на приключения и подвиги. Лунными ночами он скакал по горам верхом на несравненном скакуне, чья родословная внушала благоговейный трепет в каждом уголке его родного острова. Вдохновленный ночным ветром, генерал грезил о возрождении былой славы и о блестящем триумфе, в котором, разогретые его неуемной страстью, сольются прошлое и будущее.
На момент загадочного предложения миссис Менхеннет генерал как раз наносил очередной визит престарелым западным политикам. В прошлом он питал анахроническое предубеждение против Западного полушария, но, узнав от друзей-островитян, что Колумб был корсиканцем, стал лучше относиться к последствиям несколько поспешной деятельности этого авантюриста. Брать с Колумба пример он не мог, опасаясь, что сегодня такому путешествию непременно припишут торгашеские намерения, зато регулярно наносил визиты американскому послу при Сент-Джеймском дворе, у которого всегда были припасены для него послания от президента. Уинстона Черчилля он, конечно, тоже посещал, однако министров-социалистов категорически не признавал.
Как-то после ужина с Черчиллем мне повезло застать его в старинном клубе, почетным членом которого он являлся. Он угостил меня рюмкой токайского урожая до 1914 года, трофея от столкновения с прославленным венгерским полководцем, павшим на поле брани и не услышавшим эпитафии своей отваге. Поблагодарив его за это проявление благосклонности, тем более ценное, что даже венгерские полководцы ходили в бой всего с несколькими бутылками токайского, привязанными к седлам, я постепенно перевел разговор на Корсику.
– Как я слышал, – начал я, – ныне остров уже не тот, что прежде. Говорят, образование превратило разбойников в банковских клерков, а их стилеты – в авторучки. Старинные вендетты, говорят, живут теперь не больше одного-двух поколений. До меня доходили даже кошмарные рассказы о брачных союзах между семьями, враждовавшими друг с другом по восемьсот лет, причем на свадьбах не бывало кровопролития! Если все это правда, я готов рыдать. Всегда надеялся, если повезет, сменить свою уютную виллу в Болхэме на грозовой пик в каком-нибудь древнем романтическом краю. Но если и там романтика мертва, на что же мне надеяться в старости? Может, вы меня утешите? Может, что-то еще осталось? Может, призрак Фарината дель Уберти все еще поглядывает с презрением вниз из грозовой тучи, разводя руками молнии? Я пришел к вам именно за таким утешением, ибо без него я не смогу влачить бремя тоскливых лет.
Генерал внимал мне с пылающим взором, стискивая кулаки и сжимая челюсти. Едва дождавшись конца моей речи, он разразился собственной:
– Молодой человек! Не будь вы другом миссис Менхеннет, я заставил бы вас выплюнуть благородный нектар, который позволил вкусить. Должен ли я думать, что вы водитесь с подлецами? Такие могут завестись среди портового отребья, есть они и среди людей голубой крови, уронивших себя участием в бюрократии: о них еще можно сказать то, что говорите вы. Но они не настоящие корсиканцы, а выродки-французы, жестикулирующие итальянцы, каталонцы – пожиратели жаб. Истинная корсиканская порода остается прежней. Корсиканец живет свободной жизнью, и эмиссаров правительства, вздумавших к ним сунуться, ждет смерть. Нет, друг мой, на счастливой родине геройства все по-прежнему в порядке.
Я вскочил и обеими руками стиснул его правую ладонь.
– О, счастливый день возрождения моей веры, посрамления моих сомнений! Увидеть бы собственными глазами благородную породу мужчин, которую вы так рельефно представили моему воображению! Если бы вы согласились познакомить меня хотя бы с одним из них, моя жизнь стала бы куда счастливее, и мне стало бы проще переносить бесцветность Болхэма.