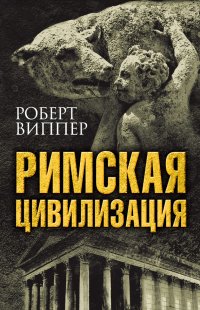
Читать онлайн Римская цивилизация бесплатно
- Все книги автора: Р. Ю. Виппер
© Виппер Р. Ю., наследники, 2017
© ООО «ТД Алгоритм», 2017
* * *
1. Рим и Италия до образования империи
Возникновение Римской империи произвело в современном ей культурном мире сильнейшее впечатление. У одного из самых широкообразованных наблюдателей того времени, Полибия, писавшего в 40-х годах II века, когда Рим вступал в новую эру захвата заморских владений, это впечатление отразилось в первых же почти словах его большого исторического труда. «Едва ли найдется, – говорит Полибий, – человек, настолько легкомысленный и равнодушный к окружающей жизни, который бы не заинтересовался вопросом о том, какими средствами, какими приемами политики римляне в промежуток менее 53 лет (считая с конца 2-й Пунической войны) победили почти все страны населенного мира и подчинили их своей единой власти – факт в истории беспримерный»[1].
Мы выражаем теперь иначе основной исторический вопрос. Мы спрашиваем: какие социальные мотивы, какие группировки интересов вызвали империализм, какие классы направляли страну на политику расширения, и, наконец, уже какая общественно-политическая организация осуществила этот рост колониального могущества? Но мы также исходим от конечного факта и также ищем объяснения его во всей совокупности условий предшествующей поры. Что нам могут в этом отношении дать античные писатели?
Полибий, воспитавшийся на политической науке греков, на развитом государственном праве Эллады, превосходно знакомый со сложным хозяйством и администрацией эллинистических монархий, был поражен необыкновенно быстрыми и неотразимыми успехами нового государства, в котором центральная община сохраняла патриархальный политический строй, которое было лишено правильных финансов и держалось натуральной повинностью массы мелких и средних землевладельцев, живших раздробленной и автономной жизнью, очень отсталых по культуре и технике. Какими приемами политики римляне достигли господства, в чем секрет государственного и военного строя, создавшего необычайные успехи расширения их державы, – вот что занимало более всего Полибия, и он старался выяснить путем непосредственного изучения особенности устройства Рима и италийского союза. Полибий был при этом глубоко убежден, что нельзя писать историю исключительно по книгам; историки, работающие таким образом, неизбежно лишены ясного понимания явлений, так как оно дается исключительно личными переживаниями.
В виду этих качеств труда Полибия, его необыкновенного интереса к своему сюжету, его уменья ясно и определенно ставить вопросы, его чуткости, как наблюдателя, составленный им очерк римской конституции имеет для нас неоценимое значение. Ведь мы не располагаем никаким другим описанием старого Рима эпохи до образования империи. Характеристика Полибия – самое старинное свидетельство об этом скоро вполне забытом и исчезнувшем политическом образе. Все последующие попытки реставрировать картину древнего патриархального Рима, нарисовать старые сословия патрициев и плебеев, представить выработку конструкции из медленной и упорной борьбы между ними, принадлежат уже времени конца республики, следовательно, стоят по другую сторону большого кризиса, созданного империализмом: эти научные, государственно-правовые и социально-исторические реставрации возникли в то время, когда совершенно изменился состав и облик общества, после того как прошел недолгий, но сильный подъем римской демократии, а затем крутая реакция сулланского времени. В борьбе партий за это шестидесятилетие (135–75) глубоко изменились учреждения и ослабели, если не исчезли вовсе традиции старого строя.
Можно различно смотреть на развитие римской анналистики, можно считать очень старинными официальные записи жрецов и фамильные традиции в родах нобилей – и все же трудно отрицать, что собственно политическое содержание очень поздно вошло в обработку римской истории. Ранние исторические писатели и составители светских летописей во II веке мало умели рассказать о столкновении патрициев и плебеев, о борьбе за землю, за равенство прав и т. д. Лишь позднейшие авторы обстоятельных литературно обработанных летописей I века внесли в изображение старины характеристики классов и партий, политических вождей, аграрных и конституционных проектов. Они вели на почве исторических построений римского прошлого принципиальную борьбу за учреждения и реформы конца республики, и их разногласия и споры мы ясно чувствуем при чтении Ливия. Благодаря своей компилятивной манере, мозаически складывающей отрывки, иногда резко противоречивые, Ливий представляет как бы свод ближайшей к нему историографии. В его изложении борьбы патрициев и плебеев постоянно мелькают программы и жгучие вопросы последнего века республики, развиваются политические и социальные теории партий этого времени; приводимые Ливием тексты законов, отнесенных на 400–300 лет назад, в V–IV веке до Р.Х., похожи, скорее всего, на формулы, которые составлены публицистами, государствоведами, антиквариями конца республики на основании общих исторических представлений о ходе конституционного развития, но без всякой опоры в каких-либо подлинных записях.
Если мы хотим открыть работу этого политико-юридического творчества в живом еще незаконченном виде, надо обратиться к Цицерону, и мы застанем его среди больших затруднений: как произошла власть старых консулов, диктатора, трибунов, откуда идет название патрициев, могло ли состояться решение народа без предварительного одобрения «отцов», – это и многое другое было так неясно, что Цицерон должен был вычитывать смысл сохранившихся терминов в них самих, толковать слова и названия, цепляться за обычаи, которые казались архаическими; а главное, он должен был складывать заново целую композицию о старинном строе на основании своих общих партийных политико-теоретических и политико-философских представлений. Цицерону казалось, что он постиг «дух старины», этот исконный обычай, державшийся веками и так близко подходивший к естественному разумному порядку вещей. Обычай старины, конечно, очень близко подходил к идеалу политического деятеля, во вторую половину жизни ставшего решительным консерватором: по его мнению, для того, чтобы быть прочным и устойчивым, государство и общество должны сохранять иерархическое строение, в котором господствует опека и покровительство, а низшие классы преклоняются перед высшими и отдаются в их волю; таково именно и было устройство старинного Рима.
Цицероновские идеи и манера ярко отразились в исторической компиляции Ливия, именно там, где он сделал обширные заимствования из историка Туберона, человека и лично, и по своим симпатиям близкого к Цицерону. У Ливия видна также работа другого современника Цицерона, Теренция Варрона, крупнейшего антиквария конца республики. Варрон не имел в распоряжении другого материала; он также должен был восходить от переживаний к проблематичной старине. Когда он, например, рассуждает о полезности деления исполнительной власти между двумя сановниками с равным и независимым авторитетом и отсюда выводит, что римляне должны были установить двойное консульство непосредственно за изгнанием тирана-царя в виде гарантии свободы, мы чувствуем ясно, что эти соображения навеяны партийными вопросами о постановке верховной власти в эпоху Красса и Помпея, Помпея и Цезаря, когда надеялись спасти республику уравновешением двух могущественных властителей.
У Цицерона, Туберона и Варрона были теоретические предшественники, которые в свое время, в 80-х годах, своей ученой аргументацией поддержали сулланскую реакцию в пользу аристократии, доказывая новизну и революционное происхождение демократических идей и учреждений. Моложе этих родоначальников ученого консерватизма, но несколько старше Варрона и Цицерона был тот талантливый и пламенный историк-демократ – вероятно Лициний Макр, – которому принадлежат горячие страницы у Ливия о страданиях плебеев, о великой выдержке и пассивном героизме римского народа, о его самоотверженных и умных вождях трибунах, добившихся земли и воли, крестьянских наделов, равенства прав и личной неприкосновенности для простого люда. Эта история Рима с точки зрения радикального деятеля, написанная, по-видимому, в конце 70-х или начале 60-х годов I века, была, может быть, первой апологией партийной политики, составленной в исторических красках, и первой попыткой изобразить конституционную эволюцию Рима в виде борьбы классов. Проникнутая пессимизмом, она отражает настроение времени, в ней ясно чувствуется разгром демократии, произведенный Суллою, трагические звуки, вызванные сознанием непоправимой потери, которую понесла народная партия.
На первый взгляд можно отчаяться найти в этих конституционно-археологических и социально-полемических работах какие-либо данные для восстановления подлинной политической истории римской старины. Значение полибиевской характеристики, как будто бы еще более вырастает от сравнения с позднейшими римлянами. Но при ближайшем знакомстве с очерком Полибия нас охватывает некоторое разочарование. Это не простое описание политической машины и политических нравов, сделанное реалистом-наблюдателем, каким себя считает сам Полибий. Это – идеальная схема греческой теории наилучшего государства, иллюстрированная некоторыми чертами римского строя. Историк, приступая к изучению этого строя, уже знал наперед его секрет: тут должен открыться земной рай политики; конституционная утопия осуществилась у этих полуварваров; у них гармонически соединены три основных элемента всякой государственности, принципы монархии, аристократии и демократии; они разумно отмерены, приведены в правильное взаимодействие и уравновешены; ни одному из них не дано слишком много, ни монархическому принципу в лице двух сменяющихся консулов (здесь принципиальная натяжка со стороны Полибия очевидна), ни аристократическому, представленному сенатом, ни демократическому, выражающемуся в народных собраниях.
В описании Полибия есть отдельные черты, в высокой мере ценные, и к ним мы еще вернемся. Но в целом оно вместо того, чтобы объяснять, заслоняет основные факты радужным сиянием: точно какой-то гений-художник или сам Бог сложил здесь из элементов общежития совершеннейшее произведение искусства, в котором нельзя ничего ни убавить, ни прибавить. Сановники, сенат и народ римский, это уже не живые люди, борющиеся за противоположные интересы, а послушные высшему принципу дисциплинированные стихии. Но если в 40-х годах II века в Риме было такое удивительное равновесие сил и согласие общественных начал, то как же объяснить, что в следующем десятилетии, в 30-х годах, обнаруживается по поводу проектов Гракха жестокий разлад, а затем этот разлад не только не прекращается, но принимает все более широкие размеры, превращаясь из римского кризиса в общеиталийский, причем в социальной борьбе разрушается и порядок, сложенный, по-видимому, столь искусно и прочно? Очевидно, рисуя свою политическую идиллию, не подозревая о приближающейся буре, Полибий совершенно не замечал элементов розни, противоположности интересов в римском и италийском обществе; реалист по убеждению, он увлекся идеологией и забыл, что государство – не дар богов, а комбинация сложных колеблющихся общественных отношений.
Римские историки, писавшие во время и после кризиса, гораздо дальше отстоявшие от старины, однако несравненно сильнее чувствовали, что и там, в туманной дали времен, надо предполагать борьбу общественных групп, различие политических влечений, столкновение программ и тактики партий и классов. Им казалось, что партии империалистической республики должны быть продолжением группировок республики патриархальной, маленького кантона, разраставшегося медленно в союз общин и, наконец, в крупную державу.
Историк-демократ I века говорит нам, что с самого начала республики патриции и плебеи были самостоятельно организованы, что они никогда не были согласны между собою: во внешней политике одни стояли за непрерывную войну, другие тяготились бесконечной службой, разорявшей их хозяйство; во внутренних делах оспаривалась всякая позиция: раздел захваченных земель, занятие должностей, общественный кредит, вопрос о личной неприкосновенности граждан и свободе слова, – все было предметом упорных схваток, всякий компромисс достигался великими усилиями и служил только началом нового спора.
Историку-консерватору многое не нравилось в гневных речах и обличениях своего радикального предшественника Он спешил поправить тяжелое впечатление от пессимистической картины старинного Рима. Вражда классов, по его мнению, была делом, главным образом, тщеславных вождей, упрямых агитаторов; и патриции, и плебеи шли по временам за крайними правыми и крайними левыми, но в лучшие моменты политической жизни брали вверх здравые идеи середины, и тогда получалось единственно спасительное согласие интересов. Сурова была политическая дисциплина, заведенная в старой республике патрициями, но она была нужна, чтобы сплотить неорганизованную массу эмигрантов и мужиков, из которой составился народ в Древнем Риме. И, однако, консервативный историк должен признать, что плебеи очень скоро образовали самостоятельное целое, что уже через 17 лет после основания республики они способны были уйти из Рима, чтобы образовать особую общину, что они помирились лишь на условии, если им дадут выбирать своих особых начальников, трибунов: угроза выхода и образования своей общины постоянно висела над патрицианским Римом.
Снова и снова мы встречаемся с этим упорным историческим представлением римлян, что на почве старой республики устроились две разные общины, видимо, очень нужные друг для друга, но в то же время имевшие очень различные интересы. Историки конца республики уже не могли ясно представить себе и нарисовать облик этих общин, их состав и устройство. Они изображали союз соперников в виде одной общины, состоящей из двух классов, двух общественных типов, двух морально-политических характеров. Они чуяли в старом Риме еще одну противоположность – города и деревни. Правда, все политические дебаты, все колебания партийной тактики, все смуты и протесты происходят в стенах города, авторитет трибунов не имеет силы за городской чертой; в городе собирается сенатская коллегия, ведущая знаменитую своей цепкостью и предусмотрительностью дипломатию. Но в то же время масса населения живет в деревне, и там коренятся ее интересы; не только крестьяне-плебеи, но и патриции, будучи вне политики, держатся в своих имениях, уходят в сельское хозяйство. Тут остается что-то неразъясненное, но историки держатся крепко за это различие городских и сельских дел и интересов.
Что мы могли бы извлечь из этих смутных, но неизменно повторяющихся указаний римской историографии?
Старый Рим, несомненно, был торговой общиной, главным или единственным портом Лация, находившимся издавна в сношениях с греками Южной Италии и Сицилии, а также с карфагенянами. Но какую роль в этом коммерческом Риме с его заморской политикой играли аграрные элементы? Каким образом традиция превратила правителей старой торговой общины в патрициев-землевладельцев? Новые историки различно пытались выйти из затруднения. Одни представляли крестьян, плебеев клиентами, крепостными городских крупных владетельных домов, постепенно выходящими на свободу, другие готовы были различать два периода: первоначальный торговый и позднейший аграрный. Но, может быть, с самого начала обе силы, обе группы стоят наравне и образуют союз между собою. Близкий к морскому выходу город пытался монополизировать торговлю всей округи и в то же время воспользоваться тем военным материалом, который давали ближние горные общины.
Это явление повторялось чуть ли не на всех берегах западной части Средиземного моря с тех пор, как его открыли финикийские и греческие колонисты. Сам Карфаген, сицилийские города, города Кампании, Этрурии, греческая Марсель, вероятно, также иберский Сагунт, все они, становясь центрами ввоза и вывоза, должны были искать комбинации с племенами соседних внутренних областей, нанимать их на службу или обеспечивать себе их помощь договорами. В Апеннинах Средней и Южной Италии размножающееся крестьянство, не будучи в состоянии кормиться со своих наделов, рано стало высылать младших детей в колонии и в стороннюю службу. Безнадельные охотно нанимались в войска к африканцам, к грекам сицилийским и итальянским; во внутренней Италии образовался большой рынок военных наемников. С конца V в. и в первые десятилетия IV особенно гремела в Сицилии слава кампанцев, т. е. захвативших Кампанию самнитов. Они были наняты сначала для помощи афинянам против Сиракуз. Позднее сиракузский тиран Дионисий применял кампанцев против Карфагена. Многие из них погибали в боях за чужое дело, но иные добивались награды в виде земельных наделов на чужбине, иногда за счет экспроприации туземных граждан, как это не раз происходило в Сицилии. Таким образом, эти крестьянские дети обращались в свое первоначальное звание; устроенные сплошными поселками в Катане у Этны, чтобы служить опорой сиракузским тиранам, они представляли подобие тех coloniae agrariare, которое устраивало потом римское правительство в завоеванных областях для расстановки гарнизонов и обеспечения безнадельных плебеев.
То, что представляли в смысле военного элемента луканы и самниты для городов Южной Италии и Сицилии, тем были латины, сабины, умбры для городов Средней Италии и для Рима, Цере, Вей и др. Старый Рим, может быть, был соединением торговой монополии городской общины на нижнем Тибре с военными силами деревенских союзов на склонах среднеапеннинских возвышенностей.
Правительство его составлялось из сената, т. е. старших представителей городских семей (буквально «градских старцев»), из военных капитанов и казначеев, принадлежавших к среде богатых торговых домов города. Римские военные предводители имели право набирать солдат в сельских округах из плебеев, т. е. преимущественно мелких землевладельцев. Стянутые в войско, разделенные на классы по видам оружия и отсчитанные центуриями, сотнями, они становились под команду городского начальника. Главный командир похода (диктатор) назначался военным штабом, консулами; но второстепенных капитанов, консулов и преторов выбирало само войско, выбирали все центурии. От этого порядка и остались впоследствии главные комиции, где происходили выборы и утверждались решения сената о войне и мире. По некоторым обычаям позднейшего времени можно судить, что старинные комиции были собранием призывных солдат. Еще в эпоху Югуртинской войны в конце II в., когда уже вполне утвердился порядок продолжительной и непрерывной службы в провинциях, римское выборное народное собрание проходит под давлением войска, хотя солдаты отделены от Рима морем и африканскими степями, однако, будучи крайне заинтересованы в выборе консула, т. е. своего начальника и желая провести в главнокомандующие популярного среди них Мария, они из своего лагеря в Нумидии пишут в Рим, как бы вручают мандат своим заместителям на комициях, и этим способом проводят своего кандидата.
Помимо этих собраний призывных ополчений, у плебеев, у сельского населения была и осталась своя особая жизнь и автономия. Они сохранили свое старое деление на волости, может быть, отвечавшие вначале племенным группам. По типу сельских волостей и для соединения с ними, может быть, потом разделили на трибы и горожан: трибы сходились на особые собрания для решения своих дел, выбирали своих начальников, трибунов, для администрации и суда в своей среде. Греческие историки называют трибунов демархами, следовательно, находят в них сходство с сельскими старшинами своих общин, например, Аттики.
Описание Полибия еще дает почувствовать, что в лице трибунов первоначально являлись в Рим представители чужих, отдельно управляемых общин; греческий историк считает нужным отметить, что трибуны не подчинены консулам, хотя в руках последних сосредоточена исполнительная власть. Трибуны могли также, по-видимому, объявить от имени представляемых ими общин отказ идти на войну или допускать набор; таков, может быть, был первоначальный вид и смысл наложения трибунского veto на распоряжения сената и консулов. Следы самостоятельности плебейских внеримских общин, вероятно, надо видеть и в плебейских трибут-комициях: они созываются и ведутся трибунами, они отличаются от более парадных, но лишенных активности собраний по центуриям своей большей подвижностью, допущением дебатов и свободы слова, вследствие чего в трибут-комиции и вносятся наиболее важные для плебса аграрные предложения. Еще любопытная черта: собранный по трибам народ мог судить городских капитанов, которые были его командирами на войне. Осужденный таким приговором мог уклониться от наказания, избравши своей долей изгнание, подчинившись своего рода остракизму; он отправлялся недалеко в одну из союзных территорий Италии.
Но, как бы ни были деятельны старые сходки по волостям, из которых, надо полагать, возникли собрания всех триб, собиравшийся в Риме сельский люд не играл большой политической роли в самой столице. Благодаря способу подачи голосов, не поголовному, а по трибам, можно было, вероятно, немногим представителям отдаленной трибы привезти с собою коллективный голос, т. е. готовое решение своей волости. Цицерон упоминает однажды, что в трибах голосуют немногие единичные граждане. Обыкновенно в этом факте видят надвигающийся упадок народных собраний и республики вообще. Но таков мог быть как раз обычный порядок прежних ранних времен. Наоборот, когда мы слышим, что трибуны со времени Гракхов организуют особую систему массового вызова в Рим сельских избирателей для важных голосований, можно считать эту форму недавно возникшим приемом демократии, чертой поздней в римской политической практике.
Еще менее активности проявляли старые центуриат-комиции. Можно представить себе, что такое были выборы консулов или преторов: выбирали того капитана или тех капитанов, которые задумали, иногда на свой риск, как Регул в 256 г., Фламиний в 224 г., Сципион в 206 г., какое-либо внешнее предприятие; кандидат развивал его ожидаемые выгоды, давал обещания наград и выдач, а собрание, наполовину, по крайней мере, состоявшее из служивших уже раньше солдат, провозглашало его вождем на будущий год, т. е. на предстоящее предприятие, поход, осаду, захват земли, заморскую кампанию, в то же время и силою того же решения оно записывалось в набор и разрешало дополнительный набор с деревень, в которых уже выросло новое поколение.
Едва ли правильно представлять себе старинных римских консулов империалистической эпохи в виде ограниченных серых городских голов, которым приходилось по временам, не мудрствуя лукаво, водить мужицкие ополчения на врага. Наоборот, по всей вероятности, издавна Рим выставлял искусных техников военного дела, самостоятельных предпринимателей и политиков, которые умели сами задумать поход, снарядить экспедицию и нередко выполняли ее на свой страх. В этом отношении Рим III в. не так далеко ушел от своего торгового и военного соперника Карфагена. Напрасно представляли одно государство живущим в замкнутом аграрном быту, с крепким ополчением, другое – богатым финансами, но предоставленным защите наемников; напрасно изображали на одной стороне безответных, подчиненных суровой дисциплине коллегии исполнительных чиновников, на другой – почти оторванных от государственной политики центра смелых кондотьеров, которые превращаются благодаря колониальным завоеваниям в самостоятельных князей. Между Регулом и Гамилькаром, между Сципионом Африканским и Ганнибалом, между политикой Сципионов вообще и политикой фамилии карфагенских Барка гораздо больше сходства, чем различия. И Рим, и Карфаген в эпоху борьбы за торговую монополию в западной части Средиземного моря и за колонизацию полуварварских земель, составляющих край Европы и Африки, выставляли дальновидных конквистадоров. Центральное правительство большею частью поддерживало их в случае удачи, не покидало на произвол судьбы при неуспехе; во всяком случае, им приходилось предоставлять большой простор не только в стратегических операциях, но и в дипломатических сношениях с новыми врагами или союзниками.
Так можно объяснить себе и странный на первый взгляд обычай римского сената выдавать консула, потерпевшего неудачу, врагу. Какова бы ни была цена легенды о консулах запертого в Кавдинском ущелье войска, согласившихся на позорную его сдачу и за то выданных самнитам, но налицо факт несомненный, исторический: сенат отдал нумантинцам в Испании консула Манцина, сдавшегося на капитуляцию и заключившего невыгодный договор с врагом; это было лишь запоздалым объявлением со стороны правящей коллегии, что она считает все предприятия одного из своих сочленов его частным делом; при удаче она, разумеется, присоединилась бы к его инициативе и разделила с ним добычу.
Развитие кондотьерства, преобладание конквистадоров, важная роль частного предприятия – все это нисколько не отнимает у римской политики элемента настойчивого постоянства. Две группы интересов идут параллельно и в союзе между собою. Если нам трудно доказать исконность этой двойной политики историческими свидетельствами, то мы можем прибегнуть к помощи географической карты. Расположение известной территории, ее конфигурация, движение завоевательной полосы говорят очень много; это своего рода археологические документы, это сама история, отложившаяся в плоскости в живописной перспективе.
Вглядимся внимательно в расположение непосредственных владений Рима, а также его старых и новых союзников, в последовательные моменты истории Италии с исхода IV в. и до окончательной формации италийского союза во II в. Первая карта изображает Италию так называемых самнитских войн, т. е. первого крупного расширения старого союза, во главе которого стоял Рим. Римская территория и земли старинных союзников лежат почти сплошной полосой вдоль моря по обе стороны Рима и реки Тибра. На этой линии равнин, следующей за берегом, бросается в глаза обилие приморских поселков, по большей части вновь основанных римлянами после завоевания, на отнятой территории; это – результат морской торговой политики Рима, которая исходя от скромного начала, проводила в размерах все более широких монопольные цели. Часть берега на юге отрезает от моря самнитов и оттесняет их в горы. Но, расширяя свои владения, община на Тибре нуждалась в более широком круге союзников, поставщиков военной подмоги: она заставила войти в союз с собою всю группу народцев, сидевших в Апеннинах, позади вновь приобретенной приморской территории, сабинов, марсов, пелигнов, френтан и самих самнитов, своих ослабленных соперников.
Приглядимся теперь к политической карте Италии лет 40 спустя, перед началом 1-й Пунической войны, в 60-х годах III века, когда Рим уже распоряжался силами большого союза всей Средней и Южной Италии. Сравнивая эту карту с предшествующей, мы замечаем значительное расширение римской территории. К приморской западной полосе присоединилась другая, под прямым к ней углом; она идет от Рима через Апеннины поперек полуострова к Адриатике. Эта полоса лежит памятным свидетельством другой завоевательной программы, именно движения деревенских союзов, входящих в римскую общину. Ближние горцы, сабины, приняты в римское гражданство, но должны были уступить часть своей земли римлянам, и прежний сабинский ager теперь составляет часть римского; также на чужой территории нарезаны наделы новым колонистам из римских крестьян и более верных союзников, так называемых латинов. Особенно при этом пострадали пиценты и сенонские галлы на берегу Адриатического моря; по их почти сплошь занятым областям римская завоевательная линия переходит с западного склона Апеннин на восточный и приближается к широкой равнине реки По. К союзу примкнули новые малые народы – на севере этруски и умбры, на юге – луканы, салленты, бруттийцы и греческие колонии; но эти группы изолированы, отрезаны друг от друга территорией господствующей общины. На примере самнитов можно видеть характерные приемы этой римской политики, старавшейся ослабить большую племенную группу мозаичными вырезками из ее территории, отнятием у нее берега, разложением ее на мелкие союзы. От старого Самния отделены большие доли в ager romanus, затем на устройство латинских колоний, и, наконец, от него выделен в особый союз малый народ гирпинов; благодаря всему этому область самнитов уменьшилась втрое против прежнего.
Возьмем еще один момент, 60–70 лет спустя, и присмотримся к карте Италии в начале II века после нашествия Ганнибала и нового расширения римской территории, в значительной мере за счет союзников. К старому почти сплошному ager romanus теперь примыкают в Северной и Южной Италии более или менее оторванные клочки. Расположение этих отрезанных кусков и долей римской территории открывает нам возможность изучить те же самые две задачи старинной римской политики. От Рима, к самым отдаленным частям agri romani и пересекая более ближние на пути, идут большие военные дороги римлян; это бывшие этапы римских походов, ставшие потом предохранительными линиями сообщения центра с завоеванными областями, с дальними колониями и гарнизонами; на тех же дорогах расположены и латинские колонии, т. е. новые поселения привилегированных, наиболее надежных союзников; и римская и латинская колонии в то же время образуют крепости.
Вследствие особенности строения полуострова римская дорога, а вместе с тем и завоевательные полосы имеют лишь два направления: на северо-запад к галльским областям и на юго-восток к Кампании, Лукании и греческим колониям. Первая линия показывает путь плебейских военно-крестьянских наделов. Coloniae agrariare римлян примыкают здесь цепью к старой территории, образуют ее продолжение в инородческой земле. Вторая линия распространяется вдоль берега западного моря, отрезает от морских сношений несколько групп союзников и переходит потом к самому краю полуострова на восточную сторону, для того, чтобы обеспечить Риму сношения с Грецией и Азией. На севере в галльских областях римские колонисты сидят среди населения, близкого к ним по быту и хозяйству; это – большие земледельческие районы. На юге продолжаются coloniae maritimae, систематически захватывая выступы, доминирующие пункты и бухты; они также находятся среди населения, живущего теми же промыслами и в сходных формах быта; по соседству с ними помещаются socii navales, греки и бруттийцы, вносившие важную составную часть в крупные римские флоты Пунических войн. Помимо береговой линии, и здесь захвачены территории, пригодные для земледельческой обработки.
Географическая карта II века держит нам в памяти историю, по крайней мере, двух или, может быть, трех веков, приблизительно до 100 г., начиная с 350-го до 400-го. Все это время политика Рима идет в двух направлениях. Без сомнения, были колебания, когда брала верх морская программа монополии, захвата берегов, приобретения островов, как опорных пунктов, или когда, напротив, преобладало занятие хлебородных территорий.
Фламиний, первый вождь демократии, по определению Полибия, представляет своими популярными галльскими походами, раздачей земель в равнине р. По и проведением первой большой дороги на север резкую реакцию предшествующей политике Рима в первую Пуническую войну, всей этой трате сил на огромные флоты, на рискованные экспедиции в Африку, Сицилию, Сардинию и Корсику. Но, в свою очередь, когда римская община в 264 г. при объявлении первой войны Карфагену решила идти на море, это вовсе не было внезапным первым выходом из будто бы традиционной замкнутой сферы на путь дальних и неизвестных предприятий. В этом решении не было драматической смены вековой политики. Правящие фамилии в торговом Риме задолго до этого момента внимательно следили за отношениями сил в Западном море. Лет за 100 до столкновения с Карфагеном они пытались завести колонии на Корсике и Сардинии. Острова эти в свою очередь были очень важны для африканской торговой державы: они служили естественной опорой в сношениях с северными берегами западного моря, передаточным пунктом в переездах из Италии к Испании; их население составляло материал для вербовки наемников; они производили важные продукты, Корсика доставляла превосходный лес для постройки кораблей, Сардиния – хлеб. На этой почве уже существовало старое соперничество Рима и Карфагена. Оно отражается и в колебании условий торговых договоров между двумя республиками. Сначала африканцы позволили римлянам в известных, строго установленных формах торговать в Сардинии. Но в договоре половины IV в. Карфаген настоял на запрещении римлянам всякой торговли в Сардинии: особо было выговорено, чтобы Рим не основывал никаких поселений на острове.
Как нельзя более характерны для Рима и эти старинные торговые договоры, восходящие к началу V в., за 250 лет до начала первой Пунической войны. В них отражается главный интерес, главная забота правящей общины на нижнем Тибре.
Это коммерческое прошлое Рима затуманено, стерто в позднейшей традиции. Она изображает нам земледельческий край, суровую деревенскую простоту, заслуженного Цинцинната, которого отрывают от плуга, чтобы поставить командиром в опасный поход, и т. д. Особенно трудно заставить себя думать, что старые патриции, что предки римских нобилей, позднейших лендлордов Италии и Африки, были негоциантами, коммерческими предпринимателями, судовладельцами, каперами. Но ведь и нобили Венеции XV и XVI в. уже не были коммерсантами, а располагали большими поместьями на terra ferma и отдавались лишь высшей политике; однако они наследовали коммерческим завоевателям и посредникам торгового транзита предшествующих веков. Отчего бы и старым римским патрициям не быть монополистами торговли Лация и Сабины, отчего мы не вправе представлять себе старые gentas в виде больших купеческих домов? Еще до первой Пунической войны должен был чувствоваться этот элемент во всем складе высшего общественного слоя: едва ли римские адмиралы, которые с таким успехом разбивали флоты первой морской державы того времени, могли выходить из среды земледельцев, никогда не видавших моря и отдававших судьбу своих кораблей в распоряжение стихий и несогласованных, но храбрых усилий своего экипажа? Странная басня об этой римской добродетели и дельности, превозмогавшей или делавшей ненужною всякую технику, специальную выучку и опыт. Не вернее ли будет в консулах Пунической войны предположить испытанных капитанов, прошедших основательную морскую школу, которая в свою очередь приобретается лишь в среде торговых странствователей, купцов и пиратов, рыболовов, перевозчиков груза, искателей новых морских путей?
Впоследствии преуспевающие общественные слои, господствующие фамилии, конечно, уйдут от непосредственного приложения своих рук к промышленному делу. Они оставят за собой общее руководство, они начнут жить высшей политикой. Из их среды, однако, и потом еще продолжают выходить капитаны-конквистадоры, организаторы новых предприятий на более широкую ногу: поход, экспедиция при удаче есть прежде всего большая добыча, крупный барыш; еще больше выгоды обещает основание заморской колонии. Но непосредственные торговые обороты отдельных фирм с расширением государственной сферы превращаются для правящих фамилий в общую коммерческую политику сената, большой коллегии, соединяющей представителей всего верхнего общественного слоя. Полибий отмечает, что господствующий момент в деятельности сената – финансы и дипломатия, а дипломатия, в свою очередь, сводится к коммерческим трактатам и торговым войнам, в которых опять выступают предприниматели en grand из той же знати. Детали торговли, размельченная работа, постройка судов, плавание по морям транспортом, разработка новых промышленных богатств и угодий постепенно переходят ко второму разряду гражданства, менее сильному капиталом, вследствие этого зависящему от капитала высшего класса, который пускает его в оборот посредственно, отдает в кредит. Так слагается класс откупщиков государственных налогов и аренд, негоциаторов, менял и ссудчиков. Между тем высший слой загораживает себя стеной сословной чести, объявляет политику и общественную службу своим специальным ремеслом и запрещает своим сочленам мелкую работу торговли и судостроительства в качестве недостойной их звания; но уже одно это запрещает показывать, как усиленно они раньше отдавались тем же занятиям. Представители римского нобилитета обращаются к той стихии, которая у аристократии всех времен считалась самой возвышенной и почетной, к владению землей, причем скоро прибавляется и важное хозяйственное побуждение для разработки земельных угодий – дешевые привозные рабы, создаваемые тем же ходом непрерывных завоеваний. Если нам представляется, что политика Рима издавна шла двумя путями и отличалась большой последовательностью и настойчивостью, то в ее истории все же можно различить периоды роста. В середину IV в. до Р.Х. в Западном море, помимо Карфагена, самой крупной морской силы, и сильно ею теснимых сицилийских греков, выступают несколько торговых общин и союзов, соперничающих между собой, в их числе Рим. Община на Тибре берет верх над этрусками и над Капуей в Кампании, потому что располагает наибольшими или наилучшими массами ополчений из плебейских триб. Но войны заставляют Рим расширить свою территорию и раздвинуть первоначальный союз: надо увеличивать наделы, вознаграждать из захваченной земли солдат, – вот основание для coloniae agrariae; с другой стороны, для охраны своей удлиняющейся береговой линии, для вновь появляющегося флота, вообще для поддержания своего более крупного политического положения, нужно увеличивать число обязанных военной службой союзников.
Как известно, общего союза из италийских народов не составилось. Они все были индивидуально связаны с Римом отдельными договорами и не имели никаких взаимных условий и сношений между собою. Союзы Рима с различными socii слагались, вероятно, по типу старинного союза торговой патрицианской общины Рима и плебейских деревень. Но чем дальше от центра, чем позже возникновение союзных связей, тем менее у союзника прав на участие в политике центра, тем менее выгод для союзника. Старый союз остался привилегированной группой 35 триб; к их числу уже не прибавляли новых; группы вновь приписанных в гражданство заносились в старые трибы, и вследствие этого трибы из волостей обратились в разряды голосующих граждан, объединявшихся только в Риме на собрании. Уже на римской территории начиналось ограничение прав, прежде всего для общин, лишенных активного и пассивного избирательного права. Затем союзники располагались по двум ступеням: впереди стояли привилегированные латинские города, в сущности, союзные крепости, рассеянные в разных местах, с лучшими наделами, частью нарезанными из отобранной земли; дальше остальная масса, socii italici, сохранившие автономию, но не получившие земельного придатка.
В таком виде общеиталийский союз – если только не забывать условного значения этого термина – держался около полувека, с 60-х годов III в. до 216 г., когда Ганнибал склонил часть союзников к отпадению. Опираясь на силы всего союза, Рим предпринял большую первую войну с Карфагеном, в результате которой приобрел три больших острова Западного моря. Но вторая война с Карфагеном – поединок на жизнь и смерть, внесла глубокое изменение в строй италийского союза. Часть союзников изменила, и вследствие этого Рим пережил опаснейший кризис своего существования. Зато вместе с победой в 201 г., центральная община, получив крупнейшую контрибуцию, увеличив свои заморские владения, приобрела небывалый перевес над всеми союзниками, вместе взятыми. Рим поспешил воспользоваться этим перевесом. Он наказал отпавших во время войны с Ганнибалом южных союзников, гирпинов, луканов, бутгайцев, апулийцев, города Тарент и Фурии, отобранием значительной части их территорий. Согласно вычислению Белоха, область римских владений увеличилась с 490 кв. километров до 675, т. е. более чем на 2/5 прежнего протяжения. В это время и возникает своеобразная массовая конфискация земли у изменивших союзников, которая ведет к образованию земельного фонда под названием ager publicus.
Как была использована эта отобранная земля? И старое гражданство, и верные союзники, без сомнения, заслуживали самого крупного вознаграждения в смысле наделов, так как они несли со времени вступления Ганнибала в Италию в 218 г. до крайности напряженную воинскую повинность, да и после его ухода долгие годы не останавливались заморские войны: до 192 г., т. е. до столкновения с Антиохом Сирийским, непрерывно следовали кампании и экспедиции в самой Италии, в Испании, Сицилии, Африке, Македонии, Малой Азии. По старому обычаю отобранные земли должны были бы идти на устройство земледельческих колоний в виде крестьянских наделов, может быть, в размере 30 югеров (7 1/2 десятин), судя по тому, что Тиберий Гракх остановился потом на этом размере. Так поступили еще перед самой войной с Ганнибалом по настоянию популярного консула Фламиния, который заложил и дорогу из Рима поперек Апеннин в Пицен и к галльскому берегу Адриатики, где были нарезаны новые наделы римских колонистов. Но теперь так устроили только заслуженных ветеранов африканского похода, вернувшихся в 200 г. вместе с прославленным победителем Ганнибала и Карфагена, П. Сципионом: им отвели участки из земли, отобранной у апулийцев и самнитов. Другие земледельческие колонии двадцатипятилетия, следующего за второй Пунической войной (200–175 гг.), были устроены далеко от центра, за северными Апеннинами на равнине р. По, среди галльского населения. На юге же ограничились только возведением нескольких приморских крепостей, в которых посадили немногих римских и латинских колонистов.
Руководящие слои центральной общины решили иначе использовать конфискованные земли, поступившие в распоряжение государства. Большая их часть представляла после войны пустыри или разоренные дворы: для устроения колонистов-крестьян потребовались бы выдачи из казны на постройки, обзаведение. Правящий класс вовсе не склонен был к таким тратам и открыл простор частному предприятию: желающим предоставили вступать в разработку пустующей земли с условием ежегодно вносить казне десятину с посевов, пятину с посадок и сбор с числа голов скота, выгоняемых на пастбища. С самого начала было ясно, конечно, что мелкие пользователи должны будут устраниться от оккупации государственной земли, что воспользоваться ею могут лишь те, у кого имеется преимущество свободного капитала. Без сомнения, именно в это время должно было оказаться очень много безземельных; прежде всего в таком положении были те союзники, у которых конфисковали земли, которым не дали вернуться в свои прежние разоренные дворы. Далекие от мысли устраивать их где-либо в качестве земельных собственников, правящие слои Рима, в этот момент своего обращения к сельскому хозяйству, видели в невольно и внезапно созданных сельских рабочих новый шанс для выгоды своих оккупации: у них будут в достаточном количестве хорошие местные батраки, так как итальянский народ очень плодовит и способен к терпеливой работе.
Поэтому в оккупацию государственной земли вступали преимущественно римские нобили, между ними и впереди всех те самые Сципионы, Квинкции, Эмилии, Метеллы, Домиции и другие, которые обогатились заморскими походами и командованиями; у них был теперь еще один лишний ресурс – дешевый живой инвентарь для вновь устраиваемых имений, привозные рабы в качестве результата завоеваний.
И второй имущественный разряд, всадники, был также припущен к пользованию казенной землей, люди чисто городских и торговых профессий, негоциаторы, факторы, менялы и ссудчики по профессии, они не добирались до самого хозяйства в имениях; но они теснились на торгах, производимых римским цензором, управителем государственных имуществ, к получению больших аренд. Сдавались в аренду, между прочим, солеварни, леса; в больших лесах по Силайскому хребту в Бруттии на откупу были обширные дегтярные заводы. Вероятно, бралась в крупную аренду и полевая земля. Впоследствии, особенно в африканских больших поместьях, мы находим, в качестве посредника между крупным собственником и мелкими съемщиками, кондуктора, т. е. главного или крупного арендатора, сдающего от себя вторичные аренды. Можно представить себе в такой же роли и более ранних итальянских откупщиков: они были, вероятно, нередко генеральными съемщиками, которые забирали комплекс земель в интересах крупного магната республики, может быть, даже пользуясь у него кредитом, давали на торгах аванс из его капиталов и затем от себя передавали участки мелким съемщикам.
И крупная оккупация, и крупная аренда казенной земли были только самыми яркими формами интереса богатых классов Рима к земле и к сельскому хозяйству. Рядом с захватом конфискованных пустырей заметно и другое проявление того же интереса, скупка мелких владений, превращение групп раздробленных крестьянских дворов в большие фермы с целостной систематической экономией. Капитал, собранный с завоеваний, с посторонних владений, бросился на землю в Италию. Его представители искали новой выгоды и были уверены, что они на настоящем пути; в их духе теоретики заговорили о важности, о чудесах рационального хозяйства на широких основах, как бы само собою разумелось, что мелкий собственник не может поспеть за улучшениями, не в состоянии поддерживать большой дисциплинированный рабочий материал. К услугам крупных хозяев появляются агрономические трактаты, причем римляне усиленно пользуются сельскохозяйственными уроками побежденного африканского противника, переводят и перелагают карфагенских авторов.
Среди этой агрономической лихорадки возникло известное сочинение Катона Старшего de ro rustica (или de agri cultura). В нем отражается эта новая для Италии жажда земли, не крестьянская, не лично-трудовая, а помещичья, предпринимательская, отражается взгляд капиталиста, который уже строит на земельном хозяйстве сложный бюджет. Чрезвычайно характерно само вступление к сельскохозяйственным советам и заметкам Катона: речь идет о том, где всего выгоднее купить имение, и на что надо преимущественно смотреть при покупке, автор прямо вводит нас в среду общества, где усиленно покупали землю, обзаводились имениями, нервно осматривались в составе инвентаря, строили хозяйственные здания, покупали орудия, вырабатывали новые условия договора с рабочими и т. д. Катон советует приобретать имение поближе к большому городу, на судоходной реке или у моря, или недалеко от большой дороги, ради удобства сбыта своих продуктов и приобретения орудий для хозяйства, надо еще смотреть, чтобы это было в области, где легко достать рабочих, необходимых в горячее время; желательно, чтобы на покупаемой земле уже были налицо постройки, орудия, скот, посуда и пр., чтобы не тратить сразу много на первоначальное обзаведение.
Катон не только сторонник интенсивной культуры, но он ее фанатик, ее педантический схоластик. Переходя к вопросу о видах наиболее производительного хозяйства, он дает знаменитую сравнительную оценку культур земли применительно к условной норме участка в 100 югеров (около 25 десятин): на первом месте по доходности стоит виноградник, потом сад или огород под искусственным орошением, затем ивняк (в качестве материала для плетения корзин, для подпорок), оливковая роща, луг, хлебное поле, лес дровяной, лес строевой и наконец дубовый для корма свиней желудями. Хотя оливка стоит на четвертом месте, когда сравнивается продуктивность участков одинаковой величины, но по доходности в смысле сбыта разведение оливки идет у Катона следом за виноделием или даже стоит наравне с ним. Более всего в своем трактате Катон и занят устройством двух образцовых ферм: одной виноградной в 100 югеров (25 десятин) величины, другой оливковой в 240 югеров (60 десятин). Вино и масло готовятся исключительно на сбыт, и выгода от их продажи на рынке должна оправдать вложенный в посадки и прививки капитал. Старинный продукт Италии, хлеб, занимает в этом хозяйстве самое скромное место; он сеется в размерах, достаточных для питания рабов имения, и продается только в случае, если останется излишек, из того соображения, чтобы ничего не пропадало даром.
Сельское хозяйство в глазах Катона есть лишь вид помещений капитала. Денежный расчет, rotio, подведен ко всем статьям расхода с чрезвычайной чисто римской скупостью и кропотливостью, он кульминирует в правиле: «Покупай как можно меньше, продавай как можно больше». Эта система, разумеется, не имеет ничего общего с «натуральным, замкнутым» хозяйством: соображения относительно рынка господствуют над всеми остальными в этом сельскохозяйственном бюджете, и перед нами просто один из видов римского скупого ростовщичества, на этот раз в приложении к земле.
Хозяин хочет, прежде всего, сэкономить на постоянных рабочих имения. Это, конечно, рабы; Катон наивозможно старается сократить их число: для нормальной оливковой плантации он считает достаточным держать 13 рабов, для виноградной 16, в том числе старосту и его жену. В то же время он настаивает на крайнем напряжении их работы. Никогда они не должны оставаться без дела. Если дурная погода не позволяет работать в поле, их надо посадить за домашнюю работу – плетение корзин, стругание кольев и кручение веревок, починку собственной одежды, чистку помещений и мытье посуды. Даже в праздник им не должно быть отдыха, обойти религиозный запрет работы в праздник не трудно, надо только придумать непредусмотренный заповедью вид труда. «Надо помнить, что когда ничего не делается в хозяйстве, расход на него все-таки идет». Надо пользоваться всякой возможностью сбережения: рабу, раз он заболел и неспособен к работе, следует уменьшить дневную порцию. У Катона приведен обстоятельный рецепт приготовления для рабов дешевого напитка из вина, воды и уксуса; если что из этой смеси останется по прошествии нескольких месяцев напаивания рабов, «у тебя будет великолепный уксус». Все непригодное для хозяйства надо продавать, например, испорченный инвентарь, в том числе состарившихся или болезненных рабов. При этом хозяин-продавец не должен брать на себя забот по доставке продукта; перевозка пусть лежит на покупателе.
Постоянных рабочих-рабов, однако, оказывается недостаточно на случай построек, поднятия нови или для горячего времени сбора винограда и оливок. Необходимо нанимать свободных рабочих со стороны, будут ли это безземельные батраки или мелкие крестьяне-соседи. Вольнонаемный труд уже сильно развит в это время, что, между прочим, видно из обилия технических обозначений: рабочие зовутся operarii (это, впрочем, общее обозначение и для сельских рабов), poeitores mercenarii, leguli, factores, и в более специальных случаях custodes, capulatores. Хозяин может найти для себя затруднительным приискивать рабочих, договариваться с ними отдельно. Тогда у него в распоряжении другой путь: сдать подряд на сбор всей жатвы, также на выжатие масла из оливков; в таком случае съемщик приводит целую партию перехожих рабочих или является рабочая артель. Во времена Катона хозяева, видимо, очень охотно продавали спекулянту посев на корню или годовой приплод и продукты с овечьего стада. На все эти случаи Катон сообщает тексты и формуляры контрактов.
Только что приведенные случаи очень напоминают позднейшую сдачу на откуп доходов в имперских провинциях Рима, когда собственник, римский народ, тоже завладевал угодьями с тем, чтобы тотчас же предоставить эксплуатацию приобретенного посторонним, арендатором, а себе взять готовую долю: здесь как нельзя более ярко выступает денежный характер сельскохозяйственного предприятия. Но владелец мало хозяйничал и в том случае, когда оставлял за собой весь процесс оборота в имении: Катон представляет себе, что владелец живет в городе и лишь наезжает в поместье для устройства первого обзаведения, для проверки своего приказчика и просмотра с ним вместе счетов, материала, орудий. Советы Катона имеют в виду людей очень определенного имущественного положения; ясно, что без значительного капитала нечего и подступаться к рациональному хозяйству. Очень характерно в этом смысле подробное описание у Катона одной сельскохозяйственной машины, пресса для оливок, сопровождаемое вычислениями ее стоимости на четырех рынках и трат на ее транспорт. И сама машина, и ее провоз, и ее составление на месте из разобранных частей, и наконец, ее ремонт стоили весьма дорого и были недоступны по цене мелкому хозяину. А между тем ускоренное приготовление масла при помощи этого технического усовершенствования давало перевес на рынке обладателю машины. Таким образом, создавалось обычное разделение интересов при переходе к более интенсивной культуре; мелкий хозяин должен был отказаться от новых способов обработки и оставался при старой, более грубой и первобытной системе, которая становилась вдвойне невыгодной с появлением рынков для сбыта. Едва перебиваясь на своем старом хозяйстве, он нередко вынужден был идти в наемные рабочие к тому самому соседнему владельцу, который заводил у себя разорявшее крестьянина рациональное хозяйство.
Еще в одном отношении должны были заметно разойтись интересы нового рационально хозяйничающего крупного владельца и крестьянина. Большой инвентарь, обилие посуды для хранения вина и масла, обилие металлических орудий заставляли помещика несравненно больше покупать на городском рынке; Катон точно знает, что надо приобретать в Риме, что в Минтурнах, что в Суэссе и т. д. Усиленный спрос на фабрикаты, особенно на глиняную посуду и металлические орудия, конечно, должен был вызывать развитие городской индустрии, и особенно в тех пунктах, которые были ближе всего к иностранному подвозу: большая часть металла привозилась морем, железо с о. Эльбы, свинец из Испании. Но вся эта повышенная работа индустрии в городских центрах Италии и усиленный подвоз из провинций приходились собственно на долю новых хозяев: в лице их самих и в лице необходимых индустриальных и торговых посредников нового хозяйства в деревню вторгался городской капитал.
В сочинении Катона необыкновенно живо отразилось появление в старой италийской деревне этого городского капиталиста, жадного и скупого хозяина, неотступного и безжалостного вымогателя подневольного труда, с его железной бухгалтерией и счетоводством, с привычкой переводить все работы, все виды почвы, все вещи, от хозяйственных машин вплоть до изношенного старья – на деньги. Он еще с некоторой осторожностью осматривается в новой обстановке: Катон советует покупателю имения сразу стать в добрые отношения к соседям, и очевидно при этом имеет в виду крестьян: «Если будешь хорош с ними, тебе легче будет продавать продукты своего хозяйства, сдавать аренду, нанимать рабочих; если нужно будет тебе строиться, они помогут охотно работой, дадут подвозы, навезут лесу». Эта идиллия должна была однако скоро смениться другим отношением округи к помещику, и притом в зависимости от того, чем скорее он принимался строго исполнять все советы Катона; деревня должна была скоро почувствовать, что в ее среде появился беспощадный хищник, а та энергия и та экономическая сила, которую он приводил с собою, делали борьбу с ним почти безнадежной.
В Италии началась заметная и быстрая перестановка имущественных отношений. Приобретенный в заморских завоеваниях капитал направился на итальянские земли и угодья, стал поглощать старинные наделы и деревни. Явление это очень неравномерно сказывалось в различных частях полуострова. Оно почти не коснулось отдаленных галльских областей на равнине р. По; в слабой мере отразилось оно в гористых местностях середины Италии и на восточных склонах к Адриатическому морю: марсы, пелигны, френтаны, вестины, самниты сохранили, по-видимому, свое старое земельное устройство вплоть до большого восстания 90 года. Иначе была картина в областях луканов, брутгиев, апулийцев в Южной Италии; здесь старое население было оттеснено на худшие земли, или было вынуждено идти на работу в поместья, или уходить в город. Но то же самое повторилось с крестьянством на собственно римской земле: под столицей фруктовое, огородное, птицеводное, скотобойное и молочное хозяйство вытеснили старинное хлебопашество; но и дальше от центра, по линиям больших дорог, в Сабине, в Пицене, в Кампании, оливка и виноград, а с ними представители большого рационального хозяйства выедали старую культуру ячменя и проса вместе с мелкими плебейскими дворами. К числу стран, где сказалось обезземеление, надо отнести и союзническую территорию этрусков, с тою только разницей, что там этот процесс, по-видимому, начался раньше, прежде чем римский капитал ринулся на Среднюю и Южную Италию.
Без сомнения, обезземеление было и обезлюдением сельских округов. Далеко не везде капитал насаждал и высшую культуру, под знамением которой он так шумно выступил; в Лукании на месте прежних земледельческих хуторов и поселков, образовались большие пустыри, которые эксплуатировались для очень экстенсивного скотоводства: на широких пространствах единственными обывателями оставались немногие бродячие пастухи. Впрочем, традиция сохранила даже соответствующие советы самого апостола нового рационального хозяйства, показывающие, что сельско-экономическая мудрость легко приспособлялась к различным условиям: по словам Цицерона, Катон считал не только хорошее скотоводство, но и среднее и даже плохое более выгодным, чем хлебопашество.
Можно считать этот завоевательный путь римского капитала первым шагом к объединению Италии. С вытеснением старых пользователей земли увеличилась территория римского владения и продвинулась новыми полосами и пятнами по разным частям полуострова, в разных концах Италии выросли новые крепости, прошли новые дороги, усилились нити влияния центральной общины. Италия стала объединяться в смысле слияния владельческих интересов. Конечно, не было возможности монополизировать отобранные у мятежных общин богатства в руках одних римских магнатов, нобилей и денежных людей; надо было делиться с верными союзниками, те, в свою очередь, с высшими общественными слоями в их среде.
Но рядом с этой владельческой консолидацией шла другая. В Италии началось объединение оппозиции; она составилась не только из обиженных экспроприированных союзников, но к ней также примкнули обделенные землею римские граждане, плебейство, которому загородили выдачу наделов предоставлением больших пространств государственной земли в руки крупных пользователей, примкнули те, кого вытесняла с земли конкуренция городского капитала. Вместе с этим объединением недовольных и возник впервые в широком размере вопрос аграрный. Также впервые возник и вопрос союзнический, потому что раньше у союзников не было общих сходных жалоб, не было возможности и основания объединять свои требования. В своем существе союзнический вопрос был тем же аграрным: деревенское население в союзнических общинах было недовольно так же, как римские плебеи, своим малоземельем или безземельем и добивалось участия в правах римского гражданства для того, чтобы соединиться с плебеями на общей программе и требовать раздела земель из государственного фонда.
В победах капитала, объединявшего Италию, город Рим сыграл важную роль, и его влияние вследствие этого все более возрастало. Полибий необыкновенно яркими красками рисует нам эту капиталистическую силу Рима, это живое и непосредственное участие столичного населения в эксплуатации Италии: «Очень много работ, пошлин и аренд сдаются цензорами на торгах, во-первых, заготовка и починка общественных сооружений, которых так много, что трудно и пересчитать их, затем взимание сборов с речного провоза, ввоза в портах, с садовых плантаций, с рудников, с хлебных полей, одним словом, со всего того, что досталось во власть римлян; во всем этом участвует весь народ, так, что можно сказать, нет ни одного человека, который бы не вложил в эти аукционы своего капитала и не получал барыша с откупов. В частности одни непосредственно откупают у цензоров подряды, другие находятся с первыми в компании, третьи выдают поручительства за откупщиков, и, наконец, четвертые вкладывают свои капиталы в общественные предприятия через посредство откупщиков». Последний разряд указывает уже на участие сберегателей, т. е., по-видимому, всякого среднего и мелкого люда, искавшего прибылей от военных поставок, постройки дорог, от плантаций и заводов, но вынужденного доверять свои запасы и доли оперирующим компаниям. Взятые вместе, все эти разряды и образуют plebs urbana, столь не похожую по своему составу и интересам на plebs rustica, на старое плебейство; мы можем понять происхождение жестокой вражды между ними, которая разражалась потом драматическими столкновениями в народном собрании и даже прямыми побоищами. Plebs urbana возникла из элементов старой торговой общины, ее состав заполнялся все более подначальными агентами больших домов, их клиентами и вольноотпущенными, и расширялся за счет притока иностранцев, привлекаемых заморскими сношениями. Теперь масса городского плебейства следом за магнатами и компаниями откупщиков приняла участие в полувоенном, полухозяйственном захвате и объединении Италии. В этом ходе вещей plebs rustica заняла обратно пассивное положение, она тоже расширилась в своем составе и из римской или латинской стала общеиталийской; от нее по-прежнему требовали тяжелой воинской повинности, но ее оставляли без вознаграждения, ее не пускали к свободной земле, ее стискивали большими фермами, широкими пастбищами. Рим заявлял прежние притязания, присылал прежние приказы, и в то же время из Рима являлись предприниматели, отстранявшие мелкого землевладельца от аренды и оккупации земель, так недавно отобранных у его же соседа. Это была своего рода вторая встреча завоевателей и покоренных.
В обществе никогда нет совершенно резко очерченных разрезов, всегда имеются переходные слои. В среде союзников были, конечно, и крупные дома в роде римских gentea; были средние землевладельцы, были торговцы и негоцианты неримскнх городов. С другой стороны, в Риме развивался обширный класс пролетариев из мелких ремесленников, ходебщиков и разносчиков, людей, занятых в извозе и переноске тяжестей, в торговой службе, которые, конечно, не могли ни в каком смысле участвовать в эксплуатации Италии и ее угодий. В деревне образовался также новый класс из безземельных; это были частью пострадавшие от конфискации, частью же лишние дети крестьянских семей, которым не доставались более земельные наделы за прекращением земледельческих колоний; им приходилось искать заработка или в соседних больших экономиях, или в городе. Мы уже видели, какое заметное место занимают вольнонаемные батраки в сельскохозяйственных соображениях Катона. Когда Цицерон говорит о жалких и беспокойных agrestes, он, очевидно, разумеет тот же разряд. Тяжелая участь, наемный труд, необеспеченность существования сближали agrestes с городскими пролетариями, тем более, что иногда это были те же самые люди, менявшие занятие и местопребывание. Получалась некоторая промежуточная среда бедноты, в которой plebs rustica и plebs urbana близко соприкасались между собою. Падение крестьянской Италии и причины этого явления очень занимали еще античных писателей. Тот крупный римский историк конца республики (вероятно Азиний Поллион), которым пользовался Аппиан в своей истории гражданских войн, оставил нам красноречивую картину захвата Италии римским капиталом. В его глазах само появление крупных пользователей на казенной земле составляло уже опасное начало, но это еще не была главная причина уклона и гибели большей части римского и италийского крестьянства. Сам крупный землевладелец или сторонник латифундиального хозяйства, он решается упомянуть о некотором идеале, к сожалению, для него, не осуществленном: хорошо, если бы мог образовываться из обойденных раздачей крестьян, из этой «трудолюбивейшей итальянской породы», постоянный состав сельскохозяйственных рабочих или второстепенных пользователей под руководством на службе больших экономий. В этой мысли историка заключено обычное оправдание, свойственное эпохам капиталистического подъема, когда завоеватели, крупные хозяева и техники стараются уверить себя и других, что в их жестоком деле, в приносимом ими разорении есть и возмещение беды, есть новый источник выгоды для разоряемых. Но римский историк находит, что и это утешение не было дано Италии. Многочисленная трудовая масса не получила применения в новых больших поместьях; собственник и крупный оккупатор бросились на приобретение дешевых рабских рук, и в этой-то конкуренции невольников заключалась главная причина обезлюдения Италии и падение старого плебейства.
Историки нового времени, современники роста европейско-американского капитализма, усиления всемирной торговли, ухода разоряемого крестьянства в города и жестокого соперничества рабочих групп между собою приняли эти объяснения Аппиана. Увлекаясь аналогиями Рима II–I вв. до Р.Х. с Европой XVIII–XIX вв., они пошли еще дальше. Моммзен представляет себе Италию наподобие современной деревенской Европы под давлением громадного и дешевого подвоза продуктов первой необходимости, особенно хлеба. Рим и другие города начинают потреблять исключительно иностранные продукты, доставляемые новообразованной империей; крестьянская, хлебопашеская Италия лишается рынка и гибнет.
В последнее время против объяснений подобного рода выступил довольно энергично итальянский историк и социолог Сальвиоли[2]. В этом ученом своеобразно сплетается сторонник социально-философских теорий марксизма и реалист-наблюдатель современной Италии, глубоко убежденный в исконности и основной неизменности национальной культуры своей страны. Сальвиоли исходит из новых экономических категорий, выставленных европейско-американской культурой последних двух веков, но думает, что старинная Италия (которую он неосторожно отождествляет даже в заглавии книги с «античным миром») не дошла до форм развитого капитализма, остановившись на довольно скудном, тихом, замкнутом хозяйстве. Сказочная роскошь и расточительность Древнего мира, о которой повествуют, главным образом, сатирики и обличители, по его мнению, до крайности преувеличена. Богатства Древнего мира, говоря безотносительно, были несравненно скуднее и мельче новоевропейских. От завоеваний, от подвоза иностранных продуктов богател только Рим, издалека привозились сюда только предметы редкие, для немногих богатых людей, остальная Италия как была, так и осталась глухой деревней. Капитал направился только на непроизводительные формы откупов и ростовщичества, не захватил индустрии и не пытался завоевать сельские области крупным сбытом, ремесло оставалось узким местным производством.
В своем справедливом протесте против чрезмерных аналогий между Римом и европейской современностью Сальвиоли, может быть, заходит несколько далеко, в другую, противоположную сторону: капиталистическое предприятие в Италии, без сомнения, сравнительно мало захватило индустрию, но сильно выразилось в сельском хозяйстве; оно не завоевало, может быть, всей Италии, но, во всяком случае, далеко зашло за пределы Рима и еще двух-трех больших городов. Рим не только покупал на свои непроизводительные ростовщические деньги, и покупал не только чужеземные редкие товары или производимые в подгородных имениях лакомства и цветы. Из описаний и советов Катона мы ясно видим, что Рим и другие города, по крайней мере, западного берега были обширными рынками, которые покупали продукты сельских экономий, сравнительно отдаленных, и которые, в свою очередь, были необходимыми для этих имений поставщиками фабрикатов, приготовляемых ими же в больших размерах. Напрасно считать море единственным торговым путем того времени: мы видели опять, какое значение придает Катон положению поместья у реки и у большой дороги, как далеко он считает возможным по сухому пути экспедировать сельскохозяйственную машину.
Приняв все это во внимание, мы опять готовы вернуться к характеристике Аппиана, мы еще более, чем римский историк конца республики, готовы будем видеть первый толчок к падению крестьянской Италии в самой оккупации государственной земли, в том, что капитал с каперства, с захватов на море, с военных кампаний, кончавшихся контрибуциями, бросился на эксплуатацию земли. Мы только остережемся делать заключение о его всепроникающей, всеобъемлющей роли; большая часть Италии все-таки и после кризиса II в. осталась вдалеке от погони за торговой выгодой, от колебания цен, от крупных расчетов на сложные конъюнктуры. Но мы должны отказаться и от того взгляда на экономическую жизнь Древнего мира, который относит в круг влияния культуры и капитала только береговую полосу, а все остальное безраздельно передает царству натурального хозяйства.
2. Возникновение империализма и начало римской демократии
О Римской империи нельзя говорить по-настоящему до события половины II в., до момента одновременного захвата Карфагена и Македонии с Грецией. Ранее 146 года у Рима были посторонние владения за пределами Италии; были области, обязанные натуральными поставками, напр., Сицилия и Сардиния, обложенные повинностью поставлять хлеб, были народности на западе, в Галлии, Испании, на Балеарских островах, с которых римляне собирали живую подать, требовали военной подмоги. Но эти владения не составляли постоянных доходных статей римского государства, они не успели еще сделаться достоянием римского капитала.
Римское правительство все еще держалось старой финансовой системы. Оно не имело постоянного бюджета. Для организации большого военного предприятия сенат должен был прибегать к чрезвычайному принудительному займу, с граждан собирали tributum, с тем, чтобы потом вернуть его из добычи, из военной контрибуции, взятой с противника, и в хорошем случае вернуть со значительной лихвой. Возвращением трибута служили последующие раздачи хлеба гражданам, земельные наделы, вероятно, также распределение между ними денег. Иногда правительство, не желая брать на себя риск предприятия, допускало сбор добровольных пожертвований, которые сосредоточивались в руках конквистадора: так организован был поход в Испанию и в Африку молодого Публия Сципиона в 206 г. В таких случаях и последующие раздачи народу, вероятно, также носили частный характер, исходили не от сената, не: от всей коллегии нобилей, а от тех отдельных капитанов-предпринимателей, которые организовали данное завоевание или экспедицию. По-видимому, Сципионы в таком же духе вели свои более ранние предприятия в Испании, в 218–211 гг., и свои последующие кампании на Востоке в 90-х гг. II в. И тогда нам становится понятен известный эпизод политической карьеры Сципиона Африканского Старшего, его высокомерный отказ явиться на суд и дать отчет в расходовании военных сумм. Он был по-своему прав: предприятия его были частным делом, и если ему в свое время предоставили полный простор действия, то запоздалый контроль со стороны должностных лиц, посторонних его предприятиям, представлялся ему вмешательством в это частное дело.
По всей вероятности, в лице Сципионов и дружественных им фамилий Квинкциев Фламининов и Эмилиев Павлов Рим имел самых ярких и влиятельных представителей кондотьерства, а в период 212–168 гг., начиная от походов в Испанию и Африку и до разгрома Македонии, переживал самую интенсивную пору частных военно-коммерческих предприятий. В эту же самую эпоху Рим был довольно близок к тирании счастливых командиров на манер сиракузской монархии Дионисия или Агафокла.
Такое положение вещей было слишком невыгодно для остальных нобилей, так как частные предприниматели, капитаны, отодвигали влияние большинства аристократии. В следующие десятилетия можно заметить, как сенат, т. е. масса нобилей, делает усилия регулировать внешнюю политику, разделить равномернее ее выгоды; с этою целью, прежде всего, стараются установить очередь должностей между главными правящими фамилиями. Благодаря этому выдвинулась коллегия сената, и римская республика получила тот вид, который закрепился за ней в идеализированной традиции: во главе разумно подчиняющейся общины – собрание царей, как льстиво называли сенат восточные клиенты Рима, корпорация, где нет чрезмерно выдающихся личностей, а правит средний государственный ум, опираясь на коллективный опыт. Когда за этим периодом равновесия нобилей в сенате последовал кризис и потрясение сенатского авторитета, так называемый революционный период, то стало казаться, что вся старина была временем твердого и постоянного управления сената; между тем как в действительности это были какие-нибудь 40–50 лет.
Момент финансового и дипломатического всемогущества сената закреплен как раз в характеристике Полибия. Правда, в угоду своей излюбленной теории равновесия трех политических форм, греческий историк изображает руководительство сената в виде одного только из основных цветов политической радуги Рима, придает ему в общем гармоническом чертеже значение лишь одной важной, но не господствующей линии. Но это не мешает нам найти в характеристике Полибия реальные черты. «Сенат распоряжается прежде всего казною: он определяет все доходы и расходы. Квесторы (казначеи) не могут делать никаких выдач помимо постановления сената за выключением тех, которые совершаются от имени консулов. Но в особенности от сената зависит разрешение на самые существенные и крупные общественные траты, а именно на те сооружения и поставки, которыми заведуют цензоры; только от сената цензоры и получают на это уполномочие»[3]. Полибий замечает дальше по этому поводу, что сенат входит во все детали, контролирует ответственного чиновника во всех стадиях торгов и сдачи подрядов. Изобразив участие всего римского гражданства в аукционах и поставках (в вышеприведенном отрывке), Полибий прибавляет: сенат во всей этой процедуре распоряжается полновластно. От него зависит установление и изменение срока договоров, он может в известных случаях скидывать уговоренные ставки или даже вообще во внимание к затруднениям расторгать условленные сделки. Таким образом, очень обширны пределы области, в которой сенат может причинить крупный урон и доставить большие выгоды. Еще раз повторяю, что доклад обо всех этих делах идет в сенате. В другом месте Полибий соединяет вместе разные функции сената, еще раз говорит о финансовом его управлении, о судебном, полицейском авторитете сената над всей Италией и о ведении им всей международной политики. И для полной определенности он прибавляет: «Народ во всем вышесказанном не имеет никакого голоса».
Замечания эти чрезвычайно важны. Они объясняют нам, почему откупщики и стоящие позади них группы компанейщиков, поручителей и пайщиков-сберегателей потом образовали оппозицию сенатскому правительству. Их держали вдали от финансового источника, им связывали руки в эксплуатации приобретаемых государством богатств. Народное собрание, где они подавали свой голос, было совершенно устранено от финансовых дел.
Но что касается состава финансов, во II в. произошла важная перемена. В старом бюджете, неправильном, прерывающемся, главной статьей дохода была военная контрибуция. В 201 г. с Карфагена была взята контрибуция таких размеров, что она свела сразу великий африканский город в разряд второстепенных держав. Одновременно Рим мог скинуть большой расход: с уничтожением карфагенского военного флота Западное море становилось закрытым римским морем и, следовательно, исчезла необходимость держать свой военный флот. В 198 г. взяли крупную сумму с македонского царя Филиппа, а после 192 года поплатился тем же его союзник, царь Антиох Сирийский. Это было десятилетие замечательно счастливое в смысле чрезвычайных доходов. Через 25 лет (167 г.) добыча, полученная с побежденной Македонии, и контрибуция с территорий Балканского полуострова оказалась столь значительной, что с граждан перестали брать трибут; другими словами, в казне образовался большой постоянный запас, из которого можно было делать все траты на снаряжение новых походов, не прибегая к займам у гражданства. Конечно, это одно поднимало авторитет сената, ставило его в еще более независимое положение относительно народа.
Но правящие нобили не хотели на этом останавливаться. Налицо были новые мотивы завоеваний и присоединений. Полной монополии в Западном море не было, пока существовал самостоятельный Карфаген. Delenda est Carthago! – говорил типичный средний нобиль Порций Катон и, конечно, не он один был такого мнения. У Сципионов имелось множество подражателей, которые хотели попытать счастья на слабом в военном отношении, почти обезоруженном Востоке. Многим желающим не хватало должностей; если несколько счастливых консулов получили вслед за своей годовой службой провинциальные наместничества, то другим за неимением свободных провинций приходилось ждать очереди, а пока уходить в частную жизнь. Наконец, и это самое важное, если военные экспедиции составляли путь к новым доходам, то всего выгоднее было вступать в постоянное пользование побежденной территорией, т. е. присоединять ее к своей державе. Вот почему в 146 г. несколько вассалов были лишены автономии и их земли превращены в провинции: Карфаген, четыре республики, образованные в 167 г. из Македонии, Коринф, Ахайя.
В самом способе присоединения и устроения этих наместничеств не было ничего нового в принципе. Но нельзя не заметить разницы между провинциями, имевшимися до 146 года, и теми, которые возникли после этого момента. Первые, кроме Сицилии, были малокультурными областями, дававшими мало дохода. Вторые представляли территории с очень развитым земледельческим или индустриальным хозяйством, плотным населением, большими имущественными фондами и запасами. С них можно было резать постоянный денежный доход. Вложенный в завоевание ростовщический капитал Рима мог дать здесь непосредственный или большой процент. Для победителей не было нужды входить в разработку естественных богатств и даже заниматься обменом; местное население оставалось при своем привычном производстве и доставляло все, что требовалось Риму. Между Востоком и Западом возникли своеобразные экономические отношения. Восток и карфагенская Африка были богаче культурой, техникой, запасами, трудолюбием; но лучше сконцентрированный хищнический капитал Рима, опираясь на полуварварские военные силы окружающих стран Запада, брал верх над работой, искусством, бережливостью эллинистических и семитических стран.
Приобретения 146 г. скоро увеличились новыми наместничествами. В 133 г. римской державе досталось замечательное наследство, бывшее Пергамское царство Атталидов. Оно отошло по завещанию последнего царя, может быть, задолжавшего римским капиталистам и вынужденного отдать теперь свой залог, всю свою страну. Около того же времени в Испании к прибрежной полосе присоединили внутренние области. В 118 г. римляне устроили наместничество в той области, которая служила им для военных переходов в Испанию, превратили в провинцию южную прибрежную Галлию: страна эта, уже разработанная греками Массилии, отличалась от остальной Галлии своей культурой и богатством. Можно считать захваты этого тридцатилетия началом Римской империи, т. е. обширной колониальной державы, служившей интересам Рима и Италии. На первых порах, однако, империя принесла выгоды немногим группам гражданства. Ее образование вызвало вместе с тем к жизни широкую и разнообразную по составу и мотивам оппозицию в метрополии.
Новые проконсульства и пропреторства значительно расширили число мест для выгодного устроения нобилей. Вся их корпорация, соединенная в сенате, стала распоряжаться еще большими суммами. Но она не собиралась, по-видимому, изменять финансовое управление. В новых наместничествах римский начальник вступал в соглашения с отдельными общинами относительно размера податей, взносов и поставок так же, как это велось уже раньше в Сицилии. Конечно, это открывало простор большим злоупотреблениям и утайке сумм. Само правительство сената, обеспокоенное растущими утайками, назначило постоянную судебную комиссию для проверки возвращавшихся в Рим наместников, под очень характерным названием quaestio de pecuniis, т. е. следствия о суммах, подлежащих взысканию (в казну). Капиталисты второго разряда, «всадники», успевшие втиснуться посредниками в пользование итальянскими угодьями и поставками, но оттесненные от больших политических должностей, а, следовательно, и от участия в провинциальной администрации, не могли не поднять громких жалоб против традиционного управления: они представляли правительству и народу всю невыгодность этой администрации командиров и офицеров, весь некоммерческий характер его и обещали несравненно большие сборы с провинций, если бы управление было им предоставлено.
Неизбежно также должно было возрасти недовольство римских и союзнических крестьян, служивших в войске. В то время как они перестали получать наделы, нобили все более приобретали выгоды от оккупации земель, от скупки мелких участков и округления своих имений, потому что получили в свое распоряжение новые массы привозных рабов и могли выкраивать себе все новые и новые доли из растущей провинциальной добычи. Сторонники старого плебейства могли спрашивать себя, почему же не отделяют казенных сумм на устройство колоний, почему вообще не пытаются остановить этот двойной грабеж, при посредстве которого созданный завоеванием капитал помогает в Италии вытеснению мелкого хозяина и пользователя? Сельскому батраку угрожал приток дешевых рабочих из провинций и потеря заработка. Городской пролетарий тоже стал терпеть от конкуренции работ; он видел перед собою каждый день блеск новой роскоши, которой окружали себя нобили, по временам созерцал пеструю сказочную, переливающуюся всеми цветами добычу, которую везли напоказ в триумфах и потом складывали в таинственные кладовые государственных церквей, – все это проходило мимо него, а между тем, несмотря на приток иностранного золота, цены возрастали и становилось трудно обеспечить себя самым необходимым; хлеб везли из подчиненных областей даровой, но он попадал в руки скупщиков, и казалось естественным, что богатое правительство должно взять на себя все руководство делом хлебоснабжения столицы.
Наконец, в самом правящем классе были недовольные – не все нобили могли получить долю в общем дележе колониальных приобретений, должностей консульских, преторских, квесторских, наместнических далеко не хватало на всех. Пока управление держалось на старой системе временных командований и военного чрезвычайного устроения порядка, персонал администрации в провинциях был невелик и действовал только суммарными приказами, не входя в детали, в отчетность. Возникла мысль об устройстве более дробной и активной администрации завоеванных областей, о введении в провинциях бюрократии и замене временных команд посредством более постоянного гражданского управления; вместе с тем обделенные нобили могли надеяться на открытие для них новых кадров службы.
Оппозиция в Риме и в Италии выросла и сложилась очень быстро. Она получилась из самого факта империалистического расширения; общественные группы, разоренные внезапным притоком чужих богатств, сходились в ней с другими, отодвинутыми от пользования этими богатствами и добивавшимися своей доли. Оппозиция была очень пестра; больше того, – она составлялась из противоречивых элементов. Нобили, сторонники бюрократии, были прямыми и естественными врагами откупщиков, требовавших устройства провинциальной администрации по типу коммерческого предприятия; городские пролетарии, добиваясь казенного хлеба, не могли сочувствовать выдачам денег на устройство земледельческих колоний.
И, тем не менее, несмотря на эту рознь интересов, оппозиционные элементы должны были действовать вместе: против всемогущей сенатской коллегии у них было только одно политическое средство – народное собрание по трибам, руководимое трибунами. Политический обычай в Риме не открывал других путей для заявления жалоб и нужд, для обстоятельной защиты программ, для формации партий, для проведения реформ. Комиции по военным сотням, руководимые первыми сановниками республики, решавшие крупные внешние акты по инициативе сената, лишенные дебатов, не давали вовсе выхода для оппозиции. Оставались трибы, издавна поставленные более самостоятельно, но теперь, в обстановке большого союза и вновь возникшей державы, обратившиеся в очень узкое случайное соединение незначительных количественно долей населения метрополии.
Трибы по своему составу совершенно не отвечали действительной группировке италийского общества. Большая часть жителей полуострова не имела участия в римских голосованиях; обширные территории не были представлены в трибут-комициях. Но этого мало: значительные перемены в устройстве союза, происшедшие около 200 г., послужили к новой невыгоде римских народных собраний. Сенат после катастрофы карфагенского нашествия, после целого ряда экзекуций над мятежными общинами стал распоряжаться полновластно в союзных территориях: все тяжкие проступки уголовного и государственного характера, совершенные в союзных общинах, особенно измена, политические заговоры, шли теперь на разбирательство сената; союзники обращались к нему же со своими тяжбами и спорами; сенат назначал отправку гарнизонов и полицейских отрядов в общины союзников. Наряду с таким усилением власти сената над Италией, трибы во всех этих вопросах не имели никакого участия. Их старая компетенция оставалась теперь узким полем действия. В виду этого различные слои оппозиции, пытавшиеся заявить свой голос и свои притязания в политике, естественно должны были сойтись на одной общей программе: расширение триб, принятие новых граждан, увеличение числа активных голосующих членов общины и затем расширение круга ведения самих трибут-комиций, вместе с прямым вмешательством народа через своих доверенных, трибунов, в дела администрации, суда, распределения земель, распоряжения финансами. На первую очередь выдвигалась для всех оппозиционных групп политическая реформа: все сходились на требовании демократических перемен.
Демократия была в Риме совершенно новым, невиданным явлением. Полибий передает нам очень характерный взгляд современников своих: «Если бы кто-нибудь приехал в Рим, когда там нет налицо ни одного из консулов, государственный строй показался бы ему безусловно аристократическим[4]. Таково убеждение большинства греков, а также восточных царей, так как сенат верховно решает во всех делах и сношениях с ними».
Насколько демократическое течение в Риме казалось новым и в этом смысле революционным фактом, можно заключить из разных частностей. По-видимому, до Гракхов в Риме не было вовсе митингов, не было частных совещаний или агитационных собраний, не было никаких средств и приемов для того, чтобы сговариваться на общей программе, выставлять общие требования. В биографии Тиберия Гракха рассказывается о совершенно первобытном приеме, при помощи которого он узнал о жажде земли у плебеев: всюду на стенах домов, внутри портиков, на общественных монументах простолюдины нацарапали своеобразные воззвания к трибуну, написали о своем желании получить землю из общественного поля. Эти разрозненные настойчивые призывы из среды массы, официально вынужденной молчать, впервые дали политическому деятелю представление о наличности кадров большой, еще не сформированной партии, которую можно было бы назвать римским крестьянским союзом.
Все говорит нам о первых неровных шагах выступающей активно массы. Принято считать, что со времени Гракхов римское народное собрание утратило свою старинную сдержанность, спокойствие и солидность, стало шумным и беспокойным на манер греческих демократий, наполнилось горячими речами и спорами, резкими перерывами и драматизмом; другими словами, оно теперь только проявило признаки жизни, впервые стало активной ареной политики. Очень типичен в том же смысле один мелкий сравнительно эпизод из времени трибунства Кая Гракха. Когда в 122 г. среди приготовлений к большим играм были устроены лучшие места на помостах для богатых, за которые предполагалось брать плату, Кай Гракх потребовал у распорядителей, эдилов, чтобы помосты были сняты; получив отказ, он велел ночью рабочим разнести балконы и таким образом, открыл всему народу одинаковое участие в празднике. Эта, до известной степени юношески-задорная выходка демагога и реформатора, занятого в то же время крупнейшими вопросами политики, характерна и для него самого, и для руководимой им партии. Масса впервые организуется, впервые просыпается в ней смутное сознание своих прав, идеи равенства, и она проявляет себя, может быть, несколько беспорядочно в непрошеном вторжении туда, где сидят представители высших классов.
Стоит привести еще одну анекдотическую мелочь, сохранившуюся случайно у Цицерона, потому что она наглядно рисует нам, насколько трудно было политически дисциплинировать римскую массу, какие усилия приходилось применять вождям, чтобы обучить народ политической азбуке. Цицерон вспоминает о необычайно искусном политическом наставничестве Сервилия Главция, демократического деятеля, погибшего в 100 г. «Главция, – говорит он, – приучал народ вслушиваться внимательно в первые слова вносимых сановниками предложений: если они начинаются со слов «диктатор, консул, претор, начальник конницы», пусть собравшиеся не напрягают внимания: очевидно, дело идет о чем-нибудь, не касающемся народа. Но если вступление гласит: «кто после этого закона и т. п.» – пусть слушают внимательно и остерегаются, чтобы не связать себя новой ограничительной, антидемократической комиссией»[5]. Без сомнения, это – уроки трибуна на особенный случай, когда ему самому нельзя выступить с подробными объяснениями, т. е. в собрании, руководимом высшими сановниками из консервативной аристократии. Но положение вещей все-таки остается характерным, и этот незначительный, по-видимому, анекдот резко выделяет римские комиции с их спешным производством дел, слабостью или отсутствием разъяснительных прений от греческих экклезий с их долгими, необыкновенно детальными обсуждениями, в которых так легко должен был уметь разбираться обыкновенный посетитель.
На первых порах вся оппозиция стоит за демократию – явление, которое, кажется, повторилось в начале революционных движений во все времена и во всех странах. Еще другая особенность начального периода революций обнаружилась при первом взрыве оппозиции в Риме: все жгучие вопросы были поставлены зараз. У обоих Гракхов, открывающих собой период подъема демократии, в программе стояли и наделы, и колонии, и раздачи, и реформа финансов, и перемена провинциальной администрации, и крестьянский и рабочий вопросы, и уравнение союзников в правах с римлянами, и усиление самих римских народных собраний, т. е. установление народного верховенства.
Но как только вопросы были поставлены на практическую почву, как только за предстоящим расширением и осуществлением политических прав стали вырисовываться очертания дальнейших социальных изменений, группы оппозиции разошлись между собою, частью стали во враждебные друг другу отношения. Уже первые вожди демократии, Гракхи испытали всю силу этого внутреннего разлада оппозиции, перешедшего тотчас же в коллегию трибунов и отразившегося в противоречивых, непосредственных голосованиях народных триб.
При сравнении римской демократии с греческой, в частности с афинской, резко бросается в глаза и слабость первой, и более короткий срок ее активного выступления, – какие-нибудь 50 лет (от 134 до 84). Разница объясняется многими условиями. Главное, конечно, состоит в том, что греческая демократия была до известной степени старинной, исконной, почти естественной бытовой формой греческой общины, как это видно из описания народного собрания еще у Гомера. В римской традиции, в старых римских нравах нет демократического начала, римская демократия – создание новых политических обстоятельств, в значительной мере результат самой империи и принесенного империей разорения старинных народных классов.
Большие народные решения и голосования немыслимы без деятельности и борьбы партий, а партии предполагают подготовительные усилия кружков, клубов, корпораций, где сплачиваются единомышленники, вырабатываются программы. В греческих демократиях всегда очень деятельную роль играли гетерии, т. е. политические клубы. В Риме мы лишь под конец республики встречаем коллегии политического характера, и правительство относится к ним в высшей степени подозрительно, несколько раз принимается за их запрещение и преследование. Если потом в громадной столице империи так шатко было существование политических клубов, то можно представить себе, что раньше, при первых шагах демократии, их работа была совсем слаба. Весьма красноречивы в этом смысле также факты, относящиеся к истории аграрного закона Тиберия Гракха. Из всего, что мы слышим о приступе к делу Гракха, о неожиданной оппозиции его коллеги Октавия, о драматическом обороте дела, когда трибы, впервые спрошенные по вопросу о неприкосновенности своего избранника, одна за другой стали высказываться за смещение непопулярного трибуна, – из всего этого можно вывести заключение, что в Риме еще не было никакого расчленения агитации, не было предварительной работы второстепенных вождей, не было деятельности политических союзов: сам инициатор реформы, вместе с ближними друзьями своими, развивал программу на митингах, непосредственно предшествовавших решительному голосованию, и при этом он не был даже в состоянии предусмотреть такой досадной частности, как возражение одного из своих коллег, грозившее, однако, в самом начале остановить все дело.
