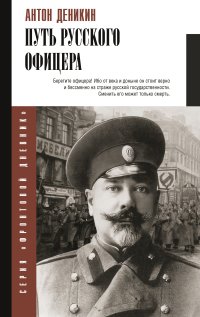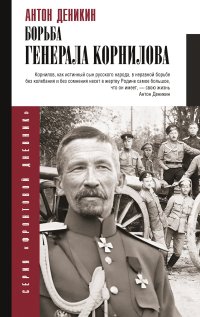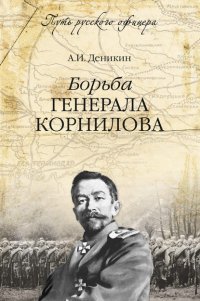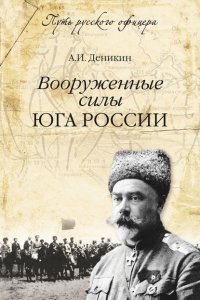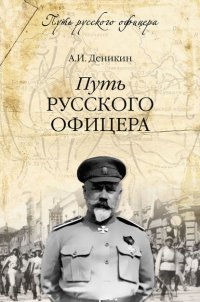
Читать онлайн Путь русского офицера бесплатно
- Все книги автора: Антон Деникин
Предисловие
Книги главнокомандующего Вооруженными силами Юга России генерал-лейтенанта Антона Ивановича Деникина нельзя назвать библиографической редкостью. Автору в некотором смысле повезло: он был издаваем в пору своего изгнания. Неожиданный читательский интерес к его творчеству в самом начале 1990-х годов заставил ориентированных на рынок издателей публиковать его произведения из года в год с завидным постоянством.
К нынешнему времени «советская» и «постсоветская» библиография его изданий может посоперничать с другим обильно писавшим автором Русского зарубежья – генералом от кавалерии Петром Николаевичем Красновым. Но если проза донского атамана, давно хорошо известная читателям, тексты сравнительно легко читаемые, насыщенные неожиданными сюжетными поворотами и привлекающие характерными «образами эпохи», то публицистика и воспоминания Деникина – вещи далеко не развлекательного характера. Между тем они вот уже много лет остаются востребованным источником исторических сведений для самого широкого круга людей: специалистов и досужих обывателей, вознамерившихся «вникнуть в тему».
В «Очерках русской смуты» этому весьма способствуют масштабный временной охват, ровный и ясный текст, не претендующий на наукообразность, в отличие от другого «многотомного» современника Деникина – генерала Н.Н. Головина[1].
В «Пути русского офицера» сама стилистика текста, воссоздающего картину жизни героя, зарисовки его медленного пути по карьерной лестнице и особенности военной среды русской армии на переломе XIX–XX веков заставляют с увлечением погружаться в изображенный автором на бумаге своеобразный мир русской военной истории. В политической публицистике Деникина, будь то «Брест-Литовск» (1933) или «Русский вопрос на Дальнем Востоке» (1932) ясно просматриваются геополитические воззрения автора, стоящего на позиции сильной государственной власти, России без большевизма. Эта центральная идея сохраняется и в его более поздних работах – «Международное положение, Россия и эмиграция» (1934) и «Мировые события и русский вопрос». Едва ли за годы изгнания Деникиным были пересмотрены основополагающие принципы в политике, верным которым он оставался до последних дней. Это тем нужнее помнить, что современники, да и многие исследователи нашего времени склонны видеть в личности Деникина лишь либерала и республиканца, враждебного русскому самодержавию в той же степени, что и социализму. Реквием монархии был пропет[2] им в марте 1917 года, а с идеями социализма генерал боролся, руководя фронтом на Юге России в Гражданскую войну, и впоследствии, в эмиграции, избрав путь геополитической и исторической публицистики.
Это особенно хорошо видно в завершающем земные труды генерала «Пути русского офицера» – книги, впервые увидевшей свет в издательстве имени Чехова в год смерти Сталина. Выбор издателя оказался как нельзя кстати своевременным и отвечавшим главной цели эмиграции – продолжению борьбы с коммунизмом. Как писал знаток русской зарубежной библиографии Андрей Савин: «Чеховское издательство было основано в 1952 году и просуществовало до 1956 года. Благодаря помощи американских властей после войны был разработан целый культурный проект помощи русской эмиграции “первой и второй волны” (послевоенной). Это входило в план идеологической борьбы против коммунизма и Советского Союза. Благодаря полученной финансовой помощи был выпущен целый ряд интереснейших книг: исторических, воспоминаний, прозы, поэзии, книг по философии… Были изданы такие замечательные авторы, как Бунин, Алданов, Ремизов, Набоков, Зайцев, Маклаков, Федотов, Цветаева и многие другие»[3].
Именно таким образом, полдесятилетия после кончины, генерал Деникин вновь вернулся в своем творчестве на литературную арену русских изгнанников. Последние издатели Деникина не отличались пристрастием к пафосу политического памфлета, не спешили отдавать дань «злобе дня», искренне считая, что время само расставит все по местам, отдавая должное каждому из их многочисленных авторов. Оттого и выбор их, многообразие жанров, должны были, прежде всего, напомнить читателю о вечном – России непреходящей, чьи образы так или иначе создавала пёстрая мозаика собрания произведений «чеховцев», куда столь органично вошли воспоминания генерала.
Искателю открытий об историософском значении Гражданской войны будет нечем поживиться в защиту тех или иных сложившихся мнений: в повествовательной части Деникин не успел зайти дальше знаменитого Луцкого прорыва на австро-венгерском фронте в 1916 году, получившего в советской историографии название «брусиловского». Бег его пера остановила кончина на 75-м году жизни, оставив «Путь русского офицера», по существу, неоконченным. Остались лишь 381 страница авторского текста и пять абзацев объяснения причин неожиданно прерванной книги от лица дочери – Ксении Антоновны Деникиной. Именно в таком виде первые читатели в Соединенных Штатах Америки – русские и русскоязычные эмигранты – смогли впервые познакомиться с этой книгой.
Между тем от обычных мемуаров тех лет её выгодно отличала «домашность» повествования, отсутствие резких характеристик, некая дымка грусти о неоднозначном для генерала, но милом его сердцу прошлом русской истории. Здесь он вновь подчеркнул незначительность своего происхождения со стороны отца, выслужившего офицерский чин годами трудной воинской службы, роднившего его, по собственному мнению, с простым народом, и посчитал нужным напомнить читателю об этническом и социальном происхождении своей матери: «Мать моя – полька… из семьи мелких землевладельцев»[4].
Главы первой части книги, скупые на яркие детали и факты, бесцветные, обыкновенные и однообразные, как гарнизонная служба в провинциальном городке Царства Польского времен последней четверти XIX века, конечно, не являются особенно увлекательным чтением, но естественным образом подготавливают читателя к пяти последующим частям, полностью посвященным военной службе, на которой события в жизни автора приобретают большую увлекательность за счет контекста эпохи. Учеба в Академии Генерального штаба, время перед Русско-японской войной и, наконец, сама краткая война со Страной восходящего солнца, «первая революция», «военный Ренессанс» и события Великой войны в период между 1914 и 1916 годами.
Читая книгу, мне подумалось, что увлекательной её нашли, быть может, те, кто некогда служил вместе с Антоном Деникиным, для кого он был сослуживец или отец-командир, что давало превосходную возможность услышать из уст хорошо знакомого человека истории его богатой событиями биографии последних лет. В самом деле, в 1950-е годы в эмигрантской библиографии уже существовали куда как более интересные авторы, взявшие на себя нелегкий труд поговорить о военном прошлом России и о своей скромной в нем роли. «Моя служба в Старой гвардии» капитана Юрия Ивановича Макарова, увидевшая свет в Буэнос-Айресе, превзошла сочинение Деникина по части живописания армейской среды, остроумия, доброй и грустной ноты воспоминаний о гвардейской службе, хотя поныне так и не увидела свет на родине её автора. А чего стоят воспоминания Виктора Ларионова «Последние юнкера» – безыскусная, но невероятно живая картина жизни русского юнкера и впоследствии офицера времен Гражданской? Между тем, воспоминания генерала Деникина – далеко не столь безликий и стилистически несовершенный труд, как, например, попытка М.К. Дитерихса рассуждать о смысле истории на страницах своего «Убийства Царской Семьи», как и воспоминания многих других генералов и штаб-офицеров в эмиграции.
Преимущество ныне здравствующих историков и просто читателей этой книги как раз и состоит в том, чтобы непредвзято оценить этот по-своему важный труд, важный для понимания личности генерала Деникина, дающий некоторые объяснения его мировоззренческой позиции, основанной на прошлом жизненном опыте.
Что завещал, что желал сказать читателю Деникин, взявшись за автобиографическую работу? Не секрет, что для поколения людей, выросших и получивших военное образование в императорской России, смысл их служения оставался ясен и непоколебим: служба верная и «нелицемерная». Да, словом, все то, что так замечательно укладывается в канонический текст присяги на верность государю императору. Антон Иванович, как и многие генералы – его современники – в определенный исторический момент посчитал себя свободными от нее. Трон пошатнулся и рухнул. Началась Великая Смута, мутные потоки которой сначала забросили генерал-лейтенанта Деникина в заточение в Быхов, затем увлекли на Дон, после чего понесли его дальше и дальше, через испытания «Ледяного похода», на Кубань, через Донецкий бассейн, курские и орловские дороги войны, прямиком к стремительной новороссийской катастрофе. Казалось бы, мелочь – измена написанному на бумаге тексту, однако каким невыразимо сильным мистическим «ответом» откликнулась она сотням тысяч офицеров и солдат некогда великой империи! За сдачей Новороссийска – путь в Константинополь. Еще не тот, из которого усталая изнуренная крымскими боями армия барона Врангеля отправится в конце года в Галлиполи. Там – смерть друга в бывшем российском консульстве, «социалиста» и «либерала» по убеждениям генерала Романовского от руки правоконсервативного поручика Харузина. И снова в путь, в Великобританию, а после – на просторы континентальной Европы. Жизнь в бедности во Франции. Попытки ГПУ выкрасть генерала в Москву, на расправу. Прозябание при немцах, поспешный отъезд из послевоенной Европы в Соединенные Штаты. Эта, в целом неблагоприятная для него, цепочка событий не заставила Деникина переосмыслить ни жизнь в изгнании, ни плюсы и минусы его главнокомандования на Юге России – но лишь то главное, явившееся поворотным пунктом в его собственной судьбе. Речь идет об отношении к законному государю, антимонархической фронде высшего командования русской армии накануне марта 1917 года и длившимся годами заблуждении, что какие-то демократические институты явятся той естественной заменой монаршей власти в России, стоит лишь собрать нужных представителей народа для решения судьбы их государства.
Если эта мировоззренческая ошибка столь очевидна для нас, людей нынешнего века, десятилетиями удаленных от эпохи, в которой жил и мыслил генерал Деникин, остается лишь догадываться, отчего подобная очевидность не присутствовала в мыслях человека того времени, лучше нас представлявших все «за» и «против» монархического правления и республиканской карикатуры на него?
Одно оправдание подходит здесь как более уместное, и, увы, широко распространенное в отношении людей, предавших своего государя в марте 1917-го: люди русской военной среды получили свое воспитание «вне политики» и по незнанию легко обольстились лукавыми лозунгами «свободы, равенства, братства», провозглашенными опытными международными политиками на российской почве. Это, в свою очередь, легло на личные поводы быть недовольным властью, как писал русский поэт: «…Мы всю жизнь свою ныли. Смешно сказать: пережарит ли кухарка жаркое, падут ли 0,003 акции какого-либо банка, случайно купленные и полузабытые, суше, чем обычно поздоровается Она, – мы неизменно ворчали: “Ну и жизнь! Вот, кто-нибудь перевернул бы её верх дном!” Теперь ее перевернули. Кажется надолго.…И только теперь…мы поняли, наконец, что “ну и жизнь!” – была настоящей жизнью… Революцию подготовили и сделали мы. Революцию подготовили и сделали кавалеры ордена Святой Анны третьей степени, мечтавшие о второй, студенты первого курса, завидовавшие третьекурсникам и наоборот: штабс-капитаны до глубины души, оскорбленные тем, что Петр Петрович уже капитан… учителя математики, презиравшие математику и всем сердцем любившие что-нибудь другое, судебные следователи, страстно мечтавшие быть послезавтра прокурорами…»[5]
Антон Иванович, если и не поучаствовал в перевороте «прошлой жизни», то легко отступился от ее символов и веры, о чем подсознательно жалел, пытаясь термином «Великая Россия» заменить сакральное имя православно-самодержавного государства. На страницах книг и статей его призыв служению России как раз и являлся тем запоздалым прозрением и признанием в совершенной некогда ошибке. Как много примеров знает история, когда пылкий в разрушении устоев в юности человек, соприкоснувшись с мистической ответственностью за судьбу своего государства, лучше иного консерватора отстаивает его интересы везде, где они ущемляются! Юность разрушительного мировоззрения Антона Ивановича Деникина затянулась от юнкерской скамьи до зрелых времен, мундира генерал-лейтенанта, но после, какими-то неисповедимыми путями, вновь повернула его лицом к истине.
Не прозревший до конца, он оставил потомкам свое видение времени, ощущение русской судьбы, фотографическую карточку окружавшей его действительности. Это одно, само по себе, представляет свидетельский интерес и не нуждается в оправдании и выгодном объяснении историков будущего. Все это самоценно само по себе, ибо, как говорили летописцы иных времен: «Еже писах – писах».
Андрей Кравцов, 2012.
Часть первая
Родители
Родился я 4 декабря 1872 года в городе Влоцлавске Варшавской губ., вернее в пригороде его за Вислой – в деревне Шпеталь Дольный. Занесла нас туда судьба потому, что отец мой служил в Александровской бригаде пограничной стражи, штаб которой находился во Влоцлавске; в этих местах родители мои остались жить после отставки отца.
Как известно, часть Польши, со столицей Варшавой, входила тогда в состав Российской империи.
Отец, Иван Ефимович Деникин, родился за 5 лет до Наполеоновского нашествия на Россию (1807 год) в крепостной крестьянской семье, в Саратовской губернии, если память мне не изменяет, в деревне Ореховке. Умер он – когда мне было 13 лет, и прошло с тех пор до времени, когда пишутся эти строки, 60 лет… Поэтому о прошлой жизни отца – по его рассказам – у меня сохранились лишь смутные, отрывочные воспоминания.
В молодости отец крестьянствовал. А 27-ми лет от роду был сдан помещиком в рекруты. В условиях тогдашних сообщений и солдатской жизни (солдаты служили тогда 25 лет и редко кто возвращался домой), меняя полки и стоянки, побывав походом и в Венгрии, и в Крыму, и в Польше, отец оторвался совершенно от родного села и семьи. Да и семья-то рано распалась: родители отца умерли еще до поступления его на военную службу, а брат и сестра разбрелись по свету. Где они и живы ли – он не знал. Только однажды, был еще тогда отец солдатом, во время продвижения полка по России, судьба занесла его в тот город, где, как оказалось, жил его брат, как говорил отец – «вышедший в люди раньше меня»… Смутно помню рассказ, как отец, обрадовавшись, пошел на квартиру к брату, у которого в тот день был званый обед. И как жена брата вынесла ему прибор на кухню, «не пустив в покои»… Отец встал и ушел, не простившись. С той поры никогда с братом не встречались.
Солдатскую службу начал отец в царствование императора Николая I. «Николаевское время» – эпоха беспросветной тяжелой солдатской жизни, суровой дисциплины, жестоких наказаний. 22 года такой службы были жизненным стажем совершенно исключительным. Особенно жуткое впечатление производил на меня рассказ отца о практиковавшемся тогда наказании – «прогнать сквозь строй». Когда солдат, вооруженных ружейными шомполами, выстраивали в две шеренги, лицом друг к другу, и между шеренгами «прогоняли» провинившегося, которому все наносили шомпольные удары… Бывало, забивали до смерти!..
Рассказывал отец про эти времена с эпическим спокойствием, без злобы и осуждения, и с обычным рефреном:
– Строго было в наше время, не то что нынче!
На военную службу отец поступил только со знанием грамоты. На службе кой-чему подучился. И после 22-летней лямки, в звании уже фельдфебеля, допущен был к «офицерскому экзамену», по тогдашнему времени весьма несложному: чтение и письмо, четыре правила арифметики, знание военных уставов и письмоводства и Закон Божий. Экзамен отец выдержал и в 1856 году произведен был в прапорщики, с назначением на службу в Калишскую, потом в Александровскую бригаду пограничной стражи.
В 1863 году началось польское восстание.
Отряд, которым командовал отец, был расположен на прусской границе, в районе города Петрокова (уездного). С окрестными польскими помещиками отец был в добрых отношениях, часто бывали друг у друга. Задолго перед восстанием положение в крае стало весьма напряженным. Ползли всевозможные слухи. На кордон поступило сведение, что в одном из имений, с владельцем которого отец был в дружеских отношениях, происходит секретное заседание съезда заговорщиков… Отец взял с собой взвод пограничников и расположил его в укрытии возле господского дома, с кратким приказом:
– Если через полчаса не вернусь, атаковать дом!
Зная расположение комнат, прошел прямо в зал. Увидел там много знакомых. Общее смятение… Кое-кто из не знавших отца бросились было с целью обезоружить его, но другие удержали. Отец обратился к собравшимся:
– Зачем вы тут – я знаю. Но я солдат, а не доносчик. Вот когда придется драться с вами, тогда уж не взыщите. А только затеяли вы глупое дело. Никогда вам не справиться с русскою силой. Погу́бите только зря много народу. Одумайтесь, пока есть время.
Ушел.
Я привел лишь общий смысл этого обращения, а стиля передать не могу. Вообще отец говорил кратко, образно, по-простонародному, вставляя не раз крепкие словца. Словом, стиль был отнюдь не салонный.
В сохранившемся сухом и кратком перечне военных действий («Указ об отставке») упоминается участие отца в поражении шайки Мирославского в лесах при дер. Крживосондзе, банды Юнга – у деревни Новая Весь, шайки Рачковского – у пограничного поста Пловки и т. д.
Почему-то про Крымскую и Венгерскую кампании отец мало рассказывал – должно быть, принимал в них лишь косвенное участие. Но про Польскую кампанию, за которую отец получил чин и орден, он любил рассказывать, а я с напряженным вниманием слушал. Как отец носился с отрядом своим по приграничному району, преследуя повстанческие банды…
Как однажды залетел в прусский городок, чуть не вызвав дипломатических осложнений… Как раз, когда он и солдаты отряда парились в бане, а разъезды донесли о подходе конной банды «косиньеров»[6], пограничники – кто успев надеть рубахи, кто голым, только накинув шашки и ружья, – бросились к коням и пустились в погоню за повстанцами… В ужасе шарахались в сторону случайные встречные при виде необыкновенного зрелища: бешеной скачки голых и черных (от пыли и грязи) не то людей, не то чертей… Как выкуривали из камина запрятавшегося туда мятежного ксендза…
И т. д., и т. д.
Рассказывал отец и про другое: не раз он спасал поляков-повстанцев – зеленую молодежь. Надо сказать, что отец был исполнительным служакой, человеком крутым и горячим и вместе с тем необыкновенно добрым. В плен попадало тогда много молодежи – студентов, гимназистов. Отсылка в высшие инстанции этих пленных, «пойманных с оружием в руках», грозила кому ссылкой, кому и чем-либо похуже. Тем более что ближайшим начальником отца был некий майор Шварц – самовластный и жестокий немец. И потому отец на свой риск и страх, при молчаливом одобрении сотни (никто не донес), приказывал, бывало, «всыпать мальчишкам по десятку розог» – больше для формы – и отпускал их на все четыре стороны.
Мне не забыть никогда эпизода, случившегося лет через пятнадцать после восстания. Мне было тогда лет шесть-семь. Отцу пришлось ехать в город Липно зимой в санях – в качестве свидетеля по какому-то судебному делу. Я упросил его взять меня с собой. На одной из промежуточных станций остановились в придорожной корчме. Сидел там за столом какой-то высокий плотный человек в медвежьей шубе. Он долго и пристально поглядывал в нашу сторону и вдруг бросился к отцу и стал его обнимать.
Оказалось, бывший повстанец – один из отцовских «крестников».
Как известно, польское восстание началось 10 января 1863 года и окончилось в декабре полным поражением. Следствием его были конфискация имуществ, многочисленные ссылки в Сибирь на поселение и вообще введение в крае более сурового режима.
В 1869 году отец вышел в отставку, с чином майора. А через два года женился вторым браком на Елисавете Федоровне Вржесинской (моя мать). Об умершей первой жене отца в нашей семье почти не говорилось; кажется, брак был неудачный.
Мать моя – полька, происхождением из города Стрельно, прусской оккупации, из семьи обедневших мелких землевладельцев. Судьба занесла ее в пограничный городок Петроков, где она добывала для себя и для старика, своего отца, средства к жизни шитьем. Там и познакомилась с отцом.
Когда происходила русско-турецкая война (1877–1878), отцу шел уже 70-й год. Он, заметно для окружающих, заскучал. Становился все более молчаливым, угрюмым и прямо не находил себе места. Наконец, втайне от жены, подал прошение о поступлении вновь на действительную службу… Об этом мы узнали, когда, много времени спустя, начальник гарнизона прислал бумагу: майору Деникину отправиться в крепость Новогеоргиевск для формирования запасного батальона, с которым ему надлежало отправиться на театр войны.
Слезы и упреки матери:
– Как ты мог, Ефимыч, не сказав ни слова… Боже мой, ну куда тебе, старику…
Плакал и я. Однако в глубине душонки гордился тем, что «папа мой идет на войну».
Но через некоторое время пришло известие: война кончалась, и формирования прекратились.
Детство
Детство мое прошло под знаком большой нужды. Отец получал пенсию в размере 36 рублей в месяц. На эти средства должны были существовать первые семь лет пятеро нас, а после смерти деда – четверо. Нужда загнала нас в деревню, где жить было дешевле и разместиться можно было свободнее. Но к шести годам мне нужно было начинать школьное ученье, и мы переехали во Влоцлавск.
Помню нашу убогую квартирку во дворе на Пекарской улице: две комнаты, темный чуланчик и кухня. Одна комната считалась «парадной» – для приема гостей; она же – столовая, рабочая и проч.; в другой, темной комнате – спальня для нас троих; в чуланчике спал дед, а на кухне – нянька.
Поступив к нам вначале в качестве платной прислуги, нянька моя Аполония, в просторечье Полося, постепенно врастала в нашу семью, сосредоточила на нас все интересы своей одинокой жизни, свою любовь и преданность, и до смерти своей с нами не расставалась. Я похоронил ее в Житомире, где командовал полком.
Пенсии, конечно, не хватало. Каждый месяц, перед получкой, отцу приходилось «подзанять» у знакомых 5–10 рублей. Ему давали охотно, но для него эти займы были мукой; бывало, дня два собирается, пока пойдет… 1-го числа долг неизменно уплачивался с тем, чтобы к концу месяца начинать сказку сначала…
Раз в год, но не каждый, спадала на нас манна небесная, в виде пособия – не более 100 или 150 руб. – из прежнего места службы (Корпус пограничной стражи находился в подчинении министра финансов). Тогда у нас бывал настоящий праздник: возвращались долги, покупались кое-какие запасы, «перефасонивался» костюм матери, шились обновки мне, покупалось дешевенькое пальто отцу – увы, штатское, что его чрезвычайно тяготило. Но военная форма скоро износилась, а новое обмундирование стоило слишком дорого. Только с военной фуражкой отец никогда не расставался. Да в сундуке лежали еще последний мундир и военные штаны; одевались они лишь в дни великих праздников и особых торжеств и бережно хранились, пересыпанные от моли нюхательным табаком. «На предмет непостыдныя кончины, – как говаривал отец, – чтоб хоть в землю лечь солдатом»…
Помещались мы так тесно, что я поневоле был в курсе всех семейных дел. Жили мои родители дружно; мать заботилась об отце моем так же, как и обо мне, работала без устали, напрягая глаза за мелким вышиванием, которое приносило какие-то ничтожные гроши. Вдобавок она страдала периодически тяжелой формой мигрени, с конвульсиями, которая прошла бесследно лишь к старости.
Случались, конечно, между ними ссоры и размолвки. Преимущественно по двум поводам. В день получки пенсии отец ухитрялся раздавать кое-какие гроши еще более нуждающимся – в долг, но, обыкновенно, без отдачи… Это выводило из терпения мать, оберегавшую свое убогое гнездо. Сыпались упреки:
– Что же это такое, Ефимыч, ведь нам самим есть нечего…
Или еще – солдатская прямота, с которой отец подходил к людям и делам. Возмутится человеческой неправдой и наговорит знакомым такого, что те на время перестают кланяться. Мать – в гневе:
– Ну кому нужна твоя правда? Ведь с людьми приходится жить. Зачем нам наживать врагов?..
Врагов, впрочем, не наживали. Отца любили и мирились с его нравом.
В семейных распрях активной стороной всегда бывала мать. Отец только защищался… молчанием. Молчит до тех пор, пока мать не успокоится и разговор не примет нейтральный характер.
Однажды мать бросила упрек:
– В этом месяце и до половины не дотянем, а твой табак сколько стоит…
В тот же день отец бросил курить. Посерел как-то, осунулся, потерял аппетит и окончательно замолк. К концу недели вид его был настолько жалкий, что мы оба – мать и я – стали просить его со слезами начать снова курить. День упирался, на другой закурил. Все вошло в норму.
Это был единственный случай, когда я вмешался в семейную размолвку. Вообще же никогда я делать этого не смел. Но в глубине детской душонки почти всегда был на стороне отца.
Мать часто жаловалась на свою, на нашу судьбу. Отец – никогда. Поэтому, вероятно, и я воспринимал наше бедное житье как нечто провиденциальное, без всякой горечи и злобы, и не тяготился им. Правда, было иной раз несколько обидно, что мундирчик, выкроенный из старого отцовского сюртука, не слишком наряден… Что карандаши у меня плохие, ломкие, а не «фаберовские», как у других… Что готовальня с чертежными инструментами, купленная на толкучке, не полна и неисправна… Что нет коньков – обзавелся ими только в 4-м классе, после первого гонорара в качестве репетитора… Что прекрасно пахнувшие, дымящиеся «сердельки» (колбаски), стоявшие в училищном коридоре на буфетной стойке во время полуденного перерыва, были недоступны… Что летом нельзя было каждый день купаться в Висле, ибо вход в купальню стоил целых три копейки, а на открытый берег реки родители не пускали… И мало ли еще что.
Но с купаньем был выход простой: уходил тайно с толпой ребятишек на берег Вислы и полоскался там целыми часами; одним из лучших пловцов стал. Прочее же – ерунда. Выйду в офицеры – будет и мундир шикарный, появятся не только коньки, но и верховая лошадь, а «сердельки» буду есть каждый день…
Но вот душонка моя возмутилась не на шутку, ощутив подсознательно социальную неправду – это когда, благодаря скверной готовальне (только потому, так как чертежник я был хороший), учитель математики поставил мне в четверть неудовлетворительный бал и я скатился вниз по ученическому списку.
И еще один раз… Мальчишкой лет 6–7-ми в затрапезном платьишке, босиком я играл с ребятишками на улице, возле дома. Подошел мой приятель, великовозрастный гимназист 7-го класса, Капустянский и, по обыкновению, давай меня подбрасывать, перевертывать, что доставляло мне большое удовольствие. По улице в это время проходил инспектор местного реального училища. Брезгливо скривив губы, он обратился к Капустянскому:
– Как вам не стыдно возиться с уличными мальчишками!
Я свету Божьего не взвидел от горькой обиды. Побежал домой, со слезами рассказал отцу. Отец вспылил, схватил шапку и вышел из дому.
– Ах он, сукин сын! Гувернантки, видите ли, нет у нас. Я ему покажу!
Пошел к инспектору и разделал его такими крепкими словами, что тот не знал – куда деваться, как извиниться.
Русско-польские отношения
Больные русско-польские отношения, вторгавшиеся в нашу жизнь извне, внутри ее не вызывали решительно никаких недоразумений. Отец был кровный русак, мать оставалась полькой, меня воспитывали в русскости и в православии. Собственно, «воспитывали» – в данном случае понятие относительное. В нем предполагается какая-то система, направление. Ничего подобного не было. Я рос – по тесноте нашей – среди больших, много слышал, много видел, что нужно и ненужно было, воспринимал и перемалывал в своем сознании самолично, редко обращаясь к старшим за разъяснением по вопросам из области духовной.
Ни отец, ни мать не отличались лингвистическими способностями. К сожалению, это свойство унаследовал и я. Отец, прослужив в Польше 43 года, относясь к полякам и к языку их без всякого предубеждения, все понимал, но не говорил вовсе по-польски. Мать впоследствии старалась изучить русский язык, много читала русских авторов, но до конца своей жизни говорила по-русски плохо.
И так, в доме у нас отец говорил всегда по-русски, мать – по-польски, я же – не по чьему-либо внушению, а по собственной интуиции – с отцом – по-русски, с матерью – по-польски. Впоследствии, после выпуска моего в офицеры, когда матери пришлось вращаться почти исключительно в русской среде, чтобы облегчить ей усвоение русского языка, я и к ней обращался только по-русски. Но польского языка не забыл.
Не было никаких недоразумений и в отношении религиозном. Отец был человеком глубоко верующим, не пропускал церковных служб и меня водил в церковь. С 9-ти лет я стал совсем церковником. С большой охотой прислуживал в алтаре, бил в колокол, пел на клиросе, а впоследствии читал шестопсалмие и апостола.
Иногда ходил с матерью в костел на майские службы – но по собственному желанию. Но если в убогой полковой церковке нашей я чувствовал все свое, родное, близкое, то торжественное богослужение в импозантном костеле воспринимал только как интересное зрелище.
Иногда польско-русская распря доносилась извне…
В нашем городке под Пасху, в страстную субботу, ксендзы и полковой священник обходили дома для освящения пасхальных столов. К нам приглашались и ксендз и русский священник отец Елисей. Последний знал про этот наш обычай и относился к нему благодушно. Но ксендзы иной раз приходили, иной раз отказывались. Помню, какую горечь такой отказ вызывал у матери и какой гнев – у отца. Впрочем, один из ксендзов объяснил, что принципиальных препятствий он не имеет, но боится репрессий со стороны русской власти…
Однажды – мне было тогда лет девять – мать вернулась из костела чрезвычайно расстроенная, с заплаканными глазами. Отец долго допытывался – в чем дело, мать не хотела говорить. Наконец, сказала: ксендз на исповеди не дал ей разрешения грехов и не допустил к причастию, потребовав, чтобы впредь она воспитывала тайно своего сына в католичестве и в польскости… Мать разрыдалась, отец вспылил и крепко выругался. Пошел к ксендзу. Произошло бурное объяснение, причем под конец перепуганный ксендз упрашивал отца «не губить его»… Власть в Привислянском Крае была в то время (80-е годы) крутая, и «попытка к совращению» могла повлечь ссылку в Сибирь на поселение. Конечно, никакой огласки дело не получило.
Не знаю, как проходили дальнейшие исповеди матери, ибо никогда более родители мои к этой теме не возвращались.
На меня эпизод этот произвел глубокое впечатление. С этого дня я, по какому-то внутреннему побуждению, больше в костел не ходил.
Надо признаться, что обострению русско-польских отношений много способствовала нелепая, тяжелая и обидная для поляков русификация, проводившаяся Петербургом, в особенности в школьной области. Во Влоцлавском реальном училище, где я учился (1882–1889), дело обстояло так:
Закон Божий католический ксендз обязан был преподавать полякам на русском языке; польский язык считался предметом необязательным, экзамена по нему не производилось, и преподавался он также на русском языке. А учителем был немец Кинель, и по-русски-то говоривший с большим акцентом. В стенах училища, в училищной ограде и даже на ученических квартирах строжайше запрещалось говорить по-польски, и виновные в этом подвергались наказаниям. Петербург перетягивал струны. И даже бывший варшавский генерал-губернатор Гурко, герой русско-турецкой войны, пользовавшийся в глазах поляков репутацией «гонителя польскости», не раз в своих всеподданнейших докладах государю, с которыми я познакомился впоследствии, указывал на ненормальность некоторых мероприятий обрусительного характера[7].
Нужно ли говорить, что все эти строжайшие запреты оставались мертвой буквой. Ксендз на уроках бросал для виду только несколько русских фраз, ученики никогда не говорили между собой по-русски, и только аккуратный немец Кинель тщетно пытался русскими словами передать красоты польского языка.
Я должен, однако, сказать, что эти перлы русификации бледнеют совершенно, если перелистать несколько страниц истории, перед жестоким и диким прессом полонизации, придавившим впоследствии русские земли, отошедшие к Польше по Рижскому договору (1921). Поляки начали искоренять в них всякие признаки русской культуры и гражданственности, упразднили вовсе русскую школу и особенно ополчились на русскую церковь. Польский язык стал официальным в ее делопроизводстве, в преподавании Закона Божия, в церковных проповедях и местами – в богослужении. Мало того, началось закрытие и разрушение православных храмов: Варшавский собор – художественный образец русского зодчества – был взорван; в течение одного месяца в 1937 году было разрушено правительственными агентами 114 православных церквей – с кощунственным поруганием святынь, с насилиями и арестами священников и верных прихожан. Сам примас Польши в день святой Пасхи в архипастырском послании призывал католиков в борьбе с православием «идти следами фанатических безумцев апостольских»…
Отплатили нам поляки, можно сказать, с лихвою! И впереди никакого просвета в русско-польской распре не видать.
Вернемся, однако, к нашему далекому прошлому.
Застав в училище такое положение, я, десятилетний мальчишка, по собственной интуиции нашел modus vivendi: с поляками стал говорить по-польски, с русскими товарищами, которых было в каждом классе по три, по четыре, – всегда по-русски. Так как многие из них действительно ополячились, я не раз подтрунивал над ними, поругивал их, а иногда в серьезных случаях и поколачивал, когда позволяло «соотношение сил». Помню, какое нравственное удовлетворение доставило мне однажды (в 6-м классе), когда мой приятель – серьезный юноша и добрый поляк – после одной такой сценки пожал мне руку и сказал:
– Я тебя уважаю за то, что ты со своими говоришь по-русски.
Кроме поляков и русских, в каждом классе училища были и евреи – не более двух-трех. Хотя почти половина населения города состояла из евреев, которые держали в своих руках всю торговлю, и много среди них было людей состоятельных, но лишь очень немногие отдавали тогда своих детей в училище. Остальные ограничивались «хедером» – специально еврейской, отсталой, талмудистской, средневекового типа школой, которая допускалась властью, но не давала никаких прав по образованию. В нашем реальном училище «еврейского вопроса» не существовало вовсе: сверху евреи не испытывали никаких ограничений, а в ученической среде расценивались только по своим моральным, вернее товарищеским качествам.
В 7-м классе я учился уже вне дома, в Ловичском реальном училище, о чем речь впереди. Был «старшим» на ученической квартире (12 человек). Должность «старшего» предоставляла скидку – половину платы за содержание, что было весьма приятно; состояла в надзоре за внутренним порядком, что было естественно; но требовала заполнения месячной отчетности, в одной из граф которой значилось: «уличенные в разговоре на польском языке». Это было совсем тягостно, ибо являлось попросту доносом. Рискуя быть смещенным с должности, что на нашем бюджете отразилось бы весьма печально, я всякий раз вносил в графу: «таких случаев не было».
Месяца через три вызывают меня к директору. Директор Левшин знал меня еще по Влоцлавскому училищу, откуда он был переведен в Лович, и любил. За что – не знаю. Должно быть, за то, что я порядочно учился и хорошо пел в ученическом церковном хоре – его детище.
– Вы уже третий раз пишете в отчетности, что уличенных в разговоре на польском языке не было…
– Да, господин директор.
– Я знаю, что это неправда.
Молчу.
– Вы не хотите понять, что этой меры требуют русские государственные интересы: мы должны замирить и обрусить этот край. Ну что же, подрастете и когда-нибудь поймете. Можете идти.
Был ли директор твердо уверен в своей правоте и в целесообразности такого метода «замирения» – не знаю. Но до конца учебного года в моем отчете появлялась сакраментальная фраза – «таких случаев не было», а с должности меня не сместили.
Так или иначе, в течение 8 лет, проведенных среди поляков в реальном училище, я никогда не испытывал трений на национальной почве. Не раз, когда во время общих наших загородных прогулок кто-либо из товарищей затягивал песни, считавшиеся революционными – «3 дымэм пожарув» или «Боже, цось Польске…», другие останавливали его:
– Брось, нехорошо, ведь с нами идут русские!..
Трения пришли позже… Впоследствии я вышел в офицеры, большинство из моих школьных товарищей-поляков окончили высшие технические заведения. Положение изменилось. Запретов не стало, были мы уже свободными людьми, и я потребовал «равноправия»; при встречах с бывшими товарищами заговорил с ними по-русски, предоставляя им говорить на их родном языке. Одни примирились с этим, другие обиделись, и мы расстались навсегда. Впрочем, встречи происходили лишь в первые годы после выпусков. В дальнейшем судьба разбросала нас по свету, и я никогда больше не встречал своих школьных товарищей.
Один только случай: в 1937 году отозвался самый близкий мой школьный товарищ, с которым мы жили в одной комнате, крепко дружили, вместе учились и совместно разрешали тогда все «мировые вопросы». Это был Станислав Карпинский, первый директор государственного банка новой Польши, кратковременно занимавший пост министра финансов. К этому времени Карпинский был уже в отставке. Прочтя мои книги и узнав через одно из издательств мой адрес, он прислал мне книжку воспоминаний, и между нами завязалась переписка, длившаяся до самой второй мировой войны. Что сталось с ним, не знаю.
Карпинский, уроженец русской Польши – один из редких поляков, здраво, без предвзятости смотревший на русско-польские отношения, ясно видевший не только русские, но и польские прегрешения и считавший возможным и необходимым примирение.
Жизнь городка
Городишко наш жил тихо и мирно. Никакой общественной жизни, никаких культурных начинаний, даже городской библиотеки не было, а газеты выписывали лишь очень немногие, к которым, в случае надобности, обращались за справками соседи. Никаких развлечений, кроме театра, в котором изредка подвизалась заезжая труппа. За 10 лет моей более сознательной жизни в Влоцлавске я могу перечислить ВСЕ «важнейшие события», взволновавшие тихую заводь нашего захолустья.
И так…
«Поймали социалиста»… Под это общее определение влоцлавские жители подводили всех представителей того неведомого и опасного мира, которые за что-то боролись с правительством и попадали в Сибирь, но о котором очень немногие имели ясное представление. В течение нескольких дней «социалиста», в сопровождении двух жандармов, водили на допрос к жандармскому подполковнику. Каждый раз толпа мальчишек сопровождала шествие. И так как подобный случай произошел у нас впервые, то вызвал большой интерес и много пересудов среди обывателей.
В доме богатого купца провалился потолок и сильно придавил его. Много народа – знакомые и незнакомые – ходили навещать больного – не столько из участия, сколько из-за любопытства: посмотреть провалившийся потолок. Конечно, побывал и я.
Директор отделения местного банка, захватив суммы, бежал за границу… Несколько дней подряд возле банковского дома собирались, жестикулировали и ругались люди – вероятно, мелкие вкладчики. И на Пекарской улице, где находился банк, царило большое оживление. Кажется, не было в городе человека, который не прошелся бы в эти дни по Пекарской мимо дома с запертыми дверями и наложенными на них казенными печатями.
В нашем реальном училище случилось событие посерьезнее. 7-го класса, или «дополнительного», как он назывался на официальном языке, к моему выпуску уже не было, и вот почему… Раньше училище было нормальным-семиклассным. По установившейся почему-то традиции семиклассники у нас пользовались особыми привилегиями: ходили вне школы в штатском платье, посещали рестораны, где выпивали, гуляли по городу после установленного вечернего срока, с учителями усвоили дерзкое обращение и т. д. В конце концов распущенность дошла до такого предела, что директор решил положить ей конец. После какого-то объяснения с великовозрастным семиклассником последний ударил директора по лицу.
Это событие взволновало, взбудоражило весь город и, конечно, школу. Семиклассник был исключен «с волчьим билетом», т. е. без права приема в какое бы то ни было учебное заведение. Помню, что поступок его вызвал всеобщее осуждение, тем более что директор, которого перевели куда-то в центральную Россию, был человеком гуманным и справедливым. Осуждали и мы, мальчишки.
Седьмой класс был закрыт, как сказано было в официальной бумаге, «навсегда».
Наконец, еще событие, коснувшееся стороной и меня. Было мне тогда 7 или 8 лет. В городе стало известным, что из-за границы возвращается император Александр II через Александров-пограничный и что царский поезд остановится во Влоцлавске на 10 минут. Для встречи государя, кроме начальства, допущены были несколько жителей города, в том числе и мой отец. Отец решил взять меня с собой. Воспитанный в духе мистического отношения к личности царя, я был вне себя от радости.
В доме – переполох. Мать весь день и ночь шила мне плисовые штаны и шелковую рубашку; отец приводил в порядок военный костюм и натирал до блеска – через особую дощечку с вырезами – пуговицы мундира.
На вокзале я заметил, что, кроме меня, других детей нет, и это наполнило меня еще большей гордостью.
Когда подъехал царский поезд, государь подошел к открытому окну вагона и приветливо беседовал с кем-то из встречавших. Отец застыл с поднятой к козырьку рукой, не обращая на меня внимания. Я не отрывал глаз от государя.
После отхода поезда один наш знакомый полушутя обратился к отцу:
– Что это, Иван Ефимович, сынишка ваш непочтителен к государю. Так шапки и не снимал…
Отец смутился и покраснел. А я словно с неба на землю и свалился. Почувствовал себя таким несчастным, как никогда. Теперь уже и перед мальчишками нельзя будет похвастаться встречей царя: узнают про мою оплошность – засмеют…
Прошло некоторое время, и вся Россия была потрясена событием: 1 марта 1881 года убит был император Александр II…
В нашем городке – в переполненной молящимися православной церкви, в русских семьях, в нашем доме люди плакали. Как отнеслось к событию польское население, я тогда оценить не мог. Помню только, что в течение нескольких дней город был погружен в жуткую тишину и пустоту. По распоряжению растерявшегося местного начальства, в полуопустевшем городе ездили конные уланские патрули, и лязг конских копыт, в особенности ночью, усиливал тревожное настроение, которое можно передать словами польского поэта:
- Тихо вшендзе, глухо вшендзе.
- Цо то бэндзе, цо то бэндзе…[8]
Школа
Учить меня стали рано. Когда мне исполнилось четыре года, к именинам отца мать подготовила ему подарок: втихомолку выучила меня русской грамоте. Я был торжественно подведен к отцу, развернул книжку и стал ему читать.
– Врешь, брат, ты это наизусть. А ну-ка прочти вот здесь.
Прочел. Радость была большая. Словно два именинника в доме.
Когда переехали из деревни в город, отдали меня в «немецкую» городскую школу. В немецкую потому, что помещалась она насупротив нашего дома, а до нормальной было далеко. Впрочем, немецкой называлась она только ввиду того, что сверх обыкновенной программы там преподавался немецкий язык. Между прочим, начальной школы с польским языком не было…
Помянуть нечем. Вот только разве «чудо» одно… Оставил меня раз учитель за какую-то провинность после уроков на час в классе. Очень неприятно: дома будут пилить полчаса, что гораздо хуже всякого наказания. Стал я перед училищной иконой на колени и давай молиться Богу:
– Боженька, дай, чтобы меня отпустили домой!..
Только что я встал, открывается дверь, входит учитель и говорит:
– Деникин Антон, можешь идти домой.
Я был потрясен тогда. Этот эпизод укрепил мое детское верование. Но… да простится мой скепсис – теперь я думаю, что учитель случайно подглядел в окно (одноэтажное здание), увидел картину кающегося грешника и оттого смиловался. Ибо не раз потом, когда я вновь впадал в греховность и мне грозило дома наказание, я молил Бога:
– Господи, дай, чтобы меня лучше посекли – только не очень больно – но не пилили!
Однако почти никогда моя молитва не была услышана: не секли, а пилили.
Два следующих года я учился в начальной школе, а в 1882 году, в возрасте 9 лет и 8 месяцев, выдержал экзамен в 1-й класс Влоцлавского реального училища.
Дома – большая радость. Я чувствовал себя героем дня. Надел форменную фуражку с таким приблизительно чувством, как впоследствии первые офицерские погоны. Был поведен родителями в первый раз в жизни в кондитерскую и угощен шоколадом и пирожными.
Учился я первое время отлично. Но, будучи во втором классе, заболел оспой, потом скарлатиной со всякими осложнениями. Лежал в жару и в бреду. Лечивший меня старичок, бригадный врач, зашел раз, посмотрел, перекрестил меня и, ни слова не сказав родителям, вышел. Родители – в отчаянии. Бросились к городскому врачу. Тот вскоре поднял меня на ноги.
Несколько месяцев учения было пропущено, от товарищей отстал. Особенно по математике, которая считалась главным предметом в реальном училище. С грехом пополам перевалил через 3 и 4 классы, а в 5-м застрял окончательно: в среднем за год получил по каждому из трех основных математических предметов по 2½ (по пятибалльной системе). Обыкновенно педагогический совет прибавлял в таких случаях половинку, директор Левшин настаивал на прибавке, но учитель математики Епифанов категорически воспротивился:
– Для его же пользы.
Я не был допущен к переводному экзамену и оставлен в 5-м классе на второй год.
Большой удар по моему самолюбию. Не знал – куда деваться от стыда. Мать, видя мои мучения, сочинила для знакомых басню о том, что я оставлен в классе «по молодости лет». Знакомые сочувственно кивали головой, но, конечно, никто не верил.
То лето я провел в качестве репетитора в деревне. Работы с моими учениками было немного, и все свободное время я посвятил изучению математики. Имел терпение проштудировать три учебника (алгебры, геометрии и тригонометрии) от доски до доски и даже перерешил почти все помещенные в них задачи. Труд колоссальный. Вначале дело шло туговато, но, мало-помалу, «математическое сознание» прояснялось, я начинал входить во вкус дела; удачное решение какой-нибудь трудной задачи доставляло мне истинную радость. Словом, к концу лета я с юношеским задором сказал себе:
– Ну, Епифаша, теперь поборемся!
Учитель Епифанов был влюблен в свою математику и всех не знающих ее считал дураками. В классе он находил всегда двух-трех учеников, особенно способных к математике, с ними он занимался особо, становясь совсем на товарищескую ногу. Класс дал им прозвание «пифагоров». «Пифагоры» были на привилегированном положении: получали круглую пятерку в четверть, никогда не «вызывались к доске» и иногда только, когда Епифанов чувствовал, что класс плохо понимает его объяснения, приглашал кого-нибудь из «пифагоров» повторить. Выходило иногда понятнее, чем у него… Во время заданной классной задачи «пифагоры» усаживались отдельно, и Епифанов предлагал им задачу много труднее или делился с ними новинками из последнего «Математического Журнала».
Класс относился к «пифагорам» с признанием и не раз пользовался их помощью.
Первая классная задача после каникул – совершенно пустяковая… Решаю в 10 минут и подаю. Прислушиваюсь, что говорится за пифагоровской скамьей:
– В прошлом номере «Математического Журнала» предложена была задача: «определить среднее арифметическое всех хорд круга». А в последнем номере значится, что решения не прислано. Не хотите ли попробовать…
«Пифагоры» взялись за решение, но не осилили. Я тоже заинтересовался задачей. Мысль заработала… Неужели?!.. Красный от волнения, слегка дрожавшими руками я подал лист Епифанову.
– Кажется, я решил…[9]
Епифанов прочел, ни слова не сказав, прошел к кафедре, развернул журнал и поставил так ясно, что весь класс заметил, пятерку.
С этого дня я стал «пифагором» со всеми вытекавшими из сего последствиями – почета и привилегий.
Я остановился на этом маловажном, со стороны глядя, эпизоде, потому что он имел большое значение в моей жизни, после трех лет лавирования между двойкой и четверкой, после постоянных укоров родителей, вынужденных и вымученных объяснений и уколов самолюбия дома и в школе – в моем характере проявилась какая-то неуверенность в себе, приниженность, какое-то чувство своей «второсортности»… С этого же памятного дня я вырос в собственных глазах, почувствовал веру в себя, в свои силы и тверже и увереннее зашагал по ухабам нашей маленькой жизни.
В 5-м классе, благодаря высоким баллам по математике, я занял третье место, а в 6-м весь год шел первым.
После окончания 6-ти классов во Влоцлавске мне предстояло перейти в одно из ближайших реальных училищ – Варшавское с «общим отделением дополнительного класса» или в Ловичское – с «механико-техническим отделением». Я избрал последнее. Репутация «пифагора», занесенная перемещенным туда директором Левшиным, помогла мне с первых же дней занять в новом «чужом» училище надлежащее место, и я окончил его с семью пятерками по математическим предметам.
Прочие науки проходил довольно хорошо, а иностранные языки неважно. По русскому языку, конечно, стоял выше других. И если в аттестате, выданном Влоцлавским училищем, значится только четверка, то потому, что инспектор Мазюкевич никому пятерки не ставил. А может быть, причина была другая… Как-то раз, еще в четвертом классе, Мазюкевич задал нам классное сочинение на слова поэта:
- Куда как упорен в труде человек,
- Чего он не сможет, лишь было б терпенье,
- Да разум, да воля, да Божье хотенье.
– Под последней фразой, – объяснил нам инспектор, – поэт разумел удач у.
А я свое сочинение закончил словами: «…И, конечно, Божье хотенье. Не “удача”, как судят иные, а именно “Божье хотенье”. Недаром мудрая русская пословица учит: “Без Бога – ни до порога”»…
За такую мою продерзость «иные» поставили мне тогда тройку, и с тех пор до самого выпуска, несмотря на все старание, выше четверки я не подымался[10].
С 4-го класса начались мои «литературные упражнения»: наловчился писать для товарищей-поляков домашние сочинения пачками – по три-четыре на одну и ту же тему и к одному сроку. Очень трудное дело. Писал я, по-видимому, неплохо. По крайней мере Мазюкович обратился раз к товарищу моему, воспользовавшемуся моей работой, со словами:
– Сознайтесь – это не вы писали. Должно быть, заказали сочинение знакомому варшавскому студенту…
Такое заявление было весьма лестно для «анонимного» автора и подымало мой школьный престиж.
Работал я даром, иногда, впрочем, «в товарообмен»: за право пользоваться хорошей готовальней или за одолженную на время электрическую машинку – предел моих мечтаний.
В 13–14 лет писал стихи – чрезвычайно пессимистического характера, вроде:
- Зачем мне жить дано
- Без крова, без привета.
- Нет, лучше умереть —
- Ведь песня моя спета.
Посылал стихи в журнал «Ниву» и лихорадочно томился в ожидании ответа. Так, злодеи, и не ответили. Но в 15 лет одумался: не только писать, но и читать стихи бросил – «Ерунда!» Прелесть Пушкина, Лермонтова и других поэтов оценил позднее. А тогда сразу же после Густава Эмара и Жюля Верна преждевременно перешел на «Анну Каренину» Льва Толстого – литература, бывшая строго запретной в нашем возрасте.
В 16–17 лет (6–7 классы) наша компания была уже достаточно «сознательной». Читали и обсуждали вкривь и вкось, без последовательности и руководства, социальные проблемы; разбирали по-своему литературные произведения, интересовались четвертым измерением и новейшими изобретениями техники. Только политическими вопросами занимались мало. Быть может, потому, что в умах и душах моих товарищей-поляков доминировала и все подавляла одна идея – «Еще Польска не сгинэла»… А со мной на подобные темы разговаривать было неудобно.
Но больше всего, страстнее всего занимал нас вопрос религиозный – не вероисповедный, а именно религиозный – о бытии Бога. Бессонные ночи, подлинные душевные муки, страстные споры, чтение Библии наряду с Ренаном и другой «безбожной» литературой… Обращаться за разрешением своих сомнений к училищным законоучителям было бесполезно. Наш старый священник, отец Елисей, сам, наверно, не тверд был в Богопознании; ловичский законоучитель, когда к нему решился обратиться раз мой товарищ-семиклассник Дубровский, вместо ответа поставил ему двойку в четверть и обещал срезать на выпускном экзамене; а к своему ксендзу поляки обращаться и не рисковали – боялись, что донесет училищному начальству. По крайней мере, списки уклонившихся от исповеди представлял неукоснительно. По этому поводу вызывались к директору родители уклонившихся для крайне неприятных объяснений, а виновникам сбавлялся балл за поведение…
Много лет спустя, когда я учился в Академии Генерального Штаба, на одной из своих лекций профессор психологии А. И. Введенский рассказывал нам:
– Бытие Божие воспринимается, но недоказывается. Когда-то на первом курсе университета слушал я лекции по Богословию. Однажды профессор Богословия в течение целого часа доказывал нам бытие Божие: «во-первых… во-вторых… в-третьих»… Когда вышли мы с товарищем одним из аудитории – человек он был верующий, – говорит он мне с грустью:
– Нет, брат, видимо, Божье дело – табак, если к таким доказательствам прибегать приходится…
Вспомнил я этот рассказ Введенского вот почему. Мой друг – поляк, шестиклассник, вопреки правилам пошел на исповедь не к училищному, а к другому молодому ксендзу. Повинился в своем маловерии. Ксендз выслушал и сказал:
– Прошу тебя, сын мой, исполнить одну мою просьбу, которая тебя ничем не стеснит и ни к чему не обяжет.
– Слушаю.
– В минуты сомнений твори молитву: «Боже, если Ты есть, помоги мне познать Тебя»…
Товарищ мой ушел из исповедальни глубоко взволнованный.
Я лично прошел все стадии колебаний и сомнений и в одну ночь (в 7-м классе), буквально в одну ночь пришел к окончательному и бесповоротному решению:
– Человек – существо трех измерений – не в силах осознать высшие законы бытия и творения. Отметаю звериную психологию Ветхого Завета, но всецело приемлю христианство и православие.
Словно гора свалилась с плеч!
С этим жил, с этим и кончаю лета живота своего.
Преподаватели
Кто были нашими воспитателями в школе?
Перебирая в памяти ученические годы, я хочу найти положительные типы среди учительского персонала моего времени и не могу[11]. Это были люди добрые или злые, знающие или незнающие, честные или корыстные, справедливые или пристрастные, но почти все – только чиновники. Отзвонить свои часы, рассказать своими словами по учебнику, задать «отсюда досюда» – и все. До наших душонок им не было никакого дела. И росли мы сами по себе, вне всякого школьного влияния. Кого воспитывала семья, а кого – и таких было немало – исключительно своя же школьная среда, у которой были свои неписаные законы морали, товарищества и отношения к старшим – несколько расходившиеся с официальными, но, право же, не всегда плохие.
Зато типов и фактов анекдотических не перечесть.
Вот учитель немецкого языка, невозможно коверкавший русскую речь. Ни мы его не понимали, ни он нас. На протяжении нескольких часов он поучал нас, что величайший поэт мира есть Клопшток. Так надоел со своим Клопштоком, что слово это стало у нас ругательной кличкой.
Сменивший его другой учитель К. был взяточником. Обращался, бывало, к намеченному ученику:
– Вы не успеваете в предмете. Вам необходимо брать у меня частные уроки.
Условия известны: срок – месяц; плата – 25 рублей; время занятий – два-три раза в неделю по полчаса. Хороший балл в году и на экзамене обеспечен. Дешево!
С таким же предложением К. обратился как-то и ко мне. Я ответил:
– Платить нам за уроки нечем. А на тройку я знаю достаточно.
Казалось бы, в крае, подвергавшемся русификации, преподавание русской литературы не только с воспитательной, но хотя бы с пропагандной целью должно было быть поставлено образцово. Между тем наши учителя облекали свой предмет в такую скуку, в такую казенщину, что могли бы отбить не только у поляков, но и у нас, русских, всякую охоту к чтению, если бы не природное влечение к живому слову, если бы не внедренная в нас жажда к самообразованию.
В Ловиче прикладную математику (4 предмета) преподавал В. – человек больной – полупаралитик. Не то по природе, не то от болезни – злой и раздражительный. Приходил в училище редко, никогда не объяснял уроков, а только задавал и спрашивал. При этом без стеснения сыпал единицы и двойки. Наши тетрадки с домашними работами возвращались от него без каких-либо поправок, очевидно не проверенные, и только скрепленные подписью… с росчерком его жены. Начальство знало все это, но закрывало глаза – учителю не хватало двух или трех лет до полной пенсии.
Класс наш, наконец, возмутился. Решено было заявить протест, что возложено было на меня. Я, как «пифагор», подвергался меньшему риску от учительского гнева.
Когда В. вошел в класс, я обратился к нему:
– Сегодня мы отвечать не можем. Никто нам не объяснил, и мы не понимаем заданного.
В. накричал, обозвал нас дураками за то, что мы «не понимаем простых вещей», не объяснил, а стал спрашивать. Но отметок в этот день все же не поставил.
Отец одного из моих товарищей, несправедливо недопущенного к экзаменам, Нарбут, подал жалобу попечителю Варшавского учебного округа, нарисовав всю картину оригинального преподавания В. Жалоба была оставлена без последствий, но В. был отстранен от производства выпускных экзаменов, и из Варшавы был прислан для этой цели один из профессоров Варшавского университета. Но так как, паче чаяния, экзамены сошли благополучно, то В. оставили… дослуживать пенсию.