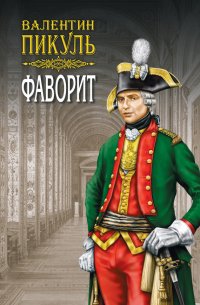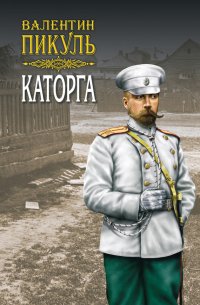Читать онлайн Ястреб гнезда Петрова (сборник) бесплатно
- Все книги автора: Валентин Пикуль
© Пикуль А. И., вступление, 2011
© Пикуль В. С., наследники, 2011
© ООО «Издательство «Вече», 2011
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017
* * *
Многоцветный венок Валентина Пикуля
Исторические миниатюры Валентина Пикуля… Эта грань творчества писателя требует особого разговора. «Очень хорошо, когда еще на заре юности человек ставит перед собой цель и потом всю жизнь достигает ее; в таких случаях он не останавливается до тех пор, пока не остановится его сердце. Люблю таких людей, они отвечают моему представлению о человеке!» – так писал Валентин Пикуль в одной из миниатюр. В этой фразе не только автобиография автора, – в ней дань уважения к скромным труженикам, фанатично преданным любимому делу и оставившим заметный след в многотрудной истории нашего Отечества.
Миниатюры Пикуля различны по тематике, сюжету и форме. Объединяет их только литературное обаяние, историческая ценность и судьбы людей, как правило, посвятивших свою жизнь «во пользу Отечества».
Это своего рода ультракороткие романы, в которых биография личности спрессована до уровня гениальности.
В период выхода первого сборника миниатюр – «Из старой шкатулки», автор, наверное, и сам не предполагал, что в последующие годы миниатюры займут весьма заметное место в его творческой биографии. Даже объемистым комментарием нет возможности охватить все многообразие лиц и судеб, описанных Валентином Пикулем в исторических миниатюрах. Пикуль любил писать миниатюры. На заинтересовавшую его личность он заводил карточку и годами (а иногда десятилетиями) заносил в нее библиографические источники, в которых встречался материал, необходимый для полного раскрытия образа будущего героя миниатюры. Когда накопленная информация обеспечивала простор его творческой мысли, Валентин Саввич брался за перо. Очень часто всего одна ночь требовалась писателю, чтобы перенести на бумагу собранное, осмысленное и выстраданное годами. Последняя зима писателя отличалась высокой плодотворностью. Сама не знаю почему так получилось, но этот период жизни Валентина Пикуля зафиксирован в моем дневнике с особой подробностью. Вот фрагменты записей, сделанных в феврале 1990 года.
«1 февраля… написал небольшую миниатюру «Ярославские страдания». Просил принести путеводитель по Ярославлю…
2–3 февраля… работал над миниатюрой «Мангазея – златокипящая». Требуется доработка. Просил достать две книги…
4–6 февраля… работал над миниатюрой «Вологодский «полтергейст», которая явилась откликом на телепередачу о «барабашках». В.С. вспомнил, что в прошлые времена тоже бывали подобные случаи, и сел за машинку. При изучении материалов по истории Вологды встретил разночтение в написании места, где происходили события. Просил выяснить: как точно называется место – Фрязино или Фрязиново…
7–9 февраля… дорабатывал «Русский аббат в Париже». Миниатюра шла тяжело…
10–11 …долго мучился, пока не нашел подходящий заголовок – «Бесплатный могильщик». Писал легко, закончил быстро. Доволен. Говорит, что «получилась»…
12–14 …пишет о Якове Карловиче Гроте. На столе его портрет и карточка со стихами своего героя:
Я перед ангелом благим
Добру и правде обещаю
Всегда служить пером моим…
14–15 …написал «Сандуновские бани»…
15–17 …углубился в династию Демидовых…
18–23 …«Цыц и перецыц». Не уверен в том, что получилось…
23–25 …написал «В очереди за картошкой». Считает, что получилось скучновато…
26–28 февраля… в два приема написал миниатюру «Куда делась наша тарелка?» Миниатюра требует доработки.
Читатель уже знаком с ритмом работы Валентина Пикуля, и, думаю, нет необходимости пояснять, что «14–15» – это не два дня февраля, а длинная зимняя ночь с 14 на 15…
Нередко героями исторических миниатюр становились исторические личности, которые никак не вмещались в его исторические романы.
Из уст критиков в адрес Пикуля часто слышались упреки в перегруженности его исторических романов действующими лицами. Для умного человека в этих упреках – восхищение! Ведь в исторических произведениях именно недостаток, а не избыток разысканных материалов требует фантазии и вымысла.
У Пикуля было наоборот.
Щадя читателя, умело дозируя информацию, автор исторических романов не останавливался подробно на некоторых личностях, причастных к описываемым событиям. Но собранный материал оказывался настолько богатым, что Пикуль не мог лишить читателей удовольствия познакомиться с ним, тем более что каждый персонаж был весьма достоин пера историка. Так возникла литературная портретная галерея, которую Валентин Саввич назвал историческими миниатюрами.
В отличие от исторических романов, требующих строгостей фактического и хронологического порядка, миниатюры давали Пикулю эмоциональную разрядку, предоставляя возможность высказать свои сокровенные мысли, личные впечатления и отношение к современной жизни через характеры выбранных им героев, с поступками которых он, в большинстве случаев, был полностью солидарен. Поэтому так много общих черт можно найти у автора и любовно изображенного им в литературной миниатюре героя.
Взять хотя бы уже упомянутую «шкатулку». В предисловии к первой книге миниатюр Пикуль пишет, что они расположены в хронологическом порядке. Это – правда. Но, думаю, совсем не случайно открывает книгу миниатюра о протопопе Аввакуме, необычайно близком автору по характеру, по духу и даже… по судьбе.
Миниатюра под названием «Книга о скудости и богатстве» также весьма характерна для понимания этой грани творчества Валентина Пикуля. Автор как бы заново устанавливает памятник на затоптанной временем могиле поборника русского просвещения Ивана Посошкова. Этот «правды всеусердный желатель» восхищал Пикуля, полностью разделявшего запись в дневнике Погодина: «Благодарю судьбу, которая доставила мне случай ввести такого великого человека в святилище русской истории».
А в слова Лобанова-Ростовского («Потомок Владимира Мономаха») Валентин Саввич вкладывал мысль, поясняющую его любовь к выбранному жанру: «Днями, встречая подлецов и мерзавцев, я по ночам зарываюсь в прошлое России, отдыхая душой на привлекательных чертах предков, которые ограждены от злословия потомков надгробной плитой из мрамора…»
В миниатюрах Валентин Пикуль возвращает читателям не только имена и судьбы, но и многие любопытные эпизоды из жизни и быта старины. Огромным трудом добытые сведения позволяют ему без самолюбования, с уверенностью в правоте сказанного преподносить их так:
«Не всем, наверное, известно…»
«И мало кто догадывается…»
«Очень немногие слышали о…»
«Сейчас уже мало кто помнит…»
И вслед за одной из подобных фраз на читателя обрушивается уникальная информация, вызывающая удивление эрудицией автора, заставляющая, как образно писалось в одной из рецензий, «содрогнуться от собственного невежества».
Миниатюру «Воин метеору подобный» (о Котляревском) Валентин Саввич заканчивает словами: «Как мало я сказал о нем!» «Как много я узнал о генерале Котляревском!» – восклицает благодарный читатель. В своих миниатюрах Пикуль тяготеет к личностям незаурядным, достойным вечной памяти потомков. Об одном из любимейших своих героев – Михаиле Константиновиче Сидорове – Валентин Пикуль пишет: «Я верю, что Сидорову еще будет поставлен памятник… Велик был сей человек! Вот уж воистину велик!»
Пикуль одинаково внимателен и к большим, и к малым делам и заслугам своих героев, к их государственной и глубоко личной жизни. Но всякий раз он стремится подчеркнуть те лучшие проявления национального характера, которые в своей совокупности составляли славу и гордость русского человека, вызывали высокое уважение даже у недоброжелателей и врагов его. Именно таким был генерал – рыцарь Кульнев, о котором в Финляндии слагали легенды и песни. Ничего от завоевателя и «поработителя» не было и у покорителя Хивы – оренбургского губернатора Перовского, которого башкиры считали «доброй душой».
Насколько все же благородней создавать памятники, чем их разрушать… Иногда Пикуль рисовал портреты персонажей, лежащих по другую сторону его симпатий (Аракчеев, Утин, Политковский). Чаще это было результатом аналогий, взятых из современности, хотя Валентин Саввич считал, что бывают гении зла, подлецы – с сильной натурой и их из истории не выбросишь. «Отрицательные явления в истории, – говорит он в миниатюре «Пасхальный барон Пасхин», – достойны такого же внимания, как и положительные. Иногда в отрицательном, будто в фокусе, заключена вся сумма достоверных черт времени».
Да, судить историю бессмысленно, просто у нее нужно постоянно учиться. В пикулевской «энциклопедии человеческих душ» нашлось место королю и генералу, писателю и художнику, врачу и ученому, библиотекарю и учителю, композитору и балерине, дипломату и юристу, печнику и закройщице, простолюдину и… в общем, легче перечислить, кому не нашлось.
Конечно, героев легче найти среди мужественных генералов и адмиралов, но Пикуль в своих миниатюрах открыл целую плеяду представительниц слабого пола, достойно занявших место в ряду плодотворных творцов величия нашей истории.
С большой любовью и теплотой написаны женские миниатюрные портреты, будь то хранительница домашнего очага, жена известного скульптора-анималиста Клодта («Наша милая, милая Уленька») или основательница научной гинекологии в России Смарагда Голицына («Славное имя – Берегиня»). В миниатюре «Дама из «готского альманаха» Валентин Саввич замечает: «Я смотрю на фотографию женщины…» (княгиня Е. А. Радзивилл). И хотя об этом упоминается редко, но так было всегда: при написании миниатюры портрет героя обязательно лежал на рабочем столе.
Всех своих героев В. Пикуль «знал в лицо» и писал о них, имея, как правило, исчерпывающую информацию, начиная с рождения до смерти. Не случайно в конце многих миниатюр можно найти сведения: он скончался тогда-то, погребен там-то…
Есть среди пикулевских миниатюр и событийные – «Ничего, синьор, ничего, синьорита» или «Куда делась наша тарелка?», которые не имеют конкретного героя… Вернее – герой есть, героем является народ. И здесь Пикуль верен себе: захватывающие сюжеты с необычными поворотами, дающие пищу жадному уму, и, как всегда, оригинальные концовки, заставляющие не менее, чем над чужими, задуматься над собственными жизнью и судьбой.
«Русская цензура, – со знанием дела утверждал Валентин Саввич в миниатюре «Полезнее всего запретить!», – убила писателей гораздо больше, нежели их пало на дуэлях или в сражениях». Эти слова, конечно, написаны под влиянием предвзятой щепетильности, с которой относилась современная цензура к автору «Нечистой силы». Но цензуру, как оказалось, с помощью миниатюр можно и обмануть. То, что было непозволительно Пикулю, прорывалось из уст исторических личностей. И пикулевские герои из глубины веков «резали правду-матку» в глаза всем ныне здравствующим потомкам, живущим на новом витке повторяющейся, как известно, истории.
«Почему это у нас дураки в сенате заседают, а умных людей в тюрьмах содержат?» – вопрошает Бичурин в миниатюре «Железные четки».
А кто осмелится возражать, если говорит сам император Александр II: «Господа, прежний бюрократический метод управления великим государством, каковым является Россия, считайте, закончился. Пора одуматься! Хватит обрастать канцеляриями, от которых прибыли казне не бывает, пора решительно покончить с бесполезным чистописанием под диктовку начальства… Думайте!»
И миниатюра «Человек известных форм», написанная в ночь после очередного чествования Л. Брежнева, прошла без особых осложнений, несмотря на то что начиналась довольно криминальным абзацем: «Понятно, когда полководец, признанный народом, предстает перед нами при всех орденах. Зато страшно смотреть на разжиревшего борова, таскающего на себе пудовый иконостас из орденов, «заслуженных» на тучной ниве общенародного грабительства и рвачества». Ничего страшного – это ведь о Клейгельсе! – петербургском градоначальнике, казнокраде и взяточнике.
Мини-биографии людей, жизнь которых «прожита не как-нибудь, а с большой, хорошо осознанной пользой», которые, как Илья Мамонтов («Письмо студента Мамонтова»), жертвовали собой ради будущего счастья человечества, находили широкий отклик в сердцах читателей.
Я решила немного подробней остановиться на этом любимом Пикулем жанре, довольно рельефно раскрывающем характер писателя, поскольку, к глубокому сожалению, большинство поклонников приобщилось к творчеству Пикуля благодаря модным, нашумевшим историческим романам или произведениям морской тематики.
Само по себе – это очень хорошо. Глубокое сожаление касается только того аспекта, что довольно ограниченный тираж исторических миниатюр оставил в тени этот многоцветный венок, сплетенный Валентином Пикулем.
Реже, чем на другие произведения, приходили письма с откликами читателей на миниатюры. Но зато какие! Один корреспондент, довольно широко ознакомившийся с исторической мозаикой, писал: «Если бы Валентин Пикуль не написал ничего, кроме своих миниатюр, то и тогда бы он сыскал себе славу российского О’Генри».
Говорят: «все быльем поросло, все проходит»… Нет, ничего не проходит бесследно – все остается людям.
Прикоснитесь к миниатюрам Валентина Пикуля, заставившего заговорить историческую немоту, и вы почувствуете, как обогатится ваш мир…
Антонина Пикуль
Дорогой Ричарда Ченслера
Не спорю, что многие впечатления юности теперь померкли в моей памяти, но иногда, как в мелькающих кинокадрах, освещаются краткие мгновения: атаки подводных лодок, завывания вражеских пикировщиков, а вровень с нашими эсминцами Северного флота шли конвойные корветы британского флота; рядом с нашими вымпелами развевались тогда и флаги королевского флота Великобритании. Только потом, уже на склоне лет, анализируя минувшее, я начал понимать, что мы шли путем, который в давние времена проложил Ричард Ченслер…
С чего же начать? Пожалуй, с Шекспира!
Шекспироведы давно обратили внимание на одну фразу из комедии «Двенадцатая ночь» – фразу, которую с упреком произносит слуга Оливии сэру Эгчику: «Во мнении графини вы поплыли на север, где и будете болтаться, как ледяная сосулька на бороде голландца…» Ясно, что этим голландцем мог быть только Виллиам Баренц, переживший трагическую зимовку на островах Новой Земли. Но Шекспир наверняка знал о том, что в XVI веке Англия верила в существование загадочной Полярной империи; король Эдуард VI даже составлял послания к властелину сказочной страны, которой никогда не существовало…
Будем считать, что предисловие закончено.
Впрочем, мы начинаем рассказ как раз с того времени, когда до рождения Шекспира оставался всего десяток лет.
– Да, – рассуждал Кабот, – стоит только пробиться через льды, и мы сразу попадем в царство вечной весны, которое освещено незакатным солнцем, люди там не знают, что они ходят по земле, наполненной золотом и драгоценными камнями…
Себастьян Кабот был уже стар. В жизни этого человека, картографа и мореплавателя, было все – и даже тюремные цепи, в которые его, как и Христофора Колумба, заковывали испанские короли. Кабот много плавал – там, где европейцы еще не плавали. Навестив холодные воды Ньюфаундленда, кишащие жирной треской, он дал беднякам Европы вкусную дешевую рыбу, а сам ошибочно решил, что открыл… Китай! Впрочем, и Колумб, открывший Америку, твердо верил, что попал в… Индию!
Познание мира давалось человечеству с трудом.
Ныне платье Кабота украшал пышный мех, на груди его висела тяжелая золотая цепь. Пылкий уроженец Италии, он служил королям Англии, которая еще не стала могучей морской державой, а лондонские купцы алчно завидовали испанцам, этим вездесущим идальго, отличным морякам и кровожадным конкистадорам. Кабот преподавал космографию юному Эдуарду VI, он стучал драгоценным перстнем по мифическим картам, где все было еще неясно, туманно, таинственно.
– Вашему величеству, – утверждал он, – следует искать новые пути на Восток, куда еще не успели забраться пропахшие чесноком испанцы, пронырливые, будто корабельные крысы.
Король соглашался, что треска вкуснее селедок:
– Но я не откажусь от золота, мехов и алмазов…
Лондонские негоцианты образовали компанию, для которой купили три корабля. Наслушавшись пламенных речей Кабота, утверждавшего, что через льды Севера можно достичь Индии, купцы посетили королевские конюшни, где за лошадьми ухаживали два татарина. Их спрашивали: какие дороги ведут в Татарию и какие в «Китай» (Катай), где расположен легендарный город «Камбалук» (Пекин)? Но татары-конюхи успели в Лондоне спиться, в чем они весело и сознались:
– От пьянства мы позабыли все, что знали раньше…
В начальники экспедиции был выбран Хуго Уиллоуби – за его большой рост, а пилотом (штурманом) эскадры назначили Ричарда Ченслера – за его большой ум. Себастьян Кабот лично составил инструкцию, в которой просил моряков не обижать жителей, какие встретятся в странах неизвестных, не издеваться над чуждыми обычаями и нравами, а привлекать «дикарей» ласковым обращением. По тем временам, когда язычники убивали всех подряд, уничтожая древние цивилизации, инструкция Кабота казалась шедевром гуманности. Не были забыты и экипажи кораблей: «Не должны быть терпимы сквернословие, непристойные рассказы, равно как игра в кости, карты и иные дьявольские игры… Библию и толкования ее следует читать с благочестивым христианским смирением», – наставлял моряков Кабот.
В мае 1553 года Лондон прощался с кораблями сэра Уиллоуби, матросы были обряжены в голубые костюмы, береговые трактиры на Темзе чествовали всех дармовой выпивкой, народ кричал хвалу смельчакам, возле Гринвича корабли салютовали дворцу короля, придворные дамы махали им платками из окон.
…Прошел один год, и русские поморы, ловившие рыбу у берегов Мурмана, случайно зашли в устье речки Варзины: здесь они увидели два корабля, стоящих на якорях. Но никто не вылез из люков на палубы, из печей камбузов не курился дым, не пролаяли корабельные спаниели. Поморы спустились внутрь кораблей, где хранились товары. Среди свертков сукна и бочек с мылом лежали закостеневшие в стуже мертвецы, а в салоне сидел высокорослый Хуго Уиллоуби – тоже мертвый; перед ним лежал раскрытый журнал, из которого стало ясно – в январе 1554 года все они были еще живы и надеялись на лучшее… Их погубил не голод, ибо в трюмах оставалось много всякой еды; их истребили тоска, морозы, безлюдье.
Поморы поступили очень благородно.
– Робяты! – велел старик-кормщик. – Ни единого листочка не шевельни, никоего покойничка не колыхни. И на товары чужие не зарься: от краденого добра и добра не бывает…
В объятиях стужи законсервировались лишь два корабля. Но средь них не было третьего – «Бонавентуре», на котором плыл умный и энергичный сэр Ричард Ченслер (пилот эскадры). «Бонавентуре» в переводе на русский означает «Добрая удача».
Сильный шторм возле Лафонтенов разлучил «Бонавентуре» с кораблями Уиллоуби; в норвежской крепости Вардегауз, что принадлежала короне датского короля, была заранее предусмотрена встреча кораблей после бури. Но Ченслер напрасно томился тут целую неделю, потом сказал штурману судна:
– Барроу! Я думаю, купцы Сити не затем же вкладывали деньги в наши товары, чтобы мы берегли свои паруса.
– Я такого же мнения о купцах, – согласился Барроу. – Вперед же, сэр, а рваные паруса – признак смелости…
Мясо давно загнило, насыщая трюмы зловонием, а течь в бортах корабля совпала с течью из бочек, из которых вытекали вино и пиво. Ветер трепал длиннющую бороду Ченслера, и он спрятал ее за воротник рубашки. Справа по борту открылся неширокий пролив, через который англичане вошли в Белое море (ничего не ведая о нем, ибо на картах Себастьяна Кабота здесь была показана пустота). Плыли дальше, пока матрос из мачтовой «бочки» не прогорланил:
– Люди! Я вижу людей, эти люди похожи на нас…
«Двинская летопись» бесстрастно отметила для нашей истории: «Прииде корабль с моря на устье Двины реки и обославься: приехали на Холмогоры в малых судах от английского короля Эдварда посол Рыцарт, а с ним гости». Был август 1553 года. Архангельска еще не существовало, но близ Холмогор дымили деревни, на зеленых пожнях паслись тучные стада, голосили по утрам петухи, а кошки поморов признавали только одну рыбку – перламутровую семгу. В сенях крестьянских изб стояли жбаны с квасами и сливочным маслом; завернутые в полотенца, под иконами свято береглись рукописные книги «древлего благочестия» (признак грамотности поморов).
Для англичан все это казалось сказкой.
– Как велика ваша страна и где же ее пределы, каковы богатства и кто у вас королем? – спрашивали они.
Поморы отвечали, что страна их называется Русью, или Московией, у нее нет пределов, а правит ими царь Иван Васильевич. Ченслер, обращаясь с русскими, вел себя очень любезно, предлагая для торга товары: грубое сукно, башмаки из кожи, мыло и восковые свечи. Ассортимент невелик, и русские могли бы предложить ему своих товаров – побольше и побогаче. Они обкормили экипаж «Бонавентуре» блинами, сметаной и пирогами с тресковой печенью, однако торговать опасались:
– Нам, батюшка, без указа Москвы того делать нельзя…
Воевода уже послал гонца к царю. Ричард Ченслер убеждал воеводу, что король Эдуард VI направил его для искания дружбы с царем московским. Очевидно, он поступал вполне разумно, самозванно выдавая себя за посла Англии.
– Я должен видеть вашего короля Иоанна в Москве! – твердил он воеводе. – Не задерживайте меня, иначе сам поеду…
Укрытый от мороза шубами, Ченслер покатил в Москву санным «поездом», все замечая на своем пути. Между Вологдой и Ярославлем его поразило множество селений, «которые так полны народа, что удивительно смотреть на них. Земля вся хорошо засевается хлебом, жители везут его в Москву в таком громадном количестве, что это кажется удивительным. Каждое утро можно встретить до 800 саней, едущих с хлебом, а некоторые с рыбой… Сама же Москва очень велика! Я считаю, что этот город в целом больше Лондона с его предместьями».
Понимал ли Ченслер, что делает он, въезжая в Москву самозванцем? Вряд ли. Но так уж получилось, что, служа интересам Сити, он – как бы невольно! – обратил свою торговую экспедицию в политическую. Ченслер стал первым англичанином, увидевшим Москву, которую и описал с посвящением: «Моему единственному дяде. Господину Кристофору Фротсингейму отдайте это. Сэр, прочтите и будьте моим корректором, ибо велики дефекты». Корабли, найденные поморами, вскоре были отправлены обратно в Англию вместе с прахом погибших. Но они пропали безвестно, как пропадали и тысячи других… Таково было время!
Иван Грозный еще не был… грозным! Страна его, как верно заметил Ченслер, была исполнена довольства, города провинции процветали, народ еще не познал ужасов опричнины.
После разрушения Казанского ханства следовало завершить поход на Астрахань, дабы все течение Волги обратить на пользу молодого, растущего государства: в уме Ивана IV уже зарождалась война с Ливонией – ради открытия портов балтийских. Россия тогда задыхалась в торговой и политической изоляции; с юга старинные шляхи перекрыли кордонами крымские татары, а древние ганзейские пути Балтики стерегли ливонцы и шведы… Потому-то, узнав о прибытии к Холмогорам английского корабля, царь обрадовался:
– Товары аглицкие покупать, свои продавать… Посла же брата моего, короля Эдварда, встретить желательно!
Ченслер застал Москву деревянной, всю в рощах и садах, осыпанных хрустким инеем. Из слюдяных окошек терема видел, как в прорубях полощут белье бабы, топятся по берегам дымные бани, возле лавок толчется гуляющий народ, каменная громада Кремля была преобильно насыщена кудрявыми луковицами храмов, висячими галереями, с богато изукрашенных крылечек пологие лестницы вели в палаты хором царских.
Иван IV принял Ченслера на престоле, в одеждах, покрытых золотом, с короною на голове, с жезлом в правой руке. Он взял от «пилота» грамоту, в которой Эдуард VI просил покровительства для своих мореплавателей.
– Здоров ли брат мой, король Эдвард? – был его вопрос (а «братьями» тогда величали друг друга все монархи мира).
Ченслер отвечал, что в Гринвиче король не вышел из дворца проститься с моряками, ибо недужил, но, вернувшись в Лондон, они надеются застать его в добром здравии.
– Я стану писать ему, – кивнул Иван Васильевич…
После чего посла звали к застолью; «число обедавших, – сообщал Ченслер, – было около двухсот, и каждому подавали на золотой посуде». Даже кости, что оставались для собак, бояре кидали на золотые подносы, убранные драгоценными камнями. Иван IV сидел на престольном возвышении во главе стола, зорко всех озирал, каждого из двухсот гостей точно называл по имени. Ченслеру, как и другим, был подан ломоть ржаного хлеба, при этом ему было сказано:
– Иван Васильевич, царь Русский и великий князь Московский, жалует тебя хлебом из ручек своих…
Кубки осушались единым махом, но, выпив, бояре тут же крестили свои грешные уста, заросшие широкими бородищами. А борода Ченслера была узкой и длинной, как у волшебного кудесника. Пир завершился ночью, и царь, по словам Ченслера, возлюбил его «за ум и длинную бороду».
Ранней весной он сказал ему:
– Езжай до короля своего и скажи, что я рад дружбу с ним иметь. Пусть купцов шлет – для торга, пусть рудознатцы едут – железа искати, да живописцы разные… Всех приму!
Ченслер отплыл на родину. Уже в виду берегов Англии на «Бонавентуре» напали фламандские пираты. С воплями они вцепились в корабль абордажными крючьями и вмиг разграбили все русские товары, расхитили подарки от русского царя – спасибо, что хоть в живых оставили… На родине англичан ждали перемены: Эдуард VI умер, на престол взошла Мария Тюдор («Кровавая») со своим мужем – Филиппом II, королем испанским. В стране началась католическая реакция: протестантам рубили головы, людей нещадно сжигали на кострах.
Россия, стиснутая между татарами и ливонцами, еще оставалась для Европы terra incognita (загадочной землей), и Филипп II не совсем-то верил рассказам Ченслера:
– Мы лучше знаем могучую Ливонию, но у нас темно в глазах от ужаса, когда мы слышим о варварской Московии.
– Так ли уж богата Русь? – спрашивала королева. – Стоит ли нам связывать себя с нею альянсом дружественным, если торговых иметь не будем?..
Ченслер поклонился, бородою коснувшись пола.
– О, превосходнейшая королева! – отвечал он. – Мнение Европы о Московии ошибочно, это удивительная страна, где люди рожают много детей, у них обильная конница и грозные пушки. Правда, там не знают того, что знаем мы, но зато мы не знаем того, что знают они, русские. Если бы Московия осознала свое могущество, никому бы в мире с нею не совладать.
Коронованные изуверы рассудили здраво: Англия вела войну с Францией, а Россия ополчается на войну с Ливонией, – в этом случае Англии полезно дружить с Россией, а торговые сделки купцов всегда скрепляли узы политические. Себастьян Кабот тоже понимал это, и поэтому почтенный старец не слишком-то огорчился от того, что вместо легендарного «Камбалука» (Пекина) Ченслера занесло в Москву:
– Если плыть по Волге, там, за Астраханью, недалеко до Персии, страны чудес и шелка. Тогда от персидской Испагании до Лондона протянется великая «шелковая дорога».
– Осмелюсь вспомнить, – льстиво улыбнулся Ченслер, – что от Персии совсем недалеко и до Индии…
Королевской хартией в феврале 1555 года Мария Тюдор образовала «МОСКОВСКУЮ КОМПАНИЮ», которую стал возглавлять Себастьян Кабот. Старику было уже больше восьмидесяти лет, но, когда Ричард Ченслер грузил корабли для нового рейса в Россию, Кабот крепко подвыпил в трактире с матросами. На зеленой лужайке он даже пустился в пляс, и золотая цепь венецианского патриция болталась на его шее, как маятник.
…Здесь я напомню, что русские уже тогда не страшились зимовать на Новой Земле и на далеком Шпицбергене, о чем Шекспир, наверное, не знал. Корабли поморов, внешне неказистые, были лучше британских, они легче взбегали на гребень волны; к удивлению англичан, они опережали в скорости их каравеллы и пинассы… Не тогда ли, я думаю, англичане и переняли многое для себя из опыта русского кораблестроения?
На этот раз Ченслер прибыл в Москву уже не самозванцем, а персоной официальной, его сопровождали агенты «Московской компании», вооруженные королевской хартией с правом торговать, где им вздумается… Иван IV был рад снова увидеть Ченслера, а его свиту «торжественно провели по Москве в сопровождении дворян и привезли в замок (Кремль), наполненный народом… они (англичане) прошли разные комнаты, где были собраны напоказ престарелые лица важного вида, все в длинных одеждах, разных цветов, в золоте, в парче и пурпуре. Это оказались не придворные, а почтенные московитяне, местные жители и уважаемые купцы…»
Англичан именовали так: «гости корабельские».
Гость – какое хорошее русское слово!
После угощения светлым хмельным медом царь взял Ричарда Ченслера за бороду и показал ее митрополиту всея Руси:
– Во борода-то какова! Видал ли еще где такую?
– Борода – дар божий, – смиренно отвечал владыка…
Бороду Ченслера тогда же измерили: она была в 5 футов и 2 дюйма (если кому хочется, пусть сам переведет эти футы и дюймы в привычные сантиметры). Иван IV велел негоциантам вступить в торги с купцами русскими, а Ченслеру сказал:
– За морями бурными и студеными, за лесами дремучими и топями непролазными – пусть всяк ведает! – живет народ добрый и ласковый, едино лишь о союзах верных печется… С тобою вместе я теперь посла своего отправлю в королевство аглицкое, уж ты, рыцарь Ченслер, в море-то его побереги.
Посла звали Осип Григорьевич по прозванию Непея, он был вологжанин, а моря никогда не видывал. Посол плакал:
– Да не умею плавать-то я… боюсь!
– Все не умеют. Однако плавают, – рассудил царь.
Ричард Ченслер утешал посла московского:
– Смотрите на меня: дома я оставил молодую жену и двух малолетних сыновей. Я не хочу иметь свою жену вдовою, а детей сиротами… Со мною вам разве можно чего бояться?
Буря уничтожила три его корабля, а возле берегов Шотландии на корабль Ченслера обрушился свирепый шквал. Это случилось 10 ноября 1556 года возле залива Петтислиго.
«Бонавентуре» жестоко разбило на острых камнях.
Ченслер, отличный пловец, нашел смерть в море.
Осип Непея, совсем не умевший плавать, спасся…
Местные жители сняли с камней полузахлебнувшегося посла.
– Теперь-то вы дома, – утешали они «московита».
– Это вы дома, – отвечал Непея, – а мне-то до родимого дома вдругорядь плыть надо, и пощады от морей нету…
С большим почетом он был принят в Вестминстерском дворце. Довольная льготами, что дали в России английским негоциантам, королева предоставила такие же льготы в Англии и для русских «гостей»: в Лондоне им отвели обширные амбары, избавили от пошлин, обещали охрану от расхищения товаров.
Осип Непея отплыл на родину в обществе английских мастеров, аптекарей, художников и рудознатцев, пожелавших жить в России и трудиться ради ее пользы и украшения.
Скоро возникли консульские конторы в Холмогорах, в Вологде, в Ярославле и Новгороде, в Казани и Астрахани: торговые флотилии англичан приплывали в Россию по весне, а осенью уплывали обратно с товарами. По велению времени возник новый славный город – Архангельск, без которого теперь мы уже не мыслим существования нашего обширного Государства.
Дорога Ричарда Ченслера открыта и поныне – для всех, кто плывет к нашим берегам, чтобы торговать с нами, и я уверен, что мирный обмен товарами – это ведь тоже Большая Политика, ибо товар, проданный и купленный, пусть незримо, зато основательно скрепляет дружеские связи народов…
Осталось сказать последнее. Целых полтора столетия зыбкая дорога между Лондоном и Архангельском была единственной коммуникацией, связывающей Россию с Европой.
Так длилось до Петра I, открывшего «окно» в Европу со стороны хмурой Балтики. «Московская компания», основанная в 1555 году, просуществовала до 1917 года, когда наша страна вступила в новую эпоху…
На путях Ричарда Ченслера, случайно открывшего Россию со стороны севера, до сих пор иногда возникают торжественные «минуты молчания». В такие минуты, насыщенные пением корабельных горнов, опускаются траурные венки на волны, под которыми навеки уснули на дне Полярного океана, как в общей братской могиле, наши и британские моряки. Можно не помнить о подвиге жизни Ричарда Ченслера, но стоило бы почаще вспоминать о боевом содружестве двух великих наций в общей борьбе против фашизма.
«Вечный мир» Яна Собеского
Летний сад в Ленинграде – не до конца прочитанная книга истории. Конечно, многое нам известно, но чаще мы блуждаем в аллеях, даже не вникнув в символику тех скульптур, что расставлены в саду задолго до нас, дабы потомки призадумались.
Здесь мы встретим и бюст Яна Собеского, а подле него королеву Марию-Казимиру, прозванную Марысинкой. Среди городского шума, окруженные новой и чуждой для них жизнью, они глядят на нас из былого, в котором все было другим, все было иначе, да и этого города на Неве не существовало…
В 1986 году исполнилось 300-летие с того времени, когда Ян Собеский утвердил «вечный мир» Польши с Россией. Кажется, это достаточный повод, чтобы помянуть героя былой эпохи и ту его любовь, которая достойна нашей памяти.
Европа считала поляков самым воинственным народом. Почти не ведая передышек от войн, польские рыцари умели спать на голой земле, намотав на руки поводья боевых коней, чтобы ринуться в новую битву по первому сигналу трубы. Ведя генеалогию от дикого племени сарматов, они порою и вели себя подобно скифам… Речь Посполитая жила еще в дремучих лесах; волки, медведи и злобные рыси стерегли неосторожного путника. Паны измеряли время водяными часами – «клепсидрами». На дворах усадеб паслись фазаны, гагакали жирные гуси. Шляхта щеголяла в жупанах и кунтушах, стойко удерживалась древняя мода на меха (лисьи, куньи, собольи), а мещане носили шубы из шкур волчьих. Молодые паненки украшали прически венками из свежих роз. Ясновельможные славились скандалами, буйством, обжорством и пьянством. Садились за стол утром и падали под стол к ночи. Пили из особых «кулявок» (бокалов без ножек), которые невозможно поставить, прежде не опорожнив. По усам панов текли меды волынские, золотистый дубняк и рыжая свирепая старка. Со времен королевы Боны Сфорца поляки тяготели к Италии и потому, сказав фразу по-польски, считали своим долгом украсить ее латинской цитатой.
– Польша сильна рокошами! – орали задиры…
Страна изнемогла от «рокошей» (раздоров шляхетских), ее «кресы» (окраины) были истерзаны набегами османлисов и кочевников, а Версаль навязывал полякам своих королей и королев. Герцог Анжуйский, сын Екатерины Медичи, уже «потаскал» корону Пястов, бежав из Польши ночью, как воришка из чужого дома; Владислав IV взял в жены Марию Гонзаго, дочь герцога Наваррского; живописцы изображали эту даму сидящей у ворот Варшавы на барабане, она руководила стрельбой из пушек… Если раньше шляхтич набирался знаний у профессоров Болоньи иль Падуи, теперь его приманивали соблазны Парижа, откуда он возвращался в Краковию или Мазовию, отягощенный париком, долгами и сплетнями.
Ян Собеский тоже провел молодость в Париже, но средь множества развлечений усердно штудировал Паскаля и Декарта; в особой «красной гвардии» Людовика XIV он служил вместе с великим пересмешником Сирано де Бержераком… На родине он, богатый и знатный, сразу стал коронным хорунжим. Польша отстаивала свои «кресы» от шведов, пруссаков и крымцев, в каждой из битв она восхваляла молодого Яна Собеского.
Европа нарекла Собеского именем «Гроза турок».
Он воевал и с русскими, которых уважал:
– Видя их обширные косматые бороды, я невольно испытываю почтение, будто мне встретились мои же предки…
Против него отважно сражался киевский воевода Василий Шереметев, о доблести которого знали в Париже и Вене. Когда же ляхи предательски выдали его татарам, один лишь Собеский, благородно-возмущенный, вступился за своего противника:
– Нельзя делать того! Я сейчас подниму свои хорунжи, весь регимент приведу в лагерь князя Барятинского, вместе с русскими врежусь в татар, дабы избавить Шереметева от плена!
Из рук коронного хорунжего выбили саблю:
– Стоит ли твоя слава жизни одного москаля? Эй, хлопы, не спите! Налейте ему еще одну кулявку…
Собеский не был женат. А когда Мария Гонзаго покидала Францию ради польской короны, она вывезла в Варшаву девочку, дочь гувернантки, по имени Мария Гранж д’Аркьен, обещая матери устроить ее судьбу. Вряд ли королева думала, что безвестная девчонка, воплощенная в каррарском мраморе, будет потом красоваться в парке русской столицы… Собеский встретил ее, когда она была женою сандомирского воеводы Яна Замойского.
Собеский в ту пору назывался уже гетманом. Он предстал перед женщиной в обличье «homo militaris» (военного человека). Грудь воина покрывала жесткая карацена – кольчуга, как у древнего римлянина; длинный плащ из пунцового бархата широко стекал с могучего плеча, словно струя горного водопада…
Глаза Марысинки вспыхнули – почти алчно.
– Люди не лгут, – сказала она, кокетничая. – Вы совершенны во всем, как совершенна и ваша отчизна, от которой уже нельзя ничего убавить, но вряд ли стоит что-либо добавлять…
Библиотека Собеского считалась тогда лучшей в Варшаве, о ней ходила молва во всех образованных странах Европы.
– Однако, – отвечал он красавице, – жизнь любого мужчины похожа на библиотеку, в которой всегда будет недоставать одного тома – самого редкостного… Счастлив же пан Замойский, слабыми пальцами перелистывая такую прекрасную книгу!
Марысинка была умна: она сразу все поняла.
– Не мучайся сам и не мучай меня, – шептала она гетману наедине, – мой воевода уже стар, нам недолго до счастья…
Любовники переписывались, как изощренные шпионы: тайным шифром. Собеский и Марысинка оставили для потомков ценнейший эпистолярный памятник эпохи, в котором виден человек того сумбурного века – с его страстями и подозрениями, с его знаниями и пределами этих знаний. Отныне в жизни Собеского не было такого момента, когда бы он не думал о своей Марысинке. Он повергал врагов отчизны с ее именем на устах. Кратко изложив перипетии минувшей битвы, израненный, он писал: «Ну, довольно этих пустяков, как мои раны…» – и далее изливал на женщину каскады горячей, нетерпеливой нежности. Сандомирский воевода еще не умер, когда Ян Собеский тайно обручился с его женою!
Русь в ту пору переживала тяжкие времена: измены гетманов на Украине, бунты казаков на Дону заставили ее поспешить с миром. Русские удержали за собою Смоленск, Новгород-Северский, Чернигов и Заднепровье, по договору в Андрусове они обещали полякам вернуть им Киев через два года…
– Нельзя верить москалям! – негодовали ляхи.
Чело гетмана избороздили морщины печальных раздумий:
– Поляки, как и москали, имеют общего врага – это султаны турецкие, это ханы крымские… Если разобщить усилия Москвы и Варшавы, наши древние храмы станут мечетями, а наши прекрасные жены будут загублены в заточении гаремов…
После смерти Марии Гонзаго король Ян-Казимир отрекся от престола. Но перед тем, как навсегда покинуть Польшу, он произнес перед сеймом пророческие слова: «Придет время, и Московия захватит Литву, Бранденбургия овладеет Пруссией и Познанью, Австрии достанется вся Краковия, если вы, панство посполитое, не перестанете посвящать время межусобной брани. Каждое из этих трех государств пожелает непременно видеть Польшу, разделенную между ними, и вряд ли сыщется охотник, чтобы владеть ею полностью…» Король уехал, а Польша снова вскипела «рокошами», каждая «магнатерия» пушками и звоном мечей утверждала на престоле своего кандидата. На элекционном сейме бедный шляхтич Михаил Вишневецкий, ночуя в грязной корчме под лавкой, видел сон – будто над Польшею летит гигантский рой золотых пчел. Вишневецкого схватили за ворот жупана и потащили на выборное коло, как агнца на заклание:
– Вот наш круль… А пчелы – хорошая примета!
Вишневецкий стал королем. Марысинка сказала:
– Новый круль, сын Гризельды Замойской, племянник моего старого воеводы. Но мне уже мало быть лишь теткою короля, я сама хочу стать польскою королевой…
Собеский был уже великим коронным гетманом!
Султан Магомет IV двинул армию против Польши: Львов выдержал осаду татар и ногаев, но крепость Каменей пала. На кресах польских все было черно от пожарищ, небо вдоль горизонта багровело от пламени… Тысячи, многие тысячи поляков угоняли в полон! Татары на глазах мужей бесчестили их жен, на глазах матерей они совершали обрезание мальчикам…
В 1672 году в галицейском городишке Бучаче был подписан унизительный мир: Польша отдавала султану всю Правобережную Украину, всю Подолию, она отсчитала для султана колоссальную контрибуцию, обязавшись платить ему ежегодную дань.
– Стыд выел мне глаза! – говорил Собеский Марысинке. – И пусть жалкий круль тешится миром в Бучаче, но я, гетман коронный, разрушу мир… Где посол москальский? Я скажу ему, что Днепр отныне – граница между Россией и Турцией. Если даже мне страшно, так пусть и русские придут в ужас!
Султан собрал войска в гигантский лагерь под стенами неприступного Хотина, куда Собеский под осень и привел своих воинов. Он обнажил боевой меч со словами:
– Мы пришли сюда по высшему ордонансу…
Стрелы татарские летели дальше пуль, а раны от них были страшнее ружейных. Польские «хузары» носили за плечами громадные крылья из перьев орла, покрытые золотом. Началась сеча, и она, кровавая, длилась до тех пор, пока к ногам Собеского не швырнули Зеленое знамя пророка – святыню султанов. Мост через Днестр рухнул под бегущими, толпы потонувших османов завершили страшное и небывалое их поражение.
– Не платить нам дани этим поганцам, – заявил Собеский, указав отправить Зеленое знамя в подарок Риму…
Михаил Вишневецкий умер, и снова возник «рокош»: кому быть крулем? Франция и Австрия толкали к престолу варшавскому своих кандидатов, а Марысинка встретила мужа наказом:
– Выводи войско на коло… с пушками! Кто осмелится пойти против тебя, избавившего страну от мира позорного?
Против Собеского стенкой вставала литовская «магнатерия» с братьями Пацами – пузатыми, пьяными, бритоголовыми:
– Не хотим Пяста, а хотим немца или француза!
Пестрело в глазах от лошадиных попон, пошитых из шкур пантер, леопардов и барсов. Пушки были заряжены. Жужжали пули. В рядах избирателей то здесь, то там падали убитые. Собеский галопом подскакал к послу Людовика XIV и сказал, что такая элекция может завершиться избранием сразу двух королей, после чего в Польше возникнет гражданская война.
– Откажитесь от своего кандидата, выдвинутого Версалем, а с кандидатом Вены я всегда могу потягаться славою…
Франции было важно избавить Варшаву от влияния венских Габсбургов, и потому посол быстро согласился:
– Но с одним условием: вы не забудете услуг Версаля.
– Их учтет моя жена… – отвечал гетман.
Воевода Яблоновский, посинев от натуги, уже истошно выкрикивал имя победителя под Хотином, и все подхватили:
– Желаем Пяста… Виват Ян Собеский!
Когда элекция закончилась его торжеством, французский посол из-за плеча Собеского нашептал ему, чтобы он не забывал добрых услуг Версаля. Марысинка – уже королева! – величаво обернулась к послу, произнеся надменно:
– Нет, мы не забудем Версаля, но при одном условии, посол: если Версаль возвысит моего отца герцогским титулом.
Собеский показал себя настоящим патриотом: он отказался ехать в Краков на коронацию, пока от границ Польши не отражена угроза нового нашествия. Магомет IV уже стронул свои несметные орды против России, а Собеский вторгся в Подолию, изгоняя пашей султана за Днестр, он выбивал их войска из пределов Червонной Руси. В боях под Журавино он принудил турок к заключению мира, выгодного для славян. Москва прислала в Варшаву своего опытного посла – Василия Тяпкина, и Ян Собеский, взяв его за руку, вывел дипломата в расцветающий сад.
– Не пора ли забыть прошлое, дабы стать нам союзными? – искренне заговорил он. – Отчего московское величество держит меня в подозрении, если я не раз оказывал вашей стране доброжелательство? Вспомните: когда под Чудновом поляки поступили гадко, отдав крымцам Василия Шереметева, я не только бранился с гетманами, но и сам хотел идти на выручку… Знаю, что обид у Москвы на Варшаву много, но время ли обидам? Османы всегда охотно подписывают мир, ибо для них мир значит лишь перемирие, дающее передышку перед новым нападением…
Тяпкин докладывал в Москву: «Тут Собеский ударил себя в грудь и сказал: «Пан резидент! Пиши все мои слова, чтоб царское величество не подозревал меня ни в каком лукавстве… Нечего ему на то смотреть, что теперь у меня заключен мир с турками. Мир этот недолог, и не сладок он мне: принужден я к нему страшными силами поганскими…»
Беспокойство поляков было понятно. Магомет IV не скрывал своих планов, мечтая смерчем пройти через германские страны, чтобы дать своим ордам отдых на виноградных берегах Рейна, а там и Франция, там и Париж, переполненный сокровищами… Пока же султан покорял славян, обращая земли Правобережной Украины в свои пашалыки. Украинцы, никак не желая влачить на себе турецкое ярмо, толпами отхлынули на Левобережную (русскую) Украину, а после них оставались пустыни, трупы, пожарища, бедствия…
Марысинка нарожала Собескому 12 детей. В 1679 году король выбрал под Варшавою место, где и начал сооружать свою резиденцию «Вилла нова» (Виланово). Собеский своими руками сажал деревья, собирал картинную галерею. Версаль не удостоил отца Марысинки титула герцога, и это дало ей повод к мести:
– Если король Франции отказал мне, польской королеве, в таком пустяке, я накажу Версаль тем, что Польша отвернется от Франции, обратясь светлым лицом к венским Габсбургам…
Есть древнее правило: что муж задумает днем, жена ночью все переделает. Герой на поле брани, Собеский в дни мира становился мечтательным сибаритом. Марысинка, ловкая интриганка, вертела им, как пряха веретеном. Ослепленный любовью, он не раз выводил ее перед народом, при всех целовал ее руки:
– Добрая жена – винная гроздь, сулящая сладкие ягоды…
Уступая ее ночным нашептываниям, Ян Собеский вступил в союз с Веною, монархи договорились о совместной борьбе с султаном. Не всем полякам пришелся по нутру этот альянс, Собеский высидел перед разъяренной толпой шляхтичей; осыпаемый оскорблениями, он лениво думал о том, какие дубы и какие тополя вырастут в Виланове… после него!
Гетмана Яблоновского он потом спрашивал:
– Какой табор может собрать султан Магомет?
– Османлисы – словно песок, их силы неисчислимы. Думаю, в поле султан выставит не меньше трехсот тысяч воинов.
– А кто их считал? – отмахнулся Собеский…
Для устрашения Европы султан собирал в табуны верблюдов, велел готовить в поход боевых слонов. Собеского мучили боли в почках. Врачи говорили, чтобы исключил из меню все жирное. К столу короля подавали бобровые хвосты с вареным тестом, в громадном кубке ченстоховского пива плавали гренки из ржаного хлеба. На десерт был творог с кислым вареньем.
– Что слышно из Бахчисарая? – часто спрашивал он…
Василий Тяпкин отъехал в Крым; истощенная в неравной борьбе, Россия согласилась на мир с султаном; Днепр по-прежнему разделял непримиримых врагов, но Киев оставался за нами…
Петр I родился за девять лет до Бахчисарайского мира.
Если польский король славился ученым библиофильством, то его союзник, австрийский император Леопольд, был знаменит как нумизмат и мракобес. Все недостатки династии Габсбургов воплотились в этом хилом и гадостном создании природы. Леопольд был очень слаб в ногах, а потому всегда шатался, как маятник. Челюсть торчала крючком, из впадины рта высовывались редкие зубы, говорил он с трудом, больше рычал. На молитве он казался окоченелым, как труп, выстаивая по 80 служб кряду, словно заведенный. Из окна дворца он любил наблюдать, как живьем жарят «еретиков». Еще он любил лепить красивые свечи, которые и раздаривал по монастырям. Всюду, где бы Леопольд ни явился, за ним – неслышно, словно бесплотные тени, – следовали мрачные иезуиты, берегущие свое безобразное «дитя» в духовной изоляции. Единственное было достоинство в этом выродке: он никогда не волновался. Когда молния вонзилась в окно его обеденного зала, разбросав по углам посуду со стола, Леопольд даже глазом не моргнул: «Сам Господь Бог указывает нам, чтобы мы сегодня постились», – сказал он придворным…
Зима 1683 года выдалась дождливая, к весне едва подсохли дороги. Великий визирь Кара-Мустафа собрал под своим бунчуком 260 000 регулярных войск, которые были отозваны в Европу даже из Африки, даже из далекой Месопотамии. От Адрианополя до Белграда «табор» визиря сопровождал сам Магомет IV, за ним ехали больше ста повозок с одалыками (любимыми женами) и невольницами гарема, жующими пастилу и орехи. Жутко ревели верблюды, влача по рытвинам тяжелую артиллерию. Наконец рать султана вторглась в пределы империи Габсбургов: «Она зажигала дома, рубила деревья, убивала людей, забирала для продажи девиц и детей. Столбы дыма и пламени обозначили ее путь…»
Первые дезертиры появились на улицах и базарах Вены, крича в свое оправдание, что гарнизоны уже вырезаны, все крепости сдались, с верблюдами и слонами никому не совладать.
Леопольд I разомкнул свои скверные уста.
– Что мне теперь делать? – спросил он иезуитов.
– Спасать свое императорское величество…
Карета повелителя первой въехала на мост через Дунай, за нею покатили кареты венской аристократии и царедворцев. Бегство началось в 8 часов вечера, а закончилось только глубокой ночью. Затем Вену оставили богатые люди, доверив оборону столицы гарнизону и голодранцам, которым нечего было спасать, кроме рубахи да штанов на себе… Вена, всегда мрачная, стала попросту страшной при общем безлюдье. Только в храмах еще светились окна: там молились. Через день вдруг раздались звуки труб и громы литавр: в Вену входил отряд французского генерала, принца Карла Лотарингского… Его встретил у ворот бургомистр Либенберг со связкой ключей от города.
– Куда их девать? – спросил он растерянно.
– Запихни их себе под хвост, – отвечал принц.
Принц Карл построил гарнизон и, пересчитав солдат по головам, словно горшки, впал в отчаяние: 21 963 человека – вот и все, что он имел. Но тут появились 700 венских студентов во главе с ректором; выстроились мясники, пивовары, дунайские рыбаки, трактирщики и бездомные бродяги, ветер с Дуная развевал над ними цеховые знамена с изображениями мясных туш, сапог, рыбин и пивных бочек – так возникло народное ополчение.
Карл Лотарингский обвел рукою вокруг себя:
– Видите? Всюду пламя пожаров указывает нам, что Вена окружена, и… успеет ли прийти король Собеский?
12 июля с крепостных стен венцы увидели врагов, которые на горячем пепле выжженных форштадтов сооружали осадный лагерь. Несуразным дворцом средь кибиток возвышался зеленый шатер визиря Кара-Мустафы; внутри этого шатра-монстра были размещены спальни, молельни, комнаты для совещаний и курения трубок; посреди же комнат «струились фонтаны, были в шатре ванны, даже зверинец и быстро разбитый сад». Вена оставалась последним барьером, обрушив который великий визирь надеялся выйти со своим «табором» в срединную – Центральную Европу, к богатствам ее древних городов. Турецкие пушки молотили в стены австрийской столицы, вызывали в домах пожары. 26 августа сорок янычар ворвались через пролом в улицы Вены, рубя все живое кривыми ятаганами, но их тут же перебили студенты и ремесленники. С колокольни собора Св. Стефана жители напрасно озирали окрестности:
– Где же поляки? Почему не идет Собеский?
За успешное бегство из Вены Леопольд I получил от Ватикана титул «Великого». Сидя в тыловой тиши Линца, он заводил часы, перебирал монеты и лепил свечи из воска. Ему доложили, что Вена почти разрушена, а Собеский не подошел на выручку.
– Очень хорошо, – отвечал выродок. – Если бы Собеский победил турок, мне бы пришлось исполнить статью договора с Польшей, выдав венскую эрцгерцогиню за сына короля – Якова…
Между тем дело спасения Вены стало всеобщим делом всех европейцев. Даже из далекой Испании шагали в Австрию добровольцы, Германия поставляла своих ландскнехтов, закованных в железо доспехов. И только Англия с Голландией, поглощенные заботами о наживе, отказались спасать Европу от нашествия. Но тут к ногам Карла Лотарингского бросили, как мешок, турецкого янычара, избитого до потери сознания.
– Я не янычар, – сказал он, выплевывая зубы. – Я пан Кольшуцкий, знаю турецкий… меня прислал король! Он уже перешел Дунай, а сейчас преодолевает высокие горы Виннервальда.
– Как узнать мне его храброе войско?
– Знамя у нас красное, а на нем крест – белый… Король не один: он ведет в битву и своего любимого сына Якова.
11 сентября венцы увидели знамя Собеского: в армии поляков были украинцы, белорусы, были и русские казаки. Средь позлащенных рыцарских панцирей мелькали медвежьи шкуры на плечах копьеносцев. Утром 12 сентября, когда распался туман, взору пришедших спасителей Вены открылась страшная панорама разрушений, хаоса и лабиринтов траншей. В громадных загонах турки пасли стада быков и баранов, обреченных на съедение в полдень… Собеский опустил подзорную трубу:
– Вряд ли османлисам придется сегодня обедать!
Битва началась. Впереди шли польские эскадроны, развевая хорунжи, сверкая панцирями, с крыльями за плечами – подобно ангелам смерти; драгуны и уланы завершали избиение врагов. Кара-Мустафа держался лишь полчаса, а потом был вовлечен в общий поток бегущих, и… блестящий полководец Собеский вложил меч в ножны:
– Победителям даю один день – на разграбление!
В истории тех лет сказано: «Золота, серебра, всяких драгоценностей было брошено турками такое изобилие, что победители не могли взять всего и раздали его жителям Вены». Собеский оставил для себя только сказочные шатры Кара-Мустафы, где нашел массу оружия и 500 христианских мальчиков, которых муллы визиря не успели подвергнуть обрезанию. Нашли множество мешков с кофе. Его было у турок так много, что Собеский вызвал пана Кольшуцкого с выбитыми зубами, сказал ему:
– Вари это свинячье пойло для всех, и пусть пьют.
– Да кому это дерьмо нужно? Пиво-то лучше.
– Вари! Открой кофейню. Налакаются и привыкнут…
С этого года Вена стала привыкать к кофе. Леопольд вернулся в столицу, ему внушали, что спасением Вены он обязан лично Собескому, которого надобно благодарить. Габсбург с трудом разлепил глаза, склеившиеся от нагноения:
– Вену избавили от врагов силы всевышние, а не пьяные ватаги из Польши. Я на престоле избранник Божий, а Яна Собеского избрали королем варшавские крикуны. Свиданием с этим мужланом разве я не потеряю свое императорское достоинство?
Перед массивным богатырем Собеским, сидевшим на коне, возник зябко дрожащий уродец в шляпе с черным пером, а чулки на его ногах были красные, будто Леопольд только что выбрался из крови. Собескому сказали, что он имеет право приблизиться к этому «сокровищу» не более чем на восемь шагов.
– Но я проделал миллионы шагов, торопясь спасти его Вену, а теперь от меня требуют, чтобы я соблюдал этот мизер…
Марысинке он сообщил: «Я сказал ему несколько слов по-латыни, но коротко; в ответ получил заученные фразы… причем император даже и не подумал поднять руку к шляпе». Марысинка звала его домой… Нагнав бегущих турок, Собеский еще раз устроил им избиение, после чего повернул на Варшаву.
В дороге он сказал своему сыну королевичу Якову:
– Русские, конечно, очень хитрые люди. Но если бы я пришел спасать их Москву, они бы отдали за тебя любую царевну…
Через три года сложилась коалиция государств, ведущих совместную борьбу с турецкой агрессией: к союзу примкнула и Россия. После долгих переговоров в Москве был заключен ВЕЧНЫЙ МИР Польши с Россией – Киев отныне и навсегда оставался в пределах Русского государства. Договор немедленно вступил в силу, и князь Василий Голицын, куртизан царевны Софьи, совершил два похода на Крым (оба они были неудачными). Собеского удивило возвышение Ивана Мазепы, который сделался гетманом Левобережной Украины… И невольно растревожилась память:
– Я ведь знал этого бабника! Помню, еще при дворе Яна-Казимира гоноровый пан Пассек спустил Мазепу с лестницы…
Петр I возмужал, он сверг царевну Софью, устранил князя Голицына, сам в 1695 году пошел брать Азов у турок, но взял только две сторожевые каланчи… Наступали новые времена.
– Польша сильна рокошами! – продолжались вопли ляхов.
Погружаясь в апатию, Собеский гнушался дел:
– Ах, что мне с того, если чужие волы сожрут всю траву?..
Король умирал в недостроенном замке Виланове, а в саду зеленели деревья, им посаженные. Страшная судьба у этого человека: «Блестящий полководец, он не обладал государственным умом; его победы не принесли Польше выгод; сделав так много для славы отечества, Собеский ничего не сделал для его пользы». Теперь он умирал, испытывая лишь отвращение к людям, которые столько раз обманывали и оскорбляли его:
– Лучше уж общаться с книгами, нежели с мерзавцами…
Много рожавшая, уже немолодая, но еще красивая, одна лишь Марысинка оставалась для него самой дивной женщиной на свете. Любовь старого воина парила на тех же недоступных другим высотах, на какие он поднял свое чувство еще в молодости, когда увидел ее впервые. Ян Собеский умер 17 июня 1696 года в Виланове, а ровно через месяц Петр I взял Азов приступом. Новое время стучалось и в старинные ворота Варшавы…
Семья Собеских распалась – в раздорах, в ненависти.
Марысинка покинула Варшаву, проклинаемая народом:
– Это ты во всем виновата… старая карга, убирайся!
Вдовая королева провела в Риме 15 лет (не тогда ли, я думаю, и был исполнен ее бюст, оказавшийся затем в Летнем саду новой русской столицы?). Несмотря на годы и болезни, Марысинка веселилась в окружении самой беспутной молодежи. Наконец она перебралась во французский Блуа, где в 1716 году и свела счеты с бурной жизнью. Польша о ней забыла. А прах короля Собеского временно покоился в одном из варшавских монастырей. Однажды была очень темная осенняя ночь, когда привратник обители проснулся, встревоженный стуком калитки. Он засветил фонарь и вышел наружу, освещая темный сад, в котором ветви шумели под ветром. Возле усыпальницы Собеского стоял… гроб. Мучимый страхом и тайной, привратник открыл его. В гробу лежала королева Марысинка, уже высохшая, как мумия, страшная в своем безобразии. Кто привез ее прах из Блуа – осталось вечной тайной. Но, видимо, это сделал человек, знавший о бессмертной любви Собеского, который любил ее в красоте молодости и, наверное, любил бы ее даже сейчас – в этом гробу…
Теперь их тайная переписка расшифрована, сердца любовников обнажены. Историки изучают последствия «вечного мира» Яна Собеского, а романисты ПНР давно работают над темой большой любви Яна Собеского, которая могла бы восславить его ничуть не меньше, нежели все его громкие победы…
Ястреб гнезда Петрова
Петр Андреевич Толстой… Его праправнук Лев Толстой сказал о нем: «Широкий, умный, как Тютчев блестящ. По-итальянски отлично». А современник писал, что сей человек «зело острый и великого пронырства и мрачного зла втайне исполненный».
Но история ценит не столько мнения, сколько факты!
Москва, 15 мая 1682 года. На лошадях, по брюхо заляпанных грязью, неслись вдоль стрелецких полков два горячих всадника – Толстой да Милославский.
– Нарышкины извели царя Федора! – кричал Толстой.
– Травят и царя Иоанна! – вторил ему Милославский.
Был день первого стрелецкого бунта. Стрельцы сбросили кафтаны – облачились в кумачовые рубахи. Рукава засучили. Кремль они замкнули в осаде. Первым метнули с крыльца Долгорукого, и старик с криком упал на частокол пик, воздетых под ним. В лохмотья растерзали и боярина Матвеева. «Хотим еще!» – кричали, а Толстой с Милославским подбадривали: «Любо нам… любо!» Три дня подряд шла резня. В таких случаях не спрашивают: кто виноват? Важно знать: кому выгодно? А выгодно было царевне Софье, она забрала власть над страной, в Голландии заказали тогда курьезный двойной трон для царей-мальчиков – Петра и Иоанна… Толстой был вассалом Софьи, но, когда подросший Петр обрел силу, он безжалостно покинул царевну, переметнувшись в лагерь Петра; царь его принял, однако услал от себя подальше – воеводствовать на Устюге.
Вот и новые времена! Учреждались «кумпанства», над Воронежем ветер развевал флаги, а названия у кораблей такие, что вовек не забудешь: «Скорпион», «Растворенные ворота», «Стул», «На столе три рюмки», «Перинная тягота», «Заячий бег», «После слез приходит радость» и прочие. Был канун второго стрелецкого бунта! Шестьдесят стольников собирались в «Европския христианския государства для науки» – приучаться к флотской жизни. Ехать не хотели – им и дома жилось неплохо! Тут и отличился Петр Толстой: по своему хотению сам просился в службу на галеры венецианские. А ведь было ему 52 года.
– У меня уже детки с бородами, – говорил он…
Поехали! Сразу же за Смоленском – рубеж России, от речки Ивати начинались вотчины панства. Покружив по землям шляхетским, переплыли Днепр на пароме, ночевали в Могилеве, дивясь, что улицы выстланы камнем; от Минска ехали Литвою, в землях пана Браницкого повстречался Толстому обтрепанный Дон-Кихот на тощем Росинанте; на шею себе, словно бусы, надел он немало колец краковской колбасы, которой и кормился в дороге. Толстой спрашивал путника, кто таков и куда путь держит.
– Я благородный рыцарь из земель Ангальтских, пробираюсь на Русь искать счастья и славы. Говорят, ныне молодой царь принимает всех из Европы, кто желает служить его короне.
– Ну-ну! Езжай, – ухмыльнулся Петр Андреевич…
На перевозах через Вислу рубились на саблях пьяные ляхи с потными чубами. Будучи в «мыльне» с фонтанами, убранной морскими раковинами и зеркалами, русские стольники с опаскою пили кофе (невкусно!). Толстой похвалил удобства варшавской жизни, а в дневнике разругал полячек за то, что при виде мужчин за углы не прячутся, глядят на всех без страха и «в зазор себе того не ставят». Польша кончилась – кони ступили в болото, за коим начиналась «Шленская Земля» (Силезия), владения австрийского императора – кесаря! Замелькали острокрышие города, пестрые одежды народов, харчевни и постоялые дворы – стольники въехали в Вену, где их поразили шестиэтажные дома и обилие фонарей («от тех фонарей в Вене по вся ночи бывает по улицам великая светлость»). Далее путь лежал через Альпы, лошади боялись пропастей – в повозки впрягли флегматичных быков. Толстой кратко записывал: «Шел пеш, имея страх смертный пред очима». С гор спустились в цветущие долины Италии: «отсюда пошли многая винограды, лимоны, померанцы и иные». Молодежь дурачилась, пила вино в дорожных тратториях, а Толстой (самый старый!) все примечал зорко и ненасытно – как народ живет, что сеют, что едят, каковы цены… Республика Венеция радушно отворила ворота перед русскими школярами. Здесь малость онемели от диковинки: вместо улиц текли каналы, всяк плавает куда хочет; печей нет – камины. Образованный дож Валжер и красавица догаресса Квирини любезно приняли русских стольников во дворце.
Начиналась учеба флотская! А чужая жизнь увлекала безмерно. Толстой отметил, что республиканцы живут трезво, пьют больше «лимонатисы, симады, чекулаты (то есть какао), с которых пьяну никак быть не мочно; очень любят сидеть в лавках (то есть в кафе), где забавляются питьем и конфектами». Бывали русские в опере учились играть в мяч, воздухом надутый, бросая его через сетку, над площадью растянутую. Но средь приятных забав виделось Толстому и другое: «Всегда в Венеции увеселяются и ни в чем друг друга не зазирают, и ни от кого ни в чем никакого страху никто не имеет, всяк делает по своей воле, кто что хочет… и живут Венецияне в покое, без страху и без обиды, без тягостных податей». Не писал ли он эти слова с оглядкою на отчизну, где мало веселья, но зато множество податей, где никто не спешил в оперу, зато многих тащили на плаху. Был как раз год, когда в Москве на Красной площади Петр I рубил головы стрельцам…
Страшные бури носили галеры от берегов Далмации до Бари, гремели пушки у берегов Сицилии; побывал Толстой и на Мальте, где его чествовали угрюмые мальтийские рыцари в белых плащах с крестами. Он освоил итальянский язык, познал и славянские наречия. Капитан галеры Иван Лазаревич выдал Толстому диплом, в коем восхвалил его знания навигации, скромность и мужество. Это правда: Толстой учился прилежно, и хотя ему, старику, было особенно тяжело, но трудов флотских он не чуждался.
1700 год он встретил уже дома – в кругу семьи. Петр I сразу оценил в Толстом трезвость, красноречие, бритое лицо, пышный парик и поразительную трудоспособность. Царь в это время неустанно нахваливал чистенькую Голландию, а Толстой – Италию, за что и был однажды свирепо наказан царем, повелевшим:
– Эй, влейте в мощи ему три бокала флинту!
Флинт подавался горячим. Это была смесь пива с коньяком, в которую выжимали лимон. После русских медов и квасов флинт воспринимался с трудом. Петра Андреевича замертво вынесли из покоев царских… Ну что ж! Пора начинать карьеру.
XVIII век открывался великой Северной войной: Россия выходила на большую дорогу истории, но эта дорога длиною в 21 год обошлась россиянам в одну пятую часть населения – убитых, казненных, сожженных, утопленных и просто разбежавшихся по белу свету. Россия не имела своей воды… Правда, на севере был Архангельск, а на юге отвоеван Азов, но в Черное море турки русские корабли не пропустили; они говорили так:
– Черное море – дом наш внутренний, куда никого, как в гарем, не допустим. Станете плавать – войну начнем. Или пролив у Керчи весь камнями закидаем: даже щепка не проплывет!
Итальянский язык в ту пору был официальным языком турецкой дипломатии, и это решило судьбу Толстого: он стал первым постоянным послом России у порога Блистательной Порты… Годы шли вдали от родины, от семьи. Петр I денег не давал, а платил соболями, которые в Турции не раскупались. Громы пушек на севере Европы отдавались борьбою в передних султана; визирь Али-паша сказал однажды Толстому с кривою усмешкою:
– Когда враг по пояс в воде, можно подать ему руку; если он залез в воду по грудь, лучше не замечать его; а когда враг стоит по горло – лучше топить его без жалости!
– К чему сии грозные слова, великий визирь?
– Скоро поймете сами, – отвечал хитрый Али-паша…
В 1709 году грянула Полтава. Карл XII бежал во владения султана, Петр I требовал его выдачи, но русских курьеров турки перехитрили, – война объявлена! Петра Андреевича янычары повели в Семибашенный замок через пресловутые Красные ворота, которые (ради устрашения) накануне покрасили свежей человеческой кровью. Всю ночь послу России показывали орудия пыток.
– Меня-то этим не устрашишь, – ответил старик…
Али-паша скоро навестил его в темнице.
– Мне вас жаль, – сказал визирь. – Ваш император зачем-то взял с собою ливонскую девку Катерину и пошел с этой девкой воевать против нас. Сейчас мы окружили вашу армию на Пруте.
Визирь развязал платок и показал женские украшения:
– Вот и серьги из ушей Екатерины…
– Что значит нелепость сия? – в ужасе закричал Толстой.
– Это значит, что царь сдал нам не только пушки, не только Азов и Таганрог, но даже серьги из ушей своей куртизанки…
Так и было! Прутский поход закончился катастрофой. Россия потеряла Азов и Таганрог, сожгли Азовскую флотилию. В 1712 году турки пихнули в темницу еще двух дипломатов – Шафирова и Шереметева… Толстой, тряся бородою, спрашивал их:
– Робята, а вас-то какой бес сюда наслал?
– А мы… мир приехали заключать. Вот и попались.
Войны не было. Но мира тоже не стало.
Только в 1714 году Толстой вырвался из этого ада…
Вернулся домой и не узнал России: столица в Петербурге, русская армия гуляла по берегам Балтики, вместо воеводств учреждены губернии, заседал Сенат, при дворе крутилась масса иностранцев, а близ Петра I стояли люди, Толстому неведомые, – Алексашка Меншиков (дука Ижорский) да «ливонская девка» Катерина… Тьфу ты! Опять всю карьеру надо начинать заново.
Сына своего, рожденного от Авдотьи Лопухиной, Петр I насильно привенчал к худосочной Шарлотте Вольффенбюттельской, родная сестра которой была супругою австрийского кесаря Карла VI, – царь нуждался в альянсе венского и петербургского дворов: политика определила этот никудышный брак. Царевич сплетничал с монахами, врагами отца, и не столько сам пил, сколько его дальновидно спаивали. Слабый здоровьем, измученный церковными постами и непосильным пьянством, Алексей со слезами умолял денщиков царя-батюшки:
– Умру ведь я. Господи! Сжальтесь надо мною.
– Пей давай… чего уж там! – отвечал Меншиков и, разжав зубы царевичу, вливал в него громадную чару с перцовкой, которая была такой крепости, что свечу поднеси – вспыхивала!
Сбитый с толку монахами, задерганный отцом, страдающий за свою мать, живущую в тюрьме, царевич еще в молодости перенес то, что сейчас принято называть инсультом. Шарлотта родила ему сына (будущего императора Петра II), но Алексей, по примеру отца, завел себе «чухонскую девку» Евфросинью, а жена вскорости умерла. Но тут родила и «ливонская девка» Екатерина – тоже сына и тоже Петра по имени. Царь встал перед роковым выбором: кому оставлять престол? Или бездельнику Алексею – нелюбимому сыну от нелюбимой жены, или Петру[1] – любимому сыночку от любимой женщины. Возник сложный династический вопрос…
Был поздний осенний вечер, по крышам венского дворца стучал сильный дождь, вице-канцлер Шенборн собирался ложиться спать, когда в двери стали ломиться, требуя с ним свидания. Это был царевич Алексей, бежавший из России!
– Мне нужен император – мой свояк, – потребовал он.
Шенборн кликнул секретаря с перьями, и потому бессвязная речь Алексея в венском дворце дошла до нас. Крича, царевич бегал по комнате, задевая стулья, наконец захотел пива.
– Я должен похмелиться. Дайте пива!
– Пива нет. Но я могу налить вам мозельвейну…
Алексей выпил мозельского и зарыдал.
– Я слабый человек, – записывал его слова секретарь, – меня споили нарочно, чтобы расстроить мое здоровье. Я не хотел искать спасения ни во Франции, ни в Швеции, ибо там враги отца моего. Я передаю себя в защиту кесаря, умоляю не выдавать меня отцу. Он ни во что не ценит человеческую кровь, всегда и гневен, и мстителен, ничего не щадит – ни денег, ни крови, потому что он тиран и враг народа русского. Я изнемог…
До кесаря его не допустили. Беглеца с Евфросиньей отправили по Дунаю в Тироль, где заключили в замок Эренберг, стоящий на вершине неприступной скалы. А по Европе уже скакали русские сыщики: бегство царевича грозило России смутами. Венский посол Плейер сообщал кесарю из Петербурга: «Слухи о бегстве царевича возбудили в народе всеобщую радость. Здесь все готово к бунту…» Местопребывание Алексея открыл Румянцев, после чего Толстой навестил царя, склонившись перед ним столь низко, что букли парика коснулись паркетов:
– Ваше величество, доверьте дело мне, рабу своему.
– Что тебе надо для этого, Андреевич? – спросил царь.
– Червонцев… как можно больше червонцев!
По решению кесаря, Алексея с Евфросиньей отвезли в Неаполь, а там их укрыли в замке Сент-Альмо, возвышавшемся над городом. А за коляскою с беглецами скакал неутомимый Румянцев… Толстой, прибыв в Вену, просил Карла VI выдать царевича. Кесарь отвечал, что пусть он сам разбирается с царевичем и его пажом (Евфросинья носила мужскую одежду). 24 сентября 1717 года Петр Андреевич встретился с Румянцевым в Неаполе.
– Ах, Синька, Синька! – вздохнул старик. – Молод ты, быстро по Европам скачешь. Ну-к, ладно. Идем до царевича!
Он вручил Алексею письмо царя, который упрекал сына за бегство, просил во всем слушаться Толстого и заключал: «Я тебя обнадеживаю и обещаю Богом и судом Его, что никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу тебе…»
– Не верю! – разрыдался Алексей. – Я стану писать кесарю, чтобы не отдавал меня отцу… Боюсь лютости его!
Толстой выждал паузу. Веско заговорил:
– Кесарь – протектор плохой. Ежели отец двинет армию к рубежам его, кесарь выдаст тебя с головой. Но тогда будешь судим яко изменник отечеству. Нет, кесарь ссориться с Россией не пожелает! А мне велено не удаляться отселе, прежде чем не возьму тебя. Помни: куда б тебя ни везли, где бы ни спрятали – я буду, аки сатана или ангел, всегда рядом с тобою…
Толстой повидал и Евфросинью; он понял сразу, что эта девка в штанах сговорчива. Речи повел он ласковые:
– Евфросиньюшка, ах краса-то какова… будто писана! Послушь-ка, золотко, что я тебе на ушко поведаю…
И поклялся (!) «девке чухонской», что пусть уговорит царевича вернуться домой, а тогда он выдаст ее замуж за своего сына, да в придачу даст им тысячу крестьянских дворов.
– Заживешь как барыня! Именья-то мои каковы: там и лес, и телята, и малина, и сметаны полно…
От Евфросиньи он вернулся к царевичу – с угрозой:
– Если не вернешься, разлучим тебя с Евфросиньей…
Алексей сдался! Но поставил условие:
– Жить мне частным лицом в Москве на Воздвиженке и чтоб не дергали меня боле, а с Евфросиньюшкой не разлучали…
Царевича везли на Русь через Вену; Евфросинья (беременная) ехала на Русь через Берлин; в Москве сына поджидал царь:
– Сразу откажись от всяких прав на престолонаследие и назови всех, кто шептался с тобой…
Третьего февраля 1718 года Алексея доставили в Успенский собор; положив руку на Евангелие, он всенародно поклялся, что никогда не станет искать престола российского, а будет признавать наследником престола сводного брата, Петра Петровича («Шишечку»). В тот же день царь манифестом оповестил страну, что царевич от службы отлынивал, жену Шарлотту замучил, а время проводил праздно с Евфросиньей (которая поминалась в манифесте как «бездельная и работная девка»). Алексей выдал единомышленников. Началась полоса пыток и казней. Дело царевича Алексея – вроде бы семейное! – стало делом общегосударственным.
Весною двор перебрался в Петербург. Евфросинью заперли в Петропавловской крепости: там она родила ребенка, судьба которого неизвестна. На картине художника Николая Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» запечатлен как раз тот важный момент, когда царь – именно со слов Евфросиньи! – предъявил сыну жестокие обвинения… Палец царя на листе допроса:
– Ехиднин сын! Гляди сам, что писано… Когда говорили тебе, что в столице тихо, отвечал ты словами вражьими: «Тишина недаром: либо отец умрет, либо в народе бунт объявится…»
В эти дни на мызе близ Петербурга отрубили головы крестьянам – Рубцову, Поропилову, Леонтьеву. Вина их была только в том, что они видели, как царевича затащили в сарай, откуда скоро раздались истошные вопли. И хотя Алексей ежедневно обедал за одним столом с отцом, его уже подвергали пыткам. Суд в составе 127 персон вынес ему смертный приговор. Не подписался под ним только один человек – не потому, что был слишком смелый, а потому, что был слишком безграмотный.
В манифесте о смерти царевича Петр I объявил народу, что Алексей скончался от апоплексии. В честь этого была отчеканена медаль, на которой – корона царская в лучах солнца и надпись: ГОРИЗОНТ ПРОЯСНЕНИЯ. На самом же деле царевич принял смерть жестокую. Румянцев, Бутурлин, Ушаков и Толстой (наш герой) вошли в камеру, где сидел Алексей, и сообща задавили его подушками! Эта сцена убийства не испортила Петру I хорошего настроения, тем более что был праздник – годовщина Полтавской баталии. Царь со вкусом обедал в Летнем саду подле Екатерины, вечером был пышный фейерверк над Невою, веселый пир длился до глубокой ночи. Толстой как главный виновник торжества сиживал возле царя. Токарь Андрей Нартов записал как очевидец, что в разгар пира царь, «снявши с Толстого парик и колотя его по плешине, говаривал: «Эх, голова ты, голова! Кабы не была так умна, так давно бы отрубил ее…» Память подсказала царю горячий день стрелецкого возмущения, когда Толстой был «маткою бунта». Нет, царь все помнил и ничего не прощал! А погубив царевича Алексея, Толстой, естественно, сделался сторонником Екатерины…
Это было ему нужно, ибо Петр I уже был не жилец на свете. Петр Андреевич заранее (вкупе с Меншиковым) сколачивал будущее царствование, как корабль, чтобы плыть на нем далее. В мае 1724 года он получил титул графа. В конце Петрова царствования Толстой был главным инквизитором в Тайной канцелярии, созданной в помощь Преображенскому приказу, где палачи уже не поспевали рубить людям головы. Толстой лично руководил пытками и казнями, но свидетельств о его жестокости не сохранилось: очевидно, граф не был столь кровожаден, как другие инквизиторы той мрачной эпохи… Петр I перед смертью предупреждал близких, что Толстой «человек очень способный, но когда имеешь с ним дело, нужно держать камень, чтобы выбить ему все зубы сразу, если он захочет кусаться!»
После смерти Петра I ближайшие его соратники оказались и главными критиками былого царствования; император еще лежал в гробу, когда они стали разворачивать Россию назад – к старым порядкам. Мало того, птенцы гнезда Петрова стали ястребами, клевавшими один другого так, что пух и перья кружились над великим наследством великого императора. Судьи царевича Алексея хотели, чтобы императрицей стала Екатерина! Но ведь существовал и законный наследник престола – Петр Алексеевич, сын умерщвленного царевича. Толстой и Меншиков больше всего боялись, что этот мальчик, возмужав, спросит: а кто моего отца сгубил? – и потому они теперь кричали громче других:
– Хотим только матушку Катерину… пресветлую!
И вечно пьяную, кстати сказать. При избрании этой женщины в императрицы несколько человек зарезали возле престола, а несколько человек пришлось выкинуть со второго этажа.
Но ни Толстому, ни Меншикову не довелось умереть на сундуках с награбленным добром. Меншиков возжелал женить на своей дочери Петра, сына казненного царевича, – тогда и волки сыты, и овцы целы останутся… Но Толстой пришел в ужас.
– Конешно, – сказал он сыну, – ежели Алексашка Меншиков станет тестем императора Руси, он свою шкуру погладит, а вот наши шкуры, толстовские, все будут в дырках великих…
С воплями кинулся старец к умирающей Екатерине I.
– Что мне теперь счастье и что мне несчастье? – сказал он. – Но вы, ваше величество, должны понять, какой удар ожидает ваших наследников… Вижу топор, занесенный над головой детей наших и над моей головой – тоже!
– Не кричи, Андреич, – отвечала императрица. – Я уже слово дала Алексашке: пущай дочку свою за Петра выдает… Мне все едино помирать вскорости, вы сами и решайте…
За шесть дней до ее кончины Меншиков объявил, что в покои Екатерины I больше никого не впустит, даже если в него будут стрелять. Екатерина I, целиком ему подчинившись, подписала указ об аресте Толстого и его конфидентов. Сколько людей отправил Толстой на тот свет, а теперь и сам попался.
– Для меня, – заявил он судьям, – все в этом мире давно постыло, и считаю свою участь более счастливою, нежели участь тех, кто будет после меня проживать…
Вместе с сыном его отправили на Соловки, где заточили в подземную темницу – без света. Там они куску хлеба радовались. В возрасте 84 лет Толстой умер в день 30 января 1729 года. Но перед смертью ему выпала горькая доля – выкопать могилу для своего сына, который скончался раньше отца.
Так закончилась эта яркая, грубая, сочная и удивительно сложная жизнь. Надгробная плита над прахом сохранила от давних времен лишь два слова: «Граф Петр…» – и все!
Лев Толстой задумал роман о жизни Петра I, в котором главным героем стал бы его пращур. «Если Бог даст, – писал он тетке, – я нынешнее лето хочу съездить в Соловки». На Соловецкие острова он не поехал, а роман забросил.
Позднее и сам признавался в неудаче:
– Трудно проникнуть в души тогдашних людей – до того они не похожи на нас… Царь Петр был для меня очень далек!
Старые гусиные перья
Семен Романович Воронцов, посол в Лондоне, рассеянно наблюдал, как его секретарь Жоли затачивал гусиные перья.
– Порою, – рассуждал он, – нам платят за несколько слов, произнесенных шепотом, а иногда осыпают золотом даже за наше молчание. Такова уж профессия дипломата! – Из горстки перьев посол выбрал самое старое, обмакнул его в чернила: – Склянка с этой дрянью стоит гроши, но, используя ее с помощью пера, иногда можно изменить политику государства и без крови выиграть генеральную битву… Не так ли?
С поклоном явился Василий Лизакевич, советник посольства, и доложил, что ночью в Лондон прибыли русские корабли с традиционными грузами: смола, поташ, мед, пенька, доски.
– Распоряжением премьера Питта их лишили помощи лоцманов, и они вошли в Темзу сами… Боюсь, уплывут домой с пустыми трюмами, ибо в закупке товаров аглицких нам, россиянам, усилиями кабинета Сент-Джемского тоже отказано.
Семен Романович воспринял это спокойно.
– Яко младенец связан с утробою матери пуповиной, тако же и коммерция для англичан от политики неотделима. Ежели парламент во главе с Питтом войны с нами жаждет, то народ Англии желал бы лишь торговать с нами. А я устал! – Воронцов тяжело поднялся с кресла. – Пожалуй, прогуляюсь!
Лондон был стар, даже очень стар. В ту пору столица имела лишь два моста, а туннеля под Темзой еще не было. Внутри кирпичных особняков царили покой и чистота, зато снаружи здания покрывала хроническая копоть от извечного угара каминов. Улицы были украшены афишами, предупреждавшими иностранцев беречь кошельки от жуликов. Лондон во все времена был слишком откровенен в обнажении своих жизненных пороков, и Семен Романович долгим взором проследил за колесницей, увозящей преступника на виселицу… Вдруг липкий комок грязи залепил лицо русского посла, раздалась брань:
– У-у, русская собака! Если ваши корабли не уберутся с Черного моря и Средиземного, вам не плавать и на Балтийском…
Было время диктатуры Уильяма Питта Младшего, время назревания того жестокого кризиса, который вошел в нашу историю под названием «Восточного» (хотя от берегов Темзы очень далеко до Азии, но виновником кризиса стал именно Лондон). Впрочем, России не привыкать выбираться из политических бурь, и Семен Романович брезгливо вытер лицо.
– Нет уж! – было им сказано. – На войну не рассчитывайте. Я затем и стою здесь, чтобы войны с вами не случилось…
Вечером он закончил депешу, извещавшую Санкт-Петербург: «Пока г. Питт, ослепленный Пруссией, пребудет здесь министром, и пока король останется в опеке своей супруги, преданной совершенно двору берлинскому, России ничего полезного от Англии ожидать нельзя…» Петербургу не стоило объяснять, что Англией правила Ганноверская (немецкая) династия, а полупомешанный Георг III был женат на Шарлотте Мекленбургской, тоже немке. В конце депеши Воронцов добавил, что сумасшествие английского короля совпало по времени с началом Французской революции. Но не он, не король определял политику Англии – это делал всемогущий и вероломный Питт Младший, породивший нелепую басню о «русской опасности» для Европы, и эта басня до сих пор хранится в боевых арсеналах врагов России – как старое, но испытанное оружие…
Перед сном Воронцов истово отмолился в посольской церкви, а восстав с колен, сказал священнику Смирнову:
– Каковы бы хороши ни были корабли у Англии, но колес они пока не имеют, дабы посуху до Москвы ехать, посему и наняли для войны армию пруссаков. Однако, смею надеяться, и сама Пруссия прохудит свои штаны у кордонов наших.
Яков Иванович Смирнов, давно живший в Англии, хорошо ее изучивший, человек грамотный, отвечал послу:
– Не дадим им смолы русской, так у них борта кораблей протекать станут, а без нашей-то пеньки из чего они канатов для флота навертят? Если мы, русские, чтим воззрения Адама Смита, почему бы и милордам над экономикой не задуматься?
С этим он и загасил душистый ладан в кадиле.
После неудачной войны за океаном, потеряв владения в Америке, Англия все колониальные претензии переместила в Азию, торопливо закрепляя свое господство в Индии. При этом, бесспорно, Питта устрашали победы русских в войне с Турцией, которую, кстати сказать, он сам же и спровоцировал. Чтобы спасти султана, Питт благословил нападение на Россию шведских эскадр, и Россия получила второй фронт – столь опасный для нее, что даже улицы Петербурга затянуло пороховым дымом, когда у фортов Кронштадта сражались враждующие эскадры.
Но в конце 1788 года русские взяли Очаков штурмом, и парламент Англии, повинуясь Питту, как хороший оркестр талантливому дирижеру, сыграл на слишком бравурных нотах:
– Долой русских с Черного моря!..
В русском посольстве слышались разговоры:
– Если бы Очаков не пал, никто в Лондоне и не ведал бы, что такой паршивый городишко существует. А ныне не только милорды в парламенте, но даже нищие попрошайки и базарные торговки рассуждают, что без Очакова им всем пропадать…
Питт Младший, опытный демагог, заверял парламент, что победы России угрожают безопасности Англии:
– Высокомерие русского кабинета становится нетерпимо для европейцев. За падением Очакова видны цели русской политики на Босфоре, русские скоро выйдут к Нилу, чтобы занять Египет. Будем же помнить: ворота на Индию ими уже открыты…
Россия могучим плечом отбросила шведов от своей столицы и утвердила мир на севере. Но королевская Пруссия, это алчное государство-казарма, уже обещала турецкому султану объявить войну России, чтобы она снова задыхалась в тисках двух фронтов – на юге и на севере.
– Война с Россией неизбежна! – декларировал Питт…
Конечно, за интервенцию в Прибалтике предстояло расплачиваться с Гогенцоллернами не только золотом. Как раз в это же время Лондон навестил Михаил Огинский, известный патриот Польши и композитор; в беседе с ним Питт заявил открыто:
– Не хватит ли вам раздражать бедных пруссаков своим присутствием в Данциге? Между Варшавой и Лондоном не может быть никаких отношений, пока вы, поляки, не отдадите немцам Данциг, а если вы не сделаете этого по доброй воле, они все равно отберут его у вас – силой своего оружия…
Это был, если хотите, своего рода «Мюнхен», только опрокинутый из нашего века в давнее прошлое Европы, а Питт как бы предварял будущее предательство Чемберлена. Но в декабре 1790 года, утверждая свое победное торжество, русские воины – во главе с Суворовым! – взяли штурмом неприступный Измаил. А русский кабинет проявил такую непостижимую политическую гибкость, которая до сей поры изумляет историков. Екатерина II – втайне от Европы – решилась на союз с революционной Францией, чтобы сообща с нею противостоять своим недругам…
Питт, которому суждено было умереть после Аустерлица, крепко запил после падения Измаила! Но все силы ада уже были приведены им в движение.
Газеты насыщали королевство безудержной пропагандой против России, чтобы война с нею обрела популярность в народе… Секретарь Жоли доложил Воронцову, что объявлен набор матросов на королевский флот, верфи Англии загружены спешной работой, а священник Смирнов только что вернулся из Портсмута:
– Он желает срочно переговорить с вами…
Яков Иванович встревожил посла сообщением:
– Для нападения на Россию уже отлично снаряжена эскадра в тридцать шесть линейных кораблей, кроме коих готовы еще двенадцать фрегатов и с полсотни бригов.
– Каковы же настроения матросов, отец Яков?
– Скверные! Их похватали на улицах и в трактирах, никто из несчастных сих не желает служить питтовским химерам.
Советник Лизакевич вошел к послу с докладом:
– Увы! Вопрос с объявлением войны решен, в марте последует совместный ультиматум Пруссии и Англии, чтобы Россия покинула Крым и все области Причерноморья, уже с избытком орошенные нашей кровью… Англия слишком богата и на свои деньги всегда сыщет дураков на континенте, готовых воевать с нашей милостью. Наконец, Швеция не останется в стороне, дабы реваншироваться за свои неудачи на Балтике…
Итак, России предстояла борьба с коалицией!
– Я поговорю с самим Питтом, – решил Воронцов…
Беседа меж ними состоялась. Посол сказал, что Лондону следовало бы поточнее разграничить интересы самой Великобритании от интересов династии Ганноверской:
– Подумайте сами, что важнее для вашего процветания и могущества: дружба Ганновера с Берлином или союз Лондона с Петербургом? У вас торговлей с Россией ежегодно заняты триста пятьдесят кораблей и тысячи моряков, но подрубите этот доходный сук, на котором вы сидите, и… куда денутся моряки без работы? Конечно, они пополнят толпы нищих в трущобах лондонских доков, возрастет и преступность в городах.
Питт хлебнул коньяку и запил его портером.
– Оставьте! – грубо заявил он. – Я много думал над бедствиями Европы и пришел к выводу, что именно ваша варварская страна является главной пособницей революции во Франции…
– Вот как? Мне смешно, – заметил Воронцов.
– Якобинцы, – упоенно продолжал Питт, – не смогли бы одержать столько внушительных побед, если бы ваша императрица не расшатала старые порядки Европы, если бы своей безнравственной политикой она не разрушила бы прочное равновесие Европы.
Нравственности Екатерины II посол не касался.
– Но ваш союз с Пруссией, – сказал он, – закончится разгромом… именно Пруссии! И тогда никакая Голконда в Индии не сможет возместить убытков Англии от войны с нами.
Питт не пожелал выслушивать посла далее:
– На этом паршивом континенте Россия осталась в прискорбном одиночестве… Впрочем, – досказал он, – о мирных намерениях своего кабинета вам лучше поговорить с герцогом Лидсом.
В посольском доме на Гарлейской улице жарко пылали камины. Лизакевич спросил о результатах беседы с премьером. Семен Романович погрел у пламени зябнущие руки.
– Если Питт отстаивает свое мнение, то обязательно с пеной у рта. При этом необходимо учитывать, что эта пена – самая натуральная, рожденная из бочки с портером. Не знаю, как сложится мой диалог с его статс-секретарем Лидсом… Герцог Лидс ведал в Англии иностранными делами, он всегда был покорным слугой «ястреба» Питта:
– Лондон достаточно извещен, что вы, как и все Воронцовы, давно в оппозиции к власти Екатерины, и мне даже странно, что вы столь ретиво отстаиваете ее заблуждения.
– Я не служу личности, я служу только отечеству! – отвечал Воронцов, обозленный выпадом герцога. – Я отстаиваю перед вами не заблуждения коронованной женщины, а пытаюсь лишь доказать вам исторические права своего великого народа в его многовековых притязаниях на берега Черного моря.
– Где Черное, там и Средиземное, – усмехнулся Лидс, – а где Очаков, там и Дунай… География тут простая.
– Возможно! Только не думайте, что я стану действовать за кулисами политики, подавая оттуда «голос певца за сценой». Напротив, я решил взять политику вашего королевства за руку и вывести ее на площади Лондона и других городов Англии.
– Что это значит? – не понял его герцог Лидс.
– Это значит, что отныне я перестаю взывать к благоразумию ваших министров. Этот чудовищный спор между нами, быть войне или не быть, я передаю на усмотрение вашего же народа! И я, – заключил Воронцов, – уверен, что английский народ не станет воевать с Россией…
(«Лидс не знал, что отвечать мне», – писал Воронцов.)
– Это ваше последнее слово, посол?
– Да! – Воронцов удалился, даже без поклона.
Узнав об этом разговоре, Питт долго смеялся:
– Народ? Но разве народы решают вопросы войны и мира? При чем здесь хор, если все главные партии исполняют солисты?..
Воронцов же мыслил иначе: «Я слишком хорошего мнения об английском здравом смысле, чтобы не надеяться на то, что общенародный голос не заставит отказаться от этого несправедливого предприятия» – от войны с Россией!
Ричард Шеридан, драматург и пересмешник, состоял в оппозиции Питту. Встретив Воронцова, он сказал:
– Наконец-то и вы приобщились к нашей школе злословия. Как сторонник дружбы с Россией я поддержу вас. Но иногда мне кажется, что слово «мир» дипломатам удобнее было бы заменять более доходчивым выражением – «временное перемирие»…
Лизакевич встревоженно известил посла:
– Прибыл курьер из Петербурга! Армия Пруссии уже придвинута к рубежам Курляндии, английский флот из Портсмута готов выбрать якоря… Необходим демарш!
Воронцов сказал, что поддержка Шеридана обеспечена:
– Но прежде я желал бы повидать самого Фокса…
Чарльз Джеймс Фокс, язвительный оратор и филолог, возглавлял оппозицию партии врагов. Назло Питту он приветствовал независимость Америки, восхвалял революцию во Франции. За неряшливый образ жизни его прозвали «английским Мирабо», а Екатерина II считала его «отпетым якобинцем». Фокс известил Воронцова, что свихнувшийся король уже передал в парламент текст «тронной речи», требуя в ней «ассигнования значительных сумм для усиления флота, чтобы придать более веса протестам Англии ради поддержания зыбкого равновесия в Европе…».
Фокс злостно высмеял это пресловутое равновесие:
– О равновесии силы в политике говорят так, будто на одной чаше весов гири, а на другой – куча перегнившей картошки. Сначала я желал бы пьяному Питту сохранить равновесие своего бренного тела на трибуне парламента… Не волнуйтесь, посол: завтра я последний раз проиграюсь на скачках, после чего не возьму в рот даже капли хереса, чтобы сражаться с Питтом в самом непорочном состоянии!
Воронцов собрал чиновников посольства:
– На время забудем, что в Англии существует Питт и раболепный ему парламент. Отныне мы станем апеллировать не к министрам короля, а непосредственно к нации… Милый Жоли, – обратился он к секретарю, – заготовьте побольше чернил и заточите как следует самые лучшие гусиные перья!
Все чиновники посольства, и даже священник Смирнов, превратились в политических публицистов, чтобы переломить общественное мнение в королевстве. Семен Романович вспоминал: «Я давал (им) материалы, самые убедительные и достоверные, с целью доказать английской нации, что ее влекли к погибели и уничтожению – торговли, и то в интересах совершенно ей чуждых… В двадцати и более газетах, выходящих здесь ежедневно, появлялись наши статьи, открывавшие глаза народу, который все более восставал противу своего министерства… Во время этой борьбы ни я, ни мои чиновники не знали покоя и сна, и мы ночью писали, а днем бегали во все стороны – разносили в редакции газет статьи, которые должны были появиться на другой день». К этой борьбе русских в защиту мира подключились и сами англичане – негоцианты, врачи, адвокаты, ученые. Фокс не поленился продиктовать текст брошюры «По случаю приближения войны и поведения наших министров», и Екатерина II через курьера затребовала брошюру в Петербург – для перевода ее на русский язык. Пять долгих месяцев длилась ожесточенная борьба, а комнаты русского посольства слышали в эти дни только надсадное скрипение старых гусиных перьев…
Наконец однажды Лизакевич обрадовал посла:
– Первый проблеск надежды! Матросы портсмутской эскадры дезертируют с кораблей: им-то плевать на наш Очаков, им-то меньше всего нужна перестрелка с фортами Кронштадта.
Воронцов напомнил: природа войны такова, что она неизменно обогащает и без того богатых, но зато безжалостно обшаривает карманы бедняков, лишая их последнего пенса:
– Нам следует затронуть чувства жителей мануфактурных районов Англии, где рабочие и без того бедствуют…
Разрушая давние традиции дипломатической этики, Семен Романович умышленно отделял мнение правительства от гласа народного, гласа Божьего. Русские – поверх напудренных париков милордов – протягивали руку дружбы народу Англии, и народ живо отозвался на их призыв к миру. Промышленные города Манчестер, Норвич, Глазго и Шеффилд сразу взбурлили митингами, «на которых, – сообщал Воронцов, – было решено представить в парламент петиции с протестом противу мер министерства против России… избиратели писали своим депутатам, требуя, чтобы они отделились от Питта и подавали голоса против него. Наконец в Лондоне на стенах всех домов простой народ начал писать мелом: «НАМ НЕ НАДО ВОЙНЫ С РОССИЕЙ»…
Питт, слишком уверенный в себе, зачитал перед парламентом обращение короля – одобрить билль о расходах на войну с Россией, а Пруссия и Англия вот-вот должны предъявить Петербургу грозный ультиматум… Питт не скрывал своих планов:
– Мы не только превратим Петербург в жалкие развалины, но сожжем и верфи Архангельска, наши эскадры настигнут русские корабли даже в укрытиях гавани Севастополя! И пусть русские плавают потом на плотах, как первобытные дикари…
При голосовании его поддержало большинство. Но это «большинство», всегда покорное ему, уменьшилось на сотню голосов. Многие милорды, посвятившие жизнь воспитанию собак и лошадей, дегустации коньяков и хересов, никак не разумели, что такое Очаков и где его следует искать на картах мира.
– Откуда возникла нужда для Англии воевать из-за куска выжженной солнцем степи в тех краях, которые нам неизвестны? – спрашивали они. – Мы имели выгоды, и немалые, от торговли с Россией, но какую прибыль получим от войны с нею?..
Голосование повторили, но оппозиция обрела уже дерзостный тон, многие из друзей Питта вообще отказались вотировать его призыв к войне с Россией… Питт был даже ошеломлен:
– Надеюсь услышать от вас и более здравые речи…
На следующий день «Фокс, по словам Воронцова, говорил как ангел…». Лидер партии вигов начал свое громоизвержение, его юмор как молния разил тщедушного Питта:
– Ах, вот он, этот человек, проводящий здесь политику берлинского кабинета, жаждущего владеть Данцигом в Польше и Курляндией в России! Нам-то, всегда сытым, что за дело до непомерных аппетитов отощавших берлинских мудрецов? И разве, спрашиваю я вас, русские не правы в этой войне с Турцией, отстаивая свои рубежи от варварских нападений?.. Джентльмены! Что можно еще ожидать хорошего от человека, который высшую поэзию усмотрел не в Гомере и Овидии, а в никудышной грамматике парламентских речений? Наконец, стоит ли нам доверять министру, который, берясь за вино, предпочитает иметь дело не со стаканом, а с бутылками?.. Между тем народ требует от нас не иллюзорных побед, а конкретных гарантий мира!
Питт и на этот раз выиграл в голосовании.
Да, выиграл. Но с таким ничтожным перевесом голосов, что сам понял: это не победа, а поражение, вслед за которым начинается крах всей его бесподобной карьеры… Фокс в беседе с Воронцовым очень точно определил состояние Питта:
– Теперь он поглощен единою мыслью, как бы ему отсидеться в кустах, но без особого позора, ибо народ Англии никогда не пожелает разделить этот позор со своим премьером…
Питт решился на крайнюю меру – он распустил парламент. Всю вину за свое поражение он свалил на герцога Лидса, удалив его в отставку. Наконец решение было им принято:
– Ультиматума не будет! Я посылаю в Петербург старого добряка Фолкнера, чтобы тот согласился с мирными кондициями петербургского кабинета… Срочно шлите гонцов в Портсмут: пусть эскадра разоружается! А пруссакам – отвести войска обратно в казармы. Заодно уж передайте в Стокгольм, что Сити отказывает шведам в субсидиях на усиление флота… Всё!
Воронцов справился у Лизакевича, в какую сумму обошлась русской казне эта кампания борьбы за мир.
– Дешево! – засмеялся тот. – Да и когда еще старые гусиные перья стоили дорого! Мы выиграли битву за мир, истратив лишь двести пятьдесят фунтов стерлингов. Для сравнения я вам напомню, что дом нашего посольства потребовал от казны расходов в шесть тысяч фунтов. Вот и считайте сами…
Был чудесный день в Лондоне, ярко зеленела трава на лужайках, когда Воронцов снова навестил Фокса.
– У меня новость… приятная для вас! – сообщил он ему. – Наша императрица пожелала заказать ваш бюст, дабы поместить его в Камероновой галерее своей царскосельской резиденции, причем она уже выбрала для вашего бюста отличное место.
– Какое же? – фыркнул Фокс, явно недоумевая.
– Вы будете красоваться между Демосфером и Цицероном.
– А… вы? – спросил Фокс. – Где же ваш бюст?
Воронцов отвечал с иронической усмешкой:
– Если ваш бюст императрица ставит, чтобы лишний раз взбесить Питта, то мой бюст способен взбесить только императрицу! Не забывайте, что я состою в оппозиции к ее царствованию, как и вы, милый Фокс, в оппозиции к правлению Питта…
Медленной походкой утомленного человека дипломат вернулся на Гарлейскую улицу, где и занял свой пост – в кабинете посольства. Именно в этом году, когда Россия выиграла войну без войны, в Англии скончался поэт Роберт Берне…
И мне стало даже печально: как давно все это было!
- Настанет день и час пробьет,
- Когда уму и чести
- На всей земле придет черед
- Стоять на первом месте!
Следует помнить, дорогой читатель: борьба за мир не сегодня началась и не завтра она закончится. Только нам уже не слыхать мажорного скрипения старых гусиных перьев, зато из ночи в ночь грохочут в редакциях газет бодрые телетайпы…
Будем надеяться. Будем верить.
Каламбур Николаевич
В последней монографии о военной галерее героев 1812 года помещен любопытный список. В нем перечислены генералы, портреты которых должны украшать галерею нашей славы, но по каким-то причинам они в нее не попали. Среди них значится и князь Сергей Николаевич Долгорукий (1770–1829), которого в тогдашнем русском обществе прозвали «Каламбур Николаевич», ибо этот человек обладал жалящим остроумием. К сожалению, я не могу донести до читателя едкую соль его сарказмов, ибо они рождались благодаря блистательному владению французским языком и были понятны современникам, знавшим этот язык во всех тонкостях…
1811 год застал героя в Италии, спешащим в Неаполь.
Была поздняя осень. Рим встретил дипломата сухой и жаркой погодой, а за княжеством Понтекорво хлынули мутные дожди. Карета въехала в пределы Неаполитанского королевства – во владения маршала Мюрата; от французских патрулей на дорогах князь узнал, что недавно опять пробудился от спячки Везувий, выбросив в небеса тучи гари и пепла.
– А потому и дожди текут грязнее помоев. Вы, посол, будьте осторожнее: дороги до Неаполя небезопасны… Мало мы перевешали карбонариев! Они теперь озверели и убивают каждого, кто не способен выговорить дикое слово «чече».
Конечно, освоить фонетику итальянского языка победители были не в силах. Вечер застал князя на постоялом дворе, хозяин украсил стол, на котором его ожидал ужин, двумя жиденькими свечками. Наверное, не без умысла он выставил перед ним миску с горохом.
– Ваши лошади, синьор, слишком устали. Сейчас вы ляжете отдыхать, а завтра к вечеру достигнете и Неаполя…
Могучий, как молотобоец, князь сел на лавку, и она со скрипом прогнулась под ним.
– Я буду в Неаполе завтра утром, – сказал он.
– Воля ваша! Но у нас по ночам никто не ездит, если не желает умереть без святого причастия… Попробуйте, синьор, наше блюдо! – И хозяин придвинул князю миску с горохом.
– Благодарю. Как это называется по-итальянски?
– Чече.
Долгорукий со вкусом повторил это слово, чему хозяин страшно обрадовался:
– О! Так вы, синьор, не француз! Вы, наверное, из Вены? Или… поляк?
– Я еду из Петербурга… Русский.
Итальянец выразил ему свою симпатию:
– У нас тут много всяких слухов, говорят, Наполеону мало страданий Европы, скоро он начнет войну и с вами.
После ужина Каламбур Николаевич велел запрягать лошадей в карету; прислуга заметила, как небрежно он бросил поверх дивана футляр с дорожными пистолетами. Кожаные ремни, заменявшие рессоры, мягко и плавно укачивали, и князь Долгорукий крепко спал, когда со звоном вылетели из окон стекла, двери кареты распахнулись с двух сторон одновременно. В грудь посла России уперлись дула четырех пистолетов сразу. Слабый свет ночника, горевшего в углу кареты, высветлил из мрака глаза, блестевшие в прорезях масок:
– Если ты не враг, так скажи слово «чече», и тогда твоя жизнь, как и твой кошелек, останутся в целости.
Долгорукий не потерял хладнокровия:
– В русском языке, как и в вашем, сколько угодно подобных звучаний. Что там ваше «чече»? Вот вам: чечевица, человек, чудовище, чучело… Вы приняли меня за француза, придворного короля Мюрата? Вот, – показал князь на закрытый футляр с пистолетами, – как видите, я полагался в дороге не на силу оружия, а лишь на благородство патриотов-карбонариев. Да и чего мне, русскому, бояться в Италии, которой Россия никогда не причиняла никакого вреда!
Пистолеты мигом исчезли, маски были сдернуты, обнажив худые, небритые лица карбонариев, которых газеты Европы именовали бандитами. Долгорукий выбрался из кареты, к нему подошел главарь шайки – босой калабриец, галантным жестом приподнявший перед послом простреленную пулями шляпу:
– Мы рады приветствовать русского друга… Для одинокого путника найдется и угощение.
– Я не против! – согласился Долгорукий и поинтересовался: – Ради чего вы рискуете, зная, что, скорее всего, примете смерть на эшафоте?
Калабриец сказал, что итальянцам опротивело видеть, как Наполеон, словно портняжка, по собственным выкройкам раскромсал Италию на куски, создавая новые княжества и королевства для своих ближайших родственников и маршалов.
– Даже распутных сестер он сделал владычицами над нами. Имена Каролины Мюрат, Элизы Баччиокки и Полины Боргезе, надеюсь, говорят вам о многом… Наполеону достаточно нахмурить брови в Париже – и его братцы с сестрами сразу пополнят редеющую армию Франции за счет несчастных итальянцев. Мюрат в Неаполе уже провел рекрутский набор для своего зятя, который, если верны слухи, собирается напасть на Россию. Будем же молить пречистую мадонну, чтобы этот злодей, забравшись в русские леса, превратился от холода в звонкую сосульку!
Близился кризис, о котором писал Пушкин: «…гроза двенадцатого года еще спала. Еще Наполеон не испытал великого народа – еще грозил и колебался он…»
Пришло время сказать, что именно каламбуры и стали виной тому, что карьера Долгорукому не удалась. Каламбура Николаевича вместе с его опасным красноречием старались держать подальше от двора и столицы. Его посылали в Вену для финансового арбитража, потом долго томили в Гааге, где, кстати, от его остроумия немало пострадала блудливая Гортензия Богарнэ, падчерица Наполеона, силком выданная за короля Людовика Бонапарта, брата того же Наполеона…
Людовик откровенно жаловался Долгорукому:
– Сначала брат навязал мне гадину-жену, потом – голландскую корону, а я хочу одного – писать романы. Желая дружбы с Россией, я решил поставить в Саардаме памятник Петру Великому; мой проект в Петербурге одобрили, но брат запретил мне ставить памятник. Возомнивший о себе столь много, он безжалостно грабит моих бедных голландцев ради пополнения арсеналов для новых губительных войн… Боюсь, что вся наша семейка в один прекрасный день окажется на виселице!
Вражда с братом и разлад с женою вынудили Людовика отречься от короны и бежать от мести брата, после чего Наполеон приобщил Голландию к своим владениям, а Каламбур Николаевич остался без службы. Но, как тогда говорили, «если не служить, так лучше не родиться». Долгорукого вызвал в Петербург российский канцлер Николай Петрович Румянцев:
– Мы отзываем из Неаполя поверенного Константина Бенкендорфа, а вам, князь, предстоит поспешить в Неаполь… Именно поспешить, ибо нам стало известно, что Меттерних из Вены внезапно назначил посланником в Неаполь графа Миера.
– Смею думать, – отвечал Долгорукий, – что Миера будет вести себя в Неаполе столь же скромно, как его Меттерних ведет себя под императором французов.
– Возможно, – согласился Румянцев. – Но зато в Неаполе могут возникнуть осложнения с Дюраном-Марейлем…
Канцлер предупредил: король Мюрат из вассала своего зятя желает сделаться самостоятельным государем, чтобы избавить себя от наполеоновской ферулы; с этой же целью он готовит армию в сорок тысяч штыков, вполне достаточную для ограждения своего суверенитета.
Наполеон это понял и, дабы припугнуть зятя, отозвал из Неаполя своего посла Обюссона, оставив при Мюрате лишь поверенного в делах. Да, это сознательное унижение… Но Каролина Бонапарт, жена Мюрата, укатила к брату в Париж, а у этой женщины, по словам Талейрана, голова Макиавелли на торсе Венеры. Она, конечно, умоляла брата не оставлять Неаполь без своего посольства, отчего Наполеон, сжалясь над нею, и направил к Мюрату барона Дюрана-Марейля.
– Надеюсь, – заявил Долгорукий, – мое положение в Неаполе не будет ниже положения, занимаемого этим Дюраном.
– Дюрану, – подхватил Румянцев, – Наполеон и не позволит занять высокий пост, чтобы тем самым не возвышать Мюрата, которому как сыну трактирщика не пристало заноситься. Но Мюрат уже прислал в Петербург своего посланника Бранцио, и мы это оценили как призыв усилить русское посольство в Неаполе – в противовес влиянию Дюрана…
Долгорукий рассмеялся. Канцлер огорчился:
– Не понимаю, князь, что вас рассмешило?
Каламбур Николаевич сказал, что, наверное, будет вернее говорить о корсиканском нашествии на Европу, а совсем не о французском. Наполеон, образуя новые государства для своих домочадцев, поставил дипломатию в ненормальное положение:
– Громадный дипломатический корпус работает только по обслуживанию дворов родственников Наполеона, и мы, дипломаты, заведомо знаем, что аккредитованы состоять при лягушках, квакающих по нотам великого композитора Наполеона.
– Не забывайте о Тильзитском мире, – сухо напомнил Румянцев. – Мы не собираемся его нарушать, но Россия уже заточила штыки, дабы покарать нарушителя спокойствия…
Оказавшись в Неаполе, князь Долгорукий вручил свои верительные грамоты неаполитанскому королю. Мюрат был болтлив, как женщина (а точнее – как истый гасконец); его длинным курчавым локонам до плеч могла бы позавидовать любая красавица.
– Напрасно не оповестили меня о своем приезде заранее, – сказал он. – Я бы выслал навстречу вооруженный эскорт, а мой шталмейстер граф Реми Эксельман дал бы вам лучших лошадей из моих великолепных конюшен…
Мюрат стал королем вместо Иосифа Бонапарта, которого Наполеон пересадил на престол Испании, как пересаживают редиску с одной грядки на другую. Бурбоны в ту пору скрывались в Палермо на Сицилии, их поддерживала английская эскадра, захватившая остров Капри – как раз напротив Неаполя. Мюрат недавно изгнал англичан с Капри, но Сицилия еще оставалась для него недоступна. Вареные раки (как называли в Италии англичан за их красные мундиры) воевали спустя рукава. Лондон уже знал о скорой войне с Россией, и потому британцы сознательно сберегали свои силенки… Кровь будет пролита русская!
Иоахим Мюрат, склонный к петушиной пышности и позерству, был колоритной фигурой. Наполеон отзывался о нем с презрением: «Этот жалкий Pantaleone годится лишь для украшения моих триумфов». Долгорукий быстро угадал настроения Мюрата, знакомые ему по общению с Людовиком Бонапартом.
– Наши жены отбились от рук и попали в чужие руки, а дети забыли нас. Мы, славная когорта маршалов Франции, скопили несметные богатства, но не можем наслаждаться роскошью. Император таскает нас за собой, словно мы бездомные цыгане, и порою я радуюсь даже куску колбасы. Что мне перины Бурбонов, если после атаки я готов выспаться в первой же грязной луже… Куда еще потащится мой зять со своими фантазиями? Дал бы пожить спокойно…
Константин Бенкендорф (не граф!) ознакомил Долгорукого с делами в Неаполитанском королевстве:
– Наполеон превратил Неаполь в провинцию Франции, и Мюрат боится, как бы его не постигла участь Голландии. Власть короля призрачна: нищие лаццарони Неаполя – сродни санкюлотам Парижа. Весною генерал Манэ перебил в Калабрии семь тысяч крестьян, дававших партизанам-карбонариям приют и пищу… Бойтесь Эксельмана! – предупредил Бенкендорф посла. – Этот человек недавно бежал из английского плена, и похоже, что Наполеон приставил его к Мюрату, дабы удобнее шпионить за своим зятем. К сожалению, спесивый Эксельман не дал мне повода проткнуть его шпагой на дуэли…
Случайно в Неаполе оказался еще один русский – барон Григорий Строганов, бывший посол в Мадриде. Он похитил жену у португальского посла и потому не спешил возвращаться в Петербург, где его поджидала законная жена. Человек образованный и умный, Строганов рассуждал:
– Наполеон дал европейцам блага Гражданского кодекса, но за это потребовал слишком большой гонорар, и мы теперь наблюдаем, как текут ниагары крови, возвышаются монбланы пушечного мяса… Испания уже прославила себя бесстрашием партизан-гверильясов, Италия доверила судьбу карбонариям, и смею думать, что наши русские мужики, случись нашествие Наполеона, явят миру примеры античного мужества…
Трое русских, заброшенных на чужбину, отчетливо понимали, что война неизбежна, и потому обстановку в Неаполе воспринимали обостренно. Каламбур Николаевич приступил к своим обязанностям, состоя в дипломатическом ранге полномочного министра и чрезвычайного посланника. Но лучше будем именовать его проще – послом… Впрочем, служба не обременяла посла: охоты в Кордителло чередовались с оперой в театре «Сан-Карло», двор Мюрата (без Каролины, но с дамами) выезжал прохлаждаться на Капри или на озеро Аньяно. Из дипломатов Долгорукий сдружился лишь с Тассони, который горько проклинал свою в самом деле незавидную судьбу:
– Каково мне, итальянцу, быть посланником итальянским, представляя персону Эжена Богарнэ в итальянском же Неаполе, но принадлежащем французскому маршалу Мюрату? Не парадокс ли? И когда же мы, итальянцы, станем хозяевами в своем доме?
Венский посланник Миера держался в стороне от русских, но барон Дюран оказался и мил, и любезен.
– Наши императоры большие друзья, – намекнул он.
– Да, – надменно отвечал Долгорукий. – После встречи в Тильзите им ничего другого не оставалось. И мы останемся друзьями до тех пор, пока будем придерживаться XXVIII статьи Тильзитского трактата о равенстве и правах между Россией и той империей, которую создал Наполеон…
Долгорукий намеренно держал себя гордо – даже перед Мюратом, словно предчувствуя, что, хотя Мюрат и ершился перед Наполеоном, он покорно поведет французскую армию против русской. До короля, наверное, дошли его слова, неосторожно сказанные в присутствии графа Миера, прихвостня Меттерниха:
– В кавалерийских конюшнях Петербурга немало всяких мюратов, но они не мечтают сделаться королями, как это случилось с зятьком одного корсиканца…
Миера, как и предвидели в Петербурге, отмалчивался, дабы не вызвать грома и молний Парижа. Меттерних уже тогда проводил подлую политику: заискивая перед Россией, он исподтишка толкал Наполеона на войну с Россией, понимая, что, когда русские свернут Наполеону шею, он, Меттерних, станет первой скрипкой в европейском оркестре. Соответственно тайным вожделениям своего венского патрона и вел себя посол Миера, заранее и во всем уступая первенство французам.
– Но я в протоколе не уступлю, – решил Долгорукий…
Дипломатический протокол – святая святых этикета, по которому ведутся переговоры между послами и власть предержащими. Иногда незначительный, казалось бы, пустяк в поведении способен поднять или уронить престиж государства… Каламбур Николаевич говорил: «Исполнение протокола почитаю как закон полевой тактики в развитии общей боевой стратегии – политики!» Король Мюрат, рожденный под лавкою сельского трактира, не надеялся на свое знание этикета, доверив ведение протокола маркизу Галло, и, пожалуй, он даже не обратил внимания на то, что Дюран с Миера однажды заняли место впереди русского посла. Но в следующей церемонии Долгорукий прочно занял место по правую руку от короля, всей мощью Добрыни Никитича оттеснив представителей Вены и Парижа.
Дюран высказал Долгорукому свое недовольство:
– Где-нибудь в Бразилии или в Китае я охотно уступил бы вам первенство, но только не в Неаполе, где король – зять моего императора, а королева – его родная сестра.
Долгорукий отвечал Дюрану со всей учтивостью:
– Поверьте, у меня нет никаких предубеждений против вас, барон, и быть их не может, я лишь ставлю свою персону на то законное место, которого она заслуживает не по моим личным качествам, а лишь по заслугам моего отечества…
Казалось, конфликт улажен, а Дюран даже подумал, что он может из него извлечь выгоду для своей карьеры. Однако во время завтрака в Кордителло князь был недоволен тем местом, какое ему пришлось занять за общим столом. В своем докладе Румянцеву он писал: «Я отстаивал свои права с горячностью… удовлетворившись заявлением маркиза Галло, что король не вмешивался в распределение мест и даже выразил желание, чтобы при этом не соблюдалось никакого порядка».
Затем маркиз Галло сообщил Долгорукому:
– Не знаю, чем это кончится, но в новогодней церемонии мой король Иоахим сначала заговорит с тем послом, который предстанет перед его величеством первым…
Последняя фраза была решающей. Но она же была и провокационной: Мюрат сознательно вызывал дипломатический скандал. Историк Фр. Массон писал: «Допустить, чтобы французский посланник имел преимущество перед другими, значило признать его (то есть Мюрата. – В.П.) подчинение императору». Потому Мюрат и готовил Дюрану унижение, которое должно быть оплеухой Наполеону. Сам король задеть зятя боялся, но, зная строптивый нрав русского посла, Мюрат понимал, что Долгорукий, конечно же, пожелает быть первым… Дюран в эти дни тоже готовился постоять за честь Наполеона, говоря Эксельману:
– Вот увидите, я буду смеяться последним…
Долгорукий, узнав об этом, сказал Бенкендорфу:
– Чтобы смеяться, надо прежде всего уметь смеяться…
Человечество вступало в грозный 1812 год, и, словно предчувствуя его роковые потрясения, в самом конце уходящего года Везувий снова разворчался, осыпав крыши Неаполя горячим и хрустким пеплом. 1 января Мюрат, окруженный свитой, появился в тронном зале. Придворный этикет не был нарушен, зато дипломатический протокол сильно пострадал с того момента, как обер-церемониймейстер объявил о прибытии господ посланников. Фр. Массон пишет, что Долгорукий преднамеренно занял первое место в церемонии, «но в ту же минуту барон Дюран сильно толкнул его сзади со словами:
– Ну уж нет! Этому не бывать…»
При этом, если верить докладу Дюрана, он сказал Долгорукому: «Дипломатия – искусство более письменное, нежели устное, так потрудитесь сочинить письменный протест…»
– С личной печатью! – охотно отозвался Долгорукий, награждая любителя писанины громкой пощечиной…
Цитирую: «Миера, стоявший ближе всех к обоим посланникам, видел, как они волтузили один другого кулаками». Дипломатический протокол общения на кулаках никогда не фиксировал. Но это было как раз то, что и требовалось сейчас Мюрату.
Заметив драку, он отчетливо произнес:
– Господа! Вашу трогательную горячность я приписываю только поспешностью, с какой вы стремитесь лицезреть мое королевское величество. Остальное меня не касается.
Затем, обходя придворных дам, он весело шутил с ними о новогоднем извержении Везувия.
Из доклада графа Миера канцлеру Меттерниху: «Князь Долгорукий, конечно, будет утверждать, что он не брался за эфес шпаги, но я видел это своими глазами…» Из письма маркиза Галло князю Долгорукому: «Его величество (Мюрат. – В.П.) никак не мог себе представить, что… вы забудетесь до того, чтобы взяться за эфес шпаги, угрожая французскому посланнику».
Гофмаршал Периньони подтащил Дюрана к престолу:
– Ваше королевское величество, – сказал он Мюрату, – посол Франции требует, чтобы ему было сделано удовлетворение за нанесение ущерба в его лице императору Наполеону…
Вот тут Мюрат понял, что, играя, он сильно переиграл.
Цитирую из Массона: «Он сам поощрял претензии Долгорукого и был бы готов одобрить его поступок… с другой стороны, он боялся ссоры с Наполеоном», и, продолжая свою опасную игру, Мюрат решил «передернуть карту»: «Чтобы выйти из затруднительного положения, он игнорировал оскорбление Дюрану как представителю французского монарха…»
– При чем здесь Наполеон? – раскричался Мюрат. – Кладя руку на эфес «шпаги, русский посол нанес оскорбление не императору Франции, а лично моему королевскому престижу…
Во время следствия один лишь итальянец Тассони назло всем чертям заявил, что он ничего не видел – ни оплеухи, ни касания князем эфеса (за что Тассони и был предан анафеме самим Наполеоном, писавшим: «Он вел себя худо – ему нельзя было уклоняться от дела, если дело шло о достоинстве моей короны»). Но дипломаты, побитые возле престолов, тоже никому не нужны, и Дюран понял, что карьера его закончилась. Чтобы спасти себя и спасти свою пенсию, он немедля отправил Долгорукому вызов на дуэль: «Положив руку на эфес шпаги, вы позволили себе угрожающий жест в отношении меня, за который я должен потребовать у вас удовлетворения…»
Каламбур Николаевич рассудил таким образом:
– У нас на Руси принято говорить: «положа руку на сердце», а в Европе лучше беседовать, положа руку на эфес шпаги… Я принимаю вызов. И сегодня же отправлю курьера в Петербург, чтобы Румянцев позволил мне отставку со службы…
Но оплеуха, отпущенная русской дланью посланцу Наполеона, вызвала бурную радость на улицах Неаполя; стоило Долгорукому появиться в публике, как лаццарони кричали: «Чече, чече! Руссия – виват!..» Движение карбонариев затронуло не только парий общества, но даже аристократию, почему князь и не был удивлен словами итальянского генерала Караскозы:
– Друзья свободы приветствуют вас, и мы будем надеяться, что Россия поддержит наше стремление к единству…
Бенкендорф выложил перед Долгоруким письмо:
– Случилось худшее. Эксельман тоже прислал вам вызов на дуэль. Боюсь, подстроена непристойная ловушка…
Эксельман начинал письмо так: «Как французский генерал и подданный императора Наполеона я преисполнен понятного негодования… имею честь немедленно просить у вас удовлетворения за оскорбление, нанесенное моему монарху».
– Да, ловушка, – согласился Долгорукий. – Эксельман надеется добить меня, если это не удастся Дюрану.
Константин Бенкендорф быстро что-то писал.
– Кому? Куда? Зачем? – спросил его Долгорукий.
– Ему. Туда. Вызов, – отвечал Бенкендорф. – Вы берете на себя Дюрана, а я обещаю проткнуть графа Эксельмана…
«Смею надеяться, – писал Бенкендорф, – что после дуэли с князем Долгоруким вы дадите мне возможность исполнить священную для меня обязанность…» Пригласили и Строганова.
– Григорий Александрович, – сказал ему Долгорукий. – Дюран будет иметь двух секундантов – барона Форбена и того же Эксельмана, с моей стороны будет Костя Бенкендорф, вас прошу помогать ему в этом благородном занятии.
Строганов согласился, но предупредил:
– Как занимающий посольское место вы лишены права принимать вызов на дуэль. Или вы уже получили отставку?
– Курьер скачет и будет скакать еще долго…
Дуэль была назначена на 5 января в 7 часов утра.
– Где? На берегу Аньяно?
– Нет. Внутри храма Сераписа в Пуццоли.
– Нашли местечко! – буркнул Строганов…
Перед поединком Долгорукий сказал Дюрану:
– Еще раз выражаю вам свое личное уважение, напоминая о том, что никакой лично вражды и неприязни к вам не имею.
– Благодарю, князь. Лучше приступим к делу…
Долгорукий обнажил клинок, украшенный славянской вязью по стали: «Умри, злодей…» Первый же выпад пришелся в грудь Дюрану. Долгорукий, явно щадя противника, быстро выдернул острие из его тела, а Строганов сразу вмешался:
– Кровь была, не хватит ли этого?
– Нет. Продолжим, – отказался Дюран…
Шпаги снова скрестились очень рискованно для Дюрана, и он, отбросив оружие, кинулся в объятия Долгорукому:
– Благодарю за честь! Я удовлетворен. Мы останемся друзьями… Не так ли, князь?
Тут вовсю разорался секундант Форбен:
– Скорее! Там убивают… Помогите же, вмешайтесь!
Оказывается, Бенкендорф с Эксельманом уже яростно бились на церковной паперти. Вот здесь была настоящая бойня…
Раненный в плечо, Бенкендорф искусно пластал воздух клинком, стремясь пронзить Эксельмана. Их пытались разнять, но Бенкендорф нанес еще два удара подряд – в шею и подле уха. Эксельман обливался кровью… Работая шпагой, Бенкендорф сначала вытеснил его с церковной паперти, а потом заставил отступить и далее – прямо на церковные ступени.
– Это было изгнание из храма торгующих и нечестивых, – сказал он друзьям, батистовым платком обтирая лезвие шпаги…
Только сейчас, когда все кончилось, прискакал генерал Караскоза и заявил от имени Мюрата, что он «не допустит дуэлей в пределах его королевства». Долгорукий захохотал:
– Какая дуэль? Здесь собрались добрые друзья…
К нему, шатаясь, подошел Реми Эксельман:
– Князь! Отправляя вам вызов, я совсем упустил из виду, что вы как официальное лицо не могли принять его, пока не получите обратно верительные грамоты… Прошу извинить меня за оплошность и забыть о сделанном вызове.
Долгорукий пожал ему руку, липкую от крови.
– Впрочем, – сказал он, – я всегда к вашим услугам и готов скрестить оружие, когда вам будет угодно…
Но скрестить оружие с генералом Наполеона ему пришлось уже на заснеженных полях России!
По чину генерал-лейтенант, Каламбур Николаевич в войне с Наполеоном командовал пехотным корпусом, имя его не раз встречается в переписке фельдмаршала Голенищева-Кутузова Смоленского. Патриотизм Долгорукого был настолько высок, что от него долго скрывали известие о пожаре Москвы: думали, он не переживет этого… Но даже на полях сражений князь оставался верен чувству природного юмора, и до нас от тех лет дошли два его каламбура.
Когда сдался в плен генерал Пеллетье, князь сказал, что теперь все французы скорчатся от холода (pelletier по-французски – скорняк, меховщик). Второй каламбур касался Тарутинского лагеря. Долгорукий вложил его в уста Наполеона, якобы сказавшего: «Koutousoff, ta rautine m’a deroute». – «Кутузов, твоя рутина (Тарутино) сбила меня с пути…»
Со своей матушкой пехотой князь Долгорукий прошагал весь путь изгнания захватчиков с родимой земли, потом участвовал в освобождении народов Европы от наполеоновской тирании, попутно исполняя дипломатические поручения в союзных странах.
Сергей Николаевич был женат на дочери известного финансиста Васильева, но семейная жизнь его бурной натуре не удалась, супруги давно жили врозь, а их дети, сын и дочь, принадлежали уже иному поколению – их можно было встретить в окружении поэта Пушкина…
Каламбур Николаевич не мог служить во времена аракчеевских порядков и после войны удалился в отставку, угаснув на чужбине – одиноким и, наверное, несчастным. О нем редко упоминают и ныне, чаще говорят искусствоведы о его портрете волшебной кисти Д. Г. Левицкого. Увы, мы видим этот портрет далеко от прославленной военной галереи – он незаметно стареет в краеведческом музее тихой подмосковной провинции, почти совсем не публикуется.
После Долгорукого остался написанный им еще в молодости исторический труд «Хроника Российской Императорской армии», изданный в 1799 году. По мнению историков, это драгоценнейший свод сведений о всех полках России, об их мундирах, штандартах и местах расквартирования. Труд тем более ценный для нас, что те материалы, которые автор использовал при его написании, погибли в пламени московского пожара, и нам их уже никогда не вернуть. Честно сознаюсь, я этой книги даже в руках не держал, хотя немало копался в заманчивых дебрях букинистических лавок…
Кровь, слезы и лавры
Генрих Карл Штейн был министром Пруссии.
– Мы, немцы, – говорил он, – давно чего-то жаждем, но, чтобы утолить жажду, осуждены глотать собственные слезы. Я боюсь не за Пруссию – я давно страдаю за всю Германию!
В канун своего позора Берлин оставался слишком заносчив. Кухарки выбивали стекла в здании посольства Наполеона, а самоуверенный (но еще не знаменитый) генерал Блюхер нахально затачивал свою саблю на ступеньках того же посольства:
– Смерть французам! Наполеона утопим в Рейне…
Королева Луиза показывалась народу в костюме Орлеанской девственницы. А солдат – ради воодушевления – толпами, словно баранов, загоняли в королевский театр, чтобы они набрались мужества от просмотра шиллеровского «Валленштейна». Пасторы в храмах столицы открыто возвещали прихожанам:
– Наполеон еще не изведал силу Пруссии! К чему нам ружья? Достаточно шпицрутенов, чтобы гнать его генералов, вчерашних лавочников и сапожников. Одни лишь мы, пруссаки, имеем полководцев, живущих по заветам «старого Фрица»…
Наполеон одним взмахом уничтожил Пруссию при Йене, и в день погрома лишь три человека догадывались, в чем секрет его успехов, – это были Шарнгорст и Гнейзенау, а с ними и молодой Клаузевиц, любимый ученик Шарнгорста. Зато вот пылкий Блюхер, угодивший в плен, еще ничего не понимал:
– Французы для меня хуже пьяных лягушек. Как эти лягушки смогли повалить могучего прусского буйвола?..
Наполеон сознательно унижал Пруссию; во дворце Сан-Суси он забрал для себя кабинетные часы «старого Фрица».
– Вы уже достаточно ими полюбовались, – беспардонно заявил он немцам. – Теперь эти часы короля Фридриха Великого станут отсчитывать новое время – время моего величия…
Пруссия, жившая славой былых побед, считалась в Европе самой непобедимой, и тем страшнее были бедствия пруссаков. Наполеон превратил побежденных в поставщиков денег и продовольствия для армии Франции, со смехом он признавал:
– Кажется, я выжал из них целый миллиард…
Им руководила непомерная жадность к господству над всеми европейцами, желание превратить их в рукоплещущие ему толпы и чтобы никто не смел сомневаться в его гениальном величии. «Подчинись мне, или ты будешь мною растоптан!» – таков был основной девиз его оккупационной политики.
Реформы по оживлению гнилого прусского организма проводил министр Штейн; давний выученик Геттингена и поклонник Адама Смита, он считал, что «государство не может процветать, если в нем обездолена личность человека…».
– Человек и государство едины, составляя общее целое. Но без слияния народа с правительством, – доказывал Штейн, – невозможно существование никакого государства.
Все это было слишком ново для жителей Пруссии, издавна приученных надеяться, что за них думают короли.
– Армия, – предупреждал Штейн, – это тот же народ, и армия не имеет права быть игрушкой в руках королей…
Рассуждая так, министр не питал никаких иллюзий относительно патриотизма прусского юнкерства:
– Что можно ожидать от породы племенных скотов, выведенных в хлевах династии Гогенцоллернов! Бессердечные, полуграмотные люди, они способны быть только капралами в казармах или крохоборами в своих помещичьих фольварках.
Юнкера платили Штейну той же монетой.
– Лучше, – говорили они, – пережить еще два разгрома при Йене, нежели облизывать мед с бритвы Штейна. Мы скорее поладим с интендантами-обиралами Наполеона, чем с министром, выпускающим на волю наших крестьян…
В декабре 1808 года появился декрет Наполеона: «Некий Штейн, занимающийся в Германии возмущением смут, объявляется врагом Франции… владения (Штейна) подлежат секвестру. Лично помянутый мною Штейн, где бы он ни был настигнут войсками нашими или наших союзников, подлежит заарестованию».
– Передайте в Берлин, – наказал император. – Сен-Марсан не вручит королю верительных грамот, пока Штейн не будет изгнан из Пруссии, и дайте понять моему послу, что мне желательно получить Штейна живьем. Я его расстреляю…
Когда такое начало я прочел своему приятелю, он сказал, чтобы я не связывался с «фон-унд-цум» Штейном:
– Ну, допустим, я его немножко знаю. А… другие? Из истории освободительной войны 1813 года у нас давно известны лишь имена Блюхера, Клаузевица, Шарнгорста и Гнейзенау. Но, помилуй, кто из наших читателей слыхал о Штейне?
На это я отвечал, что почти все перечисленные имена, столь громкие в немецкой истории, позже были отчеканены на броне кайзеровских и гитлеровских крейсеров (как императоры, так и нацисты старались подчеркнуть свою мнимую причастность к героям-патриотам старой Германии).
– Но заметил ли ты, – сказал я приятелю, – что имя Штейна не засияло на бортах крейсеров и дредноутов. Ни кайзеры, ни фюреры не желали связывать себя с его личностью, ибо популярность Штейна всегда казалась слишком опасной. Нам иногда нелегко осмыслить все трагическое величие этого человека, которого поняли лишь немецкие демократы.
– Тогда продолжай, – согласился приятель…
Я продолжаю. Германия была разрознена, а вечная вражда между Австрией и Пруссией усиливала немецкую разобщенность. Монахи, епископы и всякие фюрсты не могли возглавить народы в борьбе с Наполеоном: напротив, они, словно жалкие побирушки, гурьбою толпились в передних «корсиканца», вымаливая у него земли за счет соседей, денежные дотации за счет своих же ограбленных подданных, они умоляли деспота о пенсиях и орденах… Штейн именовал князей Германии «мелюзгой» и «сволочью». В это безотрадное время немецкая профессура возрождала угасший патриотизм немцев комментариями к старинным легендам Рейна или сказкам Одера, а посему Штейн не очень-то доверял и тогдашней германской учености:
– Наши мыслители очень далеки от жизни народа, их мудрость давно не в ладах с обычным человеческим здравомыслием. Философия словно нарочно выискивает такие точки зрения на вещи, с каких на эти же вещи никогда не смотрит нормальный человек, ежедневно озабоченный добыванием куска хлеба насущного… Что касается нашей литературы, то я не вижу пользы от ее высокопарных фантазий. Нужна простецкая песня о любви к родине!
Великий философ Гегель уж нарек Наполеона «мировым духом верхом на коне», а великий поэт Гете с поклоном принял орден Почетного легиона от человека, разорившего его Веймар. Германский романтизм витал в заоблачных грезах, боясь спуститься на землю, обильно унавоженную массовыми рейдами непобедимой мюратовской кавалерии. Прусский король Фридрих-Вильгельм III, это жалкое подобие властелина, пресмыкался перед Наполеоном, внушая своим генералам и министрам: «С ним лучше не спорить, ему не стоит и возражать, ибо Наполеон – гений». В это время только одна захудалая Испания геройски погибла в пламени и руинах Сарагосы, да еще на востоке, незаметно и без лишнего шума, Россия накапливала силы для решающей битвы с удачливым узурпатором…
Пятого января 1809 года французский посол граф Сен-Марсан втайне повидался с голландским послом в Берлине:
– Вы, конечно, знакомы с декретом Наполеона, требующего ареста Штейна. Я боюсь встречаться со Штейном, ибо за мною тоже следят из Парижа, но вам это легче. Предупредите Штейна, чтобы он немедленно скрылся. Мне известно, что его сестра уже арестована и вывезена в Париж для допросов.
– Чем же Штейн вызвал гнев вашего императора?
– Шпионы перехватили его письмо, из которого Наполеон уяснил, что гражданские реформы Штейна, как и военные, скоро возродят Пруссию для борьбы с ним. По мнению Штейна, если Пруссию не смогла спасти королевская армия, теперь ее спасет народное ополчение – ландвер и ландштурм…
Предупрежденный об опасности, Штейн не слишком-то верил в благородство своего олуха-короля:
– Этому трусу ничего не стоит выдать своего же министра в дикастерию палача Фуше… Надо бежать! – сказал Штейн жене, прощаясь с нею. – Берега Швеции или Англии для меня сейчас недоступны, но еще остались владения Габсбургов…
Однако на пути к Вене его остановил указ императора Франца: «Поставьте на вид барону Штейну, чтоб он, если желает иметь пребывание в моих владениях, поселился в Брюнне и вел бы себя там скромно, иначе будет удален из страны».
– Человек, лишенный отечества, поневоле становится отбросом общества, – трезво рассуждал Штейн…
Да! Если в Пруссии народ расступался перед ним, в знак почитания снимая шляпы, то здесь, в зловещей империи Габсбургов, Штейна сторонились, словно он был проклят. С ним боялись даже разговаривать. Но уже восстали тирольцы, потомки Вильгельма Телля, а весною началась новая война. Наполеон в битве при Ваграме уничтожил войска Австрии, и Штейну, чтобы его не схватили французы, пришлось спасаться в силезском Троппау. Именно в этом городе возникла его дружба с молодым русским дипломатом Сергеем Уваровым (книга которого о Штейне была напечатана в нашей стране в 1846 году).
– Я убежден, – говорил ему Штейн, – что с Наполеоном, порожденным из чрева революции, возможна борьба лишь революционными методами: алмаз режут только алмазом! Наполеон никогда не боялся свергать монархов, он привык побеждать их армии, но Испания уже доказала: народ способен его побеждать…
Император Франц подписал в Шёнбрунне унизительный для Австрии мир, отдав Наполеону не только земли славян, но уступив для его вожделений и свою юную дочь – Марию-Луизу.
– Вот вам, – посмеивался Штейн, – еще одно доказательство, что на монархов не стоит рассчитывать. Они согласны расплачиваться с насильником даже натурой от собственной плоти… Что мы, Уваров, наблюдаем сейчас в Германии? Правителей без силы, министров без воли, а народы без права мнения…
Очевидно, до ушей Меттерниха дошли его диатрибы, и он указал изгнаннику поселиться в провинции, где поставил его под надзор полиции. Штейн вырвался в Прагу, откуда и возмущал всех немцев к борьбе своими посланиями. «Письма Штейна почитались тогда в Германии за сокровище… Где только таилась ненависть к Наполеону и где еще теплились надежды на лучшие времена, там поминалась и личность Штейна – сурового, упорного, пламенного и неподкупного носителя освободительных идеалов». Штейн умел предвидеть развитие событий:
– Наполеону кажется, что он катит колесо истории. Но он еще не знает, что это колесо скоро переедет через него и раздавит императора, как червяка посреди дороги… Идеи французской революции принадлежат не только французам, но и другим нациям тоже: корсиканский хищник погибнет, когда эти же идеи обратятся против бонапартистской деспотии!
Наполеон, ослепленный успехами, уже вошел в «семью монархов» Европы, став зятем Габсбурга, а Меттерних соглашался выделить австрийские войска для совместного похода против русских. Штейн с гневом писал, что Вена «послушно шла на поводу у новейшего Тамерлана, боготворящего собственное себялюбие и растаптывающего в грязи все человечество».
Но скоро и король Пруссии вступил в преступный альянс с Францией, причем Наполеон строго предупредил его:
– Если вы осмелитесь уповать на Россию, я нашлю на Берлин сто пятьдесят тысяч едоков с отличным аппетитом, которые будут жрать за ваш же счет по рыночным ценам все самое жирное и самое вкусное, и тогда я посмотрю, что станется от берлинцев и от вашего, король, бюджета…
Шарнгорст был удален из генштаба, Гнейзенау бежал из Пруссии, Фридрих-Вильгельм III обещал Наполеону дать корпус генерала Йорка, и Наполеон милостиво принял его холуйские услуги. До нас дошли слова Штейна: «Пруссия сама предала себя в руки врага, и уж, конечно, не с верхов Германии можно ожидать энергичных импульсов к свободе, когда на ее престолах восседают подобные ничтожества…»
Штейн всегда испытывал презрение к венценосцам:
– Король позволил Наполеону сделать из Пруссии «проходной двор», и через этот «двор» Наполеон выводит свои армии прямо к рубежам России. Я верю лишь в демоническую силу народного сопротивления. Отныне, – возвещал Штейн, – мое отечество будет там, где живут честные люди – или ведущие войну с Наполеоном, или те, кому он угрожает войной…
Такой страной была для него Россия, и не только для него. Весною 1812 года русскую границу перешел прусский подполковник Карл Клаузевиц и сдал на форпостах свою шпагу:
– Если бы я остался верен присяге королю, я под знаменами Наполеона уже шагал бы сейчас в рядах его армии – против вас! Но я сознательно изменил королю и присяге, чтобы заодно с вами сражаться против Наполеона…
Блюхер, сидя пока что дома, оттачивал саблю.
– Пусть этот парень с Корсики лезет и дальше, – говорил Блюхер, – вряд ли у него башка крепче моей!
Наполеон собрал против России несметные силы почти всего европейского континента, и он уже не скрывал: «Через год я стану властелином всего мира…» Французы терялись в хаосе вассальных саксонцев, баварцев, гессенцев, вестфальцев, ганноверцев и прочих немцев, входящих в состав его «Великой армии». Эта голодная немецкая саранча, проходя через союзную Пруссию, устроила своим же союзникам такой погром, такой грабеж, какого пруссаки не изведали даже от французов после Йены… Немец грабил немца, немец бил морду немцу, немец позорил жену немца же! Немец был врагом немца. Недаром немецкий поэт-патриот Мориц Арндт с горечью вопрошал Германию:
- Где родина немца? Кто знает, кто знает?
- Кто в Пруссии или в Баварии кто проживает?
- Над кем в Померании чайки рыдают?
- Для кого же на Рейне виноград созревает?
- Где родина немца? Кто знает, кто знает?
Главная квартира русской армии находилась тогда в Вильне, а все дороги Европы забили войска и обозы наполеоновских полчищ, медленно и грозно сползавшихся к рубежам России. Штейну пришлось избрать кружной путь – через Галицию. На постоялых дворах и в сельских трактирах Штейн не раз слышал разговоры о том, что русские, конечно же, не устоят перед гигантской коалицией всех армий Европы… Штейн только фыркал:
– Глупцы! Всем немцам и во все времена предстоит свято помнить, что Германия еще никогда не спасала Россию, но Россия спасет Германию, она спасет и Европу…
В пути Штейн встречал русские войска, по ночам разгорались костры солдатских бивуаков. Россия подтягивала к границам свои резервы, но они показались Штейну слабыми.
– Спору нет, положение бедственно! – здраво рассуждал он. – Если русские набрали полтораста тысяч штыков, то у корсиканца их шестьсот сорок тысяч. Наполеон имеет на полмиллиона солдат больше… Бедная Россия! Наверное, я просто не извещен, какие ресурсы еще таятся в ее темных лесных безднах…
Двенадцатого июня 1812 года Штейн прибыл в Вильну и сразу был принят Александром I, который вскинул лорнет к глазам.
– Рад видеть вас у себя, – сказал император. – Помнится, в Тильзите я просил вашего короля, чтобы он уступил мне вас для службы в России, но вы тогда сами отказались.
– Да, ваше величество, – поклонился Штейн. – Я отказываюсь и сейчас, ибо посты в Русском государстве пусть занимают только русские люди, а я приехал как немец, чтобы с помощью могучей России бороться за свободу Германии.
– Я вправе обидеться на вашего короля, – заметил царь. – За все доброе, что я для него сделал, он отплатил России союзом с Наполеоном, и теперь в армии маршала Макдональда, обязанной захватить Ригу, будет присутствовать и прусский корпус генерала Йорка… Что вы о нем знаете?
Штейн сказал, что генерал Йорк не пруссак:
– Он из славянского племени кашубов; как все кашубы, Йорк упрям и злопамятен. Это очень буйная голова! Он еще при «старом Фрице» сидел в тюрьме за непослушание, бежал в Индию, сражался на Цейлоне и при Мадрасе… Думаю, мне удастся оторвать корпус Йорка от армии французов. Уверен, – продолжал Штейн, – что среди многотысячной армии немцев, направленных их властелинами против России, немало и честных людей… Хорошо, если бы Россия заранее озаботилась размещением пленных и перебежчиков, которые сразу побросают оружие…
Немецкий коммунист Александр Абуш, автор книги «Ложный путь одной нации», писал о Штейне: «В этом крепком, приземистом человеке, уроженце Нассау, бунтарски противостоящем королям, князьям и величайшему завоевателю своего времени (Наполеону), было, по свидетельству современников, что-то даже демоническое». Штейн умел подчинять себе монархов.
– Что вы предлагаете? – спросил его царь.
– Россия должна иметь Немецкий комитет, работающий на благо свободы в Германии; я желаю, чтобы в рядах вашей армии сражался и Немецкий легион, который заодно с русскими начнет освобождение не только Пруссии, но и всей Германии…
Немецкий комитет Штейна явился прообразом того национального комитета «Свободная Германия», какой через сто тридцать лет возник в Москве из числа своих единоплеменников: «Вы, которых завоеватель погнал в Россию, покидайте знамена рабства, собирайтесь под знамена отечества, свободы и национальной чести…» В своих воззваниях он проклинал слабость немецких правителей, но Александр вычеркивал эти слова:
– Не будем рвать волосы с голов монархов…
Шефом Немецкого комитета царь сделал герцога Ольденбургского, изгнанного из своих владений Наполеоном и теперь сидевшего на русских хлебах. Штейн жаловался Уварову:
– Этот балбес мечтает на спинах русских солдат вернуться в свои ольденбургские поместья. Мне трудно иметь дело с дураком, который любит читать всем русским нудные лекции о благородстве герцогов Ольденбургского дома…
Герцог был против создания Немецкого легиона:
– Штейн, вы призываете немцев отказаться от присяги их королям, ваши проекты таят в себе пагубный дух революций, они разрушают основные принципы легитимизма. Неужели вы мыслите, что немцы способны действовать без нас? Все, что ни делается в Германии, все делается по почину германских князей.
Штейн отвечал, что князья – это позор Германии:
– Я сначала научу вас выкинуть из головы бред о том, будто мир сотворен Богом только для вас. И не вы поведете за собой народы, а сами потащитесь в хвосте у народов. Грош мне цена, – зло выговорил Штейн, – если бы я служил вашим сиятельным коронам. Если я чего-либо еще и стою, так только потому, что служу всем немцам несчастной Германии…
Дело было уже в Петербурге. Александр особым «мемуаром» подтвердил правомочность Штейна, для которого общность интересов немецкой нации важнее обособленных желаний германских королей, принцев, епископов и герцогов.
Штейн ожидал приезда поэта Морица Арндта:
– У него зычный, как полковая труба, голос мейстерзингера, который и пропоет для немцев сигнал, зовущий к свержению тиранов! Арндт не станет ковыряться в дебрях мифологии. Этот парень с острова Рюген умеет говорить площадным языком, каким говорили с немцами Ульрих фон Гуттен и Томас Мюнцер…
Был конец августа, когда поэт Мориц Арндт, для маскировки переодетый купцом, прибыл из Праги в Петербург и сразу же приехал к Демуту, в номерах которого проживал Штейн. Штейна он застал среди русский друзей – Сергея Уварова, агронома Федора Шуберта и мореплавателя Крузенштерна.
– О, вот и вы! – обрадовался Штейн. – Садитесь и пишите. Пишите лишь то, о чем кричит душа и скорбит сердце…
Из-под пера Арндта родился «Soldaten Katechismus» («Солдатский катехизис»), в котором поэт обращался к немецким солдатам, шагавшим по горящей русской земле:
«Вы полагаете, что, принеся присягу знамени какого-либо короля, должны слепо выполнять все, что он вам ни прикажет. Значит, вы почитаете себя не людьми, а глупыми скотами, которых можно гнать, куда королям угодно… Истинная солдатская честь заключается в том, что никакая сила и никакая власть не могут принудить благородного и свободного человека творить несправедливые дела… Германская солдатская честь – это когда солдат чувствует, что он, прежде чем стать подданным германских королей, был сыном германской нации, когда он внутренне ощущает, что Германия и ее народ – БЕССМЕРТНЫ, а его господа, все короли с их честью и позором, – лишь ВРЕМЕННЫ…»
В первые дни грозного 1941 года «Солдатский катехизис» поэта Арндта помог нашим пропагандистам в трудной борьбе с идеологией Геббельса. Но вчитайтесь еще раз в слова Арндта, и вам невольно вспомнятся известные слова: «Гитлеры приходят и уходят, а Германия, а немецкий народ остается…»
Штейн клал горячую руку на плечо Морица Арндта:
– Мы трудимся ради лучшего будущего! Сейчас самая простецкая песня о родине, которую станут распевать в казармах или в трактирах за кружкою пива, значит для Германии гораздо больше, нежели все ходульные драмы Шиллера и Клейста…
Они засылали Германию листовками, прокламациями, песнями и стихами, зовущими к борьбе за свободу, они призывали всех немцев повиноваться едино лишь голосу совести.
– Не будем забывать об Йорке, – часто напоминал Штейн…
Наполеону было доложено, что многие немцы перешли на сторону русской армии, императора охватила ярость.
– До чего же этот коварный византиец Александр любит возиться со всякой продажной сволочью! Но я жалею… да, мне очень жаль, что мерзавец Штейн не попался мне годом раньше. Ах, как мне хочется его расстрелять!..
Воспоминания Морица Арндта о России в 1812 году были переведены на русский язык лишь в 1871 году. Русские мемуаристы еще раньше запечатлели облик и разговоры Штейна, общение с которым было делом нелегким. Его высокий подвижный ум требовал от собеседника полной душевной отдачи, большой образованности и немалого красноречия. Штейн не терпел фальши и пустого фразерства, уважая в людях только прямоту характера и веру в конечную победу. Сам же он никогда не мыслил шаблонами, авторитетов для него не существовало… Когда горела Москва, в столичном обществе возникла растерянность, аристократы гадали, куда им бежать – в Оренбург или в Олонец, но Штейн в эти дни спокойно завтракал у Демута, говоря Арндту:
– Решают эту войну не царь, не аристократ, а русские люди! Зарево горящей Москвы стоит, пожалуй, десяти испанских Сарагос, в дыму московского пожарища навсегда погасло для Наполеона волшебное солнце Аустерлица…
Иначе думали политики Европы! Наполеон уже покинул Москву, но австрийский канцлер Меттерних еще не верил в победу России, даже бегство императора в Париж не отрезвило его:
– Согласен, что Франция изнурена до предела, но ведь и армия Кутузова едва дотащила ноги до Немана; этот рубеж – последний шаг варваров к Европе, а в отступлении Наполеона из Москвы я усматриваю лишь хитрейший маневр гения, который скоро и окончательно погубит проклятую Россию…
В светских гостиных Петербурга Штейн рассуждал:
– Наполеон – это порочная смесь Талейрана с Жильблазом, но самое главное в его натуре… пошлость! Она блистательно сказалась еще в Египте, где он бросил всю армию ради спасения своей персоны, эта пошлость подтвердилась и в России, где он предельно выразил озабоченность о сохранении своей драгоценной шкуры… Вообще, – заключил Штейн, – Наполеон всегда был непревзойденным канальей!
В эти дни он был приглашен на обед к императрице Марии Федоровне, матери царя, урожденной принцессе Вюртембергской; радуясь, что теперь ей не надо бежать в Олонец или Оренбург, эта глупая матрона стала рукоплескать – со словами:
– Если хоть один француз выберется живым из России или пределов германских, я буду стыдиться называть себя немкой.
– Ваше величество, – вдруг поднялся над столом Штейн, разгневанный, – вы должны бы стыдиться не своего народа, а своих же братьев и племянников, которые давно продали свой народ и потащились вслед за Наполеоном против своей же родины – Германии и пошли против России, которая вас приютила…
Так разговаривать с монархами умел только Штейн!
Десятого ноября зима пришла в Петербург обильным снегопадом. Французы спасались бегством в сторону Вильны и Пруссии. «Наступает время, – писал Штейн, – когда моему народу следует подняться ради свободы. Пора показать миру, что не мы, немцы Германии, а немецкие монархи добровольно склоняли свои выи под чужестранным ярмом…» В декабре маршал Макдональд начал отводить французские войска из-под Риги, его прикрывал с тыла прусский корпус генерала Йорка. Была сильная метель, а на дорогах – гололедица, лошади совсем выбились из сил, волоча в постромках пушки и зарядные фуры.
Майор Антон фон Зейдлиц, адъютант Йорка, вдруг стал трясти своего генерала за рукав шубы:
– Не спите… впереди – русские! Вон-вон, вон они…
Навстречу им выехали всадники в добротных бекешах, один из них назвался генералом Иваном Дибичем:
– Стойте, генерал Йорк! Я буду говорить с вами начистоту. У вас, я знаю, хватит сил обрушить мои слабые войска, чтобы пробиться к Тильзиту, но… Подумайте о судьбе Пруссии!
Подле русского генерала – в свистящих полосах метели – маячила конная фигура прусского офицера.
– Кто рядом с вами? – крикнул Йорк из седла.
– Это я… Клаузевиц! – донеслось в ответ.
– А, черт побери! Вы уже спелись с врагами?
Пришпоренная лошадь вынесла Клаузевица вперед:
– Я сражаюсь заодно с русскими за свободу Германии, а за кого сражаетесь вы, генерал Йорк?
– Об этом стоит подумать, – отвечал Йорк и долго думал. – А если я опрокину вас всех к чертям? – вдруг крикнул он.
Но Дибич нагайкою указал на свою артиллерию:
– Видите пушки? Мы будем биться насмерть… Если кто из вас и доберется до Кенигсберга, так только на костылях.
– Не лучше ли войти в Пруссию с миром? – вопросил Клаузевиц. – Не лучше ли сразу решить, кто прав, кто виноват?..
На старой Пошерунской мельнице, что скрипела под ветром в окрестностях Таурогена (ныне это литовский городок Таураге), была подписана Таурогенская конвенция, решавшая судьбу Пруссии и будущее всей Германии. Йорк официально объявил о разрыве его корпуса с армией Наполеона. Началось братание вчерашних врагов – русских с пруссаками. Немецкий историк-марксист Франц Меринг писал по этому поводу: «Клаузевиц, вообще плохо относившийся к Йорку, называет Таурогенское соглашение самым смелым действием, имевшим место когда-либо в истории… Это и дало повод Фридриху Кеппену, другу юности Карла Маркса, назвать «предательство» Йорка формально классическим деянием».
Но король Пруссии был перепуган, он прислал Йорку письмо-приказ, в котором невозможно докопаться до истины: «Поступать по обстоятельствам. Наполеон – гений. Не выходить из границ». Однако, судя по письму, он из границ разума вышел:
– Что скажет теперь император французов о моей чести? Йорк стал изменником, а Наполеон не простит мне измены… Арестовать Йорка! Предать суду! Казнить предателя!
Узнав об этом. Штейн радостно потирал руки.
– Ну, Арндт! Наш час пробил. Пришло время заявить устами Арминия: «Ненависть – наш долг, а мщение – наша добродетель». Собирайте манатки – нас ждет свободная Германия…
Через Пруссию тащились жалкие остатки «Великой армии»: солдаты Наполеона, кутавшиеся в женские шубы и ризы священников, были встречены на улицах Берлина песнями немцев:
- Барабанщик, где твой барабан?
- Кирасир натянул сарафан,
- Разбито войско в пух и прах —
- Убирайся домой, вертопрах!
Десятого января Йорк отбросил последние колебания и сам предложил России действовать сообща; фельдмаршал Кутузов-Смоленский отвечал Йорку согласием. 16 января Штейн был уже в Сувалках, где и пересек границу Пруссии: ему предстояла встреча с Йорком, надо было сразу наладить снабжение русской армии за счет местных ресурсов… Александр еще сомневался:
– Что может сделать генерал Йорк как губернатор Восточной Пруссии, если король дал ему отставку?
– В чем дело? – отвечал Штейн. – Если король убежал в Бреславль, будем считать, что центральной власти не существует, народ управится и без короля…
Население Пруссии уже потребовало от короля скорее заключить союз с Россией, но король отмалчивался, подавленный величием корсиканского «гения». Штейн громил его: «Кто не желает разделить с народом счастия и несчастия, бедствия и жертвы, тот недостоин жить среди нас и, как малодушный негодяй, подлежит или изгнанию, или истреблению!»
Йорк был возмущен дерзостью подобных речей:
– Не слишком ли вы далёко зашли, Штейн?
– В пределах разумного, генерал… не дальше вас! Если народ сказал свое «да», почему король повторяет «нет»?
Партизанский отряд Чернышева и прусская кавалерия майора Теттенборна уже переправились через Одер; горел Кюстрин, полыхало пламя в Шпандау, а перед ними лежала столица. Но пока на одном конце Берлина немцы чествовали русских, на другой окраине Берлина полиция расстреляла немцев, которые приветствовали казаков. Скоро русские окончательно заняли Берлин, нагоняя гарнизон французов. Немецкий журнал «Дас нойе Дойчланд» информировал Германию: «С утра на Дворцовой площади были поставлены телеги, наполненные хлебом, селедкой и водкой. Каждый русский мог там попотчеваться… «Русс и прусс – братья!» – говорили казаки, и многие из пришельцев с далекого Дона прикололи на себя прусские кокарды… Как много слез самой искренней радости, как много было пылких восклицаний: «Слава Богу, мы снова стали свободны!» Ни один русский не посмел войти в дом берлинца, дабы не тревожить покой обывателей. Русские спали прямо на мостовых Берлина, возле своих усталых лошадей. Зато в эту ночь, первую ночь свободы, берлинцы даже не закрывали квартирных дверей, впервые за много лет почивали спокойно. Утром все жители вышли на улицы с кастрюлями и кофейниками, чтобы кормить своих освободителей… Демагогам кайзеровской и фашистской Германии позже пришлось употребить немало чернил, дабы замазать в мемуарах и документах 1813 года эти страницы о горячей дружбе немцев и русских!