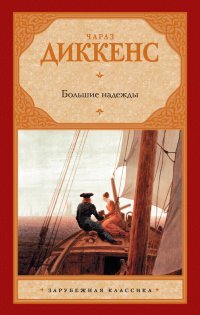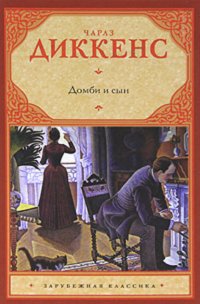
Читать онлайн Домби и сын бесплатно
- Все книги автора: Чарльз Диккенс
Глава I
Домби и сын
Домби сидел в углу затемненной комнаты в большом кресле у кровати, а Сын лежал тепло укутанный в плетеной колыбельке, заботливо поставленной на низкую кушетку перед самым камином и вплотную к нему, словно по природе своей он был сходен со сдобной булочкой и надлежало хорошенько его подрумянить, покуда он только что испечен.
Домби было около сорока восьми лет. Сыну около сорока восьми минут. Домби был лысоват, красноват и хотя был красивым, хорошо сложенным мужчиной, но имел слишком суровый и напыщенный вид, чтобы располагать к себе. Сын был очень лыс и очень красен и, хотя был (разумеется) прелестным младенцем, казался слегка измятым и пятнистым. Время и его сестра Забота оставили на челе Домби кое-какие следы, как на дереве, которое должно быть своевременно срублено, – безжалостны эти близнецы, разгуливающие по своим лесам среди смертных, делая мимоходом зарубки, – тогда как лицо Сына было иссечено вдоль и поперек тысячью морщинок, которые то же предательское Время будет с наслаждением стирать и разглаживать тупым краем своей косы, приготовляя поверхность для более глубоких своих операций.
Домби, радуясь долгожданному событию, позвякивал массивной золотой цепочкой от часов, видневшейся из-под его безукоризненного синего сюртука, на котором фосфорически поблескивали пуговицы в тусклых лучах, падавших издали от камина. Сын сжал кулачки, как будто грозил по мере своих слабых сил жизни за то, что она настигла его столь неожиданно.
– Миссис Домби, – сказал мистер Домби, – фирма снова будет не только по названию, но и фактически Домби и Сын. Домби и Сын!
Эти слова подействовали столь умиротворяюще, что он присовокупил ласкательный эпитет к имени миссис Домби (впрочем, не без колебаний, ибо не имел привычки к такой форме обращения) и сказал: «Миссис Домби, моя… моя милая».
Вспыхнувший на миг румянец, вызванный легким удивлением, залил лицо больной леди, когда она подняла на него глаза.
– При крещении, конечно, ему будет дано имя Поль, моя… миссис Домби.
Она слабо отозвалась: «Конечно», или, вернее, прошептала это слово, едва шевеля губами, и снова закрыла глаза.
– Имя его отца, миссис Домби, и его деда! Хотел бы я, чтобы его дед дожил до этого дня!
И снова он повторил «Домби и Сын» точь-в-точь таким же тоном, как и раньше.
В этих трех словах заключался смысл всей жизни мистера Домби. Земля была создана для Домби и Сына, дабы они могли вести на ней торговые дела, а солнце и луна были созданы, чтобы озарять их своим светом… Реки и моря были сотворены для плавания их судов; радуга сулила им хорошую погоду; ветер благоприятствовал или противился их предприятиям; звезды и планеты двигались по своим орбитам, дабы сохранить нерушимой систему, в центре коей были они. Обычные сокращения обрели новый смысл и относились только к ним: A. D. отнюдь не означало anno Domini[1], но символизировало anno Dombei[2] и Сына.
Он поднялся, как до него поднялся его отец, по закону жизни и смерти, от Сына до Домби, и почти двадцать лет был единственным представителем фирмы. Из этих двадцати лет он был женат десять – женат, как утверждал кое-кто, на леди, не отдавшей ему своего сердца, на леди, чье счастье осталось в прошлом и которая удовольствовалась тем, что заставила свой сломленный дух примириться, почтительно и покорно, с настоящим. Такие пустые слухи вряд ли могли дойти до мистера Домби, которого они близко касались, и, пожалуй, никто на свете не отнесся бы к ним с большим недоверием, чем он, буде они дошли бы до него. Домби и Сын часто имели дело с кожей, но никогда – с сердцем. Этот модный товар они предоставляли мальчишкам и девчонкам, пансионам и книгам. Мистер Домби рассудил бы, что брачный союз с ним должен, по природе вещей, быть приятным и почетным для любой женщины, наделенной здравым смыслом; что надежда дать жизнь новому компаньону такой фирмы не может не пробуждать сладостного и волнующего честолюбия в груди наименее честолюбивой представительницы слабого пола; что миссис Домби подписывала брачный договор – акт почти неизбежный в семьях благородных и богатых, не говоря уже о необходимости сохранить название фирмы, – отнюдь не закрывая глаз на эти преимущества; что миссис Домби ежедневно узнавала на опыте, какое положение он занимает в обществе; что миссис Домби всегда сидела во главе его стола и исполняла в его доме обязанности хозяйки весьма прилично и благопристойно; что миссис Домби должна быть счастлива; что иначе быть не может.
Впрочем, с одной оговоркой. Да. Ее он готов был принять. С одной-единственной; но она несомненно заключала в себе многое. Они были женаты десять лет, и вплоть до сегодняшнего дня, когда мистер Домби, позвякивая массивной золотой цепочкой от часов, сидел в большом кресле у кровати, у них не было потомства… о котором стоило бы говорить, никого, кто был бы достоин упоминания. Лет шесть назад у них родилась дочь, и вот сейчас девочка, незаметно пробравшаяся в спальню, робко жалась в углу, откуда ей видно было лицо матери. Но что такое девочка для Домби и Сына? В капитале, коим являлись название и честь фирмы, этот ребенок был фальшивой монетой, которую нельзя вложить в дело, – мальчиком ни на что не годным, – и только.
Но в этот момент чаша радости мистера Домби была так полна, что он почувствовал желание уделить одну-две капли ее содержимого даже для того, чтобы окропить пыль на заброшенной тропе своей маленькой дочери.
Поэтому он сказал:
– Пожалуй, Флоренс, ты можешь, если хочешь, подойти и посмотреть на своего славного братца. Не дотрагивайся до него.
Девочка пристально взглянула на синий фрак и жесткий белый галстук, которые, вместе с парой скрипящих башмаков и очень громко тикающими часами, воплощали ее представление об отце; но глаза ее тотчас же обратились снова к лицу матери, и она не шевельнулась и не ответила.
Через секунду леди открыла глаза и увидела девочку, и девочка бросилась к ней и, поднявшись на цыпочки, чтобы спрятать лицо у нее на груди, прильнула к матери с каким-то страстным отчаянием, отнюдь не свойственным ее возрасту.
– Ах, Боже мой! – с раздражением сказал мистер Домби, вставая. – Право же, ты очень неблагоразумна и опрометчива. Пожалуй, следует обратиться к доктору Пепсу, не будет ли он так любезен еще раз подняться сюда. Я пойду. Мне незачем просить вас, – добавил он, задерживаясь на секунду возле кушетки перед камином, – проявить сугубую заботу об этом юном джентльмене, миссис…
– Блокит, сэр? – подсказала сиделка, приторная увядшая особа с аристократическими замашками, которая не решилась объявить свое имя как непреложный факт и только назвала его в виде смиренной догадки.
– Об этом юном джентльмене, миссис Блокит.
– Да, конечно. Помню, когда родилась мисс Флоренс…
– Да, да, да, – сказал мистер Домби, наклоняясь над плетеной колыбелькой и в то же время слегка сдвигая брови. – Что касается мисс Флоренс, то все это прекрасно, но сейчас другое дело. Этому юному джентльмену предстоит выполнить свое назначение. Назначение, мальчуган! – После такого неожиданного обращения к младенцу он поднес его ручку к своим губам и поцеловал ее; затем, опасаясь, по-видимому, что этот жест может умалить его достоинство, удалился в некотором замешательстве.
Доктор Паркер Пепс, один из придворных врачей и человек, пользовавшийся великой славой за помощь, оказываемую им при увеличении аристократических семейств, шагал, заложив руки за спину, по гостиной, к невыразимому восхищению домашнего врача, который последние полтора месяца разглагольствовал среди своих пациентов, друзей и знакомых о предстоящем событии, по случаю коего ожидал с часа на час, днем и ночью, что его призовут вместе с доктором Паркером Пепсом.
– Ну, сэр, – сказал доктор Паркер Пепс низким, глубоким, звучным голосом, приглушенным по случаю события, как закутанный дверной молоток, – находите ли вы, что ваше посещение подбодрило вашу милую супругу?
– Так сказать, стимулировало, – тихо добавил домашний врач, кланяясь в то же время доктору и как бы говоря: «Простите, что я вставил словечко, но это ценное добавление».
Мистер Домби был совершенно сбит с толку вопросом. Он так мало думал о больной, что не в состоянии был на него ответить. Он сказал, что ему доставило бы удовольствие, если бы доктор Паркер Пепс согласился еще раз подняться наверх.
– Прекрасно. Мы не должны скрывать от вас, сэр, – произнес доктор Паркер Пепс, – что заметен некоторый упадок сил у ее светлости герцогини… прошу прощения: я путаю имена… я хотел сказать – у вашей любезной супруги. Заметна некоторая слабость и вообще отсутствие жизнерадостности, которые нам желательно было бы… не…
– Наблюдать, – подсказал домашний врач, снова наклоняя голову.
– Вот именно! – произнес доктор Паркер Пепс. – Которые нам желательно было бы не наблюдать. Обнаруживается, что организм леди Кенкеби… простите: я хотел сказать – миссис Домби, я путаю имена больных…
– Столь многочисленных, – прошептал домашний врач, – право же, нельзя ожидать… в противном случае это было бы чудом… практика доктора Паркера Пепса в Вест-Энде…
– Благодарю вас, – сказал доктор, – вот именно. Обнаруживается, говорю я, что организм нашей пациентки перенес потрясение, от которого он может оправиться только с помощью напряженного и упорного…
– И энергического, – прошептал домашний врач.
– Вот именно, – согласился доктор, – и энергического усилия. Мистер Пилкинс, здесь присутствующий, который, занимая положение медика-консультанта в этом семействе – не сомневаюсь, что нет человека, более достойного занимать это положение…
– О! – прошептал домашний врач. – Похвала сэра Хьюберта Стэнли![3]
– Очень любезно с вашей стороны, – отозвался доктор Паркер Пепс. – Мистер Пилкинс, который благодаря своему положению превосходно знает организм пациентки в нормальном его состоянии (знание весьма ценное для наших заключений при данных обстоятельствах), разделяет мое мнение, что в настоящем случае природе надлежит сделать энергическое усилие и что если наш очаровательный друг, графиня Домби – прошу прощения! – миссис Домби будет не…
– В состоянии, – подсказал домашний врач.
– Сделать надлежащее усилие, – продолжал доктор Паркер Пепс, – то может наступить кризис, о чем мы оба будем искренне сожалеть.
После этого они стояли несколько секунд с опущенными глазами. Затем по знаку, молча поданному доктором Паркером Пепсом, они отправились наверх, домашний врач открыл дверь перед знаменитым специалистом и последовал за ним с раболепнейшей учтивостью.
Утверждать, что мистер Домби не был по-своему опечален этим сообщением, значило бы отнестись к нему несправедливо. Он был не из тех, о ком можно с правом сказать, что этот человек бывал когда-нибудь испуган или потрясен; но несомненно он чувствовал, что, если жена заболеет и зачахнет, он будет очень огорчен и обнаружит среди своего столового серебра, мебели и прочих домашних вещей отсутствие некоего предмета, которым весьма стоило обладать и потеря коего не может не вызвать искреннего сожаления. Однако это было бы, разумеется, холодное, деловое, приличествующее джентльмену, сдержанное сожаление.
Его размышления на эту тему были прерваны сначала шорохом платья на лестнице, а затем внезапно ворвавшейся в комнату леди, скорее пожилой, чем юной, но одетой как молоденькая, в особенности если судить по туго затянутому корсету, которая, подбежав к нему, – что-то напряженное в ее лице и манерах свидетельствовало о сдержанном возбуждении, – обвила руками его шею и сказала, задыхаясь:
– Дорогой мой Поль! Он – вылитый Домби!
– Ну-ну! – отвечал брат, ибо мистер Домби был ее братом. – Я нахожу, что в нем действительно есть фамильные черты. Не волнуйтесь, Луиза.
– Это очень глупо с моей стороны, – сказала Луиза, садясь и вынимая носовой платок, – но он… он такой настоящий Домби! Я никогда в жизни не видела подобного сходства!
– Но как сама Фанни? – спросил мистер Домби. – Что с Фанни?
– Дорогой мой Поль, – отозвалась Луиза, – решительно ничего. Поверь мне – решительно ничего. Осталось, конечно, утомление, но ничего похожего на то, что испытала я с Джорджем или с Фредериком. Необходимо сделать усилие. Вот и все. Ах, если бы милая Фанни была Домби… Но, полагаю, она сделает это усилие; не сомневаюсь, она его сделает. Зная, что это требуется от нее во исполнение долга, она, конечно, сделает. Дорогой мой Поль, знаю, что с моей стороны очень слабохарактерно и глупо так дрожать и трепетать с головы до ног, но я чувствую такое головокружение, что принуждена попросить у вас рюмку вина и кусок вон того торта. Я думала, что вывалюсь из окна на лестнице, когда спускалась вниз, навестив милую Фанни и этого чудного ангелочка. – Последние слова были вызваны внезапным и ярким воспоминанием о младенце.
Вслед за ними раздался тихий стук в дверь.
– Миссис Чик, – произнес за дверью медоточивый женский голос, – милый друг, как вы себя чувствуете сейчас?
– Дорогой мой Поль, – тихо сказала Луиза, вставая, – это мисс Токс. Добрейшее создание! Не будь ее, я бы никогда не могла добраться сюда! Мисс Токс – мой брат, мистер Домби. Поль, дорогой мой, – это мой лучший друг, мисс Токс.
Леди, столь выразительно представленная, была долговязая, тощая и до крайности поблекшая особа; казалось, на нее не было отпущено первоначально то, что торговцы мануфактурой называют «стойкими красками», и она мало-помалу вылиняла. Не будь этого, ее можно было бы назвать ярчайшим образцом любезности и учтивости. От долгой привычки восторженно прислушиваться ко всему, что говорится при ней, и смотреть на говоривших так, словно она мысленно запечатлевает их образы в своей душе, дабы не расставаться с ними до конца жизни, голова у нее совсем склонилась к плечу. Руки обрели судорожную привычку подниматься сами собою в безотчетном восторге. Восторженным был и взгляд. Голос у нее был сладчайший, а на носу, чудовищно орлином, красовалась шишка в самом центре переносицы, откуда нос устремлялся вниз, как бы приняв нерушимое решение никогда и ни при каких обстоятельствах не задираться.
Платье мисс Токс, вполне элегантное и благопристойное, было, впрочем, несколько мешковато и убого. Она имела обыкновение украшать странными чахлыми цветочками шляпки и чепцы. Неведомые травы появлялись иной раз в ее волосах; и было отмечено любопытными, что у всех ее воротничков, оборочек, косынок, рукавчиков и прочих воздушных принадлежностей туалета – в сущности у всех вещей, какие она носила и какие имели два конца, коим надлежало соединиться, – эти два конца никогда не бывали в добром согласии и не желали сойтись без борьбы. Зимой она носила меха – пелерины, боа и муфты, – на которых волос неудержимо топорщился и никогда не бывал приглажен. У нее было пристрастье к небольшим ридикюлям с замочками, которые при защелкивании стреляли, словно маленькие пистолеты; и, нарядившись в парадное платье, она надевала на шею жалкий медальон, изображающий старый рыбий глаз, лишенный какого бы то ни было выражения. Эти и другие подобные же черточки способствовали распространению слухов, что мисс Токс, как говорится, леди с ограниченными средствами, при которых она изворачивается на все лады. Быть может, ее манера семенить ногами поддерживала это мнение и наводила на мысль, что рассечение обычного шага на два или на три объясняется ее привычкой из всего извлекать наибольшую выгоду.
– Уверяю вас, – сказала мисс Токс, делая изумительный реверанс, – что честь быть представленной мистеру Домби является наградой, которой я давно добивалась, но в данный момент никак не ожидала. Дорогая миссис Чик… смею ли назвать вас – Луиза?
Миссис Чик взяла мисс Токс за руку, прислонила ее руку к своей рюмке, проглотила слезу и тихим голосом сказала:
– Благослови вас Бог!
– Дорогая моя Луиза, – промолвила мисс Токс, – мой милый друг, как вы себя чувствуете теперь?
– Лучше, – ответила миссис Чик. – Выпейте вина. Вы волновались почти так же, как и я, и несомненно нуждаетесь в подкреплении.
Конечно, мистер Домби исполнил обязанность хозяина дома.
– Мисс Токс, Поль, – продолжала миссис Чик, все еще держа ее за руку, – зная, с каким нетерпением я ждала сегодняшнего события, приготовила для Фанни маленький подарок, который я обещала преподнести ей. Поль, это всего-навсего подушечка для булавок на туалетный столик, но я намерена сказать, должна сказать и скажу, что мисс Токс очень мило подыскала изречение, приличествующее событию. Я нахожу, что «Добро пожаловать, малютка Домби» – это сама поэзия!
– Это такое приветствие? – осведомился ее брат.
– О да, приветствие! – ответила Луиза.
– Но будьте справедливы ко мне, милая моя Луиза, – сказала мисс Токс голосом тихим и страстно умоляющим, – припомните, что только… я несколько затрудняюсь высказать свою мысль… только неуверенность в исходе побудила меня позволить себе такую вольность. «Добро пожаловать, маленький Домби» более соответствовало бы моим чувствам, в чем, конечно, вы не сомневаетесь. Но неизвестность, сопутствующая этим небесным пришельцам, надеюсь, послужит оправданием тому, что в противном случае показалось бы недопустимой фамильярностью.
Мисс Токс отвесила при этом изящный поклон, предназначавшийся мистеру Домби, на который сей джентльмен снисходительно ответил. Преклонение перед Домби и Сыном, даже в том виде, как оно выразилось в предшествовавшем разговоре, было столь ему приятно, что сестра его, миссис Чик, хотя он склонен был считать ее особой слабохарактерной и добродушной, могла возыметь на него большее влияние, чем кто бы то ни было.
– Да, – сказала миссис Чик с кроткой улыбкой, – после этого я прощаю Фанни все!
Это было заявление в христианском духе, и миссис Чик почувствовала, что оно облегчило ей душу. Впрочем, ничего особенного не нужно было ей прощать невестке, или, вернее, ровно ничего, кроме того что та вышла замуж за ее брата – это уже само по себе являлось некоей дерзостью, – а затем родила девочку вместо мальчика, – поступок, который, как частенько говорила миссис Чик, не вполне отвечал ее ожиданиям и отнюдь не был достойной наградой за все внимание и честь, какие были оказаны этой женщине.
Так как мистер Домби был срочно вызван из комнаты, обе леди остались одни. Мисс Токс тотчас обнаружила склонность к судорожным подергиваниям.
– Я знала, что вы будете восхищены моим братом. Я вас заранее предупреждала, моя милая, – сказала Луиза.
Руки и глаза мисс Токс выразили, насколько она восхищена.
– А что касается его состояния, моя милая!
– Ах! – с глубоким чувством промолвила мисс Токс.
– Колос-сальное!
– А его умение держать себя, дорогая моя Луиза! – сказала мисс Токс. – Его осанка! Его благородство! В жизни своей я не видела ни единого портрета, который хотя бы наполовину отражал эти качества. Нечто, знаете ли, такое величавое, такое непреклонное; такие широкие плечи, такой прямой стан! Герцог Йоркский коммерческого мира, моя милочка, да и только, – сказала мисс Токс. – Вот как бы я его назвала!
– Что с вами, дорогой мой Поль? – воскликнула его сестра, когда он вернулся. – Как вы бледны! Что-нибудь случилось?
– К сожалению, Луиза, они мне сказали, что Фанни…
– О! Дорогой мой Поль, – перебила его сестра, вставая, – не верьте им! Если вы в какой-то мере полагаетесь на мой опыт, Поль, вы можете не сомневаться, что все благополучно, и ничего кроме усилия со стороны Фанни не требуется. А к этому усилию, – продолжала она, озабоченно снимая шляпу и деловито поправляя чепчик и перчатки, – следует ее побудить и даже в случае необходимости принудить. Теперь, дорогой мой Поль, пойдемте вместе наверх.
Мистер Домби, который, находясь под влиянием своей сестры по причине, уже упомянутой, действительно доверял ей как опытной и расторопной матроне, согласился и немедленно последовал за нею в комнату больной.
Его жена все так же лежала на кровати, прижимая к груди маленькую дочь. Девочка прильнула к ней так же страстно, как и раньше, и не поднимала головы, не отрывала своей нежной щечки от лица матери, не смотрела на окружающих, не говорила, не шевелилась, не плакала.
– Тревожится без девочки, – шепнул доктор мистеру Домби. – Мы сочли нужным снова впустить ее.
Так торжественно тихо было у постели, и оба медика, казалось, смотрели на неподвижную фигуру с таким состраданием и такою безнадежностью, что миссис Чик на секунду отвлеклась от своих намерений. Но тотчас, призвав на помощь мужество и то, что она называла присутствием духа, она села у кровати и сказала тихим внятным голосом, как говорит человек, старающийся разбудить спящего:
– Фанни! Фанни!
Ни звука в ответ, только громкое тиканье часов мистера Домби и часов доктора Паркера Пепса, словно состязавшихся в беге среди мертвой тишины.
– Фанни, милая моя, – притворно веселым тоном сказала миссис Чик, – мистер Домби пришел вас навестить. Не хотите ли с ним поговорить? К вам в постель собираются положить вашего мальчика – вашего малютку, Фанни, вы, кажется, почти не видели его; но этого нельзя сделать, пока вы не будете чуточку бодрее. Не думаете ли вы, что пора бы уже чуточку приободриться? Что?
Она приблизила ухо к постели и прислушалась, в то же время окинув взглядом окружающих и подняв палец.
– Что? – повторила она. – Что вы сказали, Фанни? Я не расслышала.
Ни слова, ни звука в ответ. Часы мистера Домби и часы доктора Паркера Пепса словно ускорили бег.
– Право же, Фанни, милая моя, – сказала золовка, меняя позу и помимо своей воли заговорив менее уверенно и более серьезно, – мне придется на вас рассердиться, если вы не подбодритесь. Необходимо, чтобы вы сделали усилие – быть может, очень напряженное и мучительное усилие, которое вы не расположены делать, но ведь вы знаете, Фанни, в этом мире все требует усилий, и мы не должны уступать, когда столь многое от нас зависит. Ну-ка! Попытайтесь! Право же, придется мне вас пожурить, если вы этого не сделаете!
В спустившейся тишине состязание в беге стало неистовым и ожесточенным. Часы словно налетали друг на друга и подставляли друг другу ножку.
– Фанни! – продолжала Луиза, озираясь с нарастающей тревогой. – Вы хоть взгляните на меня. Откройте только глаза, чтобы показать, что вы меня слышите и понимаете; хорошо? Боже мой, что же нам делать, джентльмены?
Оба медика, стоявшие по обеим сторонам кровати, обменялись взглядами, и домашний врач, нагнувшись, шепнул что-то на ухо девочке. Не понимая смысла его слов, малютка повернула к нему мертвенно-бледное лицо с глубокими темными глазами, но не разжала объятий.
Снова шепот.
– Мама! – сказала девочка.
Детский голос, знакомый и горячо любимый, вызвал проблеск сознания, уже угасавшего. На мгновение опущенные веки дрогнули, ноздри затрепетали, и мелькнула слабая тень улыбки.
– Мама! – рыдая, воскликнула девочка. – О мамочка, мамочка!
Доктор мягко отвел рассыпавшиеся кудри ребенка от лица и губ матери. Увы, они лежали недвижно – слишком слабо было дыхание, чтобы их пошевелить.
Так, держась крепко за эту хрупкую тростинку, прильнувшую к ней, мать уплыла в темный и неведомый океан, который омывает весь мир.
Глава II,
в которой своевременно принимаются меры по случаю неожиданного стечения обстоятельств, возникающих иногда в самых благополучных семействах
– Я никогда не перестану радоваться тому, – заявила миссис Чик, – что сказала, когда меньше всего могла предвидеть случившееся, – право же, меня словно что-то осенило, – сказала тогда, что все прощаю бедной дорогой Фанни. Что бы ни случилось, это навсегда останется для меня утешением!
Это внушительное замечание миссис Чик сделала в гостиной, куда спустилась сверху (она надзирала за портнихами, занятыми шитьем семейного траура). Она изрекла его в назидание мистеру Чику, дородному лысому джентльмену, с очень широким лицом, который постоянно держал руки в карманах и обладал прирожденной склонностью насвистывать и мурлыкать песенки – склонностью, каковую он, сознавая неприличие подобных звуков в доме скорби, не без труда подавлял в настоящее время.
– Не переутомляйся, Лу, – сказал мистер Чик, – а не то у тебя будет припадок. Ля-ля-ля пам-пам-пим! Ах, Боже мой, забыл! Сегодня мы живы, а завтра умрем!
Миссис Чик удовольствовалась укоризненным взглядом, а затем продолжала свою речь.
– Да, – сказала она, – надеюсь, это потрясающее событие послужит для всех нас предостережением и научит нас бодриться и своевременно делать усилия, когда они от нас требуются. Из всего можно извлечь мораль, если бы мы только умели ею пользоваться. Наша будет вина, если мы и сейчас упустим эту возможность.
Мистер Чик нарушил торжественную тишину, наступившую вслед за этим замечанием, в высшей степени неуместным напевом «Сапожник он был» и, оборвав его с некоторым смущением, произнес, что несомненно это наша вина, если мы не извлекаем пользы из таких печальных событий.
– Я полагаю, мистер Чик, что из них можно извлечь больше пользы, – возразила его супруга после недолгого молчания, – если не напевать «Школьной волынки» или не менее бессмысленного и бесчувственного мотива «рам-пам-пам-ляля-ля-лям» (которым мистер Чик действительно услаждал себя потихоньку и который миссис Чик воспроизвела с безграничным презрением).
– Это просто привычка, дорогая моя, – принес извинение мистер Чик.
– Вздор! Привычка! – отозвалась жена. – Если вы существо разумное, не приводите таких нелепых объяснений. Привычка! Если бы у меня развилась привычка (как вы это называете) разгуливать по потолку наподобие мух, думаю, что мне бы прожужжали все уши.
Казалось весьма правдоподобным, что такая привычка привлекла бы всеобщее внимание, а посему мистер Чик не посмел оспаривать это предположение.
– Как поживает младенец, Лу? – осведомился мистер Чик, желая переменить тему разговора.
– О каком младенце ты говоришь? – спросила миссис Чик. – Право же, ни один здравомыслящий человек не может себе представить, какое утро я провела там внизу, в столовой, с этой массой младенцев.
– Масса младенцев? – повторил мистер Чик, с тревогой озираясь.
– Большинство сообразило бы, – продолжала миссис Чик, – что теперь, когда больше нет с нами бедной милой Фанни, возникает необходимость подыскать кормилицу.
– О! А! – произнес мистер Чик. – Трам-там… – такова жизнь, хотел я сказать. Надеюсь, ты нашла себе по вкусу, дорогая моя.
– Конечно, не нашла, – ответила миссис Чик, – и вряд ли найду, насколько я могу предвидеть. А тем временем ребенок, конечно…
– Отправится ко всем чертям, – глубокомысленно заметил мистер Чик. – Несомненно.
Однако уведомленный о своем промахе тем негодованием, которое отразилось на лице миссис Чик при мысли о каком бы то ни было Домби, отправляющемся в подобные места, и надеясь загладить свою ошибку блестящей идеей, он добавил:
– А нельзя ли временно воспользоваться чайником?
Если у него было намерение привести разговор к быстрому окончанию, он не мог бы сделать это с большим успехом. Бросив на него взгляд, выражавший безмолвную покорность судьбе, миссис Чик величественно прошествовала к окну и посмотрела сквозь жалюзи, привлеченная стуком колес. Мистер Чик, убедившись, что в настоящее время судьба против него, не сказал больше ни слова и удалился. Но не всегда бывало так с мистером Чиком. Он часто одерживал верх и в таких случаях сурово расправлялся с Луизой. В общем, в своих супружеских стычках они были хорошо подобранной, прекрасно уравновешенной парой, не дававшей друг другу спуску. Собственно говоря, было бы очень трудно биться об заклад, кто из них выиграет сражение. Часто, когда мистер Чик как будто уже был разбит, он внезапно переходил в наступление, пускал в ход оружие своей противницы, бряцал им под ухом миссис Чик и одерживал полную победу. Так как ему самому грозили такие же неожиданные удары со стороны миссис Чик, то их легкие столкновения проходили с переменным успехом, что действовало весьма воодушевляюще.
Мисс Токс прибыла на только что упомянутых колесах и ворвалась в комнату, едва переводя дух.
– Дорогая моя Луиза, – сказала мисс Токс, – место еще не занято?
– Нет, добрая вы душа, – отвечала миссис Чик.
– В таком случае, дорогая моя Луиза, – продолжала мисс Токс, – я верю и уповаю… Но подождите минутку, дорогая моя, я представлю вам заинтересованную сторону…
Сбежав вниз с такою же быстротой, с какой взбежала наверх, мисс Токс высадила заинтересованную сторону из наемной кареты и вскоре вернулась, ведя ее под конвоем.
Тогда только обнаружилось, что она применила это слово не как юридический или деловой термин, означающий одного индивида, а как имя существительное собирательное или объединяющее многих лиц, – ибо мисс Токс эскортировала пухлую и румяную, цветущую молодую женщину с лицом, похожим на яблоко, державшую на руках младенца; женщину помоложе, не такую пухлую, но также с лицом, похожим на яблоко, которая вела за руки двух пухлых ребятишек с лицами, похожими на яблоко; еще одного пухлого мальчика, также с лицом, похожим на яблоко, который шел самостоятельно; и, наконец, пухлого мужчину с лицом, похожим на яблоко, который нес на руках еще одного пухлого мальчика с лицом, похожим на яблоко, коего он спустил на пол и хриплым шепотом приказал ему «ухватиться за брата Джонни».
– Милая Луиза, – сказала мисс Токс, – зная о вашем великом беспокойстве и желая вас выручить, я отправилась в Королевское убежище для замужних женщин королевы Шарлотты, о котором вы забыли, и спросила, нет ли там кого-нибудь, кто, по их мнению, мог бы подойти. Нет, – сказали они, – таких не имеется. Уверяю вас, дорогая моя, когда они мне дали этот ответ, я готова была впасть в отчаяние. Но случилось так, что одна из королевских замужних женщин, услышав мой вопрос, напомнила надзирательнице об одной особе, которая вернулась к себе домой и которая, по ее мнению, несомненно окажется весьма подходящей. Как только я это услышала и получила подтверждение от надзирательницы – превосходная рекомендация, безупречный характер, – тотчас, дорогая моя, взяла адрес и снова в путь.
– Как это на вас похоже, милая, добрая Токс! – сказала Луиза.
– Ничуть не бывало, – отвечала мисс Токс. – Не говорите этого. Войдя в дом (безукоризненная чистота, дорогая моя! обедать можно прямо на полу), я застала все семейство за столом, и, чувствуя, что никакой рассказ не доставит вам и мистеру Домби такого успокоения, как вид их, всех вместе взятых, я привезла их сюда. Этот джентльмен, – продолжала мисс Токс, указывая на мужчину с лицом, похожим на яблоко, – отец. Не угодно ли вам, сэр, выйти немного вперед?
Мужчина с лицом, похожим на яблоко, смущенно подчинившись этому требованию, занял место в первом ряду, посмеиваясь и ухмыляясь.
– Это, разумеется, его жена, – сказала мисс Токс, указывая на женщину с младенцем. – Как поживаете, Полли?
– Очень хорошо, благодарю вас, сударыня, – ответила Полли.
Желая поискусней представить ее, мисс Токс задала этот вопрос с таким видом, как будто обращалась к старой знакомой, которую не видела недели две.
– Очень рада, – сказала мисс Токс. – Другая молодая женщина – ее незамужняя сестра, которая живет с ними и будет присматривать за ее детьми. Ее зовут Джемайма. Как поживаете, Джемайма?
– Очень хорошо, благодарю вас, сударыня, – отвечала Джемайма.
– Чрезвычайно этому рада, – сказала мисс Токс. – Надеюсь, так будет и впредь. Пятеро детей. Младшему шесть недель. Этот славный мальчуган с волдырем на носу – старший. Надеюсь, – добавила мисс Токс, окинув взглядом семейство, – волдырь у него не от рождения, а вскочил случайно?
Можно было разобрать, что мужчина с лицом, похожим на яблоко, прохрипел:
– Утюг.
– Прошу прощения, сэр, – сказала мисс Токс, – вы говорите…
– Утюг, – повторил он.
– Ах да! – сказала мисс Токс. – Совершенно верно. Я забыла. Мальчуган в отсутствие матери понюхал горячий утюг. Вы совершенно правы. Когда мы подъезжали к дому, вы собирались любезно сообщить мне, что по профессии вы…
– Кочегар, – сказал мужчина.
– Кожедрал? – в ужасе воскликнула мисс Токс.
– Кочегар, – повторил мужчина. – На паровозе.
– О! Вот как! – отозвалась мисс Токс, глядя на него глубокомысленно и как будто все еще не совсем понимая, что это значит. – А как вам это нравится, сэр?
– Что, сударыня? – спросил мужчина.
– Вот это, – сказала мисс Токс. – Ваша профессия.
– Пожалуй, нравится, сударыня. Иной раз зола забивается сюда, – он указал на грудь, – и голос делается хриплым, вот как сейчас. Но это от золы, сударыня, а не от сварливости.
Казалось, мисс Токс столь мало почерпнула из этого ответа, что затруднялась продолжать разговор. Но миссис Чик тотчас же пришла ей на помощь, приступив к внимательнейшему рассмотрению Полли, детей, брачного свидетельства, рекомендаций и так далее. Полли вышла невредимой из этого трудного испытания, после чего миссис Чик отправилась с докладом к своему брату и в качестве яркой иллюстрации к докладу и в подтверждение его захватила с собой двух самых румяных маленьких Тудлей – фамилия яблоколицего семейства была Тудль.
Со смерти жены мистер Домби не выходил из своей комнаты, погруженный в размышления о юности, воспитании и предназначении своего младенца-сына. Что-то угнетало его жесткое сердце, что-то более холодное и тяжелое, чем обычное его бремя; но это было сознание потери, понесенной скорее ребенком, чем им самим, пробудившее в нем вместе с грустью чуть ли не досаду. Было унизительно и тяжело думать, что из-за пустяка жизни и развитию, на которые он возлагал такие надежды, с самого же начала грозит опасность, что Домби и Сын может пошатнуться из-за какой-то кормилицы. И, однако, в своей гордыне и ревности он с такою горечью размышлял о зависимости – на первых же шагах к осуществлению заветного желания – от наемной служанки, которая временно будет для его ребенка всем тем, чем была бы его собственная жена благодаря союзу с ним, что при каждом новом отводе кандидатки он испытывал тайную радость. Но настал момент, когда он не мог долее колебаться между этими двумя чувствами. Тем более что не было, казалось, никаких сомнений в пригодности Полли Тудль, о которой доложила его сестра, не поскупившись на похвалы неутомимой дружбе мисс Токс.
– Дети на вид здоровые, – сказал мистер Домби. – Но подумать только, что когда-нибудь они вздумают притязать на некое родство с Полем! Уведите их, Луиза! Покажите мне эту женщину и ее мужа.
Миссис Чик унесла нежную пару Тудлей и вскоре вернулась с более грубой парой, которую пожелал увидеть брат.
– Любезная, – сказал мистер Домби, поворачиваясь в своем кресле всем туловищем, словно у него не было конечностей и суставов, – мне сообщили, что вы бедны и хотите зарабатывать деньги, поступив кормилицей к маленькому мальчику, моему сыну, который преждевременно лишился той, кого никогда не удастся заменить. Я не возражаю против того, чтобы вы таким путем способствовали благосостоянию вашей семьи. Насколько я могу судить, вы производите впечатление порядочной особы. Но я должен вам поставить два-три условия, прежде чем вы займете это место в моем доме. Пока вы будете здесь жить, я настаиваю, чтобы вас всегда называли… ну, скажем, Ричардс… фамилия простая и приличная. Вы не возражаете против того, чтобы вас звали Ричардс? Можете посоветоваться с мужем.
Так как муж только посмеивался да ухмылялся и проводил правой рукой по губам, слюнявя ладонь, миссис Тудль, безуспешно подтолкнув его раз-другой локтем, присела и ответила, что, «быть может, если она должна отказаться от своего имени, об этом не забудут при назначении ей жалованья».
– О, разумеется, – сказал мистер Домби. – Я желаю, чтобы это было принято во внимание при оплате. Затем, Ричардс, если вы будете ходить за моим осиротевшим ребенком, я хочу, чтобы вы запомнили следующее: вы будете получать щедрое вознаграждение за исполнение некоторых обязанностей, причем я желаю, чтобы в течение этого времени вы как можно реже видели свою семью. Когда минует надобность в ваших услугах, когда вы перестанете их оказывать и не будете больше получать жалованье, всякие отношения между нами прекращаются. Вы меня понимаете?
Миссис Тудль как будто сомневалась в этом; что же касается до самого Тудля, то, очевидно, он нисколько не сомневался в том, что ничего не понимает.
– У вас у самой есть дети, – сказал мистер Домби. – В наш договор отнюдь не входит, что вы должны привязаться к моему ребенку или что мой ребенок должен привязаться к вам. Я не жду и не требую чего-либо в этом роде. Как раз наоборот. Когда вы отсюда уйдете, вы расторгнете отношения, которые являются всего-навсего договором о купле-продаже, о найме, и устранитесь. Ребенок перестанет вспоминать о вас; и вы будьте так добры – не вспоминайте о ребенке.
Миссис Тудль, разрумянившись чуть-чуть сильнее, чем раньше, выразила надежду, «что она свое место знает».
– Надеюсь, что знаете, Ричардс, – сказал мистер Домби. – Нисколько не сомневаюсь, что вы его прекрасно знаете. В самом деле, это так ясно и очевидно, что иначе и быть не может. Луиза, дорогая моя, условьтесь с Ричардс о жалованье, и пусть она его получает, когда и как ей будет угодно. Мистер, как вас там зовут, я хочу вам кое-что сказать.
Задержанный таким образом на пороге в тот момент, когда он собирался выйти вслед за женой из комнаты, Тудль вернулся и остался наедине с мистером Домби. Это был сильный, неуклюжий, сутулый, неповоротливый, лохматый человек в мешковатом костюме, с густыми волосами и бакенбардами, ставшими темнее, чем были от природы, быть может, благодаря дыму и угольной пыли, с мозолистыми, узловатыми руками и квадратным лбом, шершавым, как дубовая кора. Полная противоположность во всех отношениях мистеру Домби, который был одним из тех чисто выбритых, холеных, богатых джентльменов, которые блестят и хрустят, как новенькие кредитные билеты, и кажется, будто их искусственно взбадривает возбуждающее действие золотого душа.
– У вас, кажется, есть сын? – спросил мистер Домби.
– Четверо их. Четверо и одна девочка. Все здравствуют.
– Да ведь у вас едва хватает средств их содержать? – сказал мистер Домби.
– Есть еще одна штука, сэр, которая мне никак не по средствам.
– Что именно?
– Потерять их, сэр.
– Читать умеете? – спросил мистер Домби.
– Кое-как, сэр.
– Писать?
– Мелом, сэр?
– Чем угодно.
– Пожалуй, мог бы как-нибудь управиться с мелом, если бы понадобилось, – подумав, сказал Тудль.
– А ведь вам, полагаю, – сказал мистер Домби, – года тридцать два – тридцать три.
– Полагаю, что примерно столько, – отвечал Тудль, снова подумав.
– В таком случае почему же вы не учитесь? – спросил мистер Домби.
– Да вот я и собираюсь. Один из моих мальчуганов будет меня обучать, когда подрастет и сам пойдет в школу.
– Так! – сказал мистер Домби, посмотрев на него внимательно и не очень благосклонно, в то время как тот стоял, обозревая комнату (преимущественно потолок) и по-прежнему проводя рукою по губам. – Вы слышали, что я сказал только что вашей жене?
– Полли слышала, – отвечал Тудль, махнув через плечо шляпой в сторону двери с видом полного доверия к своей лучшей половине. – Все в порядке.
– Так как вы, по-видимому, все предоставляете ей, – сказал Домби, обескураженный в своем намерении еще внушительнее изложить свою точку зрения мужу как сильнейшему, – то, полагаю, не имеет смысла говорить о чем бы то ни было с вами.
– Ровно никакого, – отвечал Тудль. – Полли слышала. Уж она-то не зевает, сэр.
– В таком случае я вас не задерживаю дольше, – сказал разочарованный мистер Домби. – Где вы работали раньше и где теперь работаете?
– Все больше под землей, сэр, покуда не женился. Потом я выбрался на поверхность. Разъезжаю по одной из этих железных дорог, с той поры как их построили.
Подобно тому, как последняя соломинка может сломать спину нагруженного верблюда, так это сообщение о шахте сокрушило слабеющий дух мистера Домби. Он указал на дверь мужу кормилицы своего сына; когда тот охотно удалился, мистер Домби повернул ключ и стал ходить по комнате, одинокий и несчастный. Несмотря на все свое накрахмаленное, непроницаемое величие и хладнокровие, он смахивал при этом слезы и часто повторял с волнением, которого ни за что на свете не согласился бы проявить на людях: «Бедный мальчик!»
Быть может, характерно для гордыни мистера Домби, что о самом себе он сожалел через ребенка. Не «бедный я!», не бедный вдовец, принужденный довериться жене невежественного простака, который всю жизнь работал «все больше под землей», но в чью дверь ни разу не постучалась Смерть и за чей стол ежедневно садилось четверо сыновей, но – «бедный мальчик!»
Эти слова были у него на устах, когда ему пришло в голову – и это свидетельствует о сильном тяготении его надежд, страхов и всех его мыслей к единому центру, – что великое искушение встает на пути этой женщины. Ее новорожденный тоже мальчик. Не может ли она подменить ребенка?
Хотя он вскоре облегченно отогнал это предположение как романтическое и неправдоподобное, – но все же возможное, чего нельзя было отрицать, – он невольно развил его, представив мысленно, каково будет его положение, если он, состарившись, обнаружит такой обман. В состоянии ли будет человек при таких условиях отнять у самозванца то, что создано многолетней привычкой, уверенностью и доверием, и отдать все чужому?
Когда несвойственное ему волнение улеглось, эти опасения постепенно рассеялись, хотя тень их осталась, и он принял решение наблюдать внимательно за Ричардс, скрывая это от окружающих. Находясь теперь в более спокойном расположении духа, он пришел к выводу, что общественное положение этой женщины является скорее благоприятным обстоятельством, ибо оно уже само по себе отдаляет ее от ребенка и сделает их разлуку легкой и естественной.
Тем временем между миссис Чик и Ричардс было заключено и скреплено соглашение с помощью мисс Токс, а Ричардс, которой с большими церемониями вручили, словно некий орден, младенца Домби, передала своего собственного ребенка со слезами и поцелуями Джемайме. Затем было подано вино, чтобы поднять дух семейства.
– Не хотите ли выпить стаканчик, сэр? – предложила мисс Токс, когда явился Тудль.
– Благодарю вас, сударыня, – сказал Тудль, – уж коли вы угощаете…
– И вы с радостью оставляете свою славную жену в таком прекрасном доме, не так ли, сэр? – продолжала мисс Токс, украдкой кивая ему и подмигивая.
– Нет, сударыня, – сказал Тудль. – Пью за то, чтобы она опять была дома.
При этом Полли еще сильнее заплакала. Посему миссис Чик, которая, как и подобает матроне, обеспокоилась, как бы чрезмерная скорбь не причинила ущерба маленькому Домби («молоко пропадет, пожалуй», – шепнула она мисс Токс), поспешила на выручку.
– Ваш малютка, Ричардс, будет превосходно себя чувствовать с вашей сестрой Джемаймой, – сказала миссис Чик, – а вам нужно только сделать усилие, – в этом мире, знаете ли, все требует усилий, Ричардс, – чтобы быть совершенно счастливой. С вас уже сняли мерку для траурного платья, не так ли, Ричардс?
– Да-а, сударыня, – всхлипывала Полли.
– И оно будет прекрасно сидеть на вас, я уверена, – сказала миссис Чик, – потому что эта же молодая особа сшила мне много платьев. И из лучшей материи!
– Ах, вы будете такой франтихой, – сказала мисс Токс, – что муж вас не узнает. Не правда ли, сэр?
– Я бы ее узнал в чем угодно и где угодно, – проворчал Тудль.
Было ясно, что Тудля не подкупишь.
– А что касается стола, Ричардс, – продолжала миссис Чик, – то к вашим услугам будет все самое лучшее. Ежедневно вы будете сами заказывать себе обед; и все, чего бы вы ни пожелали, тотчас вам приготовят, словно вы какая-нибудь леди.
– Да, разумеется! – с большою готовностью подхватила мисс Токс. – И портер – в неограниченном количестве, правда, Луиза?
– О, несомненно! – отвечала в том же тоне миссис Чик. – Придется только, милая моя, слегка воздерживаться от овощей.
– И, пожалуй, пикулей, – подсказала мисс Токс.
– За этими исключениями, моя дорогая, – сказала Луиза, – она может руководствоваться своими вкусами и ни в чем себе не отказывать.
– А затем вам, конечно, известно, – сказала мисс Токс, – как она любит своего собственного дорогого малютку, и я уверена, Луиза, вы не осуждаете ее за то, что она его любит?
– О нет! – воскликнула миссис Чик, полная великодушия.
– Однако, – продолжала мисс Токс, – она, естественно, должна интересоваться своим юным питомцем и почитать за честь, что на ее глазах маленький херувим, тесно связанный с высшим обществом, ежедневно черпает силы из единого для всех источника. Не правда ли, Луиза?
– Совершенно верно! – подтвердила миссис Чик. – Вы видите, моя дорогая, она уже совершенно спокойна и довольна и собирается весело и с улыбкой попрощаться со своей сестрой Джемаймой, своими малютками и со своим добрым честным мужем. Не правда ли, дорогая моя?
– О да! – воскликнула мисс Токс. – Разумеется!
Несмотря на это, бедная Полли перецеловала их всех с великой скорбью и наконец убежала, чтобы ускользнуть от более нежного прощанья с детьми. Но эта хитрость не увенчалась заслуженным успехом, ибо один из младших мальчиков, угадав ее намерение, тотчас начал карабкаться – если можно применить это слово с сомнительной этимологией – вслед за нею на четвереньках по лестнице, а старший (известный в семье под кличкой Байлера[4] – в честь паровоза) отбивал дьявольскую чечетку сапогами в знак своего огорчения; к нему присоединились и все прочие члены семейства.
Множество апельсинов и полупенсов, посыпавшихся на всех без исключения юных Тудлей, успокоили первые приступы горя, и семейство было поспешно отправлено домой в наемной карете, которую задержали специально для этой цели. Дети под охраной Джемаймы теснились у окна и всю дорогу роняли апельсины и полупенсы. Сам мистер Тудль предпочел ехать на запятках среди торчавших гвоздей – способ передвижения для него самый привычный.
Глава III,
в которой мистер Домби показан во главе своего домашнего департамента как человек и отец
Похороны скончавшейся леди «состоялись», к полному удовольствию владельца похоронного бюро, а также и всего окрестного населения, которое обычно расположено в таких случаях к придиркам и склонно возмущаться каждым промахом и упущением в церемонии, после чего многочисленные домочадцы мистера Домби вновь заняли соответствующие им места в домашней системе. Этот маленький мирок, подобно великому внешнему миру, отличался способностью быстро забывать своих умерших; и когда кухарка сказала: «У леди был кроткий нрав», а экономка сказала: «Таков наш удел», а дворецкий сказал: «Кто бы мог это подумать?», а горничная сказала, что «она едва может этому поверить», а лакей сказал: «Это похоже на сон», – событие окончательно покрылось ржавчиной, и они начали подумывать о том, что и траур их порыжел от носки.
Ричардс, которую держали наверху в почетном плену, заря новой жизни казалась холодной и серой. У мистера Домби был большой дом на теневой стороне темной, но элегантной улицы с высокими домами, между Портленд-Плейс и Брайанстонсквер. Это был угловой дом с просторными «двориками»[5], куда выходили погреба, которые хмуро взирали на свет своими зарешеченными окнами и презрительно щурились косоглазыми дверьми, ведущими к мусорным ящикам. Это был величественный и мрачный дом с полукруглым задним фасадом, с анфиладой зал, выходивших окнами на усыпанный гравием двор, где два чахлых дерева с почерневшими стволами скорее стучали, чем шелестели, – так были прокопчены их листья. Летом солнце заглядывало в эту улицу только по утрам, примерно в час первого завтрака, появляясь вместе с водовозами, старьевщиками, торговцами геранью, починщиком зонтов и человеком, который на ходу позвякивал колокольчиком от голландских часов. Вскоре оно вновь скрывалось, чтобы больше уже не показываться в тот день, а музыканты и бродячий Панч, скрываясь вслед за ним, уступали улицу самым заунывным шарманкам и белым мышам или иной раз дикобразу – чтобы разнообразить увеселительные номера; а в сумерках дворецкие, когда их хозяева обедали в гостях, появлялись у дверей своих домов, и фонарщик каждый вечер терпел неудачу, пытаясь с помощью газа придать улице более веселый вид.
И внутри этот дом был так же мрачен, как снаружи. После похорон мистер Домби распорядился накрыть мебель чехлами, – быть может, желая сохранить ее для сына, с которым были связаны все его планы, – и не производить уборки в комнатах, за исключением тех, какие он предназначал для себя в нижнем этаже. Тогда таинственные сооружения образовались из столов и стульев, составленных посреди комнат и накрытых огромными саванами. Ручки колокольчиков, жалюзи и зеркала, завешенные газетами и журналами, ежедневными и еженедельными, навязывали отрывочные сообщения о смертях и страшных убийствах. Каждый канделябр, каждая люстра, закутанные в полотно, напоминали чудовищную слезу, падающую из глаза на потолке. Из каминов неслись запахи, как из склепа или сырого подвала. Портрет умершей и похороненной леди, в рамке, повитой трауром, наводил страх. Каждый порыв ветра, налетая из-за угла соседних конюшен, приносил клочья соломы, которая была постлана перед домом во время ее болезни и гниющие остатки которой еще сохранились по соседству; притягиваемые какой-то неведомой силой к порогу грязного, сдающегося внаем дома напротив, они с мрачным красноречием взывали к окнам мистера Домби.
Апартаменты, которые оставил для себя мистер Домби, сообщались с холлом и состояли из гостиной, библиотеки (которая была, в сущности, туалетной комнатой, так что запах атласной и веленевой бумаги, сафьяна и юфти состязался здесь с запахом многочисленных пар башмаков) и оранжереи, или маленького застекленного будуара, откуда видны были упоминавшиеся выше деревья и – иной раз – крадущаяся кошка. Эти три комнаты были расположены одна за другой. По утрам, когда мистер Домби завтракал в одной из первых двух комнат, а также под вечер, когда он возвращался домой к обеду, раздавался звонок, призывавший Ричардс, которая являлась в застекленное помещение и там прогуливалась со своим юным питомцем. Бросая по временам взгляды на мистера Домби, сидевшего в темноте и посматривавшего на младенца из-за темной тяжелой мебели – в этом доме много лет прожил его отец и в обстановке оставалось немало старомодного и мрачного, – она стала размышлять о мистере Домби и его уединении, словно он был узником, заключенным в одиночную камеру, или странным привидением, которого нельзя ни окликнуть, ни понять.
Уже несколько недель кормилица маленького Поля Домби сама вела такую жизнь и проносила сквозь нее маленького Поля; и вот однажды, когда она вернулась наверх после меланхолической прогулки в угрюмых комнатах (она никогда не выходила из дому без миссис Чик, которая являлась по утрам в хорошую погоду, обычно в сопровождении мисс Токс, чтобы вывести на свежий воздух ее с младенцем, или, иными словами, торжественно водить их по улице, словно в похоронной процессии) и сидела у себя, – дверь медленно и тихо отворилась, и в комнату заглянула маленькая темноглазая девочка.
«Должно быть, это мисс Флоренс вернулась домой от своей тетки», – подумала Ричардс, еще ни разу не видевшая девочки.
– Надеюсь, вы здоровы, мисс?
– Это мой брат? – спросила девочка, указывая на младенца.
– Да, милочка, – ответила Ричардс. – Подойдите, поцелуйте его.
Но девочка, вместо того чтобы приблизиться, серьезно посмотрела ей в лицо и сказала:
– Что вы сделали с моей мамой?
– Господи помилуй, малютка! – воскликнула Ричардс. – Какой ужасный вопрос! Что я сделала? Ничего, мисс.
– Что они сделали с моей мамой? – спросила девочка.
– В жизни не видала такого чувствительного ребенка! – сказала Ричардс, которая, естественно, представила на ее месте одного из своих детей, осведомляющегося о ней при таких же обстоятельствах. – Подойдите поближе, милая моя мисс. Не бойтесь меня.
– Я вас не боюсь, – сказала девочка, подойдя к ней. – Но я хочу знать, что они сделали с моей мамой.
– Милочка, – сказала Ричардс, – вы носите это хорошенькое черное платьице в память своей мамы.
– Я помню маму во всяком платье, – возразила девочка со слезами на глазах.
– Но люди надевают черное, чтобы вспоминать о тех, кого уже нет.
– Где же они? – спросила девочка.
– Подойдите и сядьте возле меня, – сказала Ричардс, – а я вам что-то расскажу.
Тотчас догадавшись, что рассказ должен иметь какое-то отношение к ее вопросам, маленькая Флоренс положила шляпу, которую держала в руках, и присела на скамеечку у ног кормилицы, глядя ей в лицо.
– Жила когда-то на свете леди, – начала Ричардс, – очень добрая леди, и маленькая дочка горячо любила ее.
– Очень добрая леди, и маленькая дочка горячо любила ее, – повторила девочка.
– И вот, когда Бог пожелал, чтобы так случилось, она заболела и умерла.
Девочка вздрогнула.
– Умерла, и никто уже не увидит ее больше на этом свете, и ее зарыли в землю, где растут деревья.
– В холодную землю? – сказала девочка, снова вздрогнув.
– Нет! В теплую землю, – возразила Полли, воспользовавшись удобным случаем, – где некрасивые маленькие семена превращаются в прекрасные цветы, в траву и колосья и мало ли во что еще. Где добрые люди превращаются в светлых ангелов и улетают на небо.
Девочка, опустившая было голову, снова подняла глаза и сидела, пристально глядя на Полли.
– Так вот, послушайте-ка, – продолжала Полли, не на шутку взволнованная этим пытливым взглядом, своим желанием утешить ребенка, неожиданным своим успехом и недоверием к собственным силам. – Так вот, когда эта леди умерла, куда бы ее ни отнесли и где бы ни положили – все равно она пошла к Богу, и стала эта леди молиться ему, да, молиться, – повторила Полли, очень растроганная, ибо говорила от всей души, – о том, чтобы он научил ее маленькую дочку верить этому всем сердцем и знать, что там она счастлива и любит ее по-прежнему, и надеяться, и всю жизнь думать о том, чтобы когда-нибудь встретиться там с нею и больше никогда, никогда не расставаться.
– Это моя мама! – воскликнула девочка, вскакивая и обнимая Полли за шею.
– А девочка, – продолжала Полли, прижимая ее к груди, – маленькая дочка верила всем сердцем, и когда услыхала о том от незнакомой кормилицы, которая и рассказать-то хорошенько не умела, но сама была бедной матерью, только и всего, – дочка утешилась… уже не чувствовала себя такой одинокой… плакала и рыдала у нее на груди… пожалела малютку, лежавшего у нее на коленях и… ну, полно, полно! – говорила Полли, приглаживая кудри девочки и роняя на них слезы. – Полно, бедняжечка!
– Вот как, мисс Флой! Ну и рассердится же ваш папенька! – раздался резкий голос, принадлежавший невысокой смуглой девушке, казавшейся старше своих четырнадцати лет, с вздернутым носиком и черными глазами, похожими на бусинки из агата. – Да ведь вам строго-настрого было приказано, чтобы вы не ходили сюда и не надоедали кормилице.
– Она мне не надоедает, – последовал удивленный ответ Полли. – Я очень люблю детей.
– Ах, прошу прощенья, миссис Ричардс, но это, видите ли, ничего не значит, – возразила черноглазая девушка, которая была так резка и язвительна, что, казалось, могла довести человека до слез. – Быть может, я очень люблю съедобных улиток, миссис Ричардс, но отсюда еще не следует, что мне должны подавать их к чаю.
– Ну, это пустяки, – сказала Полли.
– Ах вот как, благодарю вас, миссис Ричардс! – воскликнула резкая девушка. – Однако будьте так любезны припомнить, что мисс Флой на моем попечении, а мистер Поль – на вашем.
– Но все же нам незачем ссориться, – сказала Полли.
– О да, миссис Ричардс, – подхватила задира. – Вовсе незачем, я этого не хочу, не для чего нам становиться в такие отношения, раз при мисс Флой место постоянное, а при мистере Поле – временное.
Задира не делала никаких пауз, выпаливая все, что хотела сказать, в одной фразе и по возможности одним духом.
– Мисс Флоренс только что вернулась домой? – спросила Полли.
– Да, миссис Ричардс, только что вернулась, и вот, мисс Флой, не успели вы и четверти часа провести дома, как уже третесь мокрым лицом о дорогое траурное платье, которое миссис Ричардс носит по вашей маменьке!
После такого выговора молодая задира, чье настоящее имя было Сьюзен Нипер, насильно оторвала девочку от ее нового друга – словно зуб вырвала. Но, казалось, она это сделала без всякого злого умысла, а скорее от чрезмерного служебного рвения.
– Теперь она опять дома и будет счастлива, – сказала Полли, кивая ей головой, и ободряющая улыбка появилась на добродушном ее лице. – А как же она обрадуется, когда увидит вечером своего дорогого папу!
– Эх, миссис Ричардс! – воскликнула мисс Нипер, тотчас подхватывая ее слова. – Полноте! Увидит своего дорогого папу, как бы не так! Хотела б я на это посмотреть!
– А разве она его не увидит? – спросила Полли.
– Э нет, миссис Ричардс, ее папенька чересчур уж много занят кем-то другим, да и покуда еще не было кого-то другого, она никогда не была любимицей; в этом доме девочек ни во что не ставят, миссис Ричардс, могу вас уверить!
Флоренс быстро переводила взгляд с одной няньки на другую, словно понимала и чувствовала, о чем идет речь.
– Вот тебе на! – воскликнула Полли. – Неужто мистер Домби не видал ее с той поры…
– Ну да, – перебила Сьюзен Нипер. – Не видал с той поры ни разу, да и раньше по месяцам почти не глядел на нее, и вряд ли признает в ней свою дочь, если завтра встретит на улице, а что до меня, миссис Ричардс, – хихикнув, добавила задира, – то я подозреваю, что он не знает о моем существовании.
– Милая крошка! – сказала Ричардс, имея в виду не мисс Нипер, а маленькую Флоренс.
– О да, здесь сущий ад на сто миль кругом, смею вас заверить, миссис Ричардс, не говоря, разумеется, о присутствующих, – сказала Сьюзен Нипер. – Желаю вам доброго утра, миссис Ричардс, ну-с, мисс Флой, извольте идти со мной и не упирайтесь, как непослушный, капризный ребенок, который не умеет вести себя примерно.
Несмотря на такое увещание и несмотря также на подталкивания Сьюзен Нипер, грозившие вывихом правого плеча, маленькая Флоренс вырвалась и нежно поцеловала своего нового друга.
– Прощайте! – сказала девочка. – Благослови вас Бог. Скоро я опять к вам приду, и вы ко мне придете. Сьюзен нам позволит. Позволите, Сьюзен?
В общем, задира была, по-видимому, добродушной маленькой особой, хотя и принадлежала к той школе воспитателей юных умов, которая считает, что детей, как и деньги, следует хорошенько встряхивать, тереть и перетирать, чтобы придать им блеск. Ибо, услышав эту просьбу, сопровождавшуюся умоляющими жестами и ласками, она скрестила ручки, покачала головой, и взгляд ее широко раскрытых черных глаз стал мягче.
– Нехорошо, что вы меня об этом просите, мисс Флой, вы ведь знаете, что я не могу вам отказать, но мы с миссис Ричардс подумаем, что тут можно сделать, если миссис Ричардс пожелает… мне, видите ли, миссис Ричардс, может быть, хочется прокатиться в Китай, но, быть может, я не знаю, как выбраться из лондонских доков.
Ричардс согласилась с этим заявлением.
– Не такое уж веселье царит в этом доме, – сказала мисс Нипер, – чтобы человеку захотелось большего одиночества, чем то, какое поневоле выносишь. Ваши Токсы и ваши Чики могут вырвать у меня по два передних зуба, миссис Ричардс, но это еще не причина, почему я должна предложить им всю челюсть.
Это заявление было также принято Ричардс как не вызывающее сомнений.
– Так будьте уверены, – сказала Сьюзен Нипер, – что я готова жить в дружбе, миссис Ричардс, покуда вы остаетесь при мистере Поле, если удастся что-нибудь выдумать, не нарушая открыто приказаний, но, Господи помилуй, мисс Флой, вы до сих пор еще не разделись, непослушная вы девочка, ступайте!
С этими словами Сьюзен Нипер, прибегнув к насилию, налетела на свою юную питомицу и вымела ее из комнаты.
Девочка, тоскующая и заброшенная, была такой кроткой, такой тихой и безответной, столько было в ней нежности, которая, казалось, никому не была нужна, и столько болезненной чуткости, которую, казалось, никто не замечал и не боялся ранить, что у Полли сжалось сердце, когда она снова осталась одна. Простой разговор между нею и осиротевшей девочкой растрогал ее материнское сердце не меньше, чем сердце ребенка; и так же, как ребенок, она почувствовала, что с этой минуты между ними возникли доверие и близость.
Несмотря на то, что мистер Тудль во всем полагался на Полли, она вряд ли превосходила его в области приобретенных познаний. Но она была наглядным образцом женской натуры, которая в целом может лучше, честнее, выше, благороднее, быстрее почувствовать и проявить большее постоянство в нежности и сострадании, самопожертвовании и преданности, чем натура мужская. Хотя она ничему не училась, она могла бы с самого начала дать мистеру Домби крупицу знания, которое, в этом случае, не поразило бы его впоследствии как молния.
Но мы уклонились в сторону. В настоящее время Полли помышляла только о том, как бы укрепить завоеванную благосклонность мисс Нипер и придумать способ, чтобы маленькая Флоренс могла быть с нею, не нарушая запретов и не проявляя непокорности. В тот же вечер представился удобный случай.
Как обыкновенно, она по звонку сошла вниз в застекленную комнату и долго прогуливалась с ребенком на руках, как вдруг, к великому ее изумлению и испугу, появился мистер Домби и остановился перед ней.
– Добрый вечер, Ричардс.
Все тот же строгий, чопорный джентльмен, каким она увидела его в тот первый день. Джентльмен с таким суровым взглядом, что она невольно потупилась и сделала реверанс.
– Как поживает мистер Поль, Ричардс?
– Растет, сэр, здоров.
– Вид у него здоровый, – сказал мистер Домби, всматриваясь с величайшим вниманием в крохотное личико, которое она приоткрыла, и, однако, притворяясь в какой-то мере равнодушным. – Надеюсь, вы получаете все, что хотите?
– Да, сэр, благодарю вас.
Однако она с таким замешательством дала этот ответ, что мистер Домби, который уже отошел от нее, остановился и снова повернулся к ней с вопросительным видом.
– Мне кажется, сэр, чтобы развлечь и развеселить ребенка, ничего не может быть лучше, как позволить другим детям играть около него, – набравшись храбрости, заметила Полли.
– Когда вы поступили сюда, Ричардс, – нахмурившись, сказал мистер Домби, – я, кажется, высказал желание, чтобы вы как можно реже виделись со своей семьей. Будьте добры, продолжайте свою прогулку.
С этими словами он удалился во внутренние комнаты, а Полли догадалась, что он совсем не понял ее намерения и что она впала в немилость, отнюдь не приблизившись к цели.
На следующий вечер, сойдя вниз, она увидела, что мистер Домби прогуливается по оранжерее. Она остановилась в дверях, смущенная этим необычным зрелищем, не зная, идти ли ей дальше, или отступить; он подозвал ее.
– Если вы действительно считаете, что такое общество полезно ребенку, – сказал он отрывисто, словно только что услышал предложение кормилицы, – то где же мисс Флоренс?
– Никого лучше не найти, чем мисс Флоренс, сэр, – с жаром подхватила Полли, – но со слов ее маленькой служанки я поняла, что им не…
Мистер Домби позвонил и зашагал по комнате, пока не явился слуга.
– Распорядитесь, чтобы мисс Флоренс приводили к Ричардс, когда она пожелает, отпускали с ней на прогулку и так далее. Распорядитесь, чтобы детям разрешали быть вместе, когда этого захочет Ричардс.
Железо было горячо, и Ричардс, смело принявшись его ковать, – это было доброе дело, и она не теряла мужества, хотя инстинктивно боялась мистера Домби, – пожелала, чтобы мисс Флоренс немедленно спустилась сюда и познакомилась со своим маленьким братом.
Она сделала вид, будто баюкает ребенка, когда слуга ушел исполнять поручение, но ей почудилось, что мистер Домби побледнел, что выражение его лица резко изменилось, что он быстро повернулся, словно хотел взять назад свои слова, ее слова или и те и другие, а удержал его только стыд.
И она была права. В последний раз он видел свою заброшенную дочь в объятиях умирающей матери, что было для него и откровением и укоризной. Как ни был он поглощен Сыном, на которого возлагал такие большие надежды, он не мог забыть эту заключительную сцену. Он не мог забыть о том, что не принимал в ней никакого участия, что в прозрачных глубинах нежности и правды эти два существа сжимали друг друга в объятиях, тогда как он сам стоял на берегу, глядя на них сверху вниз как простой зритель – не соучастник, отвергнутый.
Так как он не в силах был отогнать эти воспоминания и не задумываться над теми неясными образами, исполненными смысла, какие он мог различить сквозь туман своей гордыни, прежнее его равнодушие к маленькой Флоренс сменилось какою-то странной неловкостью. У него появилось такое ощущение, как будто она следит за ним и не доверяет ему. Как будто у нее есть ключ от какой-то тайны, спрятанной в его сердце, природа которой вряд ли была известна ему самому. Как будто ей дано знать об одной дребезжащей и ненастроенной струне в нем, и от одного ее дыхания эта струна может зазвучать.
Его отношение к девочке было отрицательным с самого ее рождения. Он никогда не питал к ней отвращения – не стоило труда, да это и не было ему свойственно. Явной неприязни он к ней не чувствовал. Но теперь она приводила его в смущение. Она нарушала его покой. Он предпочел бы совершенно прогнать мысли о ней, если бы знал, как это сделать. Быть может – кто разгадает такие тайны? – он боялся, что возненавидит ее.
Когда маленькая Флоренс боязливо вошла, мистер Домби прервал свое хождение и посмотрел на нее. Посмотри он на нее с большим интересом, глазами отца, он прочел бы в ее зорком взгляде волнения и страхи, приводившие ее в замешательство; страстное желание прильнуть к нему, спрятать лицо на его груди и воскликнуть: «О, папа, постарайтесь полюбить меня! У меня никого больше нет!»; опасение, что ее оттолкнут; боязнь оказаться слишком дерзкой и оскорбить его; мучительную потребность в поддержке и ободрении. И, наконец, он увидел бы, как ее детское сердце, обремененное непосильной ношей, ищет какого-нибудь естественного прибежища и для скорби своей и для любви.
Но ничего этого он не видел. Он видел только, как она нерешительно остановилась в дверях и посмотрела в его сторону; и больше ничего он не видел.
– Войди, – сказал он, – войди. Чего боится эта девочка?
Она вошла и, неуверенно посмотрев вокруг, остановилась у самой двери, крепко сжимая маленькие ручки.
– Подойди, Флоренс, – холодно сказал отец. – Ты знаешь, кто я?
– Да, папа.
– Не хочешь ли ты что-нибудь сказать мне?
Слезы, выступившие у нее на глазах, когда она посмотрела на него, застыли под его взглядом. Она снова потупилась и протянула дрожащую руку.
Мистер Домби небрежно взял ее за руку и с минуту стоял, глядя на нее, словно не знал, как не знал и ребенок, что нужно сказать или сделать.
– Ну, вот! Будь хорошей девочкой, – сказал он, гладя ее по голове и украдкой бросая на нее смущенный и недоверчивый взгляд. – Ступай к Ричардс! Ступай!
Его маленькая дочь помедлила секунду, как будто все еще хотела прильнуть к нему или питала слабую надежду, что он возьмет ее на руки и поцелует. Она еще раз подняла на него глаза. Он вспомнил, что такое же выражение лица было у нее, когда она оглянулась и посмотрела на доктора – в тот вечер, – и инстинктивно выпустил ее руку и отвернулся.
Нетрудно было заметить, что Флоренс много проигрывала в присутствии отца. Связаны были не только мысли девочки, но и природная ее грация и свобода движений. Все же Полли, видя это, не утратила бодрости духа и, судя о мистере Домби по себе, возлагала надежды на безмолвный призыв – траурное платье бедной маленькой Флоренс. «Право же, это жестоко, – думала Полли, – если он любит только одного осиротевшего ребенка, когда у него перед глазами еще один, и к тому же девочка».
Поэтому Полли старалась удержать ее подольше перед его глазами и ловко нянчила маленького Поля, чтобы показать, как он оживился в обществе сестры. Когда пришло время идти наверх, она послала было Флоренс в соседнюю комнату пожелать отцу спокойной ночи, но девочка смутилась и попятилась, а когда Полли начала настаивать, она прикрыла глаза рукой, словно прячась от своего собственного ничтожества, и воскликнула:
– О нет, нет! Я ему не нужна! Я ему не нужна!
Этот маленький спор привлек внимание мистера Домби; не вставая из-за стола, за которым он пил вино, мистер Домби осведомился, в чем дело.
– Мисс Флоренс боится, что помешает, сэр, если войдет пожелать вам спокойной ночи, – сказала Ричардс.
– Ничего, ничего! – отозвался мистер Домби. – Пусть приходит и уходит, когда ей вздумается.
Девочка съежилась, услышав это, и ушла, прежде чем ее скромная приятельница успела оглянуться.
Впрочем, Полли очень радовалась успеху своего благого замысла и той ловкости, с какою она его осуществила, о чем и сообщила со всеми подробностями задире, как только снова водворилась благополучно наверху. Мисс Нипер приняла это доказательство ее доверия, а также надежду на свободное общение их в будущем довольно холодно и не проявила никакого восторга.
– Я думала, что вы останетесь довольны, – сказала Полли.
– О, еще бы, миссис Ричардс, я чрезвычайно довольна, благодарю вас! – отвечала Сьюзен, которая внезапно выпрямилась так, как будто вставила себе добавочную кость в корсет.
– По вас это не видно, – сказала Полли.
– О, ведь я всего-навсего постоянная, а не временная, так нечего и ждать, чтобы по мне было видно! – сказала Сьюзен Нипер. – Я вижу, что временные одерживают здесь верх, но хотя между этим домом и соседним прекрасная стенка, однако, несмотря ни на что, мне, может быть, все-таки не хочется очутиться припертой к ней, миссис Ричардс!
Глава IV,
в которой на сцене, где развертываются события, впервые выступают новые лица
Хотя контора Домби и Сына находилась в пределах вольностей лондонского Сити и звона колоколов Сент-Мэри-леБоу, когда гулкие голоса их еще не тонули в уличном шуме, однако кое-где по соседству можно было подметить следы отважной и романтической жизни. Гог и Магог[6] во всем своем великолепии пребывали в десяти минутах ходьбы; Королевская биржа находилась поблизости; Английский банк с его подземельями, наполненными золотом и серебром, «там внизу, среди мертвецов», был величественным их соседом. За углом высился дом богатой Ост-Индской компании, наводя на мысль о драгоценных тканях и камнях, о тиграх, слонах, широких седлах с балдахином, кальянах, зонтах, пальмах, паланкинах и великолепных смуглых принцах, сидящих на ковре, в туфлях с сильно загнутыми вверх носками. Всюду по соседству можно было увидеть изображения кораблей, устремляющихся на всех парусах во все части света; товарные склады, готовые отправить в путь кого угодно и куда угодно, в полном снаряжении, через полчаса; и маленьких деревянных мичманов в устаревшей морской форме, находившихся над входом в лавки морских инструментов и вечно наблюдавших за наемными каретами.
Единственный хозяин и владелец одной из таких фигурок – той, которую можно было бы назвать фамильярно самой деревянной, – той, которая возвышалась над тротуаром, выставив вперед правую ногу с учтивостью поистине невыносимой, обладала пряжками на башмаках и жилетом с лацканами, поистине неприемлемыми для человеческого разума, и подносила к правому глазу некий возмутительно несоразмерный инструмент, – единственный хозяин и владелец этого Мичмана, – вдобавок гордившийся им, – пожилой джентльмен в валлийском парике[7], вносил арендную плату, налоги и пошлины в течение большего числа лет, чем насчитывали многие великовозрастные мичманы во плоти и крови, а в мичманах, которые достигли бодрой старости, не было недостатка в английском флоте.
Запас товаров этого старого джентльмена состоял из хронометров, барометров, подзорных труб, компасов, карт морских и географических, секстантов, квадрантов и образцов всевозможных инструментов, какими пользуются, прокладывая курс судна, ведя судовые вычисления и определяя местонахождение корабля. В ящиках и на полках хранились у него предметы из меди и стекла, и никто, кроме посвященных, не мог бы определить, где у них верх, или угадать способ их применения, или же, осмотрев их, снова уложить без посторонней помощи в их гнезда из красного дерева. Каждая вещь была втиснута в самый узкий футляр, вложена в самое тесное отделение, защищена самыми нелепыми подушечками и привинчена туго-натуго, дабы философическое ее спокойствие не пострадало от морской качки. Такие необычайные меры предосторожности были приняты решительно во всем, с целью сэкономить место и уложить вещи потеснее, и столько практической навигации было прилажено, защищено подушками и втиснуто в каждый ящик (был ли то обыкновенный четырехугольный ящик, как иные из них, или нечто среднее между треуголкой и морской звездой, или же ящики простенькие и скромные), что и сама лавка поддалась заразительному влиянию и как будто превратилась в уютное мореходное, корабельного типа сооружение, которое в случае неожиданного спуска на воду нуждалось только в морских просторах, чтобы благополучно приплыть к любому необитаемому острову на земном шаре.
Многие более мелкие детали в хозяйстве мастера корабельных инструментов, гордившегося своим Маленьким Мичманом, поддерживали и упрочивали эту иллюзию. Так как его знакомыми были преимущественно судовые поставщики и тому подобные люди, то на столе у него всегда находились в большом количестве настоящие морские сухари. Этот стол был в дружеских отношениях с сушеным мясом и языками, отличавшимися своеобразным запахом пеньки. Соленья появлялись на нем в огромных оптовых банках с ярлыками: «Поставщик всех видов провианта для судов»; спиртные напитки подавались в плетеных фляжках без горлышка. Старые гравюры, изображающие корабль, с алфавитными указателями, относящимися к многочисленным его тайнам, висели в рамах на стене; восточный фрегат под парусами красовался на полке; заморские раковины, водоросли и мхи украшали камин; в маленькую, отделанную панелью гостиную свет проникал, как в каюту, через светлый люк.
Здесь жил он, на положении шкипера, один со своим племянником Уолтером, четырнадцатилетним мальчиком, который в достаточной мере походил на мичмана, чтобы не нарушать общего впечатления. Но этим и кончалось дело, ибо сам Соломон Джилс (чаще именуемый старым Солем) отнюдь не имел сходства с моряками. Не говоря уже о его валлийском парике, который был самым безобразным и упрямым из всех валлийских париков и в котором он был похож на что угодно, но только не на пирата, это был медлительный, задумчивый старик с тихим голосом, с глазами красными, как маленькие солнца, глядящие на вас сквозь туман, и с видом человека, только что проснувшегося, каковой он мог приобрести, если бы смотрел дня три-четыре подряд во все оптические инструменты своей лавки, а затем внезапно вернулся к окружающему его миру и нашел его помолодевшим. Единственная перемена, которую можно было наблюдать во внешнем его виде, сводилась к тому, что костюм кофейного цвета и широкого покроя, украшенный блестящими пуговицами, уступал место костюму того же кофейного цвета, но с панталонами из светлой нанки. Он носил аккуратнейшее жабо, превосходные очки на лбу и огромный хронометр в кармане и скорее поверил бы в заговор, составленный всеми стенными и карманными часами Сити и даже самим солнцем, чем усомнился в таком драгоценном инструменте. Таким, каков был он теперь, – таким пребывал он в лавке и в гостиной позади Маленького Мичмана многие и многие годы; каждый вечер он в одно и то же время шел спать в унылую мансарду, находившуюся в стороне от остальных жильцов; там частенько бушевал ураган, в то время как английские джентльмены, спокойно проживавшие внизу, почти или вовсе не имели понятия о погоде. В половине шестого в осенний вечер читатель и Соломон Джилс завязывают знакомство. Соломон Джилс занят тем, что смотрит, который час показывает его безупречный хронометр. Обычная каждодневная очистка Сити от людей уже длилась больше часу, а человеческий поток все еще катится к западу. «Толпа на улице сильно поредела», как говорит мистер Джилс. Вечер обещает быть дождливым. Все барометры в лавке упали духом, и дождевые капли уже блестят на треуголке Деревянного Мичмана.
– Хотел бы я знать, где Уолтер? – сказал Джилс, заботливо спрятав хронометр. – Вот уже полчаса, как обед готов, а Уолтера нет!
Повернувшись на своем табурете за конторкой, Джилс выглянул из-за инструментов в окно, не переходит ли его племянник улицу. Нет. Его не было среди раскачивающихся зонтов, и уж, конечно, за него нельзя было принять мальчишку-газетчика в клеенчатой кепке, который медленно проходил мимо медной доски снаружи, указательным пальцем выписывая свое имя над именем мистера Джилса.
– Если бы я не знал, что он слишком меня любит, чтобы удрать и против моего желания поступить на судно, я бы начал беспокоиться, – сказал мистер Джилс, постукивая согнутыми пальцами по двум-трем барометрам. – Право же, начал бы. «Весь в Даунсе»[8], а? Большая влажность! Ну что ж! Дождь нужен.
– Мне кажется, – сказал мистер Джилс, сдувая пыль со стеклянной крышки компаса, – мне кажется, что в конце концов ты склоняешься к задней гостиной не более точно и прямо, чем мальчик. А гостиная обращена как нельзя правильнее. Прямо на север. Нет уклонения хотя бы на одну двадцатую ни в ту ни в другую сторону.
– Здравствуйте, дядя Соль!
– Здравствуй, мой мальчик! – воскликнул мастер судовых инструментов, живо оборачиваясь. – А, так ты уже здесь?
Бодрый, веселый мальчик, оживившийся от быстрой ходьбы под дождем, миловидный, с блестящими глазами и вьющимися волосами.
– Ну, что, дядя, как вы здесь поживали без меня весь день? Готов обед? Как я голоден!
– Что касается того, как я поживал, – добродушно сказал Соломон, – то странно было бы, если бы без такого повесы, как ты, мне не жилось гораздо лучше. Что касается обеда, то вот уже полчаса, как он готов и ждет тебя. А что касается голода, то и я голоден.
– Ну, так идемте, дядя! – воскликнул мальчик. – Ура адмиралу!
– К черту адмирала! – возразил Соломон Джилс. – Ты хочешь сказать – лорд-мэру.
– Нет, не хочу! – закричал мальчик. – Адмиралу – ура! Адмиралу – ура! Вперед!
После такой команды валлийский парик и его обладатель были доставлены без сопротивления в заднюю гостиную, словно во главе абордажного отряда в пятьсот человек, и дядя Соль со своим племянником живо принялись за жареную камбалу, имея в перспективе бифштекс.
– Лорд-мэр, Уоли, – сказал Соломон, – на веки вечные! Больше никаких адмиралов. Лорд-мэр – вот твой адмирал.
– Да неужели? – сказал мальчик, покачивая головой. – Даже меченосец[9] все-таки лучше, чем он. Тот хоть иногда обнажает свой меч.
– И при этом имеет глупейший вид, несмотря на все свои старанья, – возразил дядя. – Послушай меня, Уоли, послушай меня. Взгляни на каминную полку.
– Кто же это повесил мою серебряную кружку на гвоздь? – воскликнул мальчик.
– Я, – ответил дядя. – Никаких больше кружек. С сегодняшнего дня мы должны приучаться пить из стаканов, Уолтер. Мы люди торговые. Мы связаны с Сити. Сегодня утром мы начали новую жизнь.
– Ладно, дядя, – сказал мальчик, – я буду пить из чего вам угодно, пока могу пить за ваше здоровье. За ваше здоровье, дядя Соль, и ура…
– Лорд-мэру, – перебил старик.
– Лорд-мэру, шерифам, городскому совету и всем городским властям, – сказал мальчик. – Многая лета!
Дядя, вполне удовлетворенный, кивнул головой.
– А теперь, – сказал он, – послушаем о фирме.
– Ну что касается фирмы, много не расскажешь, дядя, – сказал мальчик, орудуя ножом и вилкой. – Это ужасно темный ряд конторских помещений, а в той комнате, где я сижу, есть высокая каминная решетка, железный несгораемый шкаф, объявления о судах, которые должны отплыть, календарь, несколько конторок и табуреток, бутылка чернил, книги и ящики и много паутины, а в паутине, как раз над моей головой, высохшая синяя муха; у нее такой вид, как будто она давным-давно там висит.
– И это все? – спросил дядя.
– Да, все, если не считать старой клетки для птиц (не понимаю, как она туда попала!) и ведерка для угля.
– Неужели нет банковских книг, или чековых книг, счетов, или каких-нибудь других признаков богатства, притекающего изо дня в день? – осведомился старый Соль, пытливо глядя на племянника из тумана, который как будто всегда окутывал его, и мягко подчеркивая слова.
– О да, этого, должно быть, очень много, – небрежно отвечал племянник, – но все это в кабинете мистера Каркера, мистера Морфина или мистера Домби.
– А мистер Домби был там сегодня? – осведомился дядя.
– О да. Весь день то приходил, то уходил.
– Вероятно, он никакого внимания на тебя не обращал?
– Нет, обратил. Подошел к моему месту, – хотел бы я, дядя, чтобы он не был таким важным и чопорным, – и сказал: «А, вы – сын мистера Джилса, мастера судовых инструментов?» – «Племянник, сэр», – отвечал я. «Молодой человек, я и сказал: племянник», – возразил он. Но я бы мог поклясться, дядя, что он сказал: «сын».
– Полагаю, что ты ошибся. Это не важно.
– Да, не важно, но я подумал, что ему незачем быть таким резким. Никакой беды в этом не было, хотя он и сказал: «сын». Затем он сообщил, что вы говорили с ним обо мне, и что он подыскал для меня занятие в конторе, и что я должен быть внимательным и аккуратным, а потом он ушел. Мне показалось, что я как будто не очень ему понравился.
– Вероятно, ты хочешь сказать, – заметил старый мастер, – что он как будто не очень тебе понравился.
– Ну, что ж, дядя, – смеясь, отозвался мальчик, – быть может, и так! Я об этом не подумал.
К концу обеда Соломон призадумался и время от времени всматривался в веселое лицо мальчика. Когда они пообедали и убрали со стола (обед был доставлен из соседнего ресторана), он зажег свечу и спустился в маленький погреб, а его племянник, стоя на заросшей плесенью лестнице, заботливо светил ему. Пошарив в разных местах, он вскоре вернулся с очень старой на вид бутылкой, покрытой пылью и паутиной.
– Как, дядя Соль! – воскликнул мальчик. – Что это вы задумали? Ведь это чудесная мадера! Там остается только одна бутылка.
Дядя Соль кивнул головой, давая понять, что он прекрасно знает, что делает; и, в торжественном молчании вытащив пробку, наполнил две рюмки и поставил бутылку и третью, чистую рюмку на стол.
– Последнюю бутылку ты разопьешь, Уоли, – сказал он, – когда добьешься удачи, когда будешь преуспевающим, уважаемым, счастливым человеком; когда жизнь, в которую ты вступил сегодня, выведет тебя – молю Бога об этом! – на ровную дорогу, тебе предназначенную, дитя мое. Будь счастлив!
Туман, окутывавший дядю Соля, словно проник ему в горло, ибо говорил он хрипло. И рука его дрожала, когда он чокался с племянником. Но, поднеся рюмку к губам, он осушил ее, как подобает мужчине, и причмокнул.
– Дорогой дядя! – сказал мальчик, притворяясь, будто относится к этому несерьезно, хотя слезы выступили у него на глазах. – В благодарность за честь, какую вы мне оказали и так далее, я предлагаю провозгласить сейчас трижды три раза и еще раз «ура» в честь мистера Соломона Джилса. Урра! А вы ответите на этот тост, дядя, когда мы вместе разопьем последнюю бутылку, хорошо?
Они снова чокнулись, и Уолтер, у которого еще оставалось вино в рюмке, пригубив его, поднес рюмку к глазам с самым критическим видом, какой только мог на себя напустить.
Дядя сидел и смотрел на него молча. Встретившись наконец с ним взглядом, он сейчас же начал развивать вслух занимавшие его мысли, как будто и не переставал говорить.
– Как видишь, Уолтер, – произнес он, – это торговое предприятие, по правде сказать, стало для меня только привычкой. Я так втянулся в эту привычку, что вряд ли мог бы жить, если бы от нее отказался; но дело не идет, не идет. Когда носили такую форму, – он указал в ту сторону, где стоял Маленький Мичман, – вот тогда действительно можно было нажить состояние, и его наживали. Но конкуренция, конкуренция… новые изобретения, новые изобретения… перемены, перемены… жизнь прошла мимо меня. Я едва ли знаю, где нахожусь я сам, и еще меньше того знаю, где мои покупатели.
– Незачем думать о них, дядя!
– Так, например, с той поры, как ты вернулся домой из пансиона в Пекеме, – а прошло уже десять дней, – сказал Соломон, – я помню только одного человека, который заглянул к нам в лавку.
– Двое, дядя, неужели вы забыли? Заходил мужчина, который просил разменять соверен…
– Это и есть тот один, – сказал Соломон.
– Как, дядя! Неужели вы не считаете за человека ту женщину, которая зашла спросить, как пройти к заставе Майл-Энд?
– Верно, – сказал Соломон. – Я забыл о ней. Двое.
– Правда, они ничего не купили! – воскликнул мальчик.
– Да. Они ничего не купили, – спокойно сказал Соломон.
– И ничего им не требовалось! – воскликнул мальчик.
– Да. Иначе они пошли бы в другую лавку, – тем же тоном сказал Соломон.
– Но их было двое, дядя! – крикнул мальчик, словно торжествуя победу. – А вы сказали – только один.
– Видишь ли, Уоли, – помолчав, продолжал старик, – так как мы не похожи на дикарей, высадившихся на остров Робинзона Крузо, то и не можем прожить на то, что мужчина просит разменять соверен, а женщина спрашивает, как добраться до заставы Майл-Энд. Как я только что сказал, жизнь прошла мимо меня. Я ее не осуждаю; но я ее больше не понимаю. Торговцы уже не те, какими были прежде, приказчики не те, торговля не та, товары не те. Семь восьмых моего запаса товаров устарели. Я – старомодный человек в старомодной лавке, на улице, которая уже не та, какой я ее помню. Я отстал от века и слишком стар, чтобы догнать его. Даже шум его, где-то далеко впереди, приводит меня в смущение.
Уолтер хотел заговорить, но дядя поднял руку.
– Потому-то, Уоли, потому-то я и хочу, чтобы ты пораньше вступил в деловой мир и вышел на широкую дорогу. Я только призрак этого торгового предприятия, самая сущность его исчезла давно, а когда я умру, то и призрак будет похоронен. Ясно, что для тебя это не наследство, и потому-то я счел наилучшим воспользоваться в твоих интересах едва ли не единственной из прежних связей, сохранившейся в силу долгой привычки. Иные думают, что я богат. Хотел бы я в твоих интересах, чтобы они были правы. Но что бы после меня ни осталось и что бы я ни дал тебе, ты в такой фирме, как Домби, имеешь возможность пустить это в оборот и приумножить. Будь прилежен, старайся полюбить это дело, милый мой мальчик, работай, чтобы стать независимым, и будь счастлив!
– Я сделаю все, что в моих силах, чтобы оправдать вашу любовь. Да, сделаю, – серьезно сказал мальчик.
– Я знаю, – сказал Соломон. – Я в этом уверен. – И он с сугубым удовольствием принялся за вторую рюмку старой мадеры. – Что же касается моря, – продолжал он, – то оно хорошо в мечтах, Уоли, и не годится на деле, совсем не годится. Вполне понятно, что ты о нем думал, связывая его со всеми этими знакомыми вещами; но оно не годится на деле, не годится.
Однако Соломон Джилс, рассуждая о море, с тайным удовольствием потирал руки и посматривал вокруг на вещи, имеющие отношение к мореплаванию, с невыразимой благосклонностью.
– Вот, например, подумай об этом вине, – сказал старый Соль, – которое, не знаю сколько раз, совершало путешествие в Ост-Индию и обратно и один раз объехало вокруг света. Подумай о непроглядных ночах, ревущем ветре, набегающих волнах…
– О громе, молнии, дожде, граде, штормах, – вставил мальчик.
– Несомненно, – сказал Соломон, – вино перенесло все это. Подумай о том, как гнулись и скрипели доски и мачты, как свистел и завывал ветер в снастях.
– Как взбирались наверх матросы, обгоняя друг друга, чтобы поскорее убрать обледеневшие паруса, в то время как корабль кренился и зарывался носом, словно одержимый! – вскричал племянник.
– Да, все это, – сказал Соломон, – испытал на себе старый бочонок, в котором было это вино. Когда «Красотка Салли» пошла ко дну в…
– В Балтийском море, глубокой ночью; было двадцать пять минут первого, когда часы капитана остановились у него в кармане; он лежал мертвый, у грот-мачты, четырнадцатого февраля тысяча семьсот сорок девятого года! – вскричал Уолтер с большим воодушевлением.
– Да, правильно! – воскликнул старый Соль. – Совершенно верно! Тогда на борту было пятьсот бочонков такого вина; и весь экипаж (кроме штурмана, первого лейтенанта, двух матросов и одной леди в протекавшей шлюпке) принялся разбивать бочонки, перепился и погиб, распевая «Правь, Британия»; судно пошло ко дну, и их пенье закончилось отчаянным воплем.
– А когда «Георга Второго» прибило к корнуэльскому берегу, дядя, в страшную бурю, за два часа до рассвета, четвертого марта семьдесят первого года, на борту было около двухсот лошадей; в самом начале бури лошади, сорвавшись с привязи внизу, в трюме, стали метаться во все стороны, топча друг друга, подняли такой шум и испускали такие человеческие вопли, что экипаж подумал, будто корабль кишит чертями, даже самые храбрые испугались, потеряли голову и в отчаянии бросились за борт, и в живых остались только двое, которые поведали о случившемся.
– А когда, – сказал старый Соль, – когда «Полифем»…
– Частное торговое вест-индское судно, тоннаж триста пятьдесят, капитан Джон Браун из Детфорда. Владельцы Уигс и К°! – воскликнул Уолтер.
– Оно самое, – сказал Соль. – Когда оно загорелось среди ночи, после четырехдневного плавания при попутном ветре, по выходе из Ямайского порта…
– На борту было два брата, – перебил племянник очень быстро и громко, – а так как для обоих места в единственной целой шлюпке не было, ни тот, ни другой не соглашался сесть в нее, пока старший не взял младшего за пояс и не швырнул в лодку. Тогда младший поднялся в шлюпке и крикнул: «Дорогой Эдуард, подумай о своей невесте, оставшейся дома. Я еще молод. Дома никто меня не ждет. Прыгай на мое место!» – и бросился в море.
Сверкающие глаза и разгоревшееся лицо мальчика, который вскочил, возбужденный тем, что говорил и чувствовал, казалось, напомнили старому Солю что-то, о чем он забыл или что было доселе заслонено окутавшим его туманом. Вместо того чтобы приступить к новому рассказу, как он явно собирался сделать всего секунду назад, он сухо кашлянул и сказал:
– А не поговорить ли нам о чем-нибудь другом?
Суть дела была в том, что простодушный дядя, втайне увлекавшийся всем чудесным и сулившим приключения, – со всем этим он некоторым образом породнился благодаря своей торговле, – весьма споспешествовал такому же влечению у своего племянника; и все, что когда-либо внушалось мальчику с целью отвлечь его от жизни, полной приключений, возымело обычное необъяснимое действие, усилив его любовь к ней. Это неизбежно. Кажется, не было еще написано такой книги или рассказано такой повести с прямою целью удержать мальчиков на суше, которая бы не увеличила в их глазах соблазнов и чар океана.
Но в этот момент к маленькой компании явилось дополнение в лице джентльмена в широком синем костюме, с крючком, прикрепленным к запястью правой руки, с косматыми черными бровями; в левой руке у него была палка, сплошь покрытая шишками (так же как и его нос). Вокруг шеи был свободно повязан черный шелковый платок, над которым торчали концы такого огромного жесткого воротничка, что они напоминали маленькие паруса. Очевидно, это был тот самый человек, для которого предназначалась третья рюмка, и, очевидно, он это знал; ибо, сняв пальто из грубой шерсти и повесив на особый гвоздь за дверью такую жесткую глянцевитую шляпу, которая одним видом своим могла вызвать головную боль у сердобольного человека и которая оставила красную полосу на его собственном лбу, словно на него был нахлобучен очень тесный таз, – он придвинул стул к тому месту, где стояла рюмка, и уселся перед ней. Обычно этого посетителя именовали капитаном; и он был когда-то лоцманом, или шкипером, или матросом каперского судна, или и тем, и другим, и третьим, и действительно имел вид морского волка.
Физиономия его, обращавшая на себя внимание загаром и солидностью, прояснилась, когда он пожимал руку дяде и племяннику; но, по-видимому, он был склонен к лаконизму и сказал только:
– Как дела?
– Все в порядке, – отвечал мистер Джилс, подвигая к нему бутылку.
Он взял ее, осмотрел, понюхал и сказал весьма выразительно:
– Та самая?
– Та самая, – подтвердил старый мастер.
После чего тот присвистнул, наполнил рюмку и, казалось, решил, что попал на самый настоящий праздник.
– Уолтер! – сказал он, пригладив волосы (они были редкие) своим крючком, а затем указав им на мастера судовых инструментов: – Смотрите на него! Любите! Чтите! И повинуйтесь![10] Перелистайте свой катехизис, покуда не найдете этого места, а когда найдете, загните страницу. За ваше преуспеяние, мой мальчик!
Он был до такой степени доволен и своей цитатой, и ссылкой на нее, что невольно повторил эти слова вполголоса и добавил, что не вспоминал о них вот уже сорок лет.
– Но ни разу еще не случалось в моей жизни так, чтобы два-три нужных слова, Джилс, не подвернулись мне под руку, – заметил он. – Это оттого, что я не трачу лишних слов, как другие.
Такое соображение, быть может, напомнило ему о том, что и он, подобно отцу юного Норвала, должен «увеличивать свои запасы». Как бы то ни было, но он умолк и не нарушал молчания, покуда старый Соль не пошел в лавку зажечь свет, после чего он обратился к Уолтеру без всяких предварительных замечаний:
– Полагаю, он бы мог сделать стенные часы, если бы взялся?
– Я бы этому не удивился, капитан Катль, – ответил мальчик.
– И они бы шли! – сказал капитан Катль, чертя в воздухе своим крючком нечто вроде змеи. – Ах, Боже мой, как бы шли эти часы!
Секунду-другую он был, казалось, совершенно поглощен созерцанием хода этих идеальных часов и сидел, глядя на мальчика, словно лицо у него было циферблатом.
– Но он начинен науками, – заметил он, указывая крючком на запас товаров. – Посмотрите-ка сюда! Здесь целая коллекция для земли, воздуха, воды. Все здесь есть. Только скажите, куда вы собираетесь! Вверх на воздушном шаре? Пожалуйте. Вниз в водолазном колоколе? Пожалуйте. Не угодно ли вам положить на весы Полярную звезду и взвесить ее? Он это для вас сделает.
На основании таких замечаний можно заключить, что уважение капитана Катля к запасу инструментов было глубоко и что он не улавливал или почти не улавливал разницы между торговлей ими и их изобретением.
– Ах, – сказал он со вздохом, – прекрасная это штука иметь понятие о них. А впрочем, прекрасная штука – и ничего в них не понимать. Право же, я не знаю, что лучше. Так приятно сидеть здесь и чувствовать, что тебя могут взвесить, измерить, показать в увеличительном стекле, электризовать, поляризовать, черт знает что с тобой сделать, а каким образом – тебе неизвестно.
Ничто, кроме чудесной мадеры в соединении с благоприятным моментом (которым надлежало воспользоваться для усовершенствования и развития ума Уолтера), не могло бы развязать ему язык для произнесения этой удивительной речи. Казалось, он и сам был изумлен тем, как искусно его речь вскрыла источники молчаливого наслаждения, которое он испытывал вот уже десять лет, обедая по воскресеньям в этой гостиной. Затем он обрел рассудительность, взгрустнул, задумался и притих.
– Послушайте! – входя, воскликнул предмет его восхищения. – Прежде чем вы получите свой стакан грога, Нэд, мы должны покончить с этой бутылкой.
– Держись крепче! – сказал Нэд, наполняя свою рюмку. – Налейте-ка еще мальчику.
– Больше не надо, благодарю вас, дядя!
– Нет, нет, – сказал Соль, – еще немножко. Мы допьем, Нэд, эту бутылку в честь фирмы – фирмы Уолтера. Что ж, быть может, когда-нибудь он будет хозяином фирмы, одним из хозяев. Кто знает. Ричард Виттингтон женился на дочери своего хозяина.
– «Вернись, Виттингтон, лондонский лорд-мэр, и когда ты состаришься, то не покинешь его»[11], – вставил капитан. – Уольр! Перелистай книгу, мой мальчик.
– И хотя у мистера Домби нет дочери… – начал Соль.
– Нет, есть, дядя, – сказал мальчик, краснея и смеясь.
– Есть? – воскликнул старик. – Да, кажется, и в самом деле есть.
– Я знаю, что есть, – сказал мальчик. – Об этом говорили сегодня в конторе. И знаете ли, дядя и капитан Катль, – понизил он голос, – говорят, что он невзлюбил ее, и она живет без присмотра среди слуг, а он до такой степени поглощен мыслями о своем сыне, как компаньоне фирмы, что, хотя сын еще малютка, он хочет, чтобы баланс сводили чаще, чем раньше, и книги вели аккуратнее, чем это делалось прежде; видели даже (когда он думал, что никто его не видит), как он прогуливался в доках и смотрел на свои корабли, склады и все прочее, как будто радуясь тому, что всем этим он будет владеть вместе с сыном. Вот о чем говорят. Я-то, конечно, ничего не знаю.
– Как видите, он уже все о ней знает, – сказал мастер судовых инструментов.
– Вздор, дядя! – воскликнул мальчик, снова по-мальчишески краснея и смеясь. – Не могу же я не слушать того, что мне говорят!
– Боюсь, Нэд, что в настоящее время сын немного мешает нам, – сказал старик, поддерживая шутку.
– Изрядно мешает, – сказал капитан.
– А все-таки выпьем за его здоровье, – продолжал Соль. – Итак, пью за Домби и Сына.
– Отлично, дядя, – весело сказал мальчик. – Раз уж вы о ней упомянули и связали меня с нею и сказали, что я все о ней знаю, то я беру на себя смелость изменить тост. Итак, пью за Домби – и Сына – и Дочь!
Глава V
Рост и крестины Поля
Маленький Поль, не потерпев никакого ущерба от млека и плоти Тудлей, с каждым днем набирался здоровья и сил. И с каждым днем все с большим рвением лелеяла его мисс Токс, чья преданность была столь высоко оценена мистером Домби, что он начал почитать ее женщиной с большим запасом здравого смысла, чьи чувства делают ей честь и заслуживают поощрения. Он простер свою благосклонность до таких пределов, что не только кланялся ей не раз с особым вниманием, но даже величественно доверил своей сестре поблагодарить ее в такой форме: «Пожалуйста, передайте вашей приятельнице, Луиза, что она очень добра», или: «Сообщите мисс Токс, Луиза, что я ей признателен», каковые знаки внимания произвели глубокое впечатление на леди, их удостоившуюся.
Мисс Токс частенько уверяла миссис Чик, что «ничто не может сравниться с ее интересом ко всему, связанному с развитием этого прелестного ребенка»; и человек, наблюдающий за поведением мисс Токс, мог прийти к такому же выводу, не нуждаясь в красноречивых подтверждениях. Она надзирала за невинной трапезой юного наследника с неизменным удовольствием, чуть ли не с таким видом, словно участвовала в его кормлении на равных правах с Ричардс. При маленьких церемониях купанья и туалета она помогала с энтузиазмом. Принятие некоторых лекарств, требуемых младенческим возрастом, возбуждало в ней горячее сочувствие, свойственное ее натуре; а спрятавшись однажды в шкафу (куда она забилась из скромности), когда сестра привела мистера Домби в детскую посмотреть на сына, который в легкой полотняной распашонке совершал короткую прогулку перед сном, карабкаясь вверх по платью Ричардс, мисс Токс, за спиной не ведающего о ней посетителя, пришла в такой восторг, что не могла удержаться, чтоб не воскликнуть: «Ну, не красавчик ли он, мистер Домби? Не купидон ли он, сэр?», после чего едва не сгорела от стыда и смущения за дверцей шкафа.
– Луиза, – сказал однажды мистер Домби сестре, – право, мне кажется, что я должен сделать вашей приятельнице какой-нибудь маленький подарок по случаю крестин Поля. С самого начала она так тепло заботилась о ребенке и, по-видимому, так хорошо понимает свое положение (добродетель, к сожалению, весьма редкая в этом мире), что, право же, мне доставило бы удовольствие оказать ей внимание.
Отнюдь не умаляя добродетелей мисс Токс, следует упомянуть, что в глазах мистера Домби – как и некоторых других, которые лишь при случае прозревают, – только те обрели великое уменье понимать свое место, кто с подобающим почтением относится к занимаемому им положению. Добродетель таких людей заключалась не столько в том, что они знали самих себя, сколько в том, что они знали его и низко перед ним склонялись.
– Дорогой мой Поль, – сказала его сестра, – вы лишь воздаете должное мисс Токс; я знала, что именно так поступит человек, обладающий вашей проницательностью. Мне кажется, если есть в нашем языке три слова, к которым она питает уважение, граничащее с благоговением, то слова эти – Домби и Сын.
– Да, – сказал мистер Домби, – я этому верю. Это делает честь мисс Токс.
– Что же касается какого-нибудь подарка, дорогой мой Поль, – продолжала сестра, – я могу сказать одно: все, что бы вы ни подарили мисс Токс, она – в этом я уверена – будет беречь и ценить как реликвию. Но есть более лестный и приятный способ, дорогой мой Поль, выразить вашу признательность мисс Токс, если вы согласитесь.
– Какой именно? – спросил мистер Домби.
– Конечно, выбор крестного отца, – продолжала миссис Чик, – имеет значение с точки зрения связей и влияния.
– Не знаю, какое это может иметь значение для моего сына, – холодно сказал мистер Домби.
– Совершенно справедливо, дорогой мой Поль, – отвечала миссис Чик с необычайным оживлением, имевшим целью скрыть неожиданную перемену в ее намерениях, – именно так вы и должны были сказать. Ничего другого я и не ждала от вас. Следовало бы мне знать, что таково будет ваше мнение. Быть может, – тут миссис Чик снова ему польстила, неуверенно нащупывая правильный путь, – быть может, потому-то вы тем менее стали бы возражать против того, чтобы мисс Токс была крестной матерью дорогого малютки, хотя бы в качестве представительницы и заместительницы какого-нибудь другого лица. Незачем говорить, Поль, что это было бы принято как великая честь и отличие.
– Луиза, – помолчав, сказал мистер Домби, – трудно допустить…
– Конечно! – воскликнула миссис Чик, спеша предупредить отказ. – Я никогда этого не думала.
Мистер Домби с досадой посмотрел на нее.
– Не волнуйте меня, дорогой мой Поль, – сказала сестра, – я прихожу в расстройство! У меня мало сил. Я еще не опомнилась с тех пор, как скончалась Фанни.
Мистер Домби взглянул на носовой платок, который сестра поднесла к глазам, и продолжал:
– Трудно допустить, говорю я…
– И я говорю, – пробормотала миссис Чик, – что никогда этого и не думала.
– Ах, Боже мой, Луиза! – сказал мистер Домби.
– Нет, дорогой мой Поль, – возразила она с плаксивым достоинством, – право же, нужно дать мне высказаться. Я не так умна, как вы, не так рассудительна, не так красноречива и все прочее. Я это прекрасно знаю. Тем хуже для меня. Но хотя бы это были последние слова, какие мне суждено произнести – а последние слова должны быть священны для вас и для меня, Поль, после смерти бедной Фанни, – я бы все-таки сказала, что никогда этого не думала. И мало того, – добавила миссис Чик с подчеркнутым достоинством, как будто до сей поры она берегла про запас свой самый сокрушительный аргумент, – я никогда этого и не думала.
Мистер Домби прошелся по комнате к окну и обратно.
– Трудно допустить, Луиза, – сказал он (миссис Чик заупрямилась и повторила «знаю, что трудно», но он не обратил внимания), – что нет людей, которые – предполагая, что в подобном случае я признаю какие бы то ни было права, – не имеют больших прав, чем мисс Токс. Но я этого не признаю. Я никаких чужих прав не признаю. Поль и я будем в силах, когда придет время, сохранить свое положение – иными словами, фирма в силах будет сохранить свое положение, сохранить свое имущество и передать его по наследству без каких-либо наставников и помощников. Такого рода посторонней помощью, которую обычно ищут люди для своих детей, я могу пренебречь, ибо, надеюсь, я выше этого. Итак, когда благополучно минует пора младенчества и детства Поля и я увижу, что он не теряя времени готовится к той карьере, для которой предназначен, я буду удовлетворен. Он может приобретать каких ему угодно влиятельных друзей впоследствии, когда будет энергически поддерживать – и увеличивать, если это только возможно, – достоинство и кредит фирмы. До тех пор с него, пожалуй, достаточно будет меня, и никого больше не нужно. У меня нет ни малейшего желания, чтобы кто-то становился между нами. Я предпочитаю выразить свою признательность за услуги такой уважаемой особе, как ваша приятельница. Стало быть, пусть так оно и будет; и полагаю, что ваш муж и я сам прекрасно можем заменить других восприемников.
В этой речи, произнесенной с большим величием и внушительностью, мистер Домби поистине разоблачил сокровенные свои чувства. Бесконечное недоверие ко всякому, кто может встать между ним и его сыном; надменный страх встретить соперника, с которым придется делить уважение и привязанность мальчика; острое опасение, недавно зародившееся, что он ограничен в своей власти ломать и вязать человеческую волю; не менее острая боязнь какого-нибудь нового препятствия или бедствия – вот какие чувства владели в то время его душой. За всю свою жизнь он не приобрел ни одного друга. Холодная и сдержанная его натура не искала и не нашла друзей. И вот когда все силы этой натуры сосредоточились на одном из пунктов общего плана, продиктованного родительской заботою и честолюбием, казалось, будто ледяной поток, вместо того чтобы уступить этому влиянию и стать прозрачным и свободным, оттаял лишь на секунду, чтобы принять этот груз, а затем замерз вместе с ним в сплошную твердую глыбу.
Вознесенная таким образом благодаря своему ничтожеству до звания крестной матери маленького Поля, мисс Токс с этого часа была избрана и определена на свою новую должность; и далее мистер Домби выразил желание, чтобы церемония, которую долго откладывали, была совершена без дальнейшего промедления. Его сестра, вовсе не рассчитывавшая на столь блестящий успех, поспешила удалиться, чтобы сообщить о нем лучшей своей приятельнице, и мистер Домби остался один в библиотеке.
В детской было отнюдь не безлюдно, ибо миссис Чик и мисс Токс с удовольствием проводили там вечер, – к столь великому отвращению Сьюзен Нипер, что эта молодая леди пользовалась каждым удобным случаем, чтобы скорчить гримасу за дверью. Чувства ее в этот день были так возбуждены, что она сочла необходимым доставить им это облегченье, даже невзирая на отсутствие свидетелей и какого бы то ни было сочувствия. Подобно тому, как в старину странствующие рыцари облегчали свою душу, запечатлевая имя возлюбленной в пустынях, лесах и других глухих местах, куда вряд ли мог забрести кто-нибудь, чтобы его прочесть, так и мисс Сьюзен Нипер морщила свой вздернутый нос, заглядывая в комоды и гардеробы, прятала презрительные усмешки в шкафы, бросала насмешливые взгляды в глиняные кувшины и бранилась в коридоре.
Однако обе непрошеные гостьи, пребывая в блаженном неведении относительно чувств молодой леди, наблюдали, как маленький Поль благополучно прошел через все стадии раздевания, барахтанья, ужина и укладывания спать, а затем сели пить чай у камина. Дети благодаря стараниям Полли спали теперь в одной комнате, и леди, расположившись за чайным столом и случайно взглянув на маленькие кроватки, тогда только вспомнили о Флоренс.
– Как она крепко спит! – сказала мисс Токс.
– Ведь вы знаете, милая моя, днем она много возится, – отвечала миссис Чик, – все время играет около маленького Поля.
– Странный она ребенок, – сказала мисс Токс.
– Милая моя, – понизив голос, ответила миссис Чик, – она – вылитая мать!
– В самом деле? – сказала мисс Токс. – Ах, Боже мой!
В высшей степени соболезнующим тоном сказала это мисс Токс, хотя понятия не имела – почему; знала только, что этого от нее ждут.
– Флоренс никогда, никогда, никогда не будет Домби, – сказала миссис Чик, – проживи она хоть тысячу лет.
Мисс Токс подняла брови и снова преисполнилась сострадания.
– Я мучаюсь и терзаюсь из-за нее, – сказала миссис Чик со смиренно-добродетельным вздохом. – Я, право, не знаю, что из нее выйдет, когда она подрастет, и какое место в обществе сможет она занять. Она не умеет расположить к себе отца. Да и как можно на это надеяться, если она так не похожа на Домби!
Мисс Токс сделала такую мину, словно не находила никаких возражений на столь неоспоримый аргумент.
– К тому же у девочки, как видите, – конфиденциально сообщила миссис Чик, – натура бедной Фанни. Смею утверждать, что в дальнейшей жизни она никогда не будет делать усилий. Никогда! Она никогда не обовьется вокруг сердца своего отца, как…
– Как плющ? – подсказала мисс Токс.
– Как плющ, – согласилась миссис Чик. – Никогда! Она никогда не найдет пути и не приникнет к любящей груди отца, как…
– Пугливая лань? – подсказала мисс Токс.
– Как пугливая лань, – сказала миссис Чик. – Никогда! Бедная Фанни! А все-таки как я ее любила!
– Не надо расстраиваться, дорогая моя, – успокоительным тоном сказала мисс Токс. – Ну, полно! Вы слишком чувствительны.
– У всех у нас есть свои недостатки, – сказала миссис Чик, проливая слезы и покачивая головой. – Думаю, что есть. Я никогда не была слепа к ее недостаткам. И никогда не утверждала обратного. Отнюдь. А все-таки как я ее любила!
Какое удовлетворение испытывала миссис Чик – довольно заурядная и глупая особа, по сравнению с которой покойная невестка была воплощением женского ума и кротости, – относясь покровительственно и тепло к памяти этой леди (точно так же она поступала и при жизни ее) и при этом веря в самое себя, дурача самое себя и чувствуя себя прекрасно в сознании своей снисходительности! Какой приятнейшей добродетелью должна быть снисходительность, когда мы правы, – раз она столь приятна, когда мы не правы и не можем объяснить, каким образом мы добились привилегии проявлять ее!
Миссис Чик все еще осушала слезы и покачивала головой, когда Ричардс осмелилась уведомить ее, что мисс Флоренс не спит и сидит в своей постельке. По словам кормилицы, она проснулась, и глаза у нее были мокрые от слез. Но никто этого не видел, кроме Полли. Никто, кроме нее, не склонился над нею, не шепнул ей ласковых слов, не подошел поближе, чтобы услышать, как прерывисто бьется у нее сердце.
– Няня дорогая, – сказала девочка, умоляюще глядя ей в лицо, – позвольте мне лечь рядом с братом!
– Зачем, моя милочка? – спросила Ричардс.
– Мне кажется, он меня любит! – возбужденно воскликнула девочка. – Позвольте мне лечь рядом с ним. Пожалуйста!
Миссис Чик вставила несколько материнских слов о том, чтобы она была умницей и постаралась заснуть, но Флоренс с испуганным видом повторила свои мольбы голосом, прерывавшимся от всхлипываний и слез.
– Я его не разбужу, – сказала она, закрыв лицо и опустив голову. – Я только дотронусь до него рукой и засну. О, пожалуйста, позвольте мне лечь сегодня рядом с братом, мне кажется, что он меня любит!
Ричардс, не говоря ни слова, взяла ее на руки и, подойдя к постельке, где спал ребенок, положила рядом. Девочка придвинулась к нему как можно ближе, стараясь не потревожить его сна, и, протянув руку, робко обняла его за шею, закрыла лицо другой рукой, по которой рассыпались ее влажные растрепавшиеся волосы, и притихла.
– Бедная малютка! – сказала мисс Токс. – Должно быть, ей что-нибудь приснилось.
Этот маленький инцидент нарушил течение разговора, так что уже трудно было его возобновить; и вдобавок миссис Чик была столь расстроена размышлениями о собственной снисходительности, что утратила бодрость. Поэтому обе приятельницы вскоре покончили с чаепитием, и слуга был послан нанять кабриолет для мисс Токс. Мисс Токс была весьма сведуща в наемных кебах, и ее отъезд отнимал обычно много времени, ибо она слишком педантично занималась предварительными приготовлениями.
– Пожалуйста, будьте добры, Таулинсон, – сказала мисс Токс, – возьмите прежде всего перо и чернила и запишите разборчиво его номер.
– Слушаю, мисс, – сказал Таулинсон.
– Потом будьте добры, Таулинсон, – сказала мисс Токс, – переверните, пожалуйста, подушку. Она, – довела мисс Токс до сведения миссис Чик, – обычно бывает сырой, дорогая моя.
– Слушаю, мисс, – сказал Таулинсон.
– Я еще обеспокою вас, – сказала мисс Токс, – вручите кучеру эту визитную карточку и этот шиллинг, скажите ему, что он должен отвезти меня по этому адресу, и пусть поймет, что ни в коем случае не получит больше этого шиллинга.
– Слушаю, мисс, – сказал Таулинсон.
– И… мне совестно, что я вам доставляю столько хлопот, Таулинсон, – сказала мисс Токс, глядя на него задумчиво.
– Нисколько, мисс, – сказал Таулинсон.
– В таком случае, будьте добры, Таулинсон, сообщите этому человеку, – сказала мисс Токс, – что у леди есть дядя-судья и что если он позволит себе по отношению к ней какую-нибудь дерзость, то будет сурово наказан. Вы можете сказать это дружески, Таулинсон, как будто вам известно, что так поступили с другим человеком, который умер.
– Разумеется, мисс, – сказал Таулинсон.
– А теперь желаю спокойной ночи моему милому, милому, милому крестнику, – сказала мисс Токс, сопровождая каждое повторение этого эпитета градом нежных поцелуев. – Луиза, дорогой мой друг, обещайте мне выпить на ночь чего-нибудь согревающего и не расстраиваться.
Лишь с величайшим трудом черноглазая Нипер, внимательно за всем наблюдавшая, сдерживалась в этот критический момент и вплоть до последовавшего отбытия миссис Чик. Но когда детская избавилась наконец от посетителей, она вознаградила себя за прежнее воздержание.
– Можете шесть недель держать меня в смирительной рубашке, – сказала Нипер, – но когда ее снимут, я еще больше буду злиться, – ну, видывал ли кто-нибудь когда-нибудь двух таких мегер, миссис Ричардс?
– И толкуют еще о том, будто ей, бедной малютке, что-то приснилось, – сказала Полли.
– Ох уж вы, красавицы! – воскликнула Сьюзен Нипер, приветствуя поклоном дверь, в которую вышли леди. – Она никогда не будет Домби? Вот как? Нужно надеяться, что не будет: больше нам таких не надобно, довольно и одного.
– Не разбудите детей, милая Сьюзен, – сказала Полли.
– Премного вам благодарна, миссис Ричардс, – сказала Сьюзен, которая в гневе своем ни для кого не делала исключений, – и, право же, это честь для меня получать от вас приказания, я ведь черная невольница и мулатка. Миссис Ричардс, если у вас есть для меня еще какие-нибудь распоряжения, сообщите мне, будьте так любезны.
– Вздор! Какие там распоряжения! – сказала Полли.
– Господь с вами, миссис Ричардс! – воскликнула Сьюзен. – Временные всегда распоряжаются здесь постоянными, неужели вы этого не знали, да где же это вы родились, миссис Ричардс, – продолжала задира, – но где бы, когда бы и как бы вы ни родились (об этом вам самой лучше знать), постарайтесь, пожалуйста, запомнить, что одно дело – отдавать приказания и совсем другое – исполнять их. Один человек может сказать другому, миссис Ричардс, чтобы тот бросился вниз головой с моста в реку сорок пять футов глубиной, но этот другой, может быть, и не подумает бросаться.
– Полно, – сказала Полли, – вы сердитесь, потому что вы добрая девушка и любите мисс Флоренс; и сейчас вы накинулись на меня, потому что никого больше здесь нет.
– Кое-кому очень легко не раздражаться и говорить ласковые речи, миссис Ричардс, – отвечала Сьюзен, слегка смягчившись, – когда с их ребенком носятся, как с принцем, и нежат его и холят, покуда ему не захочется избавиться от таких друзей, но когда обижают кроткую, невинную малютку, которая ни одного дурного слова не заслужила, то это совсем другое дело. Господи Боже мой, мисс Флой, непослушная, скверная вы девочка, если вы сию же минуту не закроете глаза, я позову домовых, которые живут на чердаке, чтобы они пришли и съели вас живьем!
Тут мисс Нипер испустила страшное мычание, якобы исходившее от добросовестного домового из породы быков, стремившегося исполнить возложенную на него суровую обязанность. Затем ради дальнейшего успокоения своей юной питомицы она накрыла ее с головой одеялом и сердито хлопнула несколько раз по подушке, после чего скрестила руки на груди, поджала губы и просидела весь вечер, глядя на огонь.
Хотя о маленьком Поле и говорилось, на языке детской, что он «очень многое понимает для своего возраста», но он все это понимал так же мало, как и приготовления к своим крестинам, назначенным на послезавтра; а приготовлениями, касавшимися его собственного наряда, а также наряда его сестры и обеих нянек, занимались весьма энергически. С наступлением знаменательного утра он, казалось, вовсе не почувствовал его значения; напротив, был необычайно склонен ко сну и необычайно склонен обижаться на свою свиту, когда его одевали, чтобы вынести на воздух.
Был серый осенний день с резким восточным ветром – день, соответствующий событию. Мистер Домби олицетворял собою ветер, сумрак и осень этих крестин. В ожидании гостей он стоял в своей библиотеке, суровый и холодный, как сама погода; а когда он смотрел из застекленной комнаты на деревья в садике, их бурые и желтые листья трепеща падали на землю, точно его взгляд нес им гибель.
Уф! Какие это были мрачные, холодные комнаты; и, казалось, они надели траур, как и обитатели дома. У книг, аккуратно подобранных по росту и выстроенных в ряд, как солдаты в холодных, твердых, скользких мундирах, был такой вид, будто они выражали одну только мысль, а именно – мысль о ледяном холоде. Книжный шкаф, застекленный и запертый на ключ, не допускал никакой фамильярности. Бронзовый мистер Питт[12] на шкафу, без малейших следов своего божественного происхождения, стерег недоступное сокровище, словно зачарованный мавр. Высившиеся по обеим сторонам шкафа пыльные урны, вырытые из древней могилы, проповедовали, как бы с двух кафедр, о разрушении и упадке; а зеркало над камином, отражая одновременно и мистера Домби и его портрет, казалось, преисполнено было меланхолическими размышлениями.
Из всех прочих вещей несгибаемые и холодные каминные щипцы и кочерга как будто притязали на ближайшее родство с мистером Домби в его застегнутом фраке, белом галстуке, с тяжелой золотой цепочкой от часов и в скрипучих башмаках. Но это было до прибытия мистера и миссис Чик, законных родственников, которые вскоре явились.
– Дорогой мой Поль, – пробормотала миссис Чик, обнимая его, – надеюсь, это начало многих счастливых дней.
– Благодарю вас, Луиза, – мрачно сказал мистер Домби. – Как поживаете, мистер Джон?
– Как поживаете, сэр? – сказал Чик.
Он подал руку мистеру Домби так, словно опасался, что она может наэлектризовать хозяина дома. Мистер Домби взял ее, как будто это была рыба, водоросль или какое-нибудь клейкое вещество, и тотчас же вернул по принадлежности с изысканной вежливостью.
– Быть может, Луиза, – сказал мистер Домби, слегка поворачивая голову над воротничком, точно она была на шарнире, – вы не прочь, чтобы затопили камин?
– О нет, дорогой мой Поль, – сказала миссис Чик, которая прилагала много усилий, чтобы не щелкать зубами, – для меня не нужно.
– Мистер Джон, – спросил мистер Домби, – вы не чувствительны к холоду?
Мистер Джон, успевший глубоко засунуть руки в карманы и приготовившийся затянуть тот самый собачий припев, который однажды уже привел миссис Чик в такое негодование, заявил, что чувствует себя прекрасно.
Он добавил потихоньку: «С моею там-пам-пам-ля-ля», когда был, по счастью, прерван Таулинсоном, который доложил:
– Мисс Токс.
И вошла прелестная чаровница с синим носом и неописуемо замерзшим лицом, ибо в честь церемонии она оделась весьма легко в какие-то развевающиеся лоскутки.
– Как поживаете, мисс Токс? – сказал мистер Домби.
Мисс Токс, в окутывающем ее газе, опустилась точь-в-точь как сдвигающийся театральный бинокль; она присела так низко в благодарность за то, что мистер Домби шагнул ей навстречу.
– Я никогда не забуду этого дня, сэр, – нежно произнесла она. – Забыть невозможно. Дорогая моя Луиза, я едва могу поверить свидетельству своих чувств.
Если бы мисс Токс могла поверить свидетельству одного из своих чувств, она должна была бы признать, что день очень холодный. Это было совершенно ясно. Она воспользовалась первым удобным случаем, чтобы восстановить кровообращение в кончике носа, и незаметно согревала его носовым платком, чтобы своею крайне низкою температурой он не вызвал неприятного изумления у младенца, когда она подойдет поцеловать его.
Вскоре появился младенец, доставленный с большой помпой Ричардс; Флоренс же под охраной своего энергического молодого констебля, Сьюзен Нипер, замыкала шествие. Хотя все население детской носило к тому времени не такой глубокий траур, как раньше, однако вид осиротевших детей не способствовал прояснению погоды. Вдобавок и младенец – быть может, виноват был нос мисс Токс – расплакался. Вследствие этого мистер Чик удержался от неуместного осуществления весьма похвального намерения, сводившегося к тому, чтобы уделить больше внимания Флоренс; ибо этот джентльмен, нечувствительный к высоким притязаниям безупречных Домби (быть может, в силу того, что и сам имел честь быть сопряженным с Домби и уже освоился с их высоким достоинством), действительно любил ее и не скрывал, что любит, и теперь готовился проявить это по-своему; но Поль расплакался, и супруга остановила мистера Чика.
– Флоренс, дитя мое! – с живостью сказала тетка. – Чего ты ждешь, милочка? Покажись ему. Развлеки его, дорогая моя!
Температура понизилась или могла понизиться, когда мистер Домби холодно взирал на свою дочурку, которая, хлопая в ладоши и поднявшись на цыпочки перед троном его сына и наследника, соблазняла его снизойти с высоты величия и посмотреть на нее. Быть может, похвальные усилия Ричардс усиливали впечатление – как бы там ни было, но он посмотрел вниз и успокоился. Когда его сестра спряталась за свою няньку, он следил за нею глазами; а когда она с радостным криком выглянула из-за ее спины, он встрепенулся и весело заворковал – даже рассмеялся, когда она подбежала к нему, и, казалось, разглаживал ей кудри своими крохотными ручонками, в то время как она осыпала его поцелуями.
Приятно ли было мистеру Домби видеть это? Он не обнаружил никакого удовольствия, оставаясь невозмутимым; впрочем, внешние проявления каких бы то ни было чувств были ему несвойственны. Если солнечный луч и прокрался в комнату, чтобы осветить играющих детей, он не коснулся его лица. Мистер Домби смотрел так напряженно и холодно, что огонек угас даже в смеющихся глазах маленькой Флоренс, когда они случайно встретились с его глазами.
Да, день был пасмурный, осенний, серый, и в наступившей тишине печально падали с деревьев листья.
– Мистер Джон, – сказал мистер Домби, взглянув на часы и взяв шляпу и перчатки, – пожалуйста, предложите руку моей сестре; моя рука принадлежит сегодня мисс Токс. А вы идите вперед с мистером Полем, Ричардс. Будьте осторожны.
В карете мистера Домби – Домби и Сын, мисс Токс, миссис Чик, Ричардс и Флоренс. В маленьком, следовавшем за ней экипаже – Сьюзен Нипер и владелец его, мистер Чик. Сьюзен без устали смотрела в окно, чтобы избавиться от смущавшего ее созерцания широкой физиономии этого джентльмена, и при каждом позвякивании воображала, что он завертывает для нее в бумагу приличный денежный подарок.
Один раз по дороге в церковь мистер Домби захлопал в ладоши, чтобы позабавить сына. Таким проявлением родительского энтузиазма мисс Токс была очарована. Но за исключением этого инцидента единственная разница между людьми, отправляющимися на крестины, и людьми в траурной карете заключалась в цвете экипажей и масти лошадей.
У входа в церковь их встретил величественный бидл[13]. Мистер Домби, выйдя первым, чтобы помочь леди, и стоя около него у дверей церкви, тоже имел вид бидла. Это был менее торжественный, но более страшный бидл частной жизни; бидл наших деловых забот и наших сердец.
Рука мисс Токс дрожала, когда она просунула ее под руку мистера Домби и почувствовала, что ее ведут вверх по ступеням, вслед за треугольной шляпой и воротником вышиной с Вавилонскую башню. На мгновенье это напомнило ей о другом торжественном обряде: «Желаешь ли ты выйти замуж за этого человека, Лукреция?» – «Да, желаю».
– Не внесете ли вы поскорее ребенка в церковь? – прошептал бидл, открывая внутреннюю дверь церкви.
Маленький Поль мог бы спросить вместе с Гамлетом: «В мою могилу?» – так было здесь жутко и сыро. Высокие, покрытые чехлами кафедра и аналой, угрюмый ряд пустых фамильных мест, тянувшихся под галереями, и пустые скамьи на галереях, поднимавшиеся к потолку и терявшиеся в тени большого мрачного органа; пыльные половики и холодные каменные плиты; унылые скамейки в приделах и сырой угол, где висела веревка от колокола, где были свалены черные козлы, употребляемые при похоронах, а также лопаты, корзины и свернутая кольцом зловещая веревка; странный, непривычный, раздражающий запах и мертвенный свет – все гармонировало между собою. Холодная и печальная картина.
– Сейчас здесь свадьба, сэр, – сказал бидл, – но она скоро кончится, а вы пройдите сюда, в ризницу.
Прежде чем повернуться и проводить их, он поклонился мистеру Домби и слегка улыбнулся, давая понять, что он (бидл) помнит, что имел удовольствие присутствовать на похоронах его жены, и надеется, что с тех пор мистеру Домби жилось недурно.
Даже свадьба показалась унылой, когда они проходили мимо алтаря. Невеста была слишком стара, а жених слишком молод; одряхлевший щеголь с моноклем, вставленным вместо второго глаза, исполнял обязанности посаженого отца, в то время как друзья новобрачных дрожали от холода. В ризнице дымил камин; и престарелый, перегруженный работой и получающий скудное жалованье адвокатский клерк, «пустившись на поиски», водил указательным пальцем по пергаментным страницам огромной книги записей (одного из многих подобных же томов), переполненной датами погребений. Над камином висел план склепов под церковью; и мистер Чик, пробегая вслух для развлечения собравшихся приложенное к нему объяснение, не мог остановиться, покуда не прочел до конца справку о могиле миссис Домби.
После новой ледяной паузы сопящая маленькая прислужница, страдающая одышкой, – место ей было на кладбище, а не в церкви, – предложила им подойти к купели. Здесь пришлось немного подождать, пока участники брачной церемонии записывали свои фамилии; а тем временем сопящая маленькая прислужница, отчасти по причине своей болезни, а отчасти для того, чтобы участники брачной церемонии не забыли о ней, бродила по церкви, пыхтя как дельфин.
Наконец церковный клерк (единственный неунывающий здесь субъект, да и тот был гробовщиком) подошел с кувшином теплой воды и, выливая ее в купель, пробормотал, что здесь слишком холодно; впрочем, не хватило бы и миллиона галлонов кипятку, чтобы там стало теплее. Затем молодой священник, приветливый и кроткий, явно побаивавшийся младенца, появился, словно главный герой в рассказе с привидениями, – «высокая фигура, вся в белом», при виде коей Поль огласил церковь воплями и не умолкал до тех пор, пока его не вынули с почерневшим лицом из купели.
Но когда и это совершилось, к великому облегчению всех присутствующих, голос его все же раздавался под сводами, вплоть до окончания церемонии, то слабее, то громче, то затихая, то снова неудержимо протестуя против нанесенной ему обиды. Это до такой степени отвлекало внимание обеих леди, что миссис Чик то и дело показывалась в центральном нефе, чтобы передать распоряжение через прислужницу, а мисс Токс раскрывала свой молитвенник на благодарственной службе, посвященной раскрытию Порохового заговора, и иной раз читала ответы из этой службы.
Во время всей этой процедуры мистер Домби оставался таким же бесстрастным и безупречным, каким был всегда, и, быть может, именно благодаря его присутствию она была такой холодной, что у молодого священника шел пар изо рта, когда он читал. Один только раз выражение его лица слегка изменилось, когда священник, произнося (очень искренне и просто) заключительное увещание восприемникам о воспитании ребенка в будущем, случайно взглянул на мистера Чика; и тогда можно было заметить, как мистер Домби принял величественный вид, выражавший, что он не прочь был бы поймать его за таким занятием.
Быть может, не худо было бы для мистера Домби, если бы он меньше думал о своем собственном достоинстве и больше – о замечательном источнике и замечательной цели церемонии, в которой принимал такое формальное и чопорное участие. Его высокомерие странно противоречило ее истории.
Когда все было кончено, он снова предложил руку мисс Токс и повел ее в ризницу, где сообщил священнику, с каким удовольствием добивался бы он чести видеть его у себя за обедом, если бы не печальное положение дел у него в доме. Когда акт был подписан, деньги уплачены, прислужница (которая снова жестоко раскашлялась) не забыта, бидл вознагражден, пономарь (который случайно очутился у двери, чрезвычайно интересуясь погодой) не оставлен без внимания, они снова уселись в карету и отбыли домой все той же безрадостной компанией.
Дома они нашли мистера Питта, презрительно созерцавшего холодную закуску, красовавшуюся в холодном великолепии хрусталя и серебра и похожую скорее на покойника, выставленного для воздаяния ему последних почестей, чем на гостеприимное угощение. Мисс Токс по прибытии преподнесла крестнику чашку, а мистер Чик – нож, вилку и ложку в футляре. Мистер Домби, в свою очередь, преподнес браслет мисс Токс; и при получении этого сувенира мисс Токс была глубоко растрогана.
– Мистер Джон, – сказал мистер Домби, – будьте любезны занять место в том конце стола. Что у вас там, мистер Джон?
– У меня холодная телячья нога, сэр, – отозвался мистер Чик, усердно растирая окоченевшие руки. – А что у вас, сэр?
– Мне кажется, – отвечал мистер Домби, – у меня холодная телячья голова, затем холодная птица… ветчина… пирожки… салат… омары. Мисс Токс окажет мне честь и выпьет вина? Шампанского мисс Токс.
Все угрожало зубною болью. Вино оказалось таким нестерпимо холодным, что у мисс Токс вырвался тихий писк, который ей большого труда стоило превратить в «гм». Телятину принесли из такого ледяного чулана, что первый же кусок вызвал у мистера Чика ощущение, словно у него леденеют руки и ноги.
Один только мистер Домби оставался невозмутимым. Его можно было бы вывесить для продажи на русской ярмарке как образчик замороженного джентльмена.
Обстановка подавляла даже его сестру. Она не пыталась льстить или болтать и сосредоточила все свои усилия на том, чтобы сохранять такой вид, будто ей тепло.
– Ну, сэр, – сказал мистер Чик, делая отчаянную попытку прервать длительное молчание и наполняя стакан хересом, – этот стакан, с вашего разрешения, сэр, я выпью за здоровье маленького Поля.
– Да благословит его Бог! – прошептала мисс Токс, выпив глоток вина.
– Милый маленький Домби! – прошептала миссис Чик.
– Мистер Джон, – с суровой важностью сказал мистер Домби, – не сомневаюсь, что мой сын почувствовал бы и выразил благодарность, если бы мог оценить честь, которую вы ему оказали. Надеюсь, со временем он в состоянии будет нести любую ответственность, какую доброе расположение его родственников и друзей в частной жизни и тяготы, связанные с нашим положением в обществе, могут возложить на него.
Тон, каким это было сказано, не располагал к продолжению разговора, и мистер Чик снова погрузился в уныние и молчание. Иначе обстояло дело с мисс Токс, которая, выслушав мистера Домби с еще более напряженным вниманием, чем обычно, и еще выразительнее склонив голову к плечу, перегнулась затем через стол и тихо сказала миссис Чик:
– Луиза!
– Да, моя милая? – сказала миссис Чик.
– «Тяготы, связанные с нашим положением в обществе, могут»…я забыла буквальное выражение.
– Предъявить к нему, – сказала миссис Чик.
– Простите, дорогая моя, – возразила мисс Токс, – кажется, не так. Это было более закругленно и плавно. «Доброе расположение родственников и друзей в частной жизни и тяготы, связанные с положением в обществе… могут»… возложить на него?
– Возложить на него, совершенно верно, – сказала миссис Чик.
Мисс Токс с торжеством легонько хлопнула в нежные ладоши и, закатив глаза, добавила:
– Какое красноречие!
Тем временем мистер Домби распорядился, чтобы позвали Ричардс, которая и вошла, приседая, но без младенца; Поль спал после утомительного утра. Передав стакан вина этому вассалу, мистер Домби обратился к ней со следующими словами (мисс Токс заблаговременно склонила голову к плечу и сделала еще кое-какие приготовления, дабы запечатлеть эти слова в сердце своем):
– В течение шести месяцев, Ричардс, какие вы провели в этом доме, вы исполняли свой долг. Желая оказать вам по этому случаю какую-нибудь маленькую услугу, я размышлял о том, как осуществить наилучшим образом это намерение, а также советовался с моей сестрою, миссис…
– Чик, – вставил джентльмен, носивший эту фамилию.
– О, пожалуйста, тише! – сказала мисс Токс.
– Я хотел сказать вам, Ричардс, – продолжал мистер Домби, бросив грозный взгляд на мистера Джона, – что мое решение подсказано воспоминанием о разговоре, какой я имел с вашим мужем в этой комнате, когда вы были наняты и когда он сообщил мне печальный факт, что ваше семейство во главе с ним самим глубоко погрязло в невежестве.
Ричардс поникла пред великолепием упрека.
– Я отнюдь не питаю расположения, – продолжал мистер Домби, – к тому, что люди, склонные к стиранию различий, называют всеобщим обучением. Но необходимо просвещать низшие классы, чтобы они знали свое положение и вели себя соответственно. Постольку я одобряю школы. Имея право выдвинуть кандидата на стипендию в старинном учреждении, названном (в честь почтенного общества) «Милосердными Точильщиками», где ученики не только получают благодетельное образование, но где им дается также платье и значок, я (предварительно снесясь через миссис Чик с вашим семейством) выдвинул кандидатуру вашего старшего сына на имеющуюся вакансию; и, как меня уведомили, сегодня он надел форменное платье. Кажется, номер ее сына, – сказал мистер Домби, обращаясь к сестре и говоря о мальчике так, словно тот был наемной каретой, – сто сорок седьмой. Луиза, вы можете сообщить ей.
– Сто сорок седьмой, – сказала миссис Чик. – Форменное его платье, Ричардс, это – красивый теплый синий фланелевый фрак и шапка с оранжевым кантом, красные шерстяные чулки и очень прочные кожаные штанишки. Уж одну эту часть туалета можно носить с благодарностью, – добавила с энтузиазмом миссис Чик.
– Ну, вот, Ричардс! – сказала мисс Токс. – Теперь вам действительно есть чем гордиться. Милосердные Точильщики!
– Право же, я очень признательна, сэр, – тихо отвечала Ричардс, – и вы очень добры, что вспомнили о моих де тишках.
При этом образ Байлера в костюме Милосердного Точильщика с маленькими его ножками, заключенными в прочные штанишки, описанные миссис Чик, предстал перед глазами Ричардс и заставил ее прослезиться.
– Я очень рада, что вы так чувствительны, Ричардс, – сказала мисс Токс.
– Право же, начинаешь надеяться, – сказала миссис Чик, которая гордилась своим доверчивым отношением к природе человеческой, – что, быть может, есть еще на свете хоть искра благодарности и надлежащей чувствительности.
Ричардс отозвалась на эти комплименты, приседая и бормоча слова признательности; но видя, что ей не оправиться от того смятения, в какое ее поверг образ сына в не соответствующих его возрасту панталонах, она незаметно отступила к двери и почувствовала глубокое облегчение, выскользнув в нее.
Те мимолетные показатели слабой оттепели, какие явились вместе с нею, с нею и исчезли; и мороз снова вступил в свои права, такой же жестокий и суровый, как раньше. Слышно было, как в конце стола мистер Чик дважды начинал напевать какой-то мотив, но оба раза это был траурный марш из «Саула»[14]. Казалось, общество делалось все холоднее и холоднее и постепенно переходило в замороженное и окаменелое состояние, в каком находилась закуска, вокруг которой оно собралось. Наконец миссис Чик взглянула на мисс Токс, а мисс Токс ответила ей взглядом, и обе встали и заметили, что пора уходить. Так как мистер Домби принял это заявление с полным равнодушием, они простились с сим джентльменом и вскоре отбыли под охраной мистера Чика, который, как только они повернулись спиной к дому и оставили его хозяина в привычном одиночестве, засунул руки в карманы, откинулся на спинку сиденья и всю дорогу насвистывал «Хейхо-фью!», выражая при этом всей своей физиономией такое мрачное и грозное презрение, что миссис Чик не посмела протестовать или каким-либо иным способом досаждать ему.
Что касается Ричардс, то хотя она и держала на коленях маленького Поля, однако она не могла забыть своего собственного первенца. Она чувствовала, что это неблагодарность, но влияние этого дня сказалось даже на «Милосердных Точильщиках», и она невольно видела в оловянном значке с номером сто сорок семь нечто от формальности и суровости дня. В детской она завела речь о его «милых ножках» и снова была потревожена его призраком в форменной одежде.
– Не знаю, чего бы я ни отдала, – сказала Полли, – чтобы повидать бедного малютку, покуда он еще не привык к школе.
– Ну, так я вот что скажу, миссис Ричардс, – отозвалась Нипер, которая пользовалась ее доверием, – повидайте его и успокойтесь.
– Мистеру Домби это не понравится, – сказала Полли.
– Неужели не понравится, миссис Ричардс? – откликнулась Нипер. – Мне кажется, ему бы это очень понравилось, если бы его спросили.
– Вероятно, вы и спрашивать бы его не стали? – сказала Полли.
– Да, миссис Ричардс, даже и не подумала бы, – отвечала Сьюзен, – и я слышала, как эти два надсмотрщика, Токс и Чик, говорили, что не намерены быть завтра на своем посту, а стало быть, я и мисс Флой выйдем завтра утром с вами, и поступайте, как вам угодно, миссис Ричардс, потому что мы с таким же удовольствием можем пойти туда, как и шагать взад и вперед по улице, и даже с большим.
Сначала Полли довольно мужественно отвергла это предложение, но мало-помалу стала к нему склоняться – по мере того как все яснее и яснее представляла себе запретные образы детей и родного дома. Наконец, рассудив, что большой беды не будет, если на минутку заглянуть в дверь, она приняла совет Нипер. Когда вопрос был, таким образом, разрешен, маленький Поль жалобно заплакал, словно было у него предчувствие, что ничего хорошего из этого не выйдет.
– Что случилось с ребенком? – спросила Сьюзен.
– Должно быть, он озяб, – сказала Полли, прохаживаясь с ним взад и вперед и баюкая его.
Да, день был холодный, осенний; и покуда она прохаживалась, баюкала и, глядя в тусклые окна, крепче прижимала мальчугана к груди, сухие листья падали дождем.
Глава VI
Вторая утрата Поля
У Полли поутру возникло столько опасений, что, если бы не настойчивые понукания ее черноглазой приятельницы, она отказалась бы от всяких мыслей о путешествии и обратилась бы с формальной просьбой разрешить ей свидание с номером сто сорок седьмым под зловещим кровом мистера Домби. Но Сьюзен, которая (подобно Тони Ламкину[15]) могла с примерной стойкостью переносить чужие разочарования, но не могла мириться со своими, выдвинула столько остроумных возражений против нового плана и поддержала первоначальное намерение таким количеством остроумных доводов, что, как только спина мистера Домби величественно повернулась к дому и сей джентльмен отправился обычной своей дорогой в Сити, его сын, ничего не ведающий, был уже на пути к Садам Стегса.
Эта благозвучная местность находилась в пригороде, известном населению Садов Стегса под именем Кемберлинг Тауна, каковое наименование план Лондона для приезжих, отпечатанный (с целью дать приятную и удобную справку) на носовых платках, сокращает, не без оснований, в Кемден-Таун. Сюда направили свои стопы обе няньки в сопровождении своих питомцев; Ричардс, разумеется, несла Поля, а Сьюзен вела за руку маленькую Флоренс и время от времени угощала ее пинками и толчками, когда считала целесообразным прибегнуть к ним.
Как раз в те времена первый из великих подземных толчков потряс весь район до самого центра. Следы его были заметны всюду. Дома были разрушены; улицы проложены и заграждены; вырыты глубокие ямы и рвы; земля и глина навалены огромными кучами; здания, подрытые и расшатанные, подперты большими бревнами. Здесь повозки, опрокинутые и нагроможденные одна на другую, лежали как попало у подошвы крутого искусственного холма; там драгоценное железо мокло и ржавело в чем-то, что случайно превратилось в пруд. Всюду были мосты, которые никуда не вели; широкие проспекты, которые были совершенно непроходимы; трубы, подобно вавилонским башням, наполовину недостроенные; временные деревянные сооружения и заборы в самых неожиданных местах; остовы ободранных жилищ, обломки незаконченных стен и арок, груды материала для лесов, нагроможденные кирпичи, гигантские подъемные краны и треножники, широко расставившие ноги над пустотой. Здесь были сотни, тысячи незавершенных вещей всех видов и форм, нелепо сдвинутых с места, перевернутых вверх дном, зарывающихся в землю, стремящихся к небу, гниющих в воде и непонятных, как сновидение. Горячие источники и огненные извержения, обычные спутники землетрясения, дополняли эту хаотическую картину. Кипящая вода свистела и вздымалась паром среди полуразрушенных стен, из развалин вырывался ослепительный блеск и рев пламени, а горы золы властно загромождали проходы и в корне изменяли законы и обычаи местности.
Короче, прокладывалась еще не законченная и не открытая железная дорога и из самых недр этого страшного беспорядка тихо уползала вдаль по великой стезе цивилизации и прогресса.
Но окрестное население все еще не решалось признать железную дорогу. Двое-трое дерзких спекулянтов наметили улицы, и один даже начал строиться, но приостановился среди грязи и золы, чтобы еще об этом подумать. Новехонькая таверна, благоухающая свежей известкой и клеем и обращенная фасадом к пустырю, изобразила на своей вывеске железнодорожный герб; быть может, это было безрассудное предприятие, но в ту пору оно возлагало надежды на продажу спиртных напитков рабочим. Так «Приют землекопов» возник из пивной; а старинная «Торговля ветчиной и говядиной» превратилась в «Железнодорожную харчевню» с подачею жареной свинины – по корыстным мотивам такого же непосредственного и отлично понятного людям свойства. Содержатели номеров были расположены к тому же; и по тем же причинам на них не следовало полагаться. Общее доверие прививалось очень туго. Возле самой железной дороги оставались грязные пустыри, хлевы, навозные и мусорные кучи, канавы, сады, беседки и площадки для выбивания ковров. Маленькие могильные холмики из устричных раковин в сезон устриц или из скорлупы омара в сезон омаров, из битой посуды и увядших капустных листьев в любой сезон вырастали на ее насыпи. Столбы, перила, старые надписи, предостерегающие нарушителей чужого права, задворки бедных домишек и островки чахлой растительности взирали на нее с презрением. Никто ничего от нее не выгадывал и не рассчитывал выгадать. Если бы жалкий пустырь, находившийся по соседству с ней, мог смеяться, он высмеивал бы ее с презрением, как это делали многие жалкие ее соседи.
Сады Стегса отличались крайней недоверчивостью. Это был небольшой ряд домов с маленькими убогими участками земли, огороженными старыми дверьми, бочарными досками, кусками брезента и хворостом; жестяные чайники без дна и отслужившие свою службу каминные решетки затыкали дыры. Здесь «садовники Стегса» выращивали красные бобы, держали кур и кроликов, возводили дрянные беседки (одной из них служила старая лодка), сушили белье и курили трубки. Иные придерживались того мнения, что Сады Стегса были названы в честь умершего капиталиста, некоего мистера Стегса, который застроил это место для собственного удовольствия. Другие, по природе своей тяготевшие к деревне, утверждали, что название это ведет начало от тех идиллических времен, когда рогатые животные, известные под названием оленей[16], искали приюта в тенистых окрестностях. Как бы там ни было, местные жители почитали Сады Стегса священной рощей, которую не уничтожат железные дороги; и были они так уверены в ее способности пережить все эти нелепые изобретения, что трубочист на углу, который, как было известно, руководил местной политикой Садов, обещал во всеуслышание приказать в день открытия железной дороги – если она когда-нибудь откроется – двум из своих мальчишек, чтобы те вскарабкались по дымоходам его жилища с наказом приветствовать неудачу насмешливыми возгласами из дымовых труб.
В это нечестивое место, самое название которого до сей поры тщательно скрывалось от мистера Домби его сестрою, был доставлен теперь маленький Поль Судьбою и Ричардс.
– Вот мой дом, Сьюзен, – указывая на него, радостно сказала Полли.
– В самом деле, миссис Ричардс? – снисходительно отозвалась Сьюзен.
– И, право же, в дверях стоит моя сестра Джемайма! – воскликнула Полли. – И на руках у нее мой милый, ненаглядный малютка!
Зрелище это придало нетерпению Полли такие могучие крылья, что она пустилась бегом по Садам и, подлетев к Джемайме, в мгновение ока обменялась с нею младенцами, к крайнему изумлению этой юной особы, на которую наследник Домби словно с неба свалился.
– Ах, Полли! – воскликнула Джемайма. – Это ты! Ну и перепугала же ты меня! Кто бы мог подумать? Входи, Полли! Какой у тебя прекрасный вид! Дети с ума сойдут, когда увидят тебя, Полли, право же, с ума сойдут.
Так и случилось, если судить по шуму, какой они подняли, и по тому, как они бросились к Полли и потащили ее к глубокому креслу у камина, где ее честное лицо, похожее на яблоко, тотчас окружили яблочки помельче и все прижимались к нему своими розовыми щечками, по-видимому созрев на одном и том же дереве. Что до Полли, то она подняла такой же шум и возню, как и дети; и суматоха немного поулеглась не раньше, чем она совсем запыхалась, волосы спустились прядями на раскрасневшееся лицо, а новое платье, сшитое по случаю крестин, было сильно измято. Но и тогда младший Тудль остался у нее на коленях и крепко обнимал ее за шею обеими руками, а следующий Тудль вскарабкался на спинку кресла и, болтая одной ногой, делал отчаянные попытки поцеловать ее.
– Смотрите-ка, к вам в гости пришла хорошенькая маленькая леди, – сказала Полли. – Видите, какая она тихонькая! Какая красивая маленькая леди, правда?
Это упоминание о Флоренс, которая стояла у двери, следя за происходящим, привлекло к ней внимание младших отпрысков и равным образом счастливо содействовало официальному признанию мисс Нипер, у которой уже возникло опасение, что ею пренебрегли.
– Ах, Сьюзен, пожалуйста, войдите и присядьте на минутку, – сказала Полли. – Это моя сестра Джемайма, вот она. Джемайма, не знаю, что бы я делала, если бы не Сьюзен Нипер; не будь ее, не было бы меня здесь сегодня.
– Ах, присядьте, пожалуйста, мисс Нипер, – подхватила Джемайма.
Сьюзен с величественным и церемонным видом присела на самый кончик стула.
– Я никогда еще никому так не радовалась, мисс Нипер, право же, никогда, – сказала Джемайма.
Сьюзен, смягчившись, слегка подвинулась на стуле и милостиво улыбнулась.
– Пожалуйста, мисс Нипер, развяжите ленты шляпы и будьте как дома, – умоляла Джемайма. – Боюсь, что вы не бывали в таком бедном жилище; но вы окажете нам снисхождение, в этом я уверена.
Черноглазая была так польщена этим почтительным обращением, что подхватила на колени маленькую мисс Тудль, пробегавшую мимо, и тотчас же повезла ее на Бенбери-Кросс[17].
– А где же мой миленький мальчик? – спросила Полли. – Мой бедный мальчуган? Я пришла поглядеть, каков он в новом платье.
– Ах, какая жалость! – воскликнула Джемайма. – Как он будет горевать, когда узнает, что мама была здесь! Он в школе, Полли.
– Уже ушел?
– Да. Вчера он пошел в первый раз, боялся пропустить ученье. А сегодня занимаются полдня, Полли; ах, если бы ты могла подождать, пока он вернется домой… ты и мисс Нипер, конечно, – сказала Джемайма, вовремя вспомнив о самолюбии черноглазой.
– А какой у него вид, Джемайма, помоги ему Бог? – боязливо спросила Полли.
– Да уж не так плох, как ты, может быть, думаешь, – ответила Джемайма.
– Ах! – с чувством сказала Полли. – Я решила, что ноги у него, должно быть, слишком коротки.
– Ноги у него и в самом деле коротки, – отвечала Джемайма, – но они с каждым днем будут становиться длиннее.
Это утешение рассчитано было на будущее; но бодрость и добродушие, его сопровождавшие, придали ему цену, какой оно по существу не имело. После минутного молчания Полли спросила более веселым тоном:
– А где отец, милая Джемайма? – ибо этим патриархальным именем обычно называли в семье мистера Тудля.
– Ну вот! – воскликнула Джемайма. – Какая жалость! Сегодня утром отец взял с собой обед и домой вернется только к вечеру. Но он постоянно толкует про тебя, Полли, и рассказывает о тебе детям; он – самое тихое, терпеливое и кроткое существо на свете, всегда был таким и всегда будет.
– Спасибо, Джемайма! – воскликнула простодушная Полли, восхищенная этой речью и опечаленная отсутствием мужа.
– О, не за что благодарить меня, Полли, – отвечала сестра, крепко целуя ее в щеку и весело подбрасывая на руках маленького Поля. – Иной раз я то же самое и о тебе говорю и думаю.
Несмотря на двойное разочарование, нельзя было считать неудачей визит, удостоившийся такого приема; поэтому сестры бодро толковали о семейных делах, о Байлере и обо всех его братьях и сестрах, а черноглазая, совершив несколько поездок на Бенбери-Кросс и обратно, пристально разглядывала мебель, голландские часы, буфет, замок на каминной доске со вставленными в него красными и зелеными окнами, которые могли освещаться с помощью огарка, и пару маленьких черных бархатных котят, каждый с дамским ридикюлем во рту, которых садовники Стегса почитали диковинками изобразительного искусства. Когда завели общий разговор, чтобы черноглазая не оседлала своего конька и не начала язвить, сия молодая леди поведала вкратце Джемайме все, что знала о мистере Домби, его видах на будущее, семействе, занятиях и характере. Представила также подробную опись своего личного гардероба и отчет о ближайших своих родственниках и друзьях. Облегчив душу этими излияниями, она отведала креветок и портера и обнаружила готовность по клясться в вечной дружбе.
Маленькая Флоренс также не упустила случая воспользоваться обстоятельствами, ибо когда юные Тудли повели ее осматривать поганки и другие достопримечательности Садов, она с увлечением отдалась вместе с ними сооружению временной плотины в зеленой лужице, образовавшейся в каком-то закоулке. Она еще была занята этой работой, когда ее отыскала Сьюзен, которая – таково было у нее чувство долга, несмотря даже на умиротворяющее действие креветок, – обратилась к ней с нравоучительной речью (прерываемой тумаками) на тему о ее порочной натуре, отмывая ей при этом лицо и руки, и предсказала, что она доведет до седых волос все свое семейство, которое от скорби сойдет в могилу. После некоторой задержки, вызванной довольно долгой конфиденциальной беседой наверху о денежных делах между Полли и Джемаймой, снова был совершен обмен детей, – ибо Полли все время не спускала с рук своего собственного ребенка, а Джемайма маленького Поля, – и посетители распрощались.
Но юных Тудлей, жертв благонамеренного обмана, сначала соблазнили отправиться в полном составе в мелочную лавку якобы для того, чтобы истратить пенни, и когда путь был свободен, Полли убежала: Джемайма крикнула ей вслед, что, если бы они могли на обратном пути сделать крюк в сторону Сити-роуд, они непременно встретили бы маленького Байлера, возвращающегося из школы.
– Как вы думаете, Сьюзен, успеем мы сделать этот маленький крюк? – осведомилась Полли, когда они остановились, чтобы перевести дух.
– А почему бы не успеть, миссис Ричардс? – отозвалась Сьюзен.
– Время, знаете ли, близится к обеду, – сказала Полли.
Но благодаря завтраку ее спутница стала более чем равнодушной к этому серьезному соображению; посему она не придала ему никакого значения, и они решили сделать «маленький крюк».
Случилось так, что со вчерашнего утра жизнь стала в тягость бедному Байлеру – по вине форменного наряда Милосердных Точильщиков. Уличная молодежь не могла примириться с ним. Ни один юный шалопай не мог удержаться при виде его, чтобы не накинуться на безобидного носителя этой формы и не причинить ему ущерба. Жизнь его в обществе напоминала скорее жизнь первых христиан, чем невинного ребенка в девятнадцатом веке. Его побивали камнями на улице. Его сталкивали в канавы; забрызгивали грязью; энергически притискивали к столбам. Мальчишки, вовсе не знакомые с его особою, срывали у него с головы желтую шапку и пускали ее по ветру. Ноги его не только подвергались словесной критике и поношениям, но их ощупывали и щипали. В это самое утро, направляясь в школу Точильщиков, он получил вовсе не заслуженный синяк под глазом и был за него наказан учителем – перезрелым бывшим Точильщиком свирепого нрава, который был назначен учителем, ибо ничего не знал и был ни к чему не пригоден, и чья безжалостная трость вызывала столбняк у всех толстощеких мальчуганов.
Поэтому-то на обратном пути Байлер искал глухих троп и пробирался узкими проходами и задворками, чтобы ускользнуть от своих мучителей. Когда же ему пришлось выйти на главную улицу, злая судьба привела его наконец туда, где кучка мальчишек, возглавляемых отчаянным молодым мясником, поджидала, не представится ли им возможность повеселиться. Когда среди них очутился Милосердный Точильщик, как будто непостижимо ниспосланный свыше, они дружно заорали и набросились на него.
В это самое время Полли, безнадежно посматривая вдоль улицы, после доброго часа ходьбы заявила, что нет смысла идти дальше, как вдруг увидела это зрелище. Едва завидев его, она вскрикнула и, передав юного Домби черноглазой, бросилась на выручку своего злополучного сынка.
Неожиданность, как и беда, не ходит одна. Изумленная Сьюзен Нипер и ее двое питомцев были спасены прохожими из-под самых колес проезжавшей кареты, прежде чем сообразили, что случилось: и в этот момент (день был базарный) раздались оглушительные крики: «Бешеный бык!»
В разгар смятения, когда на ее глазах люди метались, и орали, и попадали под колеса, и мальчишки дрались, и бешеные быки надвигались, и нянька среди всех этих опасностей разрывалась на части, Флоренс вскрикнула и пустилась бежать. Она бежала, пока не выбилась из сил, умоляя Сьюзен следовать за нею; но, сообразив, что другая нянька осталась позади, она остановилась, ломая руки, и с ужасом, не поддающимся описанию, убедилась, что никого возле нее нет.
– Сьюзен, Сьюзен! – закричала Флоренс, в припадке отчаяния всплескивая руками. – О, где они, где они?
– Где они? – повторила какая-то старуха, приковылявшая со всею поспешностью, на какую была способна, с противоположной стороны улицы. – Зачем ты от них убежала?
– Я испугалась, – ответила Флоренс. – Я не знала, что делать. Я думала, что они со мной. Где они?
Старуха взяла ее за руку и сказала:
– Я тебя провожу.
Это была отвратительная старуха с красными ободками вокруг глаз и ртом, чавкающим и шамкающим, даже когда она молчала. Она была очень бедно одета и несла какие-то шкурки, висевшие у нее на руке. Вероятно, она шла следом за Флоренс – во всяком случае, в течение некоторого времени, так как успела запыхаться; и когда она остановилась, чтобы передохнуть, она стала еще безобразнее, потому что по ее желтому морщинистому лицу и шее пробегали судороги.
Флоренс боялась ее и, нерешительно оглядываясь, посматривала вдоль улицы, которую пробежала почти до конца. Это было глухое место – скорее какие-то задворки, чем улица, – и никого здесь не было, кроме нее и старухи.
– Теперь тебе нечего бояться, – сказала старуха, все еще не выпуская ее руки. – Иди со мной.
– Я… я вас не знаю. Как вас зовут? – спросила Флоренс.
– Миссис Браун, – сказала старуха. – Добрая миссис Браун.
– Они близко отсюда? – спросила Флоренс, давая себя увлечь.
– Сьюзен тут поблизости, – сказала Добрая миссис Браун, – а другие недалеко от нее.
– Никого не ушибли? – вскричала Флоренс.
– Да нет же! – сказала Добрая миссис Браун.
Услыхав это, девочка заплакала от радости и охотно пошла со старухой, хотя, покуда они шли, она невольно посматривала на ее лицо – в особенности на этот неутомимый рот – и размышляла о том, похожа ли на нее Злая миссис Браун, если только существует на свете такая особа.
Шли они недолго, но очень неприглядной дорогой – например, мимо печей для обжига кирпича и черепицы, – а затем старуха свернула в грязный переулок, прорезанный глубокими черными колеями. Она остановилась перед жалким домишком, запертым так крепко, как только может быть заперт дом весь в трещинах и щелях. Потом она отперла дверь ключом, который извлекла из-под шляпы, и втолкнула девочку в заднюю комнату, где на полу лежала большая куча тряпок всевозможных цветов, куча костей и куча просеянной золы или мусора; мебели здесь не было, а стены и потолок были совсем черные.
Девочка испугалась так, что не могла выговорить ни слова, и казалось, вот-вот потеряет сознание.
– Ну, не дури! – сказала Добрая миссис Браун, приводя ее толчком в чувство. – Я тебя не обижу. Садись на тряпье.
Флоренс повиновалась, с немой мольбой протягивая к ней руки.
– И задержу я тебя не более часа, – сказала миссис Браун. – Понимаешь, что я говорю?
Девочка с большим трудом выговорила «да».
– Так, стало быть, – сказала Добрая миссис Браун, в свою очередь усаживаясь на кости, – не досаждай мне. Если не будешь досаждать, говорю тебе, что я тебя не обижу. А если досадишь – убью. Я могу тебя убить в любое время – даже когда ты лежишь в постели у себя дома. А теперь рассказывай, кто ты такая и что ты такое и все прочее о себе.
Угрозы и обещания старухи, боязнь рассердить ее и привычка, несвойственная ребенку, но у Флоренс ставшая как бы врожденной, – таиться и скрывать свои чувства, страхи и надежды, помогли ей исполнить это требование и рассказать свою маленькую биографию или то, что она знала о своей жизни. Миссис Браун слушала внимательно, пока она не закончила рассказа.
– Так, стало быть, твоя фамилия Домби? – сказала миссис Браун.
– Да, сударыня.
– Мне нужно это хорошенькое платьице, мисс Домби, – сказала Добрая миссис Браун, – и эта шляпка и одна-две юбочки и все прочее, без чего ты можешь обойтись. Ну-ка, сними их!
Флоренс повиновалась торопливо, насколько это позволяли ее дрожащие руки; при этом она не сводила испуганных глаз с миссис Браун. Когда она избавилась от всех принадлежностей туалета, упомянутых этой леди, миссис Браун осмотрела их не спеша и как будто осталась вполне довольна их качеством и стоимостью.
– Гм! – сказала она, окидывая взглядом хрупкую фигуру ребенка. – Больше я ничего не вижу, кроме башмаков. Мне нужны эти башмаки, мисс Домби.
Бедная маленькая Флоренс сняла их не менее поспешно, искренне радуясь, что нашлось еще одно средство ублаготворить Добрую миссис Браун. Затем старуха извлекла какие-то лохмотья из-под кучи тряпья, которую она для этой цели разворошила, а также детскую накидку, совсем изношенную и старую, и измятые остатки шляпы, выуженной, вероятно, из какой-нибудь канавы или навозной кучи. В это изысканное одеяние она приказала Флоренс нарядиться, а так как такие приготовления, казалось, предшествовали освобождению, девочка повиновалась, пожалуй, с еще большей готовностью.
Торопясь надеть шляпку, – если только можно назвать шляпкой то, что скорее походило на подушку, которую подкладывают при переноске тяжестей, – она зацепилась ею за свои густые волосы и не сразу могла отцепить ее. Добрая миссис Браун схватила большие ножницы и впала в состояние странного возбуждения.
– Почему ты не оставила меня в покое, – сказала миссис Браун, – когда я была довольна? Ах ты дурочка!
– Простите. Не знаю, чем я виновата, – задыхаясь, промолвила Флоренс. – Я ничего не могла поделать.
– Ничего не могла поделать! – вскричала миссис Браун. – А как по-твоему, что я могу поделать? Ах, Боже мой, – продолжала старуха, с каким-то злобным наслаждением ероша ее локоны, – всякий на моем месте снял бы их прежде всего.
Флоренс почувствовала облегчение, узнав, что не на голову, а только на волосы посягает миссис Браун; она не стала ни сопротивляться, ни умолять и только подняла свои кроткие глаза на это доброе создание.
– Не будь у меня прежде дочки – теперь она за океаном, – которая гордилась своими волосами, – сказала миссис Браун, – я бы срезала все до последнего завитка. Она далеко, далеко! Охо-хо! Охо-хо!
Завывание миссис Браун не было мелодическим, но, сопровождаемое неистовой жестикуляцией, оно вещало о жгучем горе и заставило затрепетать сердце Флоренс, которая испугалась еще больше. Быть может, оно содействовало спасению ее кудрей, потому что миссис Браун, покружившись около нее с ножницами, словно бабочка неизвестной породы, приказала спрятать волосы под шляпу, чтобы ни одна прядь не выбивалась ей на соблазн. Одержав эту победу над собой, миссис Браун снова уселась на кости и закурила коротенькую черную трубку, все время двигая губами и причмокивая, как будто она обгладывала мундштук.
Выкурив трубку, она заставила девочку взять в руки шкурку, чтобы Флоренс казалась добровольной ее спутницей, и объявила, что поведет ее теперь на людную улицу, где она может узнать дорогу к своим. Но она приказала ей, пригрозив в случае ослушания скорой и жестокой расправой, не разговаривать с прохожими и идти не домой (ибо дом, быть может, находился слишком близко с точки зрения миссис Браун), но в контору к отцу, в Сити, а сначала подождать на углу, где она ее оставит, пока не пробьет три. Эти наставления миссис Браун подкрепила заявлением, что есть у нее на службе всемогущие глаза и уши, которым известны все поступки девочки, и этим наставлениям Флоренс торжественно и серьезно обещала следовать. Наконец миссис Браун, тронувшись в путь, повлекла свою преобразившуюся, одетую в лохмотья маленькую приятельницу лабиринтом узких улиц, переулков и переулочков, которые привели в конце концов к извозчичьему двору, замыкавшемуся воротами; из-за ворот доносился шум большой городской магистрали. Указав на эти ворота и уведомив Флоренс о том, что, когда пробьет три часа, она должна пойти налево, миссис Браун дернула ее на прощание за волосы – движение, по-видимому, непроизвольное и не поддающееся контролю; затем она приказала ей идти и помнить, что за нею следят.
С облегченным сердцем, но все еще очень перепуганная, Флоренс почувствовала, что ее освободили, и побежала к углу. Дойдя до него, она оглянулась и увидела голову Доброй миссис Браун, высовывавшуюся из-за низкого деревянного прикрытия, за которым Добрая миссис Браун давала ей последние указания, а также кулак, которым она грозила. После этого, хотя Флоренс частенько оглядывалась, – по меньшей мере ежеминутно с тревогой вспоминая о старухе, – она ее уже не видела.
Флоренс стояла на углу, глядела на уличную сутолоку и приходила от нее в еще большее замешательство; между тем часы как будто приняли решение никогда не бить три. Наконец на колокольне пробило три часа; это было совсем близко, – значит, ошибиться она не могла; она несколько раз оглядывалась через плечо, несколько раз пускалась в путь и столько же раз возвращалась из боязни разгневать всемогущих шпионов миссис Браун и наконец бросилась вперед с поспешностью, какую только допускали стоптанные башмаки, не выпуская из рук кроличьей шкурки.
О конторах своего отца она знала только, что они принадлежат Домби и Сыну и что это великая сила в Сити. Поэтому она могла спрашивать лишь о том, как пройти к Домби и Сыну в Сити; а так как этот вопрос она задавала преимущественно детям, боясь обращаться к взрослым, то и пользы извлекла очень мало. Но спустя некоторое время она начала спрашивать дорогу в Сити, опуская пока первую половину вопроса, и тогда в самом деле стала постепенно приближаться к сердцу великой страны, управляемой грозным лорд-мэром.
Устав от ходьбы, всюду встречая толчки, оглушенная шумом и сутолокой, беспокоясь о брате и няньках, в ужасе от пережитого ею и от перспективы явиться в таком виде перед разгневанным отцом, ошеломленная и испуганная тем, что произошло, и что сейчас происходит, и что еще ей предстоит, – Флоренс шла, утомленная, со слезами на глазах, и раза два невольно останавливалась, чтобы облегчить измученное сердце горькими рыданиями. Но в такие минуты мало кто замечал ее в том платье, какое было на ней; а если и замечал, то думал, что девочку научили вызывать сострадание, и проходил мимо. И Флоренс, призвав на помощь всю твердость и стойкость характера, который слишком рано определился и закалился под влиянием горьких испытаний, не упуская из виду поставленной цели, упорно стремилась к ней.
Добрых два часа прошло с тех пор, как началось это странное приключение, когда наконец, ускользнув от шума и грохота узкой улицы, запруженной повозками и фургонами, она вышла к какой-то верфи или пристани на берегу реки, где увидела великое множество тюков, бочек и ящиков, большие деревянные весы и маленький деревянный домик на колесах, перед которым, глядя на ближайшие мачты и лодки, стоял, посвистывая, дородный человек, заткнув за ухо перо и засунув руки в карманы, словно рабочий его день уже подходил к концу.
– Ну, что там еще! – сказал этот человек, случайно оглянувшись. – Ничего у нас нет для тебя, девочка. Уходи!
– Скажите, пожалуйста, это Сити? – спросила трепещущая дочь Домби.
– Да, это Сити. Думаю, что ты это прекрасно знаешь. Уходи! Ничего у нас нет для тебя.
– Мне ничего не нужно, благодарю вас, – последовал робкий ответ. – Мне бы только узнать дорогу к Домби и Сыну.
Человек, лениво двинувшийся по направлению к ней, был как будто удивлен этим ответом, внимательно посмотрел ей в лицо и сказал:
– Да тебе-то что нужно от Домби и Сына?
– Простите, мне нужно знать дорогу туда.
Человек посмотрел на нее еще пытливее и в изумлении потер себе затылок с такой энергией, что сбил с головы шляпу.
– Джо! – позвал он другого человека, рабочего, подняв и снова надев шляпу.
– Вот я! – отозвался Джо.
– Где этот молодой франтик от Домби, который следил за погрузкой товаров?
– Только что вышел в другие ворота, – сказал Джо.
– Позови-ка его на минутку.
Джо бросился к воротам, крича на бегу, и вскоре вернулся с жизнерадостным на вид мальчиком.
– Ты на побегушках у Домби, так, что ли? – спросил первый человек.
– Я – служащий фирмы Домби, мистер Кларк, – отвечал мальчик.
– В таком случае, погляди-ка сюда, – сказал мистер Кларк.
Повинуясь жесту мистера Кларка, мальчик подошел к Флоренс, не без основания недоумевая, какое он имеет к ней отношение. Но Флоренс, которая все слышала и почувствовала не только облегчение, неожиданно убедившись в спасении и окончании своего путешествия, но и великое успокоение при виде его оживленного юного лица, стремительно подбежала к нему, обронив по дороге один из стоптанных башмаков, и обеими руками схватила его за руку.
– Простите, пожалуйста, я потерялась! – сказала Флоренс.
– Потерялась? – воскликнул мальчик.
– Да, я потерялась сегодня утром, далеко отсюда… а потом с меня сняли платье… и сейчас на мне чужое… и зовут меня Флоренс Домби, я – единственная сестра моего братца… и, ах, Боже мой, Боже мой, помогите мне, пожалуйста! – всхлипывала Флоренс, давая волю ребяческим чувствам, которые она так долго подавляла, и заливаясь слезами. При этом ее жалкая шляпа слетела с головы, и растрепавшиеся волосы упали ей на лицо, вызвав безмолвное восхищение и сострадание юного Уолтера, племянника Соломона Джилса, мастера судовых инструментов. Мистер Кларк вне себя от изумления повторял чуть слышно: «Я еще никогда не видывал такого товара на этой пристани». Уолтер поднял башмак и надел его на маленькую ножку, подобно принцу в сказке, примерявшему туфельку Золушке. Он перебросил через левую руку кроличью шкурку, правую предложил Флоренс и почувствовал себя не Ричардом Виттингтоном – это избитое сравнение, – но святым Георгом Английским с простертым у его ног мертвым драконом.
– Не плачьте, мисс Домби! – воскликнул Уолтер в порыве энтузиазма. – Как это чудесно, что я оказался здесь! Теперь вы в такой же безопасности, как если бы вас охраняла целая команда отборных моряков с военного судна. Ах, не плачьте!
– Больше я не буду плакать, – сказала Флоренс. – Я плачу от радости.
«Плачет от радости! – подумал Уолтер. – И я виновник этой радости». – Идемте, мисс Домби. Ну вот, теперь и другой башмак свалился. Возьмите мои, мисс Домби.
– Нет, нет, нет! – воскликнула Флоренс, удерживая его в тот момент, когда он порывисто стягивал с себя башмаки. – В этих мне удобнее. В этих очень хорошо.
– Ну, конечно, – сказал Уолтер, взглянув на ее ножку, – мои на целую милю длиннее, чем нужно. Как же это я не подумал! В моих вы вовсе не могли бы идти! Идемте, мисс Домби. Хотел бы я посмотреть, какой негодяй посмеет вас теперь обидеть!
Уолтер, – весьма грозный на вид, – увел Флоренс, имевшую вид очень счастливый; и они зашагали рука об руку по улицам, вовсе не помышляя о том, какой странной могла показаться эта пара.
Сумерки и туман сгущались, и вдобавок начал накрапывать дождь, но они никакого внимания на это не обращали; оба были всецело поглощены недавними приключениями Флоренс, о которых она рассказывала с простодушием и доверием, свойственными ее возрасту, тогда как Уолтер слушал так, словно они брели далеко от грязи и копоти Темз-стрит, среди широколиственных высоких деревьев на каком-то необитаемом острове под тропиками, – и в то время он воображал, быть может, что так оно и есть.
– Далеко нам? – спросила наконец Флоренс, поднимая глаза на своего спутника.
– Ах, кстати, – останавливаясь, сказал Уолтер, – позвольте-ка, где мы? А, знаю! Но контора сейчас закрыта, мисс Домби. Никого там нет. Мистер Домби давно ушел домой. Пожалуй, и нам следует пойти туда же. Или постойте-ка. Не отвести ли мне вас к дяде, у которого я живу… это совсем близко отсюда… а потом поехать к вам домой в карете, уведомить их, что вы в безопасности, и привезти вам какое-нибудь платье. Пожалуй, так лучше будет?
– Ну что ж, – отвечала Флоренс. – А как по-вашему? Как вы думаете?
Пока они стояли, совещаясь, какой-то человек поравнялся с ними и, мимоходом взглянув на Уолтера, словно узнал его, но потом, как бы не доверяя первому впечатлению, прошел дальше.
– Мне кажется, это мистер Каркер, – сказал Уолтер. – Каркер из нашей фирмы. Не заведующий наш Каркер, мисс Домби, а другой Каркер, младший. Алло! Мистер Каркер!
– Уолтер Гэй? – отозвался тот, приостанавливаясь и возвращаясь. – Я подумал, что ошибся… с такой странной спутницей…
Стоя у фонаря и с удивлением выслушивая торопливые объяснения Уолтера, он представлял разительный контраст двум ребятишкам, стоявшим перед ним рука об руку. Он был не стар, но волосы у него были седые; плечи сгорбились или согнулись под бременем какой-то великой скорби, и глубокие морщины пересекали его изможденное, печальное лицо. Блеск глаз, выражение лица, даже голос его – все было тускло и безжизненно, как будто дух в нем испепелился. Он был одет прилично, хотя и очень просто, в черное; но платье его, под стать всему облику, как бы съежилось и сжалось на нем и присоединилось к жалобной мольбе, которую выражала вся его фигура с головы до пят, – он хотел оставаться незамеченным и одиноким в своем унижении.
И, однако, интерес его к упованиям юности не угас, как угасли в нем другие чувства, ибо он всматривался в оживленное лицо мальчика, пока тот говорил, с необычайной симпатией и с чувством необъяснимой тревоги и жалости, которое светилось в его глазах, как ни старался он его скрыть. Когда Уолтер в заключение задал ему вопрос, который уже задавал Флоренс, он продолжал смотреть на него с тем же выражением, словно читал на его лице судьбу, горестно противоречившую теперешней его веселости.
– Что вы посоветуете, мистер Каркер? – улыбаясь, спросил Уолтер. – Ведь вы всегда даете мне добрые советы, когда разговариваете со мной. Правда, это случается не часто.
– Ваш план мне кажется наилучшим, – отвечал тот, переводя взгляд с Флоренс на Уолтера и обратно.
– Мистер Каркер, – просияв, сказал Уолтер, у которого мелькнула великодушная мысль, – послушайте! Вот случай для вас! Пойдите вы к мистеру Домби и принесите ему добрую весть. Это может быть полезно вам, сэр. Я останусь дома. Идите.
– Я? – воскликнул тот.
– Да. Почему бы вам не пойти, мистер Каркер? – сказал мальчик.
Тот в ответ только пожал ему руку; казалось, даже это он сделал со стыдом и опаской; и, пожелав ему доброй ночи и посоветовав не мешкать, пошел дальше.
– Ну, мисс Домби, – сказал Уолтер, посмотрев ему вслед, когда они тоже пошли своей дорогой, – мы как можно скорее отправимся к моему дяде. Слыхали ли вы когда-нибудь, мисс Флоренс, чтобы мистер Домби говорил о мистере Каркере-младшем?
– Нет, – тихо ответила девочка, – я редко слышу, как папа разговаривает.
«Ах, верно! Тем хуже для него», – подумал Уолтер. После минутной паузы, в течение которой он смотрел вниз на кроткое, терпеливое личико идущей рядом с ним девочки, он со свойственным ему мальчишеским оживлением и стремительностью заговорил о другом; а когда один из злополучных башмаков опять свалился весьма кстати, предложил отнести Флоренс на руках к дяде. Флоренс, хотя и очень устала, смеясь, отклонила это предложение, боясь, как бы он ее не уронил. Они были уже недалеко от Деревянного Мичмана, и тут Уолтер стал рассказывать различные случаи из истории кораблекрушений и другие волнующие происшествия, а также о том, как мальчики моложе его спасали и с торжеством уносили девочек старше Флоренс; они все еще были увлечены этим разговором, когда подошли к двери мастера судовых инструментов.
– Алло, дядя Соль! – закричал Уолтер, врываясь в лавку – с этой минуты и вплоть до конца вечера он говорил бессвязно и запинаясь. – Какое удивительное приключение! Вот дочь мистера Домби заблудилась на улице, а старая ведьма отняла у нее платье… я ее нашел, привел к нам, чтобы она отдохнула у нас в гостиной… смотрите!
– Господи Боже мой! – сказал дядя Соль, попятившись к своему возлюбленному компасу. – Быть не может! Никогда бы я…
– Да, и никто другой, – перебил Уолтер, угадывая конец фразы. – Никто, право же, никто… Вот! Помогите мне перенести эту кушетку ближе к огню, ладно, дядя Соль?.. Приготовьте тарелки… дайте ей пообедать, ладно, дядя?.. Бросьте эти башмаки под каминную решетку, мисс Флоренс… поставьте ноги на решетку, чтобы согреть их… какие они мокрые!.. Вот так приключение, а, дядя?.. Господи помилуй, как мне жарко!
Соломону Джилсу также было очень жарко – и от сочувствия, и от крайнего изумления. Он гладил по головке Флоренс, уговаривал ее поесть, уговаривал ее пить, растирал ей ноги нагретым у камина носовым платком, пытливо всматриваясь в своего непоседу-племянника, и ничего, в сущности, не понимал, кроме того, что на него постоянно налетал и натыкался этот взволнованный молодой джентльмен, который носился по комнате, принимаясь сразу за двадцать дел и ровно ничего не предпринимая.
– Подождите минутку, дядя, – сказал он, схватив свечу, – сейчас я сбегаю наверх, надену другую куртку, а потом уйду. Послушайте, дядя, вот так приключение!
– Дорогой мой мальчик, – сказал Соломон, который с очками на лбу и большим хронометром в кармане метался между Флоренс на кушетке и своим племянником во всех уголках гостиной, – это самое необычайное…
– Да, но, пожалуйста, дядя… пожалуйста, мисс Флоренс… знаете ли, обед, дядя…
– Да! Да! Да! – воскликнул Соломон, сразу вонзив нож в баранью ногу, точно ему предстояло кормить великана. – Я о ней позабочусь, Уоли! Я понимаю. Милая крошка! Конечно, проголодалась. Ступай и приведи себя в порядок. Господи помилуй! Сэр Ричард Виттингтон, трижды лорд-мэр Лондона!
Уолтеру немного понадобилось времени, чтобы подняться к себе в мансарду и спуститься, но Флоренс, не в силах бороться с утомлением, успела задремать у камина. Эта короткая пауза – хотя длилась она всего несколько минут – помогла Соломону Джилсу настолько прийти в себя, чтобы позаботиться о ее удобствах, уменьшить свет в комнате и заслонить ее от огня. Итак, когда мальчик вернулся, она сладко спала.
– Вот это чудесно! – прошептал он, так крепко сжав в объятиях Соломона, что тот изменился в лице. – Теперь я ухожу. Захвачу только с собой корочку хлеба, я очень голоден… и… не будите ее, дядя Соль!
– Нет, нет, – сказал Соломон. – Хорошенькая девочка!
– Прехорошенькая! – воскликнул Уолтер. – Я никогда не видывал такого личика, дядя Соль. Теперь я ухожу.
– Отлично, – с большим облегчением сказал Соломон.
– Послушайте, дядя Соль! – крикнул Уолтер, просунув голову в дверь.
– Он опять здесь! – сказал Соломон.
– Как она себя чувствует сейчас?
– Прекрасно, – сказал Соломон.
– Великолепно! Теперь я ухожу.
– Надеюсь, – пробормотал про себя Соломон.
– Послушайте, дядя Соль! – воскликнул Уолтер, снова появляясь в дверях.
– Он опять здесь! – сказал Соломон.
– Мы встретили на улице мистера Каркера-младшего. Таким странным он никогда еще не бывал. Он простился со мной, но пошел следом за нами – вот удивительно! – потому что, когда мы подошли к двери, я оглянулся и видел, как он потихоньку уходил, точно слуга, проводивший меня до дому, или верная собака. Как она себя чувствует теперь, дядя?
– Совершенно так же, как и раньше, Уоли, – отвечал дядя Соль.
– Отлично! Теперь-то уж я ухожу!
На этот раз он действительно ушел, а Соломон Джилс, не имея желания обедать, сел по другую сторону камина, следя за спящей Флоренс и строя великое множество воздушных замков самой фантастической архитектуры, – похожий в тусклом свете и в ближайшем соседстве со всеми инструментами на переодетого волшебника в валлийском парике и кофейного цвета одежде, который погрузил девочку в зачарованный сон.
Тем временем Уолтер приближался к дому мистера Домби со скоростью, которую редко развивает извозчичья лошадь; и, однако, через каждые две-три минуты он высовывался из окна, нетерпеливо увещая извозчика. Достигнув цели своего путешествия, он выскочил из кеба, известил о своей миссии слугу и последовал за ним прямо в библиотеку, где было великое смешение языков и где мистер Домби, его сестра и мисс Токс, Ричардс и Нипер находились все в сборе.
– Прошу прощения, сэр, – сказал Уолтер, бросаясь к нему, – но, к счастью, я могу сообщить, что все обстоит благополучно, сэр. Мисс Домби нашлась!
Мальчик с его открытым лицом, развевающимися волосами и блестящими глазами, задыхающийся от радости и возбуждения, представлял изумительную противоположность мистеру Домби, когда тот сидел против него в своем библиотечном кресле.
– Я говорил вам, Луиза, что она непременно найдется, – сказал мистер Домби, слегка повернувшись к этой леди, плакавшей вместе с мисс Токс. – Дайте знать слугам, что нет необходимости в дальнейших поисках. Мальчик, доставивший это известие, – молодой Гэй из конторы. Как нашлась моя дочь, сэр? Мне известно, как ее потеряли. – Тут он величественно взглянул на Ричардс. – Но как она нашлась? Кто ее нашел?
– Пожалуй, это я нашел мисс Домби, сэр, – скромно сказал Уолтер, – не знаю, могу ли я ставить себе в заслугу, что действительно нашел ее, но, во всяком случае, я был счастливым орудием…
– Что вы подразумеваете, сэр, – перебил мистер Домби, с инстинктивной неприязнью отмечая, что мальчик явно горд и счастлив своим участием в этом происшествии, – говоря, что, в сущности, вы не нашли моей дочери, а были счастливым орудием? Будьте добры говорить толково и последовательно.
Не во власти Уолтера было говорить последовательно, но он постарался дать те объяснения, на какие был способен в своем возбужденном состоянии, и рассказал, почему он пришел один.
– Вы это слышите, девушка? – строго сказал мистер Домби, обращаясь к черноглазой. – Возьмите все необходимое и сейчас же отправляйтесь с этим молодым человеком, чтобы доставить домой мисс Флоренс. Гэй, завтра вы получите вознаграждение.
– О, благодарю вас, сэр, – сказал Уолтер. – Вы очень добры. Право же, я не думал о награде, сэр.
– Вы – юнец, – сказал мистер Домби резко и чуть ли не злобно, – и то, что вы думаете, или воображаете, будто думаете, имеет мало значения. Вы поступили хорошо, сэр. Не портите того, что сделали. Пожалуйста, Луиза, налейте мальчику вина.
Взгляд мистера Домби с явным неодобрением провожал Уолтера Гэя, когда тот выходил из комнаты под присмотром миссис Чик; и с таким же неудовольствием духовный его взор следовал за ним, когда он вместе с мисс Сьюзен Нипер ехал обратно к своему дяде.
Там они убедились, что Флоренс, выспавшись, пообедала и очень подружилась с Соломоном Джилсом, к которому относилась с полным доверием и симпатией. Черноглазая (которая столько плакала, что теперь ее можно было назвать красноглазой, и которая была очень молчалива и удручена) заключила ее в объятия, не сказав ни одного сердитого или укоризненного слова, и способствовала тому, что свидание вышло весьма истерическим. Затем, превратив гостиную специально для этого случая в туалетную, она переодела Флоренс очень заботливо в подобающее ей платье; и наконец увела ее, – столь похожей на члена семьи Домби, сколь это было возможно, если принять во внимание, что девочке в этом праве было отказано.
– Прощайте! – сказала Флоренс, подбегая к Соломону. – Вы были очень добры ко мне.
Старый Соль пришел в восторг и поцеловал ее, точно приходился ей дедом.
– Прощайте, Уолтер! До свидания! – сказала Флоренс.
– До свидания! – сказал Уолтер, протягивая ей обе руки.
– Я вас никогда не забуду, – продолжала Флоренс. – Право же, никогда не забуду. До свидания, Уолтер!
С наивной благодарностью девочка подставила ему личико. Уолтер склонился к ней, потом снова поднял голову, красный и пылающий, и в большом смущении посмотрел на дядю Соля.
«Где Уолтер?» – «Прощайте, Уолтер!» – «До свидания, Уолтер!» – «Дайте мне еще раз руку, Уолтер!» – восклицала Флоренс, после того как ее уже усадили в карету вместе с ее маленькой нянькой. И когда карета наконец тронулась, Уолтер, стоя у порога, весело отвечал Флоренс, размахивавшей носовым платком; Деревянный Мичман за его спиной, казалось, подобно ему самому, следил только за этой одной каретой, исключив из поля зрения все другие, проезжавшие мимо.
В положенное время карета вновь была у дома мистера Домби, и снова в библиотеке раздались громкие голоса. Снова приказано было, чтобы карета ждала. «Для миссис Ричардс», – зловеще шепнул кто-то из прислуги Сьюзен, когда та проходила с Флоренс.
Появление потерянного ребенка вызвало волнение, – впрочем, незначительное. Мистер Домби, который так и не обрел дочери, поцеловал ее в лоб и предостерег, чтобы она впредь не убегала и не скиталась где-то с вероломными спутниками. Миссис Чик оборвала свои жалобы на порочность человеческой натуры, неискоренимую даже в тех случаях, когда ее призывает на стезю добродетели Милосердный Точильщик, и оказала Флоренс прием, несколько отличный от того, на который мог претендовать только подлинный Домби. Мисс Токс обнаруживала свои чувства, применяясь к находившимся перед ней образцам.
Одна лишь Ричардс, виновная Ричардс, излила душу, встретив заблудившуюся девочку несвязными словами приветствия и склонившись над ней с неподдельной любовью.
– Ах, Ричардс! – вздохнула миссис Чик. – Было бы гораздо приятнее для тех, кто хотел бы не думать дурно о своих ближних, и гораздо приличнее для вас, если бы вы вовремя обнаружили надлежащее чувство к младенцу, которому предстоит теперь быть преждевременно лишенным естественного питания.
– Отторгнутым, – плаксиво прошептала мисс Токс, – от единого для всех источника!
– Будь я повинна в неблагодарности, – торжественно продолжала миссис Чик, – и рассуждай я по-вашему, Ричардс, я бы считала, что наряд Милосердных Точильщиков должен погубить моего ребенка, а воспитание – задушить его.
Коли на то пошло, – но миссис Чик этого не знала, – он и теперь уже был едва ли не загублен нарядом; а что касается воспитания, то и его печальные последствия могли со временем сказаться, ибо воспитание состояло из града шлепков и слез.
– Луиза! – сказал мистер Домби. – Нет необходимости что-то еще объяснять. Эта женщина уволена, и ей уплачено. Вы покидаете этот дом, Ричардс, потому что взяли с собою моего сына – моего сына, – сказал мистер Домби, внушительно повторив эти два слова, – в трущобы, в общество, о котором нельзя подумать без содрогания. Что же касается сегодняшнего несчастного случая с мисс Флоренс, то его я рассматриваю как счастливое и благоприятное обстоятельство, так как, не будь этого происшествия, я никогда бы не узнал – тем более из ваших уст, – в чем вы провинились. Мне кажется, Луиза, что другая нянька, эта молодая особа, – тут мисс Нипер громко всхлипнула, – будучи значительно моложе и находясь несомненно под влиянием кормилицы Поля, все же может остаться. Будьте добры распорядиться, чтобы заплатили извозчику, который отвезет эту женщину в… – мистер Домби запнулся и поморщился, – …в Сады Стегса.
Полли направилась к двери, а Флоренс цеплялась за ее платье и очень трогательно умоляла ее не уходить. Кинжалом в сердце и стрелой в мозг поразило высокомерного отца это зрелище; его плоть и кровь, от которой он не мог отречься, льнет к этой невежественной чужой женщине, когда он сидит тут же. В сущности, его не интересовало, к кому обращается и от кого бежит его дочь. Острая, мучительная боль пронзила его при мысли о том, как поступил бы его сын.
Во всяком случае, сын его громко плакал в ту ночь. По правде говоря, у бедного Поля была более основательная причина для слез, чем у большинства сыновей этого возраста, ибо он лишился своей второй матери – вернее даже первой, насколько простиралось его знание, – вследствие катастрофы такой же внезапной, как та утрата, которая омрачила начало его жизни. И тот же удар лишил доброго и верного друга его сестру, которая горько плакала, пока не заснула. Но это к делу не относится. Не будем же тратить лишних слов.
Глава VII
Взгляд с птичьего полета на местожительство мисс Токс, а также на сердечные привязанности мисс Токс
Мисс Токс обитала в маленьком темном доме, который на одном из ранних этапов английской истории протиснулся в фешенебельный район в западной части города, где и пребывал, наподобие бедного родственника, в тени большой улицы, начинающейся за углом, под холодным презрительным взглядом величественных зданий. Он был расположен не в тупике и не во дворе, а в скучнейшей щели, куда назойливо и тревожно доносятся отдаленные стуки дверных молотков. Это уединенное место, где между камнями мостовой пробивалась трава, называлось площадью Принцессы; а на площади Принцессы была часовня Принцессы с гулким колоколом, где иной раз по воскресеньям бывало на богослужении до двадцати пяти человек. Был здесь также «Герб Принцессы», часто посещаемый великолепными ливрейными лакеями. За решеткой, перед «Гербом Принцессы», находился портшез, но никто не помнит, чтобы он когда-нибудь появлялся снаружи; а в погожие утра каждый прут решетки (их сорок восемь, как не раз подсчитывала мисс Токс) был украшен оловянною кружкою.
Был еще один частный дом на площади Принцессы, кроме дома мисс Токс, а также огромные ворота с двумя огромными дверными кольцами в львиных пастях, – ворота, которые ни при каких обстоятельствах не отворялись и, по догадкам, когда-то вели в конюшни. В самом деле, воздух на площади Принцессы отдавал запахом конюшен, а из спальни мисс Токс (находившейся в задней половине дома) открывался вид на двор с конюшнями, где конюхи, какой бы работой ни были заняты, непрерывно сопровождали ее веселыми криками и где самые интимные принадлежности костюма кучеров, их жен и детей развешивались на стенах наподобие знамен Макбета. В этом другом частном доме на площади Принцессы, снятом в аренду бывшим дворецким, женившимся на экономке, сдавалась квартира с мебелью некоему холостому джентльмену, а именно майору с одеревеневшим синим лицом и глазами, вылезающими из орбит, в чем мисс Токс, как она сама выражалась, усматривала «нечто подлинно воинственное», и между ним и ею обмен газетами и брошюрами и тому подобные платонические отношения поддерживались через посредство чернокожего слуги майора, которого мисс Токс определила как «туземца», не связывая с этим наименованием никаких географических представлений.
Быть может, никогда еще не бывало передней и лестницы, менее просторной, чем передняя и лестница в доме мисс Токс. Быть может, весь он, сверху донизу, был самым неудобным домишком в Англии и самым уродливым; но зато, как говорила мисс Токс, какое местоположение! Там было очень мало дневного света зимой; солнце никогда не заглядывало туда даже в лучшую пору года; о воздухе не могло быть и речи, так же как об уличном движении. И все же мисс Токс говорила: подумайте о местоположении! То же самое говорил синелицый майор с глазами, вылезавшими из орбит, который гордился площадью Принцессы и при каждом удобном случае с восторгом заводил речь в своем клубе о предметах, имеющих отношение к важным особам на большой улице за углом, дабы иметь удовольствие заявить, что это – его соседи.
Жалкая квартира, где жила мисс Токс, была ее собственностью, завещанной ей и полученной по наследству от покойного обладателя рыбьего глаза в медальоне, – миниатюрный портрет этого джентльмена с напудренной головой и косичкой служил противовесом подставке для чайника на другом конце каминной полки в гостиной. Большая часть мебели относилась к эпохе пудреной головы и косички, включая грелку для тарелок, которая вечно изнемогала и растопыривала свои четыре тонких кривых ноги, загораживая кому-то дорогу, и отжившие свой век клавикорды, украшенные гирляндой душистого горошка, нарисованной вокруг имени мастера.
Хотя майор Бегсток уже достиг того, что в изящной литературе именуется великим расцветом жизненных сил, и ныне совершал путешествие под гору, почти лишенный шеи и обладая одеревеневшими челюстями и слоновыми ушами с длинными мочками, а глаза его и цвет лица, как уже было упомянуто, свидетельствовали о состоянии искусственного возбуждения, – тем не менее он был чрезвычайно горд тем, что пробудил интерес к себе в мисс Токс, и тешил свое тщеславие, воображая, будто она блестящая женщина и неравнодушна к нему. На это он много раз намекал в клубе в связи с невинными шуточками, вечным героем коих был старый Джо Бегсток, старый Джой Бегсток, старый Дж. Бегсток, старый Джош Бегсток и так далее – ибо оплотом и твердыней юмора майора было самое фамильярное обращение с его же собственным именем.
– Джой Б., сэр, – говаривал майор, помахивая тростью, – стоит дюжины вас. Будь среди вас еще несколько человек из породы Бегстоков, сэр, вам от этого не стало бы хуже. Старому Джо, сэр, даже теперь нет надобности далеко ходить за женой, буде он стал бы ее искать; но у него жестокое сердце, сэр, у этого Джо, он непреклонен, сэр, непреклонен и чертовски хитер!
После такой декларации слышалось сопение, и синее лицо майора багровело, а глаза судорожно расширялись и выпучивались.
Несмотря на весьма щедро воспеваемые самому себе хвалы, майор был эгоистом. Можно усомниться в том, существовал ли когда-нибудь человек с более эгоистическим сердцем – или, пожалуй, лучше было бы сказать – желудком, принимая во внимание, что этим последним органом он был наделен в значительно большей степени, чем первым. Ему в голову не приходило, что кто-то может его не замечать или им пренебрегать; во всяком случае, он не допускал и мысли, что его не замечает и им пренебрегает мисс Токс.
И, однако, как выяснилось, мисс Токс забыла его – забыла постепенно. Она начала забывать его вскоре после того, как открыла семейство Тудлей. Она продолжала забывать его вплоть до дня крестин. Она забывала его после этого дня с быстротою нарастания сложных процентов. Что-то или кто-то занял его место и стал для нее новым источником интереса.
– Доброе утро, сударыня, – сказал майор, встретив мисс Токс на площади Принцессы спустя несколько недель после перемен, отмеченных в последней главе.
– Доброе утро, сэр, – сказала мисс Токс очень холодно.
– Джо Бегсток, сударыня, – заметил майор с обычной своей галантностью, – давно не имел счастья приветствовать вас у вашего окна. С Джо обходились сурово, сударыня. Его солнце скрылось за облаком.
Мисс Токс наклонила голову, но, право же, очень холодно.
– Быть может, светило Джо покидало город, сударыня? – осведомился майор.
– Я? Город? О нет, я не покидала города, – сказала мисс Токс. – Последние дни я была очень занята. Почти все мое время посвящено одним очень близким друзьям. Боюсь, что и сейчас у меня нет свободной минуты. До свиданья, сэр!
Меж тем как мисс Токс с самым чарующим видом покидала площадь Принцессы, майор стоял и смотрел ей вслед с таким синим лицом, какого у него никогда еще не бывало, ворча и бормоча отнюдь не любезные замечания.
– Ах, черт подери, сэр, – сказал майор, обводя своими рачьими глазами площадь Принцессы и неожиданно обращаясь к благовонной ее атмосфере, – полгода назад эта женщина боготворила землю, по которой ступал Джош Бегсток. Что же это значит?
Поразмыслив, майор решил, что это означает западню для мужчины; что это означает интригу и силки; что мисс Токс расставляет ловушки.
– Но Джо вам не поймать, сударыня, – сказал майор. – Он непреклонен, сударыня, он непреклонен – этот Дж. Б. непреклонен и чертовски хитер! – И, сделав такое замечание, он ухмылялся вплоть до вечера.
Однако, когда прошел этот день и еще много дней, обнаружилось, что мисс Токс решительно никакого внимания не обращает на майора и вовсе о нем не думает. Когда-то она имела обыкновение случайно посматривать в одно из своих маленьких темных окошек и, краснея, отвечать на приветствие майора; но теперь она лишила его этого счастья и вовсе не заботилась о том, посматривает он через дорогу или нет. Произошли также и другие перемены. Майор, стоя в полумраке своего собственного жилища, мог заметить, что за последнее время дом мисс Токс принял более нарядный вид, что новая клетка из позолоченной проволоки была приобретена для маленькой старой канарейки; что различные украшения, вырезанные из цветного картона и бумаги, появились на каминной доске и столах; что несколько растений неожиданно выросли в окнах; что мисс Токс иногда упражняется на клавикордах с гирляндой душистого горошка, всегда выставленной напоказ под «копенгагенским» и «птичьим» вальсами в нотных тетрадках, собственноручно переписанных мисс Токс.
Помимо всего этого, мисс Токс давно уже одевалась необычайно заботливо и элегантно в полутраур. Но это обстоятельство помогло майору выйти из затруднения: он решил про себя, что она получила маленькое наследство и возгордилась.
На следующий же день после того, как он пришел к такому заключению и успокоился, майор, сидя за завтраком, увидел в маленькой гостиной мисс Токс явление, столь потрясающее и удивительное, что некоторое время оставался пригвожденным к стулу; затем бросился в другую комнату и вернулся с театральным биноклем, в который пристально созерцал это явление в течение нескольких минут.
– Это младенец, сэр, – сказал майор, сдвигая бинокль. – Бьюсь об заклад на пятьдесят тысяч фунтов!
Майор не мог этого забыть. Он ничего не мог делать и только свистел и таращил глаза до такой степени, что в прежнем состоянии они показались бы глубоко запавшими и провалившимися. День за днем, два, три, четыре раза в неделю появлялся этот младенец. Майор продолжал таращить глаза и свистеть. Во всех отношениях он был предоставлен самому себе на площади Принцессы. Мисс Токс перестала интересоваться, чем он занят. Если бы из синего он стал черным, на нее это не произвело бы никакого впечатления.
Постоянство, с которым она уходила с площади Принцессы, чтобы доставить этого младенца и его няньку, возвращалась с ними и снова их уводила и постоянно надзирала за ними; постоянство, с которым она сама нянчила его, и кормила, и играла с ним, и замораживала его юную кровь мелодиями, исполняемыми на клавикордах, было необычайно. Примерно в это же время у нее обнаружилась страсть рассматривать некий браслет, а также страсть взирать на луну, которую она подолгу созерцала из окна своей спальни. Но на что бы она ни глядела – на солнце, луну, звезды или браслет, – она не глядела больше на майора. И майор свистел, таращил глаза, дивился, метался по комнате и ровно ничего не понимал.
– Вы совсем покорите сердце моего брата Поля, это сущая правда, дорогая моя, – сказала однажды миссис Чик.
Мисс Токс побледнела.
– С каждым днем он становится все более похож на Поля, – сказала миссис Чик.
Вместо ответа мисс Токс взяла на руки маленького Поля и своими ласками совершенно измяла и приплюснула его бантик.
– А его мать, дорогая моя, – сказала мисс Токс, – с которой я должна была познакомиться через вас, на нее он похож хоть немного?
– Ничуть, – отвечала Луиза.
– Она… кажется, она была хорошенькая? – нерешительно спросила мисс Токс.
– Да, покойная Фанни была интересна, – сказала миссис Чик после некоторого размышления. – Несомненно интересна. У нее не было такой внушительной, величавой осанки, какую почему-то ждешь от жены моего брата; не было у нее также той стойкости и силы духа, каких требует такой человек.
Мисс Токс испустила глубокий вздох.
– Но она была привлекательна, – сказала миссис Чик. – В высшей степени привлекательна. А намерения ее… ах, Боже мой, какие добрые намерения были у бедной Фанни!
– Ангел! – воскликнула мисс Токс, обращаясь к маленькому Полю. – Вылитый портрет своего папы!
Если бы майор мог знать, сколько надежд и мечтаний, какое множество планов и расчетов покоится на этой младенческой головке, и мог увидеть, как они кружатся, в смятении и беспорядке, над сборками чепчика ничего не ведающего маленького Поля, он действительно мог бы вытаращить глаза. Тогда разглядел бы он в этом рое и несколько честолюбивых пылинок, принадлежащих мисс Токс; тогда, быть может, понял бы он, какой капитал боязливо вложила эта леди в фирму Домби.
Если бы сам ребенок мог проснуться среди ночи и увидеть у полога своей колыбели слабые отражения тех упований, какие связывались с ним у других, он, быть может, испугался бы, и не без основания. Но он пребывал в дремоте, не подозревая о добрых намерениях мисс Токс, недоумении майора, безвременных горестях своей сестры и суровых мечтах отца и не ведая, что где-то на Земле существует Домби или Сын.
Глава VIII
Дальнейшее развитие, рост и характер Поля
Под зоркими и бдительными глазами Времени – тоже в своем роде майора – дремота Поля постепенно рассеивалась. Все больше света врывалось в нее; все более отчетливые сны ее тревожили; все больше и больше предметов и впечатлений смущало его покой; так перешел он от младенчества к детству и стал говорящим, ходящим, недоумевающим Домби.
После грехопадения и изгнания Ричардс детская была передана, можно сказать, в ведение комиссии, как это случается иной раз с общественным учреждением, когда нельзя найти некоего Атланта, который бы его поддержал. Членами комиссии были, конечно, миссис Чик и мисс Токс, которые предались исполнению своего долга с таким поразительным рвением, что майор Бегсток ежедневно получал какое-нибудь новое напоминание о своей отставке, тогда как мистер Чик, лишившись домашнего надзора, окунулся в веселый мир, обедал в клубах и кофейнях, трижды приносил с собой запах табаку и, короче, отделался (как сказала ему однажды миссис Чик) от всех общественных обязанностей и морального долга.
Однако, несмотря на подаваемые им в самом начале надежды, весь этот уход и заботы не могли сделать маленького Поля цветущим ребенком. Хрупкий, быть может, от природы, он худел и хирел после удаления кормилицы и долгое время как будто только и ждал случая ускользнуть у них из рук и отыскать свою потерянную мать. Когда позади осталось это опасное место в его скачке к возмужалости, он все еще находил жизненное состязание весьма тяжелым, и ему жестоко досаждали препятствия на пути. Каждый зуб был для него грозным барьером, а каждый пупырышек во время кори – каменной стеной. Его валил с ног каждый приступ кашля, и на него налетало и обрушивалось целое полчище недомоганий, которые следовали гурьбой друг за другом, не давая ему снова подняться. Не жаба, а какое-то хищное животное проникало ему в горло, и даже свинка – поскольку она имеет отношение к детской болезни, именно так обозначаемой, – становилась злобной и терзала его, как тигровая кошка.
Холод во время крестин Поля поразил, быть может, какую-то чувствительную часть его организма, который не мог оправиться под леденящей сенью его отца; как бы там ни было, с этого дня он стал несчастным ребенком. Миссис Уикем часто говорила, что никогда не видывала малютки, которому приходилось бы так худо.
Миссис Уикем была женой официанта, – а это все равно что быть вдовой, – желание коей поступить на службу к мистеру Домби было встречено благосклонно вследствие явной невозможности для нее иметь поклонников или самой увлекаться и которая дня через два после внезапного отлучения Поля от груди была нанята ему в няньки. Миссис Уикем была робкая белокурая женщина с поднятыми бровями и поникшей головой, всегда готовая пожалеть себя или вызвать к себе жалость или пожалеть кого-нибудь другого и отличавшаяся изумительным природным даром видеть все в крайне мрачном и горестном свете, приводить для сравнения устрашающие прецеденты и находить величайшую радость в упражнении этого таланта.
Вряд ли нужно упоминать о том, что ни один намек на это качество никогда не доходил до сведения величественного мистера Домби. Было бы поистине замечательно, если бы случилось иначе, поскольку никто в доме – не исключая миссис Чик и мисс Токс – не осмеливался даже шепнуть ему по какому бы то ни было поводу, что есть хоть малейшее основание для беспокойства о маленьком Поле. Он решил про себя, что ребенок неизбежно должен, по заведенному порядку, перенести некоторые легкие болезни, и чем скорее, тем лучше. Если бы он мог его выкупить или найти заместителя, как находят такового для вынувшего несчастливый ополченский жребий, он сделал бы это с радостью и не скупясь. Но так как это было неосуществимо, он лишь изредка недоумевал со свойственным ему высокомерием, что, в сущности, хочет этим сказать Природа; и утешался мыслью, что еще одна придорожная веха осталась позади и великая цель путешествия значительно приблизилась. Ибо преобладавшим у него чувством, все время усиливавшимся по мере того, как подрастал Поль, было нетерпение. Нетерпеливое ожидание момента, когда мечта его об их объединенном влиянии и величии осуществится с триумфом.
Некоторые философы говорят, что эгоизм лежит в основе самой горячей нашей любви и привязанностей. Сынишка мистера Домби с самого начала имел такое значение для него, – как часть его собственного величия или (что то же самое) величия Домби и Сына, – что несомненно можно было без труда проникнуть до самых глубин фундамента, на котором зиждилась его родительская любовь, как можно проникнуть до фундамента многих красивых построек, пользующихся доброй славой. Тем не менее он любил сына, насколько вообще способен был любить. Если был теплый уголок в его холодном сердце, то этот уголок был занят сыном; если на твердой его поверхности можно было запечатлеть чей-то образ, то на ней был запечатлен образ сына; но не столько образ младенца или мальчика, сколько взрослого человека – «Сына» фирмы. Поэтому ему не терпелось приблизить будущее и побыстрее миновать промежуточные стадии его роста. Поэтому о них он беспокоился мало или же вовсе не беспокоился, несмотря на свою любовь; он чувствовал, что мальчик как бы живет зачарованной жизнью и должен стать мужчиной, с которым он мысленно поддерживал постоянное общение и для которого ежедневно строил планы и проекты, словно тот уже существовал реально.
Так Поль приблизился к шестому году жизни. Он был хорошенький мальчуган, хотя в его личике было нечто болезненное и напряженное, что побуждало миссис Уикем многозначительно покачивать головой и вызывало у миссис Уикем много протяжных вздохов. Были все основания предполагать, что в последующей жизни характер у него будет властный; и он в такой мере предчувствовал свое собственное значение и право на подчинение ему всего и всех, как только можно было пожелать. Порой он бывал ребячлив, не прочь поиграть и вообще угрюмостью не отличался; но была у него странная привычка сидеть иногда в своем детском креслице и сосредоточенно раздумывать; в эти моменты он становился похож (и начинал изъясняться соответственно) на одно из тех ужасных маленьких созданий в сказке, которые в возрасте ста пятидесяти или двухсот лет разыгрывают странную роль подмененных ими детей. Эта несвойственная ребенку задумчивость часто посещала его наверху в детской; иногда он впадал в нее внезапно, объявляя, что устал, – даже когда резвился с Флоренс или играл в лошадки с мисс Токс. Но никогда не погружался он в нее с такою неизбежностью, как в то время, когда его креслице переносили в комнату отца и он сидел там с ним после обеда у камина. Это была самая странная пара, какую когда-либо освещало пламя камина. Мистер Домби, такой прямой и торжественный, глядит на огонь; его маленькая копия со старческим, старческим лицом, всматривается в красные дали с напряженным и сосредоточенным вниманием мудреца. Мистер Домби занят сложными мирскими планами и проектами; маленькая копия занята бог весть какими сумасбродными фантазиями, неоформившимися мыслями и неясными соображениями. Мистер Домби одеревенел от крахмала и высокомерия; маленькая копия – в силу наследственности и вследствие бессознательного подражания. Один является подобием другого, и тем не менее они чудовищно непохожи.
Однажды, когда они оба долго сидели в глубокой тишине и мистер Домби знал, что ребенок не спит только потому, что изредка смотрел ему в глаза, где яркий огонь сверкал, как драгоценный камень, маленький Поль нарушил молчание:
– Папа, что такое деньги?
Неожиданный вопрос имел такое непосредственное отношение к мыслям мистера Домби, что мистер Домби пришел в полное замешательство.
– Что такое деньги, Поль? – повторил он. – Деньги?
– Да, – сказал ребенок, опуская руки на подлокотники своего креслица и поворачивая старческое лицо к мистеру Домби, – что такое деньги?
Мистер Домби был в затруднении. Он не прочь был дать сыну какое-нибудь объяснение, включающее такие термины, как средство обмена, валюта, обесценивание валюты, ценные бумаги, золотое обеспечение, биржевые цены, рыночная цена драгоценных металлов и так далее, но, взглянув вниз на маленькое креслице и увидев, как до него далеко, он ответил:
– Золото, серебро, медь. Гинеи, шиллинги, полупенсы. Ты знаешь, что это такое?
– О да, я знаю, что это такое, – сказал Поль. – Я не об этом спрашиваю. Я спрашиваю: что такое сами деньги?
О, небеса, каким старым было его лицо, когда он снова поднял его к отцу!
– Что такое сами деньги? – повторил мистер Домби, в изумлении отодвигая стул, чтобы лучше разглядеть самонадеянный атом, предложивший такой вопрос.
– Я спрашиваю, папа: что они могут сделать? – продолжал Поль, скрестив на груди руки (для этого они были едва ли достаточно длинны) и переводя взгляд с огня на отца, и снова на огонь, и снова на отца.
Мистер Домби подвинул стул на прежнее место и погладил его по голове.
– Скоро ты это будешь лучше знать, мой мальчик, – сказал он. – Деньги, Поль, могут сделать что угодно. – С этими словами он взял маленькую ручку и тихонько похлопал ею по своей руке.
Но Поль постарался как можно скорее освободить руку и, слегка потирая ею подлокотник кресла, словно ум его находился в ладони, а он его оттачивал, и снова глядя на огонь, как будто огонь был его советчиком и суфлером, повторил после короткой паузы:
– Что угодно, папа?
– Да. Что угодно. Почти, – сказал мистер Домби.
– Что угодно – значит, все? Да, папа? – спросил сын, не замечая или, быть может, не понимая сделанной оговорки.
– Это одно и то же. Да, – сказал мистер Домби.
– Почему деньги не спасли мою маму? – возразил ребенок. – Они жестокие, правда?
– Жестокие? – повторил мистер Домби, поправляя галстук и как бы обиженный этой мыслью. – Нет. Хорошее не может быть жестоким.
– Если они хорошие и могут делать что угодно, – задумчиво сказал мальчуган, глядя на огонь, – я не понимаю, почему они не спасли мою маму.
Сейчас он не обращался с вопросом к отцу. Быть может, с детской проницательностью он понял, что его вопрос уже привел отца в смущение. Но он вслух повторил свою мысль, словно для него она была совсем не новой и очень беспокоила его; и он сидел, подперев подбородок рукой, по-прежнему размышляя и отыскивая объяснение в камине.
Мистер Домби, оправившись от изумленья, чтобы не сказать тревоги (ибо это был первый случай, когда ребенок заговорил с ним о матери, хотя точно так же сидел возле него каждый вечер), подробно разъяснил ему, что деньги – весьма могущественный дух, которым никогда и ни при каких обстоятельствах пренебрегать не следует, однако они не могут сохранить жизнь тем, кому пришло время умереть; и что мы все, даже в Сити, должны, к несчастью, умереть, как бы мы ни были богаты; он разъяснил, каким образом деньги являются причиной того, что нас почитают, боятся, уважают, заискивают перед нами и восхищаются нами, как они делают нас влиятельными и великими в глазах всех людей и как они могут очень часто отдалять даже смерть на долгое время. Как, например, они обеспечили его маме услуги мистера Пилкинса, коими часто пользовался и он, Поль, а также великого док тора Паркера Пепса, которого он никогда не видел. И как они могут сделать все, что только может быть сделано. Все это и еще кое-что в таком же духе мистер Домби внушал своему сыну, который слушал внимательно и как будто понимал большую часть того, что ему говорили.
– Но они не могут сделать меня сильным и совсем здоровым, верно, папа? – спросил Поль после недолгого молчания, потирая ручонки.
– Ты и так силен и совсем здоров, – возразил мистер Домби. – Не правда ли?
О, какое старческое лицо снова обратилось к нему, выражая и печаль и лукавство!
– Ты такой же сильный и здоровый, какими обычно бывают малыши, а? – продолжал мистер Домби.
– Флоренс старше меня, но я не такой сильный и здоровый, как Флоренс, я это знаю, – отвечал ребенок. – И я думаю, что, когда Флоренс была такой, как я, она могла играть гораздо дольше не уставая. Иногда я так устаю, – сказал маленький Поль, грея руки и глядя сквозь прутья каминной решетки, словно какой-то призрачный театр марионеток давал там представление, – и кости у меня болят (Уикем говорит – это болят кости), и я не знаю, что делать.
– Да, но это бывает по вечерам, – сказал мистер Домби, придвигая свое кресло к креслицу сына и ласково кладя руку ему на спину. – Малыши должны к вечеру уставать, тогда они лучше спят.
– О, это бывает не вечером, папа, – возразил ребенок, – это бывает днем; и я ложусь на колени к Флоренс, а она мне поет. Ночью мне снятся такие стра-а-ан-ные вещи!
И снова он стал греть руки и размышлять об этих вещах, точно старик или юный гном.
Мистер Домби был так изумлен, так встревожен и так растерян, не зная, как продолжать разговор, что мог только сидеть, глядя при свете камина на своего мальчика и не отнимая руки от его спины, как будто ее удерживало какое-то магнитное притяжение. Потом он протянул другую руку и на секунду повернул к себе задумчивое личико сына. Но оно снова обратилось к камину, как только он его освободил, и не отрывалось от колеблющегося пламени, покуда не пришла нянька укладывать мальчика спать.
– Я хочу, чтобы за мной пришла Флоренс, – сказал Поль.
– Вы не хотите идти со своей бедной няней Уикем, мистер Поль? – с большим пафосом осведомилась она.
– Не хочу, – ответил Поль, снова располагаясь в своем креслице, как хозяин дома.
Благословляя его невинность, миссис Уикем удалилась, и вскоре вместо нее вошла Флоренс. Ребенок тотчас вскочил с живостью и готовностью и, желая отцу спокойной ночи, поднял к нему такое повеселевшее, такое помолодевшее и такое совсем детское лицо, что мистер Домби, хотя и успокоенный этим превращением, был крайне озадачен.
Когда они вместе вышли из комнаты, ему послышалось тихое пение; и, вспомнив, как Поль говорил, что сестра поет ему, он полюбопытствовал открыть дверь, чтобы послушать и посмотреть им вслед. Она медленно поднималась по большой широкой лестнице, держа его на руках; голова его лежала у нее на плече, одна рука небрежно обвилась вокруг ее шеи. Так поднимались они – медленно, медленно; она все время пела, и иногда Поль мурлыкал, тихонько ей подпевая. Мистер Домби смотрел им вслед, пока они не поднялись на верхнюю площадку лестницы, – впрочем, не раз останавливаясь отдохнуть, – и не скрылись из виду; но и тогда он продолжал стоять и смотреть, пока бледные лучи луны, меланхолически мерцавшей сквозь тусклое окно в потолке, не прогнали его обратно, в его комнату.
На следующий день миссис Чик и мисс Токс были приглашены к обеду на совет; когда убрали со стола, мистер Домби открыл заседание, потребовав, чтобы ему сообщили без смягчения и умолчания, все ли благополучно с Полем и что говорит о нем мистер Пилкинс.
– Ребенок, – заметил мистер Домби, – не так крепок, как мне бы хотелось.
– Со свойственной вам удивительной наблюдательностью, дорогой мой Поль, – отвечала миссис Чик, – вы сразу попали в точку. Наш любимец, пожалуй, не так крепок, как нам бы хотелось. Дело в том, что его дух не по силам ему. Душа его слишком велика для своей оболочки. Ах, как рассуждает этот прелестный ребенок! – продолжала миссис Чик, покачивая головой. – Никто бы этому не поверил. Вот, например, вчера, Лукреция, замечания его на тему о похоронах…
– Боюсь, – сказал мистер Домби, сердито перебивая ее, – что кто-то из этих особ там, наверху, говорит с ребенком на неподобающие темы. Вчера вечером он заговорил со мной о своих… о своих костях, – сказал мистер Домби, с раздражением подчеркивая это слово. – Кому какое дело до… до костей моего сына? Полагаю, он не какой-нибудь живой скелет.
– Отнюдь нет, – сказала миссис Чик с неописуемым выражением.
– Надеюсь, – отозвался ее брат. – Затем – похороны! Кто говорит ребенку о похоронах? Полагаю, мы – не гробовщики, не наемные немые плакальщики, не могильщики?
– Отнюдь нет, – вставила миссис Чик с тем же многозначительным выражением.
– Так кто же вбивает ему в голову такие мысли? – спросил мистер Домби. – Право же, вчера вечером я был крайне опечален и возмущен. Кто вбивает ему в голову такие мысли, Луиза?
– Дорогой мой Поль, – сказала миссис Чик, помолчав секунду, – не имеет смысла производить расследование. Скажу вам откровенно: я не думаю, чтобы Уикем была особой, отличающейся веселым нравом, которую можно было бы назвать…
– Дочерью Мома[18], – тихонько подсказала мисс Токс.
– Вот именно, – сказала миссис Чик, – но она очень внимательна, услужлива и вовсе не самонадеянна; право же, я никогда еще не встречала такой сговорчивой женщины. Если милый ребенок, – продолжала миссис Чик таким тоном, словно подводила итог тому, о чем предварительно уже говорилось, хотя все это она высказывала впервые, – немножко ослаблен этим последним приступом болезни и отличается не таким завидным здоровьем, как было бы нам желательно, и если организм его временно ослабел и иногда ему трудно пользоваться своими…
Миссис Чик побоялась сказать «членами» после недавнего выпада мистера Домби против костей и посему ждала помощи от мисс Токс, которая, оставаясь верной своим обязанностям, подсказала: «конечностями».
– Конечностями! – повторил мистер Домби.
– Кажется, уважаемый врач упомянул сегодня утром о ногах, не так ли, дорогая моя Луиза? – сказала мисс Токс.
– Ну, конечно, упомянул, моя милая, – отвечала миссис Чик с кроткой укоризной. – Зачем вы меня об этом спрашиваете? Вы сами слышали. Итак, я говорю, что если бы наш милый Поль временно потерял способность пользоваться ногами, то это заболевание свойственно многим детям в его возрасте и его нельзя предотвратить никакими заботами и уходом. Чем скорее вы это поймете и с этим согласитесь, Поль, тем лучше.
– Разумеется, вы должны знать, Луиза, – сказал мистер Домби, – что я не подвергаю сомнению вашу родственную привязанность и вполне понятную заботу о будущем главе моей фирмы. Мистер Пилкинс, полагаю, осматривал сегодня утром Поля? – спросил мистер Домби.
– Да, осматривал, – отвечала сестра. – Мисс Токс и я присутствовали. Мисс Токс и я всегда присутствуем. Мы считаем это совершенно необходимым. Мистер Пилкинс осматривал его несколько дней тому назад, и я его считаю очень умным человеком. Он говорит: «Это пустяки!» Я могу подтвердить его слова, если это имеет значение, а сегодня он посоветовал морской воздух. Очень разумно, Поль, в этом я убеждена.
– Морской воздух, – повторил мистер Домби, глядя на сестру.
– Никакого основания для беспокойства, – сказала миссис Чик. – Моим Джорджу и Фредерику обоим прописывали морской воздух, когда они были приблизительно в таком же возрасте; и мне самой его прописывали великое множество раз. Я совершенно согласна с вами, Поль, что, быть может, там, наверху, неосторожно заговаривают при нем о таких вещах, о которых его маленькой головке лучше не задумываться; но, право же, я не знаю, как этому помочь, когда имеешь дело с таким сообразительным ребенком. Будь он обыкновенный ребенок, это не имело бы никакого значения. Кажется, я должна сказать вместе с мисс Токс, что временная перемена места, воздух Брайтона и физическое и духовное воспитание, порученное такой благоразумной особе, как, например, миссис Пипчин…
– Кто такая миссис Пипчин, Луиза? – спросил мистер Домби, испуганный этим упоминанием имени, которого он никогда еще не слыхал.
– Миссис Пипчин, дорогой мой Поль, – отвечала сестра, – пожилая леди, – мисс Токс знает историю всей ее жизни, – которая с некоторого времени посвятила с большим успехом всю свою душевную энергию изучению малюток и уходу за ними и у которой прекрасные связи. Муж ее умер от разрыва сердца при… Как вы сказали, милая моя, при каких обстоятельствах ее муж умер от разрыва сердца? Я забыла точные данные.
– При выкачивании воды из Перуанских копей, – отозвалась мисс Токс.
– Конечно, сам он не занимался выкачиванием, – сказала миссис Чик, взглянув на брата, и действительно, это объяснение было необходимо, ибо мисс Токс высказалась о покойном мистере Пипчине так, словно он умер у ручки насоса, – а вложил деньги в предприятие, которое обанкротилось. Я считаю, что миссис Пипчин поистине изумительно обращается с детьми. Я слышала, как ее хвалили в избранном кругу еще в те времена, когда я была… ах, Боже мой, какого же роста? – Взгляд миссис Чик блуждал по книжному шкафу и бюсту мистера Питта, находившемуся на высоте примерно десяти футов от пола.
– Быть может, дорогой мой сэр, – заметила мисс Токс, залившись румянцем, – поскольку на меня столь определенно ссылаются, я обязана сказать о миссис Пипчин, что похвала, с которой отозвалась о ней ваша милая сестра, вполне заслуженна. Многие леди и джентльмены, ныне ставшие важными членами общества, были поручены ее заботам. Смиренная особа, которая сейчас беседует с вами, некогда находилась на ее попечении. Думаю, что даже знатная молодежь знакома с ее заведением.
– Насколько я понимаю, эта почтенная особа руководит учебным заведением, мисс Токс? – снисходительно осведомился мистер Домби.
– Ах, не знаю, – ответила та, – вправе ли я употребить такое название. Это отнюдь не приготовительная школа. Быть может, я верно выражу свою мысль, – с особой слащавостью продолжала мисс Токс, – если назову это детским пансионом для особо избранных.
– Отбор чрезвычайно строгий и тщательный, – добавила миссис Чик, бросив взгляд на брата.
– О, исключительно! – сказала мисс Токс.
Все это имело значение. Хорошо было, что муж миссис Пипчин умер от разрыва сердца из-за Перуанских копей. Это говорило о богатстве. Вдобавок мистер Домби готов был впасть в отчаяние при мысли о том, что Поль остается здесь хотя бы еще на один час после того, как врач посоветовал его увезти. Это была остановка и задержка в пути, который ребенку предстояло, в лучшем случае, медленно пройти, прежде чем будет достигнута цель. Рекомендация, данная миссис Пипчин его сестрой и мисс Токс, имела для него большой вес, ибо он знал, что они ревниво относятся ко всякому вмешательству в их обязанности, и ни на секунду не допускал мысли, что, быть может, они стремятся разделить ответственность, о которой он, как было только что показано, имел свое установившееся мнение. Умер от разрыва сердца из-за Перуанских копей, размышлял мистер Домби. Что ж, весьма респектабельная смерть.
– Если мы решим, наведя завтра справки, отправить Поля в Брайтон к этой леди, кто поехал бы с ним? – подумав, спросил мистер Домби.
– В настоящее время вряд ли можно послать ребенка куда бы то ни было без Флоренс, дорогой мой Поль, – нерешительно ответила сестра. – Он просто без ума от нее. Он, конечно, очень мал, и у него свои причуды.
Мистер Домби отвернулся, медленно подошел к книжному шкафу и, открыв его, достал книгу.
– Еще кто-нибудь, Луиза? – спросил он, не поднимая глаз и перелистывая книгу.
– Конечно, Уикем. Я бы сказала, что одной Уикем вполне достаточно, – ответила сестра. – Если Поль попадет к такой особе, как миссис Пипчин, вряд ли нужно посылать кого-то, кто бы за нею наблюдал. Конечно, вы сами будете ездить туда по крайней мере раз в неделю.
– Разумеется, – сказал мистер Домби и затем в течение часа сидел, глядя на одну и ту же страницу и не прочтя ни слова.
Эта знаменитая миссис Пипчин была удивительно некрасивая, зловредная старая леди, сутулая, с лицом пятнистым, как плохой мрамор, с крючковатым носом и жесткими серыми глазами, по которым, казалось, можно было бить молотом как по наковальне, не нанося им никакого ущерба. По крайней мере сорок лет прошло с тех пор, как Перуанские копи свели в могилу мистера Пипчина, однако вдова его все еще носила черный бомбазин такого тусклого, густого, мертвого и мрачного тона, что даже газ не мог ее осветить с наступлением темноты, и присутствие ее действовало как гаситель на все свечи, сколько бы их ни было. Все ее называли «превосходной воспитательницей»; а тайна ее воспитания заключалась в том, чтобы давать детям все, чего они не любят, и не давать того, что они любят: нашли, что этот прием оказывает чрезвычайно благотворное воздействие на их нравы. Она была такой злющей старой леди, что был соблазн предположить, не произошла ли какая-то ошибка в применении перуанских насосов, и не из копей, а из нее были выкачаны досуха все воды радости и млеко человеческой нежности.
Замок этой людоедки и укротительницы детей находился в крутом переулке Брайтона, где почва была еще более, чем в других местах, кремнистой и бесплодной, а дома – еще более, чем в других местах, ветхими и жалкими; где маленькие палисадники отличались необъяснимым свойством не рождать ничего, кроме ноготков, что бы ни было там посеяно, и где улитки постоянно присасывались к парадным дверям и другим местам, которые им не полагалось украшать, с цепкостью медицинских банок. Зимой воздух не мог вырваться из замка, летом – не мог проникнуть в него. Ветер вечно пробуждал эхо, гудевшее, как огромная раковина, которую обитатели замка должны были днем и ночью держать у своего уха, нравилось им это или нет. Запахи в доме, естественно, не отличались свежестью, а на окне в гостиной, которое никогда не открывалось, миссис Пипчин держала коллекцию растений в горшках, примешивавших свой собственный землистый запах к запахам помещения. Эти растения – в своем роде отборные экземпляры – были из породы, удивительно подходившей к обители миссис Пипчин, здесь находилось с полдюжины кактусов, корчившихся около своих подпорок, как волосатые змеи; затем экземпляр, выпускающий широкие клешни, точно зеленый омар; несколько ползучих растений с клейкими и цепкими листьями и несуразный цветочный горшок, который был подвешен к потолку и как будто перекипал и переливал через край своими длинными зелеными побегами и, задевая и щекоча проходивших под ним, напоминал им о пауках, каковые водились в изобилии в жилище миссис Пипчин, хотя в определенное время года оно могло с еще большим успехом конкурировать по части уховерток.
Так как миссис Пипчин брала высокую плату со всех, кто мог платить, и так как миссис Пипчин очень редко смягчала свой неизменно желчный нрав ради кого бы то ни было, ее считали старой леди с удивительно твердым характером, обладающей вполне научным знанием детской природы. Опираясь на эту репутацию и на разрыв сердца мистера Пипчина, она ухитрялась после смерти своего супруга выколачивать год за годом вполне приличные средства к жизни. Через три дня после первого упоминания о ней миссис Чик эта превосходная старая леди имела удовольствие получить в виде задатка из кармана мистера Домби прекрасное добавление к постоянным своим доходам и принять Флоренс и ее маленького брата Поля в число обитателей замка.
Миссис Чик и мисс Токс, которые привезли их накануне вечером (все они провели эту ночь в гостинице), только что отъехали от дома, отправившись в обратный путь; и миссис Пипчин, стоя спиной к камину, разглядывала вновь прибывших, словно старый солдат. Племянница миссис Пипчин, особа средних лет, добродушная и верная ее раба, но тощая, на вид неприступная и чрезвычайно страдавшая от чирьев на носу, освобождала юного мистера Байтерстона от чистого воротничка, надетого по случаю парада. Вторая – и последняя в то время – маленькая пансионерка, мисс Пэнки, была уведена в тот момент в темницу замка (пустую комнату в глубине дома, предназначенную для исправительных целей) за то, что она три раза фыркнула в присутствии гостей.
– Ну, сэр, – сказала миссис Пипчин Полю, – как вы думаете, будете ли вы меня любить?
– Не думаю, чтобы я хоть немножко вас полюбил, – ответил Поль. – Я хочу уйти. Это не мой дом.
– Да. Это мой, – ответила миссис Пипчин.
– Очень гадкий дом, – сказал Поль.
– А в нем есть местечко похуже этого, – сказала миссис Пипчин, – куда мы запираем наших нехороших мальчиков.
– Он когда-нибудь был там? – спросил Поль, указывая на юного Байтерстона.
Миссис Пипчин утвердительно кивнула головой; и Поль нашел себе занятие на целый день, осматривая мистера Байтерстона с головы до ног и следя за всеми изменениями его физиономии с интересом, которого заслуживали таинственные и ужасные испытания, перенесенные этим мальчиком.
В час был подан обед, состоявший преимущественно из мучной и растительной пищи, и мисс Пэнки (кроткая маленькая голубоглазая девчурка, которую каждое утро растирали после купанья, подвергая, казалось, опасности окончательно стереть с лица земли) была приведена из плена самой людоедкой и уведомлена, что тот, кто фыркает при гостях, никогда не попадет в рай. Когда эта великая истина была основательно ей внушена, ее угостили рисом, после чего она прочла установленную в замке послеобеденную молитву, заключавшую в себе особую благодарность миссис Пипчин за хороший обед. Племянница миссис Пипчин, Беринтия, поела холодной свинины. Миссис Пипчин, чей организм требовал горячей пищи, пообедала бараньими отбивными котлетами, которые были принесены прямо с пылу, прикрытые тарелкою, и издавали весьма приятный запах.
Так как после обеда шел дождь и нельзя было идти на взморье, а организм миссис Пипчин требовал отдыха после отбивных котлет, дети отправились с Бери (она же – Беринтия) в темницу – пустую комнату, откуда виден был меловой откос и бочка с водой; это помещение имело вид крайне неуютный по вине ветхого камина без всяких приспособлений для топки. Впрочем, благодаря обществу, его оживлявшему, оно оказалось в конце концов наилучшим, потому что здесь Бери играла с детьми и, по-видимому, наслаждалась возней не меньше, чем они, покуда миссис Пипчин не постучала сердито в стену, словно ожившее коклейнское привидение, после чего игры были прекращены, и Бери до самых сумерек рассказывала шепотом сказки.
К чаю было подано вдоволь молока с водой и хлеба с маслом, а также маленький черный чайник для миссис Пипчин и Бери и намазанные маслом гренки в неограниченном количестве для миссис Пипчин, принесенные прямо с пылу так же, как отбивные котлеты. Хотя миссис Пипчин снаружи сделалась очень маслянистой после этого блюда, – оно как будто вовсе не смазало ее внутри, потому что она оставалась такой же свирепой, как и раньше, и ее жесткие серые глаза ничуть не смягчились.
После чая Бери принесла маленькую рабочую шкатулку с изображением Королевского павильона на крышке и принялась усердно работать, а миссис Пипчин, надев очки и раскрыв огромную книгу, переплетенную в зеленое сукно, начала клевать носом. И каждый раз, когда миссис Пипчин готова была упасть в огонь и просыпалась, она угощала щелчком юного Байтерстона за то, что тот тоже клевал носом.
Наконец настало время детям идти спать, и после молитвы они улеглись. Так как маленькая мисс Пэнки боялась спать одна в темноте, миссис Пипчин всегда почитала своим долгом гнать ее наверх, как овцу; и весело было слушать, как мисс Пэнки долго еще хныкала в самой неудобной спальне, а миссис Пипчин то и дело входила, чтобы сделать ей внушение. Примерно в половине десятого благоухание горячего сладкого мяса (организм миссис Пипчин требовал сладкого мяса, без коего она не могла заснуть) присоединилось к преобладающему аромату дома, который миссис Уикем называла «запахом здания», и вскоре после этого замок погрузился в сон.
На следующее утро завтрак не отличался от вечернего чая, но только миссис Пипчин ела булку вместо гренков и после этого казалась еще более раздраженной. Мистер Байтерстон вслух читал остальным родословную из книги Бытия (разумно избранную миссис Пипчин), преодолевая имена с легкостью и уверенностью человека, спотыкающегося на ступальном колесе[19]. Затем мисс Пэнки была унесена для растирания, а над мистером Байтерстоном проделывалась еще какая-то процедура с соленой водой, после чего он всегда возвращался очень синим и подавленным. Между тем Поль и Флоренс пошли к морю с Уикем, которая все время заливалась слезами, а около полудня миссис Пипчин руководила детским чтением. Так как в систему миссис Пипчин входило не допускать, чтобы детский ум развивался и расцветал как бутон, но раскрывать его насильно, как устрицу, то мораль этих уроков была обычно жестокой и ошеломляющей: героя – злого мальчика – даже в случае самой счастливой развязки обычно приканчивал лев или медведь, но никак не меньше.
Так текла жизнь у миссис Пипчин. По субботам приезжал мистер Домби: Флоренс с Полем ходили к нему в гостиницу и пили чай. Они проводили с ним несколько часов, и обычно катались перед обедом, и в таких случаях мистер Домби, как враги Фальстафа, из одного накрахмаленного человека превращался в дюжину. Воскресный вечер был самым меланхолическим вечером в неделе, ибо миссис Пипчин почитала своим долгом быть особенно сердитой в воскресные вечера. Мисс Пэнки обычно возвращалась в глубокой тоске из Ротингдина от тетки, а мистер Байтерстон, чьи родные жили в Индии и которому приказывали сидеть в перерывах между церковными службами у стены гостиной, выпрямившись и не двигая ни рукой, ни ногой, претерпевал столь жестокие для своей юной души страдания, что в один из воскресных вечеров спросил Флоренс, не может ли она сообщить ему какие-нибудь сведения о том, как вернуться в Бенгалию.
Но принято было считать, что у миссис Пипчин есть собственная система воспитания детей, и, разумеется, так оно и было. Несомненно, буяны, прожив несколько месяцев под ее гостеприимным кровом, возвращались домой ручными. Принято было также считать, что весьма почтенно со стороны миссис Пипчин посвятить себя такой жизни, пожертвовать в такой мере своими чувствами и так решительно противостоять невзгодам, после того как мистер Пипчин умер от разрыва сердца на Перуанских копях.
На эту примерную старую леди Поль мог смотреть без конца, сидя в своем креслице у камина. Казалось, он не знал, что такое усталость, когда пристально разглядывал миссис Пипчин. Он не любил ее; он не боялся ее, но когда его посещало это старческое раздумье, в ней как будто сосредоточивалось что-то чудовищно привлекательное для него. Так сидел он, и смотрел на нее, и грел руки, и все смотрел на нее, и иной раз приводил в полное замешательство миссис Пипчин, хотя она и была людоедкой. Однажды, когда они были вдвоем, она спросила его, о чем он думает.
– О вас, – с полной откровенностью сказал Поль.
– А что же вы обо мне думаете? – спросила миссис Пипчин.
– Думаю, какая вы, должно быть, старая, – сказал Поль.
– Молодой джентльмен, о таких вещах думать не следует, – возразила дама. – Это не годится.
– Почему не годится? – спросил Поль.
– Потому что это невежливо, – сердито сказала миссис Пипчин.
– Невежливо? – переспросил Поль.
– Да.
– Уикем говорит, – наивно сказал Поль, – что невежливо съедать все бараньи котлеты и гренки.
– Уикем, – покраснев, отрезала миссис Пипчин, – злая, бесстыжая, дерзкая нахалка.
– Что это такое? – осведомился Поль.
– Ничего, сэр! – отвечала миссис Пипчин. – Вспомните рассказ о маленьком мальчике, которого забодал до смерти бешеный бык за то, что он приставал с вопросами.
– Если бык был бешеный, – сказал Поль, – откуда он мог знать, что мальчик пристает с вопросами? Никто не станет шептать на ухо бешеному быку. Я не верю этому рассказу.
– Вы ему не верите, сэр? – с изумлением спросила миссис Пипчин.
– Не верю, – сказал Поль.
– Ну, а если бы бык был смирный, тогда вы поверили бы, вы, маленький невер? – спросила миссис Пипчин.
Так как Поль не задумывался над вопросом с этой точки зрения и основывал все свои заключения на установленном факте – бешенстве быка, – то в данный момент он согласился признать себя побежденным. Но он сидел и размышлял об этом со столь явным намерением поскорее загнать в тупик миссис Пипчин, что даже эта суровая старая леди сочла более благоразумным отступить, пока он не забудет об этом предмете.
С этого дня миссис Пипчин как будто почувствовала к Полю нечто похожее на то странное влечение, какое испытывал к ней Поль. Она заставляла его придвигать креслице к ее стулу у камина, вместо того чтобы садиться напротив; и здесь сидел он в уголке между миссис Пипчин и каминной решеткой; весь свет, исходивший от его личика, поглощался черными бомбазиновыми складками, а он изучал каждую черточку и морщинку на ее физиономии и заглядывал в жесткие серые глаза, так что миссис Пипчин иной раз поневоле их закрывала, притворяясь дремлющей. У миссис Пипчин был старый черный кот, который обычно лежал, свернувшись у средней ножки каминной решетки, самовлюбленно мурлыча и щурясь на огонь до тех пор, пока суженные его зрачки не уподоблялись двум восклицательным знакам. Добрая старая леди – мы не хотим оказать ей неуважение – могла быть ведьмой, а Поль и кот – когда они сидели все вместе у камина – двумя прислуживающими ей духами. Увидя эту компанию, никто бы не удивился, если бы порыв ветра унес их всех однажды вечером в трубу и они исчезли бы навсегда.
Этого, однако, не случилось. С наступлением темноты кот, Поль и миссис Пипчин неизменно находились на своих обычных местах; и Поль, избегая общества мистера Байтерстона, продолжал изучать по вечерам миссис Пипчин, кота и огонь, точно это был трактат о некромантии в трех томах.
Миссис Уикем давала свое собственное толкование странностям Поля и, укрепившись в дурном расположении духа, чему виной был смущающий вид дымовых труб, открывающийся из комнаты, где она обычно сидела, а также завывание ветра и скука (убийственная скука, как выражалась энергически миссис Уикем) теперешнего ее существования, выводила самые мрачные заключения из вышеупомянутых посылок. В правила миссис Пипчин входило удерживать ее собственную «молодую девку» – таково было у миссис Пипчин родовое имя для служанок – от общения с миссис Уикем: на это она тратила много времени, прячась за дверьми и пугая эту преданную девицу, как только та приближалась к комнате миссис Уикем. Но Бери имела право поддерживать общение с этой частью дома, если оно не препятствовало исполнению различных дел, которыми она занималась непрерывно с утра до ночи; и в разговоре с Бери миссис Уикем облегчала душу.
– Какой он хорошенький мальчуган, когда спит! – сказала как-то вечером Бери, принеся ужин миссис Уикем и приостановившись, чтобы посмотреть на спящего Поля.
– Ах! – вздохнула миссис Уикем. – Так и должно быть.
– Ну, он неплох и когда не спит, – заметила Бери.
– Да, сударыня. О да! Такой была и дочь моего дяди, Бетси Джейн, – сказала миссис Уикем.
Бери, казалось, не прочь была проследить, какая связь существовала между Полем Домби и дочерью дяди миссис Уикем, Бетси Джейн.
– Жена моего дяди, – продолжала миссис Уикем, – умерла точь-в-точь так же, как его мамаша. Дочь моего дяди горевала точь-в-точь так же, как мистер Поль. Дочь моего дяди иной раз замораживала кровь в жилах у людей, вот что!
– Как? – спросила Бери.
– Я бы не согласилась просидеть ночь напролет наедине с Бетси Джейн, – сказала миссис Уикем, – даже в том случае, если бы вы дали возможность Уикему открыть на следующее утро свое собственное дело. Я бы не могла это сделать, мисс Бери.
Мисс Бери, естественно, спросила – почему. Но миссис Уикем, следуя обычаю многих леди в ее положении, продолжала развивать свою мысль без всяких угрызений со вести.
– Бетси Джейн, – сказала миссис Уикем, – была таким милым ребенком, какого только можно пожелать. Лучшего я бы не могла пожелать. Всеми болезнями, какие только могут быть у детей, Бетси Джейн переболела. Судороги бывали у нее так же часто, – сказала миссис Уикем, – как у вас чирьи, мисс Бери.
Мисс Бери невольно сморщила нос.
– Но за Бетси Джейн, когда она была в колыбели, – сказала миссис Уикем, понижая голос и окидывая взглядом комнату и Поля в кроватке, – ухаживала ее покойная мать. Я не могла бы сказать – как, и не могла бы сказать – когда, и не могла бы сказать, знало ли об этом милое дитя или не знало, но за Бетси Джейн присматривала ее мать, мисс Бери! Вы можете сказать – вздор! Я не обижусь, мисс. Надеюсь, вы, не кривя душой, будете считать это вздором; тогда вы увидите, что тем легче будет у вас на сердце в этом – простите, что я так откровенно выражаюсь, – в этом склепе, который сводит меня в могилу. Мистер Поль как-то неспокойно спит. Пожалуйста, похлопайте его по спине.
– Конечно, вы полагаете, – сказала Бери, ласково исполняя то, о чем ее просили, – что и его выходила мать?
– Бетси Джейн, – самым торжественным тоном отвечала миссис Уикем, – приходилось так же худо, как и этому ребенку, и она изменилась так же, как изменился этот ребенок. Частенько случалось мне видеть, как она сидит и думает, думает, передумывает так же, как он. Частенько случалось мне видеть ее такой же старой, старой, старой, как он. Я считаю, мисс Бери, что этот ребенок и Бетси Джейн находятся в совершенно одинаковом положении.
– Дочь вашего дяди жива? – спросила Бери.
– Да, мисс, жива, – отвечала миссис Уикем с торжествующим видом, ибо ясно было, что мисс Бери ждала обратного, – и замужем за серебряных дел мастером. О да, мисс, она-то жива, – сказала миссис Уикем с сильным ударением на местоимении.
Так как было очевидно, что кто-то умер, племянница миссис Пипчин осведомилась – кто.
– Мне бы не хотелось вас тревожить, – отвечала миссис Уикем, продолжая ужинать. – Не спрашивайте меня.
Это был вернейший путь к тому, чтобы ее снова спросили. Поэтому мисс Бери повторила вопрос, и после некоторого сопротивления и колебаний миссис Уикем положила нож и, снова окинув взглядом комнату и Поля в кроватке, отвечала:
– Она вдруг привязывалась к людям; чудно привязывалась иной раз; а некоторые привязанности у нее были такие, каких и следовало ждать, но только сильнее, чем обычно. Все эти люди умерли.
Племяннице миссис Пипчин это показалось столь неожиданным и страшным, что она выпрямилась на жестком крае кровати, прерывисто дыша и с нескрываемым испугом глядя на рассказчицу.
Миссис Уикем осторожно махнула указательным пальцем левой руки в сторону кровати, на которой спала Флоренс; затем опустила его вниз и несколько раз выразительно указала на пол: как раз под ними находилась гостиная, где миссис Пипчин имела обыкновение поедать гренки.
– Попомните мои слова, мисс Бери, – сказала миссис Уикем, – и будьте благодарны, что мистер Поль не очень вас любит. Уверяю вас, я благодарна, что меня он не очень любит, хотя не велика радость жить в этой – простите, что я так откровенно выражаюсь, – в этой тюрьме!
Быть может, волнение побудило мисс Бери слишком сильно похлопать Поля по спине или же прервало ее успокоительно-монотонные движения, – как бы то ни было, но в этот момент он повернулся в своей постельке, проснулся, сел – головка у него была горячая и влажная после какого-то детского сна – и позвал Флоренс.
Флоренс вскочила с постели, как только раздался его голос, и, склонившись над его подушкой, снова убаюкала его песней. Миссис Уикем, покачивая головой и роняя слезы, указала Бери на маленькую группу и воздела глаза к потолку.
– Спокойной ночи, мисс! – тихо промолвила Уикем. – Спокойной ночи! Ваша тетка – старая леди, мисс Бери, и вы должны быть готовы к этому.
Такое утешительное напутствие миссис Уикем сопроводила скорбно-прочувственным взглядом и, оставшись одна с двумя детьми и слушая, как жалобно завывает ветер, предалась меланхолии – этому самому дешевому и доступному наслаждению, – пока ее не одолела дремота.
Хотя племянница миссис Пипчин, спускаясь вниз, не думала, что узрит этого образцового дракона простертым на коврике у камина, однако она почувствовала облегчение, увидев тетку необычайно сварливой и сердитой и, по всей вероятности, собирающейся прожить многие годы на утешение всем, кто ее знал. Никаких признаков упадка у нее не наблюдалось и в течение следующей недели, на протяжении коей диетические яства исчезали с регулярной последовательностью, несмотря на то, что Поль изучал ее так же внимательно, как и раньше, и занимал обычное свое место между черными юбками и каминной решеткой с непоколебимым постоянством.
Но так как сам Поль по истечении этого срока не стал сильнее, чем был по приезде, для него добыли колясочку, в которой он очень комфортабельно мог лежать с азбукой и другими начальными учебниками, в то время как его везли к морскому берегу. Верный своим странным вкусам, он отверг краснощекого подростка, который должен был возить эту коляску, и вместо него выбрал его деда, сморщенного старика с лицом, напоминающим краба, в потертом клеенчатом костюме, – старика, который, хорошо просолившись в морской воде, стал жестким и жилистым и от которого пахло водорослями, покрывавшими морской берег во время отлива.
С этим примечательным слугой, катившим коляску, с Флоренс, всегда шедшей рядом, и с погруженной в уныние Уикем, замыкавшей шествие, он спускался ежедневно к берегу океана; и здесь он часами сидел или лежал в своей коляске, и ничто так не огорчало его, как присутствие других детей, – за исключением одной только Флоренс.
– Уходите, пожалуйста, – говорил он детям, которые приходили посидеть с ним. – Благодарю вас, но вы мне не нужны.
Случалось, детский голосок под самым его ухом спрашивал, как он себя чувствует.
– Очень хорошо, благодарю вас, – отвечал он. – Но вы, пожалуйста, идите и играйте.
Потом он повертывал голову, смотрел вслед уходящему ребенку и говорил Флоренс:
– Нам никого больше не надо, правда? Поцелуй меня, Флой.
В такие минуты ему неприятно было даже присутствие Уикем, и он радовался, когда она, по обыкновению своему, уходила искать раковины и знакомых. Любимое его местечко было самое уединенное, куда не заглядывало большинство гуляющих; и если Флоренс сидела подле него с работой, или читала ему, или разговаривала с ним, а ветер дул ему в лицо и вода подступала к колесам его коляски – ему больше ничего не было нужно.
– Флой, – сказал он однажды, – где Индия, в которой живут родные этого мальчика?
– О, далеко, далеко отсюда, – сказала Флоренс, поднимая глаза от работы.
– Нужно ехать несколько недель? – спросил Поль.
– Да, дорогой. Много недель, днем и ночью.
– Если бы ты была в Индии, Флой, – сказал Поль, помолчав минуту, – я бы… Что сделала мама? Я забыл.
– Любила меня! – подсказала Флоренс.
– Нет, нет. Разве сейчас я не люблю тебя, Флой?.. Как это?.. Умерла… Если бы ты была в Индии, я бы умер, Флой.
Она поспешно отложила работу и, лаская его, опустила голову на его подушку. И она умерла бы, если бы он был там, – сказала она. Скоро он будет чувствовать себя лучше.
– О, мне теперь гораздо лучше! – отвечал он. – Я не то хотел сказать. Я хочу сказать, что умер бы от огорчения и от того, что был бы один, Флой.
Однажды он заснул и долго спал спокойно. Внезапно проснувшись, он прислушался, встрепенулся, сел и продолжал к чему-то прислушиваться.
Флоренс спросила его, что ему послышалось.
– Я хочу знать, что оно говорит, – ответил он, пристально глядя ей в лицо. – Море, Флой, – о чем оно говорит все время?
Она ответила, что это только шум набегающих волн.
– Да, да, – сказал он. – Но я знаю, что они всегда что-то говорят. Всегда одно и то же. А что там, за морем?
Он привстал, жадно всматриваясь в даль.
Она отвечала ему, что там другая страна. Он не об этом думает, – сказал он; он думает о том, что там дальше… дальше!
С тех пор очень часто во время разговора он умолкал, стараясь понять, о чем это всегда говорят волны, и приподнимался в коляске, чтобы посмотреть туда, где лежит этот невидимый далекий край.
Глава IX,
в которой Деревянный Мичман попадает в беду
Та смесь романтики и любви к чудесному, которая была в большой степени свойственна натуре юного Уолтера и которую опека его дяди, старого Соломона Джилса, не очень-то смыла водами сурового житейского опыта, привела к тому, что он отнесся с необычайным и восторженным интересом к приключению Флоренс у Доброй миссис Браун. Он упивался им и лелеял его в своей памяти, в особенности ту часть его, которая имела к нему отношение, пока оно не стало избалованным детищем его фантазии, не завладело и не начало распоряжаться ею самовластно.
Воспоминание об этом происшествии и его собственном участии в нем сделалось, быть может, еще пленительнее благодаря еженедельным воскресным мечтаниям старого Соля и капитана Катля. Вряд ли хоть одно воскресенье прошло без таинственных намеков на Ричарда Виттингтона, брошенных кем-либо из этих почтенных друзей; а капитан Катль так далеко зашел, что даже купил весьма старинную балладу, которая долго болталась вместе со многими другими, выражавшими главным образом чувства моряков, на глухой стене на Комершел-роуд; это поэтическое произведение повествовало об ухаживании и бракосочетании подающего надежды юного грузчика угля с некоей «красоткой Пэг», весьма достойной дочкой шкипера и совладельца ньюкаслского угольного судна. В этой волнующей легенде капитан Катль усматривал глубокое философское сходство с положением Уолтера и Флоренс, и она действовала на него столь возбуждающе, что в торжественных случаях, как, например, в дни рождения и в некоторые другие нецерковные праздники, он во все горло распевал эту песню в маленькой гостиной, выводя поразительную трель в слове «Пэ-э-эг», которым, в честь героини произведения, заканчивался каждый куплет.
Но простодушный, веселый, общительный мальчик не очень склонен анализировать природу своих собственных чувств, как бы сильно они им ни владели; и Уолтеру трудно было бы разрешить эту задачу. Он очень полюбил верфь, где встретил Флоренс, и улицы (вовсе не привлекательные), по которым они шли домой. Башмаки, которые так часто спадали по дороге, он хранил у себя в комнате; а сидя как-то вечером в маленькой задней гостиной, он нарисовал целую галерею воображаемых портретов Доброй миссис Браун. Быть может, после этого памятного события он начал больше заботиться о своем костюме; и, несомненно, ему доставляло удовольствие в часы досуга ходить в тот квартал, где находился дом мистера Домби, с туманной надеждой встретить на улице маленькую Флоренс. Но отношение у него ко всему этому было совсем мальчишеское и наивное. Флоренс была очень хорошенькой, а любоваться хорошеньким личиком приятно. Флоренс была беззащитной и слабой, и он с гордостью думал о том, что ему удалось оказать ей покровительство и помощь. Флоренс была самым благодарным маленьким созданием в мире, и очаровательно было видеть ее лицо, светившееся горячей благодарностью. На Флоренс не обращали внимания и относились к ней с холодным пренебрежением, и сердце его преисполнилось юношеского интереса к заброшенному ребенку в скучном, величественном доме.
Вот почему случилось так, что, быть может, несколько раз в течение года Уолтер раскланивался с Флоренс на улице, а Флоренс останавливалась, чтобы пожать ему руку. Миссис Уикем (которая, переделывая на свой лад его фамилию, неизменно называла его «молодым Грейвом»[20]), зная историю их знакомства, так привыкла к этому, что никакого внимания не обращала. С другой стороны, мисс Нипер скорее искала этих встреч; ее чувствительное юное сердце было втайне расположено к миловидному Уолтеру и склонно верить, что это чувство не остается без ответа.
Таким образом, Уолтер не только не забывал впечатления от знакомства с Флоренс, но оно глубже и глубже запечатлевалось в его памяти. Что касается необычайного его начала и всех мелких обстоятельств, придававших ему особый характер и прелесть, он относился к ним скорее как к занимательному рассказу, пленявшему его воображение и не выходившему у него из головы, чем к подлинному событию, в котором он играл какую-то роль. По его мнению, эта встреча выдвигала на первый план Флоренс, но не его. Иногда он думал (и тогда шагал очень быстро), как было бы чудесно, – уйди он в плавание на следующий день после этой первой встречи; за морем он совершал бы чудеса, после долгого отсутствия вернулся бы адмиралом, сверкающим всеми цветами радуги, как дельфин, или по крайней мере капитаном почтового судна с нестерпимо блестящими эполетами, женился бы на Флоренс (к тому времени красивой молодой женщине), невзирая на зубы, галстук и часовую цепочку мистера Домби, и с торжеством увез бы ее куда-нибудь к лазурным берегам. Но эти полеты фантазии редко покрывали медную табличку конторы Домби и Сына глянцем золотой надежды или бросали ослепительный блеск на грязные окна в потолке; и когда капитан и дядя Соль толковали о Ричарде Виттингтоне и хозяйских дочерях, Уолтер чувствовал, что понимает настоящее свое положение у Домби и Сына гораздо лучше, чем они.
Вот почему он изо дня в день продолжал делать то, что должен был делать, бодро, усердно и весело; видел насквозь дядю Соля и капитана Катля с их розовыми надеждами и, однако, упивался своими собственными смутными и фантастическими мечтами, по сравнению с которыми их мечты были будничными и осуществимыми. Таково было его положение в эпоху миссис Пипчин, когда он казался немного старше, чем был раньше, но оставался все тем же живым, беззаботным, легкомысленным мальчиком, как в тот день, когда ворвался в гостиную, ведя за собой дядю Соля и воображаемых сотрапезников, и светил ему во время поисков той самой мадеры.
– Дядя Соль, – сказал Уолтер, – мне кажется, вы нездоровы. Вы ничего не ели за завтраком. Если так будет продолжаться, я приглашу доктора.
– Он не может дать то, что мне нужно, мой мальчик, – сказал дядя Соль. – А если может – значит, у него прекрасная практика… и все-таки он не даст.
– Что же это такое, дядя? Покупатели?
– Да, – со вздохом отвечал дядя Соль. – Покупатели пригодились бы.
– Черт возьми, дядя! – воскликнул Уолтер, со стуком поставив чашку и хлопнув рукой по столу. – Когда я вижу, как люди толпами ходят целый день по улице и десятками снуют каждую минуту мимо лавки, меня так и подмывает выскочить, схватить кого-нибудь за шиворот, притащить сюда и заставить его купить на пятьдесят фунтов инструментов за наличные деньги. Ну, что вы там рассматриваете у двери? – продолжал Уолтер, обращаясь к старому джентльмену с напудренной головой (так, чтобы тот, разумеется, не слышал), который во все глаза смотрел на морскую подзорную трубу. – От этого никакого толку нет. Так я и сам могу! Войдите и купите ее.
Но старый джентльмен, удовлетворив свое любопытство, спокойно пошел дальше.
– Ушел! – воскликнул Уолтер. – Все они так. Но, дядя… послушайте, дядя Соль, – старик задумался и не отозвался на первое его обращение, – не унывайте! Не теряйте бодрости, дядя. Уж когда начнут поступать заказы, их будет такая куча, что вы не в состоянии будете исполнить все.
– Все уже будет исполнено, когда они начнут поступать, мой мальчик, – отвечал Соломон Джилс. – Не поступят они в эту лавку, покуда я из нее не выйду.
– Послушайте, дядя! Право же, вы не должны так говорить! – убеждал Уолтер. – Не надо!
Старый Соль пытался принять бодрый вид и как только мог весело улыбнулся ему через маленький стол.
– Ничего особенного не случилось, правда, дядя? – спросил Уолтер, облокачиваясь на поднос и наклоняясь вперед, чтобы говорить более ласково. – Если что-нибудь случилось, будьте со мной откровенны, дядя, и расскажите мне все.
– Нет! Нет! Нет! – отвечал старый Соль. – Особенного? Нет! Нет! Что же особенного могло случиться?
В ответ Уолтер недоверчиво покачал головой.
– Вот это я и хочу знать, – сказал он, – а вы спрашиваете меня! Послушайте, что я вам скажу, дядя: когда я вас вижу таким, как сейчас, я, право, жалею, что живу с вами.
Старый Соль невольно раскрыл глаза.
– Да. Хотя не было еще человека счастливее, чем счастлив я с вами сейчас, – и так было всегда, но, право же, я жалею, что с вами живу, когда вижу, что вас что-то беспокоит.
– Тогда я бываю скучным, я это знаю, – заметил Соломон, покорно потирая руки.
– Вот что я хочу сказать, дядя Соль, – продолжал Уолтер, наклоняясь еще ближе, чтобы похлопать его по плечу, – тогда я чувствую, что вместо меня должна была бы сидеть здесь с вами и разливать чай славная, маленькая, пухленькая жена – чудесная, тихая, приятная старая леди, которая была бы вам под пару и знала бы, как обращаться с вами и поддерживать доброе расположение духа. Такого любящего племянника, как я, никогда еще не бывало (а я, конечно, и не мог быть иным), но ведь я – всего-навсего племянник и не могу быть вам таким другом, когда вы пасмурны и не в своей тарелке, каким стала бы она много лет назад, хотя, право же, я бы отдал что угодно, только бы подбодрить вас. Так вот, говорю я, когда я вижу, что вас что-то беспокоит, тогда мне жаль, что нет около вас кого-нибудь получше, чем такой бестолковый, грубый мальчишка, как я, у которого есть желанье утешить вас, дядя, но нет уменья… нет уменья, – повторил Уолтер, наклоняясь еще ближе, чтобы пожать руку дяде.
– Уоли, дорогой мой мальчик, – сказал Соломон, – если бы приятная старая леди и расположилась в этой гостиной сорок пять лет тому назад, все равно я бы не мог любить ее больше, чем люблю тебя.
– Я это знаю, дядя Соль, – отвечал Уолтер. – Клянусь Богом, я это знаю. Но вы не сгибались бы под бременем таинственных забот, если бы она была с вами, потому что она бы знала, как избавить вас от них, а я не знаю.
– Нет, нет! И ты знаешь, – возразил инструментальный мастер.
– Ну, так что же случилось, дядя Соль? – ласково спросил Уолтер. – Скажите! Что случилось?
Соломон Джилс настаивал на том, что ничего не случилось, и утверждал это так решительно, что племяннику ничего не оставалось делать, как весьма неискусно притвориться, будто он ему поверил.
– Я одно могу сказать, дядя Соль: если что-нибудь…
– Но ничего не случилось, – сказал Соломон.
– Отлично, – отвечал Уолтер. – Стало быть, мне больше нечего сказать, и это очень хорошо, потому что мне пора идти на службу. Я загляну мимоходом, дядя, посмотреть, как у вас дела. И помните, дядя! Больше я никогда не буду вам верить и никогда не буду рассказывать о мистере Каркере-младшем, если узнаю, что вы меня обманываете!
Соломон Джилс, смеясь, посоветовал ему узнать что-нибудь в этом роде, и Уолтер, обдумывая всевозможные несбыточные планы сколотить состояние и создать Деревянному Мичману независимое положение, отправился в контору Домби и Сына с таким мрачным видом, с каким обычно туда не являлся.
В те дни жил за углом – в самом конце Бишопсгет-стрит – некий Броли, присяжный маклер и оценщик, который имел лавку, где всевозможная подержанная мебель выставлена была в самом нелепом виде и в положении и комбинациях, совершенно чуждых ее назначению. Дюжины стульев, прицепленных к умывальникам, которые с трудом взгромоздились на плечи буфетов, взобравшихся, в свою очередь, на перевернутые обеденные столы, гимнастически задиравшие ноги на других обеденных столах, были расположены еще в сравнительном порядке. Десертный прибор, состоявший из крышек для блюд, рюмок и графинов, был расставлен на лоне кровати с балдахином для развлечения такой приятной компании, как три-четыре кочерги и лампа из холла. Комплект оконных занавесок, которые не подошли бы ни к одному окну, изящно драпировал баррикаду из комодов, заставленных аптекарскими пузырьками, – тогда как бездомный каминный коврик, разлученный со своим природным другом – очагом, в несчастье своем храбро противостоял резкому восточному ветру и трепетал в меланхолическом согласии с пронзительными жалобами кабинетного пианино, которое чахло, теряя ежедневно по струне и слабо откликаясь на уличный шум своим дребезжащим и больным мозгом. Что касается неподвижных часов, которые и пальцем не могли пошевельнуть и, казалось, так же неспособны были идти нормальным ходом, как и денежные дела прежних их владельцев, то их было много в лавке мистера Броли; а всевозможные зеркала, случайно расставленные так, что давали отражения и преломления с закономерностью нарастания сложных процентов, являли глазу вечную перспективу банкротства и разорения.
Сам мистер Броли был румяным, курчавым, плотным человеком с влажными глазами и покладистым нравом, ибо эта порода Гаев Мариев, сидящих на развалинах чужого Карфагена, всегда сохраняет хорошее расположение духа. Иной раз он заглядывал в лавку Соломона, дабы задать какой-нибудь вопрос об инструментах, с которыми имел дело Соломон, и Уолтер знал его достаточно, чтобы здороваться с ним, встречаясь на улице; но так как этим и ограничивалось знакомство маклера с Соломоном Джилсом, то Уолтер немало удивился, когда, вернувшись до полудня, согласно своему обещанию, застал мистера Броли, который сидел в задней гостиной, засунув руки в карманы и повесив шляпу за дверью.
– Ну, что, дядя Соль? – сказал Уолтер. Старик понуро сидел по другую сторону стола, а очки его находились каким-то чудом на носу, а не на лбу. – Как вы теперь себя чувствуете?
Соломон покачал головой и махнул рукой в сторону маклера, как бы представляя его.
– Что-нибудь случилось? – затаив дыхание, спросил Уолтер.
– Нет, нет! Ничего не случилось, – сказал мистер Броли. – Пусть это вас не тревожит.
Уолтер с немым изумлением переводил взгляд с маклера на дядю.
– Дело в том, – сказал мистер Броли, – что тут есть неоплаченный вексель – триста семьдесят с лишним. Вексель просрочен и попал ко мне.
– Попал к вам? – воскликнул Уолтер, окидывая взглядом лавку.
– Да, – сказал мистер Броли конфиденциальным тоном, покачивая при этом головой, как будто настаивал на том, что им всем надлежит чувствовать себя прекрасно. – Исполнительный приказ о взыскании. Вот что это значит. Пусть это вас не тревожит. Я пришел сам, чтобы все было сделано тихо и мирно. Вы меня знаете. Никакой огласки не будет.
– Дядя Соль! – пробормотал Уолтер.
– Уоли, мой мальчик, – отозвался дядя, – это случилось впервые. Такой беды никогда еще со мной не бывало. Я слишком стар, чтобы начинать сначала.
Снова сдвинув очки на лоб (ибо они больше уже не могли скрыть его волнение), он заслонил лицо рукой и заплакал, и слезы закапали на его кофейного цвета жилет.
– Дядя Соль! Пожалуйста! Ох, не надо! – воскликнул Уолтер, который буквально оцепенел от ужаса при виде плачущего старика. – Ради Бога, не надо этого! Мистер Броли, что же мне делать?
– Я бы вам посоветовал отыскать какого-нибудь друга, – сказал мистер Броли, – и потолковать с ним.
– Совершенно верно! – вскричал Уолтер, хватаясь за соломинку. – Правильно! Благодарю вас. Капитан Катль – вот кто нам нужен, дядя. Подождите, пока я сбегаю к капитану Катлю. Пожалуйста, присмотрите за дядей, мистер Броли, и постарайтесь его успокоить, пока меня нет. Не отчаивайтесь, дядя Соль. Не падайте духом, держитесь молодцом!
Выпалив все это с большим жаром и не обращая внимания на бессвязные возражения старика, Уолтер выскочил сломя голову из лавки и, сбегав в контору, чтобы испросить разрешение на отлучку по случаю внезапной болезни дяди, пустился во всю прыть к жилищу капитана Катля.
Все как будто изменилось, когда он бежал по улицам. Была обычная сутолока и шум двуколок, ломовых телег, омнибусов, подвод и пешеходов, но несчастье, постигшее Деревянного Мичмана, сделало все каким-то чужим и новым. Дома и лавки были не те, что прежде, и на фасадах только и можно было видеть, что полномочие мистера Броли, написанное крупными буквами. Маклер, казалось, завладел даже церквами, ибо шпили их как-то непривычно вздымались к небу. Даже само небо изменилось, и казалось, на нем был начертан исполнительный приказ.
Капитан Катль жил на берегу маленького канала около Индийских доков, где был разводной мост, который время от времени раздвигался, чтобы пропустить какое-нибудь странствующее чудовище – судно, пробиравшееся вдоль улицы подобно выброшенному на мель Левиафану. Любопытен был постепенный переход от суши к воде по мере приближения к жилищу капитана Катля. Он начинался с торчащих флагштоков как неотъемлемой принадлежности трактиров; затем шли лавки матросского платья с вязаными куртками, зюйдвестками и самыми прочными и самыми широкими парусиновыми штанами, вывешенными снаружи. За ними следовали кузницы, где ковали якоря и цепи, где большие молоты целый день били со звоном по железу, затем шли ряды домов с маленькими увенчанными флюгером мачтами, поднимающимися из зарослей красных бобов. Затем канавы. Затем подстриженные ивы. Затем снова канавы. Затем какие-то странные полосы грязной воды, едва различимые из-за судов, покрывавших их. Затем в воздухе повеяло запахом стружек; и все прочие ремесла вытеснило изготовление мачт, весел, блоков и постройка лодок. Затем почва стала болотистой и вязкой. Затем уже ничем не пахло, кроме рома и сахара. Затем на Бриг-Плейс как раз перед вами возникало жилище капитана Катля, где второй этаж был в то же время и самым верхним.
Капитан был одним из тех людей, у кого одеяние и тело как будто вытесаны из одного куска дуба; самое пылкое воображение едва ли может отделить от них хотя бы незначительную часть их одежды. Поэтому, когда Уолтер постучал в дверь, а капитан тотчас высунул голову из маленького окошка, выходившего на улицу, и окликнул его, причем, как всегда, на нем уже была надета твердая глянцевитая шляпа, рубашка с воротничком, концы которого походили на паруса, и просторный синий костюм, – Уолтер был совершенно убежден, что он всегда пребывает в таком виде, точно капитан был птицей, а костюм – его оперением.
– Уолтер, мой мальчик! – сказал капитан Катль. – Держись крепче и постучи еще раз. Погромче! Сегодня стирка.
Уолтер в нетерпении оглушительно застучал дверным кольцом.
– Вот это здорово! – сказал капитан Катль и тотчас спрятался, словно ждал шквала.
И он не ошибся; ибо вдовствующая леди с рукавами, засученными до плеч, и руками, покрытыми мыльной пеной и дымящимися от горячей воды, явилась на призыв с поразительной быстротой. Прежде чем посмотреть на Уолтера, она взглянула на дверное кольцо, а затем, смерив взглядом мальчика с головы до ног, выразила удивление, что кольцо уцелело.
– Насколько мне известно, капитан Катль дома, – сказал Уолтер с заискивающей улыбкой.
– Дома? – отвечала вдовствующая леди. – Вот как!
– Он только что говорил со мной, – торопливо пояснил Уолтер.
– Говорил? – отозвалась вдовствующая леди. – В таком случае, быть может, вы передадите ему привет от миссис Мак-Стинджер и скажете, что в следующий раз, когда он унизит себя и свою квартиру, переговариваясь через окно, она будет ему признательна, если он также спустится вниз и откроет дверь.
Миссис Мак-Стинджер говорила громко и прислушивалась, не последует ли каких-нибудь замечаний из второго этажа.
– Я передам, – сказал Уолтер, – если вы будете любезны и впустите меня, сударыня.
Дело в том, что его удерживало деревянное укрепление, тянувшееся поперек двери и возведенное здесь для того, чтобы юные Мак-Стинджеры в часы досуга не скатились со ступенек.
– Смею надеяться, – презрительно сказала миссис Мак-Стинджер, – что парень, который может вышибить мою дверь, сумеет и перепрыгнуть через это.
Но когда Уолтер принял ее слова за разрешение войти и перепрыгнул, миссис Мак-Стинджер немедленно спросила, является ли дом англичанки ее крепостью или нет, и неужели к ней может врываться любой бездельник.
Желание ее получить сведения о сем предмете было все еще очень велико, когда Уолтер, поднявшись по маленькой лестнице сквозь искусственный туман, вызванный стиркой, вследствие коей перила покрылись липким потом, вошел в комнату капитана Катля и застал этого джентльмена в засаде за дверью.
– Никогда ни одного пенни не был ей должен, Уольр, – шепотом сказал капитан Катль, а лицо его явно выражало смятение. – Оказывал ей кучу услуг и детям ее. Все-таки по временам она ведьма. Тьфу!
– Я бы отсюда выехал, капитан Катль, – сказал Уолтер.
– Не смею, Уольр, – возразил капитан. – Она меня отыщет, куда бы я ни ушел. Садись. Что Джилс?
Капитан (в шляпе) сидел за обедом, состоявшим из холодной баранины, портера и дымящегося горячего картофеля, который он сам варил и по мере надобности вынимал из небольшой кастрюли, помещавшейся над огнем в камине. В обеденное время он отвинчивал свой крючок и вместо него ввинчивал в деревянное гнездо нож, которым уже начал очищать картофелину для Уолтера. Комнатушки у него были маленькие и пропахшие табачным дымом, но довольно уютные: все вещи были уложены и расставлены так тщательно, словно здесь каждые полчаса случалось землетрясение.
– Что Джилс? – осведомился капитан.
Уолтер, который к тому времени отдышался, но зато утратил бодрость – временный подъем, вызванный быстрой ходьбой, – посмотрев с минуту на вопрошавшего, сказал:
– О капитан Катль! – и залился слезами.
Нет слов изобразить ужас капитана, вызванный этим зрелищем. Образ миссис Мак-Стинджер совершенно стерся. Он уронил картофелину и вилку – уронил бы и нож, если бы это было возможно, и сидел, глядя на мальчика, словно приготовился услышать тотчас же, что земля в Сити разверзлась и поглотила его старого друга, кофейного цвета костюм, пуговицы, хронометр, очки и все прочее.
Но когда Уолтер сообщил ему, что, в сущности, произошло, капитан Катль после минутного раздумья обнаружил живую деятельность. Он выложил из маленькой металлической чайницы, стоявшей на верхней полке буфета, весь свой наличный капитал (равнявшийся тринадцати фунтам и полукроне), каковой препроводил в один из карманов своего широкого синего фрака; затем обогатил это хранилище содержимым своего ящика со столовым серебром, а именно двумя стертыми скелетами чайных ложек и старомодными кривыми щипцами для сахара; извлек свои огромные серебряные с двойной крышкой часы из глубин, где они покоились, дабы удостовериться, что эта драгоценность цела и невредима; снова привинтил крючок к правому запястью и, схватив палку, усеянную шишками, предложил Уолтеру отправиться в путь. Вспомнив, однако, в разгар добродетельного своего возбуждения, что миссис Мак-Стинджер, быть может, подстерегает его внизу, капитан Катль в последний момент заколебался и даже взглянул на окно, словно у него мелькнула мысль воспользоваться этим необычным выходом, только бы не встречаться с грозным врагом. Однако он решил прибегнуть к военной хитрости.
– Уольр, – сказал капитан, робко подмигивая, – ступай вперед, мой мальчик. Когда войдешь в коридор, крикни: «До свидания, капитан Катль!» – и закрой дверь. А затем жди на углу этой улицы, покуда не увидишь меня.
Эти распоряжения вытекали из предварительного изучения тактики неприятеля, ибо когда Уолтер спустился по лестнице, миссис Мак-Стинджер подобно мстительному духу вылетела из маленькой кухни. Но, не налетев, вопреки своим ожиданиям, на капитана, она только упомянула еще раз о дверном кольце и снова влетела в кухню.
Прошло минут пять, прежде чем капитан Катль собрался с духом и отважился на побег, так как Уолтер ждал именно столько времени на углу, оглядываясь на дом и не видя никаких признаков твердой глянцевитой шляпы. Наконец капитан выскочил из двери со скоростью ядра, подошел к нему стремительно и ни разу не оглянулся, а как только они покинули эту улицу, начал насвистывать песенку.
– Дядя сильно накренился, Уольр? – осведомился капитан, когда они шли по улице.
– Боюсь, что да. Если бы вы его видели сегодня утром, вы бы никогда этого не забыли.
– Шагай быстрей, Уольр, мой мальчик, – сказал капитан, прибавив шагу, – и так же быстро ходи во все дни твоей жизни. Перелистай катехизис, чтобы отыскать этот совет, и следуй ему!
Капитан был слишком занят своими мыслями о Соломоне Джилсе, к которым примешивалось, быть может, и воспоминание о недавнем бегстве от миссис Мак-Стинджер, чтобы приводить дорогой еще какие-нибудь цитаты в интересах нравственного усовершенствования Уолтера. Больше они не обменялись ни словом, пока не подошли к двери старого Соля, где злополучный Деревянный Мичман с инструментом у глаза, казалось, обозревал горизонт в поисках друга, который помог бы ему выпутаться из беды.
– Джилс! – сказал капитан, вбегая в заднюю гостиную и с большой нежностью беря его за руку. – Держитесь носом против ветра, и мы пробьемся. Единственное, что вы должны делать, – продолжал капитан с важностью человека, изрекающего одно из драгоценнейших практических правил, когда-либо открытых человеческой мудростью, – это держаться носом против ветра – и мы пробьемся!
Старый Соль ответил на рукопожатие и поблагодарил друга. Затем капитан Катль с торжественностью, приличествующей моменту, положил на стол две чайных ложки и щипцы для сахара, серебряные часы и наличные деньги и спросил маклера мистера Броли, велик ли долг.
– Послушайте! Хватит вам этого? – спросил капитан Катль.
– Господь с вами! – отвечал маклер. – Неужели вы думаете, что от этого может быть какая-нибудь польза?
– Почему бы нет? – осведомился капитан.
– Почему? Сумма равняется тремстам семидесяти с лишним, – ответил маклер.
– Не беда, – возразил капитан, хотя он был явно смущен этой цифрой. – Полагаю, любая рыба, попадающая к вам в сети, остается рыбой.
– Разумеется, – сказал мистер Броли. – Но селедка, знаете ли, не кит.
Это философическое замечание, казалось, поразило капитана. Он размышлял с минуту, поглядывая при этом на маклера, как на великого мудреца, а затем отозвал в сторону мастера судовых инструментов.
– Джилс, – сказал капитан Катль, – по какому обязательству? Кто кредитор?
– Тише, – отозвался старик. – Отойдем подальше. Не говорите при Уоли. Это поручительство за отца Уоли, старое обязательство. Я много выплатил, Нэд, но времена для меня настали такие тяжелые, что сейчас я ничего не могу поделать. Я это предвидел, но помочь ничем не мог. Ради Бога, ни слова при Уоли.
– Но ведь какие-нибудь деньги у вас есть? – шепотом спросил капитан.
– Да, да… о да… кое-что у меня есть, – отвечал старый Соль, сначала засунув руки в пустые карманы, а затем ухватившись за свой валлийский парик, словно надеялся выдавить из него золото. – Но я… то немногое, что у меня есть, нельзя обратить в наличные деньги, Нэд; это невозможно. Я старался сделать что-нибудь для Уоли, но я старомоден и отстал от века. Они и тут и там, и… и, короче говоря, все равно что нигде, – сказал старик, растерянно озираясь.
Он так был похож на помешанного, который припрятал свои деньги в разных местах и забыл – где, что капитан следил за его взглядом, питая слабую надежду, не вспомнит ли тот о нескольких сотнях фунтов, спрятанных в дымоходе или в погребе. Но Соломон Джилс знал, что этого не случится.
– Я отстал от века, дорогой мой Нэд, – сказал Соль с покорным отчаянием, – совсем отстал. Не имеет смысла плестись за ним где-то далеко позади. Товар пусть лучше продадут – он стоит больше, чем нужно для уплаты этого долга, – а я лучше уйду куда-нибудь и покончу счеты с жизнью. Больше нет у меня энергии. Я не понимаю того, что происходит. Уж лучше проститься со всем этим. Пусть продадут товар и снимут его, – сказал старик, указывая дрожащей рукой на Деревянного Мичмана, – и пусть мы оба пойдем на слом.
– А как вы думаете поступить с Уольром? – спросил капитан. – Ну-ну! Присядьте, Джилс, присядьте и дайте мне подумать. Если бы не приходилось мне жить на маленькую ренту, которая до сегодняшнего дня была достаточно большой, мне незачем было бы думать. А вы только держитесь носом против ветра, – сказал капитан, снова предлагая этот неопровержимый утешительный совет, – и все обойдется.
Старый Соль от души поблагодарил, но вместо того, чтобы его выполнить, встал и прислонился головой к каминной доске.
Некоторое время капитан Катль шагал взад и вперед по лавке, сосредоточенно размышляя и столь мрачно хмуря косматые черные брови, наползавшие ему на нос, словно облака, опускавшиеся на гору, что Уолтер боялся прервать каким-нибудь замечанием течение его мыслей. Мистер Броли, который отнюдь не хотел быть в тягость обществу и который был человеком обходительным, бродил, тихо посвистывая, среди товаров, стучал по барометрам, встряхивал компасы, словно пузырьки с микстурой, поднимал ключи магнитом, смотрел в подзорные трубы, пытался усвоить правила пользования глобусами, насаживал себе на нос параллельные линейки и предавался другим физическим опытам.
– Уольр! – сказал наконец капитан. – Я придумал!
– Придумали, капитан Катль? – с великим воодушевлением воскликнул Уолтер.
– Иди сюда, мой мальчик, – сказал капитан – Товар – это одно обеспечение. Я – другое. Твой патрон – вот кто даст ссуду.
– Мистер Домби? – пробормотал Уолтер.
Капитан важно кивнул головой.
– Посмотри на него, – сказал он. – Посмотри на Джилса. Если начнут распродавать эти вещи, он умрет. Ты сам знаешь, что умрет. Мы должны перевернуть все вверх дном, не оставить камня на камне, – и вот тебе камень.
– Камень! Мистер Домби! – пробормотал Уолтер.
– Прежде всего сбегай в контору и узнай, там ли он, – сказал капитан Катль, хлопнув его по спине. – Живо!
Уолтер почувствовал, что должен подчиниться приказу, – один взгляд, брошенный на дядю, заставил бы его решиться, если бы он думал иначе, – и кинулся его исполнять. Вскоре он вернулся, запыхавшись, и сообщил, что мистера Домби нет в городе. Была суббота, и он уехал в Брайтон.
– Вот что я тебе скажу, Уольр, – объявил капитан, который за время его отсутствия, казалось, приготовился к такой помехе. – Мы едем в Брайтон. Я тебя поддержу, мой мальчик. Я тебя поддержу, Уольр. Мы едем в Брайтон с вечерней пассажирской каретой.
Если уже нужно было обращаться к мистеру Домби – о чем страшно было подумать, – Уолтер чувствовал, что предпочел бы сделать это один и без всякой помощи, но не прибегать к такой поддержке, как личное влияние капитана Катля, коему, по его предположениям, мистер Домби вряд ли придаст значение. Но так как капитан, по-видимому, был противоположного мнения, от которого не отступал, и так как дружеские его чувства были слишком пылки и серьезны, чтобы мог ими пренебрегать человек гораздо моложе его, то Уолтер воздержался от всяких возражений. Посему Катль, торопливо попрощавшись с Соломоном Джилсом и снова отправив в карман наличные деньги, чайные ложки, щипцы для сахара и серебряные часы, – с целью, как подумал с ужасом Уолтер, произвести потрясающее впечатление на мистера Домби, – не теряя ни минуты, повел юношу в контору пассажирских карет и по дороге несколько раз повторил, что останется верен ему до конца.
Глава X,
повествующая о последствиях, к которым привели бедствия Мичмана
Майор Бегсток, после долгих и частых наблюдений над Полем через площадь Принцессы в театральный бинокль и после многих подробных донесений об этом предмете, ежедневных, еженедельных и ежемесячных, сделанных туземцем, который с этой целью поддерживал постоянные сношения со служанкой мисс Токс, пришел к заключению, что Домби, сэр, – человек, с которым стоит познакомиться, и что Дж. Б. – паренек, который найдет способ завязать это знакомство.
Но так как мисс Токс оставалась сдержанной и холодно отказывалась понимать майора всякий раз, когда тот являлся (а это случалось часто), чтобы выудить какие-нибудь сведения, имеющие отношение к названному проекту, майор, невзирая на природную свою непреклонность и хитрость, поневоле должен был предоставить исполнение своего желания в какой-то мере случаю, «который, – как говаривал он, хихикая, в своем клубе, – пятьдесят раз против одного играл на руку Джоя Б., сэр, еще с той поры, как его старший брат умер от тропической лихорадки в Вест-Индии».
На этот раз случай не сразу пришел на помощь, но в конце концов все же оказал ему услугу. Когда чернокожий слуга доложил со всеми подробностями об отлучках мисс Токс в Брайтон, майор внезапно предался нежным воспоминаниям о своем друге Билле Байтерстоне из Бенгалии, который просил в письме навестить его единственного сына, если майор когда-нибудь окажется в Брайтоне. А когда тот же чернокожий слуга доложил о пребывании Поля у миссис Пипчин, а майор, заглянув в письмо, отправленное юным Байтерстоном по прибытии в Англию, на которое ему и в голову не приходило обратить внимание, увидел представившийся ему благоприятный случай, он пришел в такое бешенство от подагры, которая как раз в это время уложила его в постель, что в ответ на полученные сведения швырнул в чернокожего слугу скамеечкой для ног и поклялся, что сведет мерзавца в могилу, прежде чем сам отправится в нее, чему чернокожий слуга весьма расположен был поверить.
Наконец майор, оправившись от приступа подагры, ворча, отбыл как-то в субботу в Брайтон с туземцем, державшимся сзади, всю дорогу обращаясь с речью к мисс Токс и упиваясь перспективой взять штурмом ее знатного друга, которого она окутала такой таинственностью и ради которого покинула его.
– Вы бы не прочь, сударыня, не прочь? – говорил майор, напыжившись от мстительных чувств; и без того разбухшие вены у него на голове разбухали еще больше. – Вы бы не прочь дать отставку Джою Б., сударыня? Рано еще, сударыня, рано! черт побери, рано еще, сэр! Джо бодрствует, сударыня. Бегсток живехонек, Дж. Б. знает кое-какие ходы, сударыня. Джош настороже, сэр. Вы убедитесь, что он непреклонен, сударыня. Джозеф непреклонен, сэр, непреклонен! Непреклонен и чертовски хитер!
И в самом деле юный Байтерстон убедился в его непреклонности, когда майор повел этого молодого джентльмена на прогулку. Майор, цветом лица напоминавший стилтонский сыр, и с глазами, как у креветки, блуждал, вовсе не помышляя об увеселении мистера Байтерстона, и тащил за собой мистера Байтерстона, озираясь по сторонам в поисках мистера Домби и его детей.
В конце концов майор, предварительно осведомленный миссис Пипчин, отыскал Поля и Флоренс и устремился к ним; с ними был величавый джентльмен (несомненно, мистер Домби). Когда он ворвался с мистером Байтерстоном в самый центр маленького отряда, случилось, разумеется, так, что мистер Байтерстон вступил в разговор со своими товарищами по несчастью. Вслед за сим майор остановился, сосредоточил на них внимание и пришел в восторг; припомнил с изумлением, что видел их и беседовал с ними у своей приятельницы мисс Токс на площади Принцессы; заявил, что Поль – чертовски славный мальчуган и маленький его друг; осведомился, не забыл ли Поль Джоя Б., майора; и, наконец, внезапно вспомнив о приличиях, принес извинение мистеру Домби.
– Но мой маленький друг, сэр, – сказал майор, – снова превращает меня в мальчишку. Старый майор, сэр, – майор Бегсток, к вашим услугам, – не стыдится сделать такое признание. – Тут майор приподнял шляпу. – Черт возьми, сэр, – воскликнул майор с неожиданной горячностью, – я вам завидую! – Затем он опомнился и добавил: – Простите мне такую вольность.
Мистер Домби сказал, что охотно прощает.
– Старый вояка, сэр, – сказал майор, – прокопченный, загорелый, изнуренный, искалеченный старый майор, сэр, не побоялся, что его пристрастье будет осуждено таким человеком, как мистер Домби. Кажется, я имею честь разговаривать с мистером Домби?
– В настоящее время я являюсь недостойным представителем этого имени, майор, – отвечал мистер Домби.
– Клянусь дья…, сэр, – сказал майор, – это славное имя. Это имя, сэр, – твердо сказал майор, словно ждал от мистера Домби возражений и в таком случае считал бы тяжким своим долгом оборвать его, – пользуется известностью и почетом в отдаленных британских владениях. Это имя, сэр, человек узнает с гордостью. Джозефу Бегстоку чужда лесть, сэр. Его королевское высочество герцог Йоркский говаривал не раз: «Джой не льстец. Он – простой старый солдат, этот Джо. Он чересчур непреклонен – этот Джозеф». Но это славное имя, сэр. Ей-богу, это славное имя! – торжественно сказал майор.
– Вы очень любезны, майор, и цените его, быть может, выше, чем оно того заслуживает, – отвечал мистер Домби.
– Нет, сэр, – сказал майор. – Мой маленький друг, сэр, может удостоверить, что Джозеф Бегсток – прямолинейный, простодушный, откровенный человек, сэр, вот и все. Этот мальчик, сэр, – сказал майор, понизив голос, – останется в истории. Этот мальчик, сэр, незаурядное дитя. Берегите его, мистер Домби.
Мистер Домби, казалось, дал понять, что постарается это сделать.
– Вот, сэр, еще один мальчик, – продолжал майор конфиденциальным тоном, ткнув юнца тростью, – сын Байтерстона из Бенгалии. Билл Байтерстон прежде был один из наших. Отец этого мальчика и я, сэр, были закадычными друзьями. Где бы вы ни оказались, сэр, вы только и слышали, что о Билле Байтерстоне и Джо Бегстоке. А разве я слеп к недостаткам этого мальчика? Никоим образом. Он дурак, сэр. Мистер Домби взглянул на опороченного юного Байтерстона, о котором знал столько же, сколько и майор, и произнес с самодовольным видом:
– Неужели?
– Да, таков он есть, сэр, – сказал майор. – Он дурак. Джо Бегсток никогда не смягчает выражений. Сын моего старого друга Билла Байтерстона – дурак от рождения, сэр. – Тут майор захохотал так, что стал почти черным. – Полагаю, моему маленькому другу предстоит поступить в государственную школу, мистер Домби? – оправившись, продолжал майор.
– Я еще не решил, – отвечал мистер Домби. – Вряд ли. Он слабого здоровья.
– Если он слабого здоровья, – сказал майор, – то вы правы. Только непреклонные ребята могли вынести жизнь в Сендхерсте[21], сэр. Там мы подвергали друг друга пыткам. Мы поджаривали новичков на медленном огне и вывешивали вниз головой из окна четвертого этажа. Джозефа Бегстока, сэр, вывесили из окна, придерживая за пятки, ровно на тринадцать минут по школьным часам.
В подтверждение этого факта майор мог сослаться на свое лицо. Оно и в самом деле было таким, как будто он провисел вниз головой слишком долго.
– Но школа нас сделала тем, чем мы стали, сэр, – сказал майор, поправляя брыжи. – Мы были железом, сэр, и она нас выковала. Вы живете здесь, мистер Домби?
– Обычно я приезжаю сюда раз в неделю, майор, – отвечал этот джентльмен. – Я останавливаюсь в отеле «Бедфорд».
– С вашего разрешения, сэр, я буду иметь честь навестить вас в «Бедфорде», – сказал майор. – Джой Б., сэр, не любитель делать визиты, но мистер Домби – незаурядное имя. Я весьма признателен моему юному другу за честь быть вам представленным.
Мистер Домби отвечал очень благосклонно; и майор Бегсток, погладив по голове Поля и сказав Флоренс, что ее глаза скоро будут сводить с ума молодежь – «да и стариков тоже, сэр, уж коли на то пошло», – добавил майор, громко хихикая, расшевелил мистера Байтерстона своею тростью и удалился рысцой с этим молодым джентльменом; он вращал головою и покашливал с большим достоинством, покачиваясь и широко расставляя ноги.
Исполняя свое обещание, майор явился засим с визитом к мистеру Домби, а мистер Домби, наведя справку в списке военных чинов, отдал визит майору. Затем майор нанес мистеру Домби визит в Лондоне и снова появился в Брайтоне, прибыв туда в одной карете с мистером Домби. Короче говоря, мистер Домби и майор поладили удивительно хорошо и удивительно быстро, и мистер Домби заметил своей сестре по поводу майора, что он не только настоящий военный, но и нечто большее, ибо превосходно разбирается в вещах, не связанных с его профессией.
Наконец, когда мистер Домби явился в сопровождении мисс Токс и миссис Чик повидаться с детьми и снова встретил майора в Брайтоне, он пригласил его пообедать у Бедфорда и предварительно поздравил мисс Токс с таким соседом и знакомым. Несмотря на то, что эти намеки вызвали у мисс Токс сердцебиение, они отнюдь не были ей неприятны, ибо давали ей возможность быть чрезвычайно интересной и по временам обнаруживать растерянность и смятение, каковые она весьма не прочь была выставить напоказ. Майор предоставил ей немало удобных случаев проявить это волнение; за обедом он не скупился на жалобы, вызванные тем, что она покинула его и площадь Принцессы; и так как ему, по-видимому, доставляло большое удовольствие их высказывать, то все чувствовали себя прекрасно.
Завладев за столом разговором, майор не ударил лицом в грязь и обнаружил в этой области такой же огромный аппетит, как и по отношению к многочисленным яствам на столе, коими он, можно сказать, объедался, что еще более усилило его склонность воспламеняться. Так как привычная молчаливость и сдержанность мистера Домби не препятствовали подобной узурпации, майор чувствовал, что показывает себя во всем блеске и, в порыве рожденного таким образом воодушевления, выпалил такое множество новых производных от своего собственного имени, что сам себя удивил. Короче говоря, все были очень довольны. Признали, что майор обладает неистощимым запасом тем для разговора, а когда наконец он распрощался после затянувшегося роббера, мистер Домби еще раз поздравил зардевшуюся мисс Токс с таким соседом и знакомым.
Но на обратном пути к себе в гостиницу майор неустанно твердил себе о своей персоне: «Хитер, сэр… хитер, сэр… чертовски хитер!» А придя в гостиницу, он уселся в кресло и разразился беззвучным смехом, который иногда овладевал им и всегда производил устрашающее впечатление. На сей раз это продолжалось столько времени, что чернокожий слуга, который следил за ним, стоя поодаль, но ни за что на свете не дерзнул бы приблизиться, готов был считать его положение безнадежным. Все туловище майора и, в особенности, лицо раздулись больше, чем когда бы то ни было, и чернокожий видел перед собой только глыбу цвета индиго. Наконец у майора начался отчаянный приступ кашля, а когда ему стало полегче, он разразился следующими восклицаниями:
– Вы бы не прочь, сударыня? Не прочь? Миссис Домби, а, сударыня? Не думаю, сударыня. Нет, покуда Джо Б. еще может вставить вам палку в колеса, сударыня. Джо Б. теперь сравнялся с вами, сударыня. Он еще не вышел из игры, сэр, Бегсток не вышел. Она лукава, сэр, лукава, но Джош еще лукавее. Старина Джо не дремлет – бодрствует и смотрит во все глаза, сэр! – Не приходилось сомневаться в том, что это последнее заявление правдиво – правдиво в устрашающей мере, ибо так продолжалось большую часть ночи, которую майор провел, испуская подобные восклицания, перемежавшиеся с припадками кашля и удушья, пугавшими весь дом.
На следующий день после этого эпизода, в воскресенье, когда мистер Домби, миссис Чик и мисс Токс сидели за завтраком, все еще воспевая хвалу майору, вбежала Флоренс с раскрасневшимся лицом и радостно сверкавшими глазами и крикнула:
– Папа! Папа! Здесь Уолтер! И он не хочет войти.
– Кто? – воскликнул мистер Домби. – О чем она говорит? Что это значит?
– Уолтер, папа, – робко сказала Флоренс, чувствуя, что слишком фамильярно приблизилась к его особе. – Который нашел меня, когда я заблудилась.
– Неужели она говорит о молодом Гэе, Луиза? – осведомился мистер Домби, сдвинув брови. – Право же, манеры у девочки стали слишком резкие. Вряд ли она говорит о молодом Гэе. Разузнайте, пожалуйста, в чем дело.
Миссис Чик выбежала в коридор и вернулась с известием, что это молодой Гэй в сопровождении очень странного на вид человека; и молодой Гэй говорит, что не осмеливается войти, зная, что мистер Домби завтракает, а подождет, пока мистер Домби не разрешит ему явиться.
– Скажите мальчику, чтобы вошел сейчас, – заявил мистер Домби. – Ну, Гэй, в чем дело? Кто послал вас сюда? Разве, кроме вас, некому было приехать?
– Прошу прощенья, сэр, – отвечал Уолтер. – Меня не посылали. Я осмелился приехать на свой страх и надеюсь, вы меня простите, когда я объясню причину.
Но мистер Домби, не слушая его, нетерпеливо посматривал то вправо, то влево от него (как будто тот был столбом на его пути) на какой-то предмет за спиной Уолтера.
– Что это? – сказал мистер Домби. – Кто это? Полагаю, вы ошиблись дверью, сэр?
– О, извините, что я вошел не один, сэр, – быстро сказал Уолтер, – но это… это капитан Катль, сэр.
– Уольр, мой мальчик, – произнес капитан басом, – держись крепче!
В то же время капитан, шагнув вперед, выставил напоказ свой синий костюм, свой бросающийся в глаза воротник рубашки и свой шишковатый нос и остановился, кланяясь мистеру Домби и вежливо помахивая леди своим крючком, с твердой глянцевитой шляпой в единственной руке и с красным экватором вокруг головы, который эта шляпа недавно на ней отпечатала.
Мистер Домби взирал на этот феномен с изумлением и негодованием и как будто всем видом своим приглашал миссис Чик и мисс Токс разделить его чувства. Маленький Поль, вошедший вслед за Флоренс, попятился к мисс Токс и занял оборонительную позицию, когда капитан замахал крючком.
– Ну, Гэй, – произнес мистер Домби, – что вы имеете мне сказать?
Снова капитан заметил в виде вступления к разговору, каковое вступление должно было расположить к благосклонности всех присутствующих:
– Уольр, держись крепче!
– Боюсь, сэр, – начал Уолтер, дрожа и не поднимая глаз, – что я позволяю себе большую вольность, являясь сюда… да, я уверен, что это так. Боюсь, что у меня не хватило бы мужества прийти к вам, сэр, даже по приезде сюда, если бы я не встретил мисс Домби и…
– Ну и что же? – сказал мистер Домби, следя за его взглядом, когда тот посмотрел на внимательно прислушивающуюся Флоренс, и невольно хмурясь, когда она ободрила его улыбкой. – Пожалуйста, продолжайте.
– Да, да, – заметил капитан, считая, что долг воспитанного человека – поддержать мистера Домби. – Прекрасно сказано! Продолжай, Уольр.
Капитану Катлю следовало бы исчезнуть от взгляда, брошенного на него мистером Домби в благодарность за такую поддержку. Однако, вовсе о том не ведая, он прищурил в ответ один глаз и, выразительно помахивая крючком, дал понять мистеру Домби, что Уолтер сначала немножко оробел, но, нужно думать, скоро разойдется.
– Сюда меня привело совершенно частное и личное дело, сэр, – заикаясь, продолжал Уолтер, – и капитан Катль…
– Здесь! – вставил капитан, удостоверяя, что он находится под рукой и на него можно положиться.
– Очень старый друг моего бедного дяди и превосходнейший человек, сэр, – продолжал Уолтер, умоляюще поднимая глаза словно в защиту капитана, – был так добр, что предложил поехать со мною, от чего я вряд ли мог отказаться.
– Нет! Нет! Нет! – благодушно заметил капитан. – Конечно, нет! И речи не могло быть об отказе. Продолжай, Уолтер.
– И поэтому, сэр, – сказал Уолтер, решившись встретить взгляд мистера Домби и набравшись храбрости ввиду отчаянного своего положения, ибо отступать было уже поздно, – поэтому я пришел с ним, сэр, сообщить, что моего бедного старого дядю постигло большое несчастье. Вследствие постепенного упадка его торговли и невозможности уплатить по векселю – страх, что это случится, как мне хорошо известно, сэр, угнетал его в течение многих и многих месяцев, – на имущество его наложен арест, и ему грозит опасность потерять все и умереть от горя! Что, если бы вы, который давно уже знаете его, как порядочного человека, по доброте своей помогли ему выйти из затруднения, сэр? Мы никогда не в состоянии были бы выразить вам нашу признательность.
У Уолтера на глазах выступили слезы, пока он говорил; выступили они и у Флоренс. Отец видел, как они заблестели, хотя смотрел, казалось, только на Уолтера.
– Это очень большая сумма, сэр, – сказал Уолтер. – Больше трехсот фунтов. Дядя совсем убит этим несчастьем, оно его сломило, и он совершенно не в силах что-нибудь сделать. Он даже не знает, что я поехал поговорить с вами. Быть может, вы пожелаете, сэр, – нерешительно добавил Уолтер, – чтобы я точно сказал, чего я хочу. Я, право, не знаю, сэр. У дяди есть товар, и, кажется, я могу утверждать с уверенностью, что никаких других долгов нет, а затем капитан Катль также хотел бы представить поручительство. Мне… мне, пожалуй, лучше не упоминать, – продолжал Уолтер, – о тех деньгах, какие зарабатываю я; но если бы вы разрешили… откладывать их… на покрытие ссуды… дядя… бережливый честный старик…
Уолтер с трудом выговорил эти бессвязные слова, умолк и стоял, понурившись, перед своим хозяином.
Считая момент благоприятным для предъявления ценностей, капитан Катль приблизился к столу и, расчистив местечко среди чашек у локтя мистера Домби, извлек серебряные часы, наличные деньги, чайные ложки и щипцы для сахара и, сложив свое столовое серебро в кучу, чтобы оно казалось особенно ценным, произнес следующие слова:
– Полхлеба лучше, чем ни куска хлеба, и то же самое можно сказать о крошках. Вот несколько крошек. Затем может быть предложена ежегодная рента в сто фунтов. Если есть на свете человек, по горло начиненный наукой, то это старый Соль Джилс. Если есть на свете подающий надежды юноша… истекающий, – добавил капитан, приводя одну из своих удачных цитат, – млеком и медом, то это его племянник!
Затем капитан отошел на прежнее место, где и остался, приглаживая растрепавшиеся волосы с видом человека, завершившего трудное дело.
Когда Уолтер умолк, взгляд мистера Домби обратился на маленького Поля, который, видя, что сестра опустила голову и тихо плачет, соболезнуя несчастью, о котором только что узнала, подошел к ней и старался ее утешить, очень выразительно посматривая при этом на Уолтера и на отца. Отвлекшись на секунду выступлением капитана Катля, к каковому он отнесся с величественным равнодушием, мистер Домби снова устремил взгляд на сына и некоторое время сидел молча, пристально глядя на ребенка.
– Как был сделан этот долг? – спросил наконец мистер Домби. – Кто кредитор?
– Он не знает, – отвечал капитан, кладя руку на плечо Уолтера. – Я знаю. Это случилось потому, что старый Джилс помог человеку, которого нет теперь в живых, и это уже стоило моему другу Джилсу много сотен фунтов. Дальнейшие подробности, если угодно, с глазу на глаз.
– Люди, которым столько труда стоит самим удержаться на ногах, – сказал мистер Домби, не обращая внимания на таинственные знаки капитана за спиной Уолтера и по-прежнему глядя на сына, – должны ограничиваться заботой о своих обязательствах и затруднениях и не увеличивать их, беря на себя поручительство за других. Такое поведение бесчестно и к тому же самонадеянно, ибо и богатый не должен быть так самонадеян. Поль, подойди сюда!
Мальчик повиновался, и мистер Домби посадил его к себе на колени.
– Если бы сейчас у тебя были деньги… – сказал мистер Домби. – Смотри на меня!
Поль, переводивший взгляд с сестры на Уолтера, посмотрел в лицо отцу.
– Если бы сейчас у тебя были деньги, – сказал мистер Домби, – такая сумма, о которой говорил молодой Гэй, что бы ты сделал?
– Отдал бы их его старому дяде, – отвечал Поль.
– Ссудил бы их его старому дяде, так? – внес поправку мистер Домби. – Ну, что ж! Тебе известно, что, когда ты подрастешь, ты будешь владеть совместно со мной моими деньгами, и мы будем распоряжаться ими вместе.
– Домби и Сын, – перебил Поль, которого рано обучили этой фразе.
– Домби и Сын, – повторил отец. – Не хотел бы ты начать сегодня же быть Домби и Сыном и ссудить эти деньги дяде молодого Гэя?
– О, прошу вас, папа! – сказал Поль. – Этого хотела бы и Флоренс.
– Девочки, – сказал мистер Домби, – не имеют никакого отношения к Домби и Сыну. Ты бы этого хотел?..
– Да, папа, да!
– В таком случае ты это сделаешь, – ответил отец. – И ты видишь, Поль, – добавил он, понизив голос, – как могущественны деньги и как жадно люди гонятся за ними. Молодой Гэй едет сюда просить денег, а ты, такой щедрый и благородный, потому что у тебя есть деньги, собираешься дать их ему в виде великой милости и одолжения.
Поль на секунду поднял старческое лицо, ясно выражавшее, что он понимает смысл его слов; но это лицо тотчас стало веселым и детским, когда он соскользнул с колен отца и побежал сказать Флоренс, чтобы она больше не плакала, потому что он сделает так, чтобы молодой Гэй получил деньги.
Затем мистер Домби подошел к столу, стоявшему у стены, написал записку и запечатал. Тем временем Поль и Флоренс перешептывались с Уолтером, а капитан Катль взирал на них с лучезарной улыбкой, предаваясь таким честолюбивым и бесконечно самонадеянным мыслям, что мистер Домби никогда бы этому не поверил. Когда записка была написана, мистер Домби уселся на прежнее место и протянул ее Уолтеру.
– Завтра первым делом, – сказал он, – передайте это мистеру Каркеру. Он позаботится о том, чтобы один из моих служащих вывел вашего дядю из теперешнего затруднения, уплатив следуемую сумму, и чтобы условия расплаты были определены соответственно положению вашего дяди. Считайте, что это сделал для вас мистер Поль.
Уолтер, взволнованный тем, что в его руках находится средство избавить доброго дядю от беды, попытался было выразить свою радость и признательность, но мистер Домби его оборвал.
– Считайте, что это сделал мистер Поль, – повторил он. – Я ему объяснил, и он понял. Больше я ничего не желаю слушать.
Так как он указал рукой на дверь, Уолтеру оставалось только поклониться и уйти. Мисс Токс, видя, что капитан собирается сделать то же самое, вмешалась.
– Дорогой мой сэр, – сказала она, обращаясь к мистеру Домби, чья щедрость вызвала и у нее и у миссис Чик потоки слез, – мне кажется, вы кое-что оставили без внимания. Простите меня, мистер Домби, мне кажется, по благородству своей натуры и благодаря свойственному ей величию вы упустили из виду одну деталь.
– Неужели, мисс Токс?.. – сказал мистер Домби.
– Джентльмен с… инструментом, – молвила мисс Токс, взглянув на капитана Катля, – оставил на столе возле вашего локтя…
– Ах, Боже мой! – воскликнул мистер Домби, отметая от себя имущество капитана, словно это в самом деле были крошки. – Уберите это. Благодарю вас, мисс Токс: вы проявили свойственную вам осмотрительность. Будьте добры убрать это, сэр!
Капитан Катль понял, что ему остается только подчиниться. Но он был столь потрясен великодушием мистера Домби, отказавшегося от сокровищ, нагроможденных подле него, что, уложив чайные ложки и щипцы для сахара в один карман, а наличные деньги в другой и медленно опустив большие карманные часы в предназначенный для них склеп, он не мог удержаться, чтобы не схватить левую руку этого джентльмена своей левой и единственной рукой и, сильными своими пальцами держа ее раскрытой, не прикоснуться к ней в порыве восторга своим крючком. От такого проявления теплых чувств и от прикосновения холодного железа мистер Домби содрогнулся всем телом.
Затем капитан Катль с великим изяществом и галантностью поцеловал несколько раз свой крючок, приветствуя леди; и, особо попрощавшись с Полем и Флоренс, вышел вместе с Уолтером. Флоренс, сильно взволнованная, бросилась было вслед за ними, чтобы передать привет старому Солю, но мистер Домби окликнул ее и приказал остаться в комнате.
– Неужели ты никогда не станешь Домби, милое мое дитя? – патетически-укоризненным тоном вопросила миссис Чик.
– Дорогая тетя, – сказала Флоренс, – не сердитесь на меня. Я так благодарна папе.
Она подбежала бы к нему и обвила бы руками его шею, если бы посмела; но она не смела и только посматривала на него с благодарностью, в то время как он сидел в раздумье, изредка бросая на нее тревожный взгляд, но главным образом следя за Полем, который прохаживался по комнате с чувством собственного достоинства, порожденного тем, что он дал денег молодому Гэю.
А молодой Уолтер Гэй – что сказать о нем?
Он был в восторге от того, что избавил старика от бейлифов[22] и маклеров, и спешил к дяде с доброй вестью. Он был в восторге от того, что все уладит и устроит завтра же до полудня, будет сидеть вечером в маленькой задней гостиной со старым Солем и капитаном Катлем, и мастер судовых инструментов снова оживет, обретет надежды на будущее, убедившись, что Деревянный Мичман вновь стал его собственностью. Но следует признать, нисколько не осуждая его благодарности к мистеру Домби, что Уолтер чувствовал себя униженным и удрученным. Когда еще не расцветшие наши надежды гибнут безвозвратно от резкого порыва ветра, вот тогда-то мы особенно склонны рисовать себе, какие бы могли быть цветы, если бы они расцвели; и теперь, когда Уолтер чувствовал себя отрезанным от величественных высот Домби бездной нового и страшного падения, чувствовал, что при этом все его прежние сумасбродные фантазии развеялись по ветру, он начал догадываться, что в недалеком будущем они могли бы его привести к безобидным мечтам о завоевании Флоренс.
Капитан видел все в совершенно другом свете. Он, казалось, уверовал, что свидание, при котором он присутствовал, было в высшей степени удовлетворительным и обнадеживающим, и всего два-три шага отделяли его от формальной помолвки Флоренс и Уолтера, и что последнее событие если и не окончательно упрочило виттингтоновские надежды, то, во всяком случае, чрезвычайно им благоприятствовало. Воодушевленный этой уверенностью, а также радуясь улучшению дел своего старого друга, он даже попытался, угощая их в третий раз за этот вечер балладой о «Красотке Пэг», сделать замену, вставив имя «Флоренс», но, убедившись, что это нелегко, ибо терялась рифма со словом «Пэг» (благодаря коей героиня была изображена как не имеющая соперниц), он напал на счастливую мысль изменить его на Флэг, что и исполнил с лукавством почти сверхъестественным и голосом поистине оглушительным, несмотря на то, что близок был час, когда ему предстояло вернуться в жилище страшной миссис Мак-Стинджер.
Глава XI
Выступление Поля на новой сцене
Организм миссис Пипчин был сделан из такого твердого металла, несмотря на подверженность его плотским слабостям, вызывающим необходимость в отдыхе после отбивных котлет и требующим перед отходом ко сну такого снотворного средства, как сладкое мясо, что он совершенно опрокинул предсказания миссис Уикем и не обнаруживал никаких признаков упадка. Но так как сосредоточенный интерес Поля к старой леди не уменьшался, миссис Уикем не желала отступить ни на дюйм с позиции, ею занятой. Укрепившись и окопавшись на своем рубеже с помощью Бетси Джейн – дочери своего дяди, она дружески советовала мисс Бери быть готовой к худшему и предупреждала, что тетка ее в любой момент может взлететь на воздух, как пороховой завод.
Бедная Бери приняла все это добродушно и, как всегда, работала не покладая рук; совершенно убежденная в том, что миссис Пипчин – одна из достойнейших особ в мире, она ежедневно приносила себя в жертву на алтарь этой благородной старухи. Но выходило как-то так, что все жертвоприношения Бери ставились в заслугу миссис Пипчин друзьями и поклонниками миссис Пипчин и согласовывались и связывались с тем меланхолическим фактом, что покойный мистер Пипчин разбил свое сердце на Перуанских копях.
Так, например, был некий честный розничный торговец колониальными и прочими товарами, в общении которого с миссис Пипчин всегда была в ходу маленькая записная книжка в засаленном красном переплете, по поводу коей между заинтересованными сторонами не прекращались тайные совещания и конференции в коридоре, устланном циновками, и за закрытой дверью гостиной. Юный Байтерстон (чей нрав сделало мстительным палящее солнце Индии, воздействовавшее на его кровь) не раз смутно намекал на неоплаченные счета и на отсутствие однажды, уже на его памяти, желтого сахарного песку к чаю. Этот торговец, холостяк, не придающий значения внешней красоте, сделал как-то честное предложение, домогаясь руки Бери, каковое миссис Пипчин с возмущением и презрением отвергла. Все говорили о том, сколь это похвально со стороны миссис Пипчин, вдовы человека, который умер из-за Перуанских копей, и каким стойким, благородным, независимым характером отличается старая леди. Но никто ни слова не сказал о бедной Бери, которая проплакала шесть недель (выдерживая все это время жестокие головомойки от своей доброй тетки) и, потеряв всякую надежду, обречена была остаться старой девой.
– Бери вас очень любит, правда? – спросил однажды Поль миссис Пипчин, когда они сидели вместе с котом у камина.
– Да, – сказала миссис Пипчин.
– Почему? – спросил Поль.
– Почему? – повторила сбитая с толку старая леди. – Как можно задавать такие вопросы, сэр? Почему вы любите свою сестру Флоренс?
– Потому, что она очень добрая, – сказал Поль. – Нет другой такой, как Флоренс.
– Ну, что ж! – резко отозвалась миссис Пипчин. – И другой такой, как я, полагаю, тоже нет.
– Неужели нет? – спросил Поль, наклоняясь вперед в своем креслице и глядя на нее очень пристально.
– Нет, – сказала старая леди.
– Я этому рад, – заметил Поль, задумчиво потирая руки. – Это очень хорошо.
Миссис Пипчин не осмелилась спросить – почему, чтобы не получить какого-нибудь совершенно уничтожающего ответа. Но, в возмездие за оскорбление, нанесенное ее чувствам, она до позднего часа так изводила мистера Байтерстона, что он в тот же вечер начал готовиться к сухопутному путешествию домой, в Индию, и припрятал за ужином четверть ломтя хлеба и кусок голландского сыра, начав таким образом запасаться провизией на дорогу.
Около года миссис Пипчин охраняла и опекала маленького Поля и его сестру. Дважды они ездили домой, но всего на несколько дней, и регулярно каждую неделю навещали мистера Домби в гостинице. Мало-помалу Поль окреп и мог обходиться без своей коляски; но он по-прежнему был худым и слабым и оставался все тем же старообразным, тихим, мечтательным ребенком, каким был, когда его только что поручили заботам миссис Пипчин. Как-то в субботний вечер, в сумерки, великий переполох поднялся в замке вследствие неожиданного извещения о том, что мистер Домби явился с визитом к миссис Пипчин. Все общество немедленно улетучилось из гостиной наверх, словно унесенное вихрем, захлопали двери спален, послышался топот над головой, и мистер Байтерстон получил немало тумаков от миссис Пипчин, успокаивавшей таким образом свои смятенные чувства, после чего черное бомбазиновое платье достойной старой леди омрачило приемную, где мистер Домби созерцал незанятое креслице своего сына и наследника.
– Миссис Пипчин, – сказал мистер Домби, – как поживаете?
– Благодарю вас, сэр, – сказала миссис Пипчин, – сравнительно недурно, принимая во внимание…
Миссис Пипчин всегда прибегала к такому обороту речи. Он означал: принимая во внимание ее добродетели, жертвы и прочее.
– Я не могу рассчитывать, сэр, на прекрасное здоровье, – сказала миссис Пипчин, садясь и переводя дух, – но я признательна и за то, каким пользуюсь.
Мистер Домби наклонил голову с удовлетворенным видом клиента, который знает, что как раз за это он и платит определенную сумму каждые три месяца. Помолчав, он продолжал:
– Миссис Пипчин, я взял на себя смелость явиться к вам, чтобы посоветоваться относительно сына. Я давно уже собирался это сделать, но со дня на день откладывал, выжидая, пока здоровье его не восстановится окончательно. На этот счет у вас нет никаких опасений, миссис Пипчин?
– Брайтон оказал весьма благотворное действие, сэр, – ответила миссис Пипчин. – Да, весьма благотворное.
– Я предполагаю, – сказал мистер Домби, – оставить его в Брайтоне.
Миссис Пипчин потерла руки и уставилась своими серыми глазами на огонь.
– Но, – продолжал мистер Домби, вытянув указательный палец, – но возможно, что теперь произойдет перемена, и он будет вести здесь иной образ жизни. Короче говоря, миссис Пипчин, такова цель моего посещения. Мой сын растет, миссис Пипчин. Он несомненно растет.
Было что-то меланхолическое в том торжествующем виде, с каким произнес это мистер Домби. Ясно было, каким долгим кажется ему детство Поля и что надежды он возлагает на более позднюю стадию его существования. Жалость, пожалуй, странное слово в применении к человеку столь надменному и столь холодному, и тем не менее в тот миг он казался достойным ее объектом.
– Ему шесть лет! – сказал мистер Домби, поправляя галстук, быть может, с целью скрыть улыбку, которая, ни на секунду не осветив его лица, казалось, только скользнула по поверхности и скрылась, не найдя для себя местечка. – Боже мой, мы и оглянуться не успеем, как шесть превратится в шестнадцать.
– Десять лет, – прокаркала безжалостная Пипчин, холодно сверкнув жесткими серыми глазами и мрачно покачав склоненной головой, – большой срок.
– Это зависит от обстоятельств, – возразил мистер Домби. – Как бы там ни было, миссис Пипчин, моему сыну шесть лет, и, боюсь, не приходится сомневаться в том, что в занятиях он отстал от многих детей своего возраста, вернее, от детей столь же юных лет, – сказал мистер Домби, быстро отвечая на лукавый, как показалось ему, огонек в холодных глазах. – Да, «юных лет» – более подходящее выражение. Но, миссис Пипчин, вместо того чтобы отставать от своих сверстников, мой сын должен их опередить – далеко опередить. Его ждет высокое положение, которое ему предстоит занять. Нет ничего случайного или ненадежного в будущей карьере моего сына. Жизненный его путь был расчищен, подготовлен и намечен до его рождения. С образованием такого молодого джентльмена медлить не следует. В нем не должно быть никаких изъянов. Следует заняться им очень настойчиво и серьезно, миссис Пипчин.
– Что ж, сэр, – сказала миссис Пипчин, – я ничего не могу возразить против этого.
– Я был совершенно уверен, миссис Пипчин, – одобрительно заметил мистер Домби, – что такая здравомыслящая особа, как вы, не могла бы и не желала бы возражать.
– Много говорится всяких глупостей о том, что молодежь не следует вначале слишком принуждать, а нужно прибегать к ласке, и прочее, сэр, – сказала миссис Пипчин, нетерпеливо потирая горбатый нос. – В мое время никогда так не думали, и незачем думать так теперь. «Заставляйте их» – вот мое мнение.
– Уважаемая, ваша репутация заслужена вами, – отвечал мистер Домби, – и я прошу вас верить, миссис Пипчин, что я более чем удовлетворен вашей превосходной системой воспитания и с величайшим удовольствием буду рекомендовать ее всякий раз, когда скромная моя рекомендация, – надменность мистера Домби, когда он умышленно умалял свое значение, была безгранична, – может оказаться полезной. Я подумывал о докторе Блимбере, миссис Пипчин.
– О моем соседе, сэр? – отозвалась миссис Пипчин. – Я считаю заведение доктора превосходным. Я слыхала, что там правила очень строгие и что с утра до ночи там занимаются только учением.
– И плата очень высокая, – добавил мистер Домби.
– И плата очень высокая, сэр, – повторила миссис Пипчин, ухватившись за этот факт, словно, умалчивая о нем, она умалчивала об одном из главных достоинств заведения.
– Я советовался с доктором, миссис Пипчин, – сказал мистер Домби, озабоченно придвигая свое кресло ближе к камину, – и он отнюдь не считает Поля слишком юным. Он говорил о нескольких сверстниках Поля, которые изучали греческий. Если и возникают у меня, миссис Пипчин, некоторые опасения по поводу этой перемены, то они касаются другого пункта. У моего сына, не знавшего матери, постепенно развилась сильная – слишком сильная – детская любовь к сестре. Что, если разлука с нею… – Мистер Домби не сказал больше ни слова и сидел молча.
– Пустяки! – воскликнула миссис Пипчин, встряхивая свою черную бомбазиновую юбку и обнаруживая все качества людоедки. – Если ей это не по вкусу, мистер Домби, нужно, чтобы она это переварила.
Добрая леди тотчас попросила извинения за такое вульгарное выражение, но сказала (и сказала правду), что именно этим способом она обучала их уму-разуму.
Мистер Домби подождал, пока миссис Пипчин перестала вскидывать и трясти головой и хмуриться на легион Байтерстонов и Пэнки, а затем сказал спокойно, но внося поправку:
– Я говорю о нем, уважаемая. О нем.
Система миссис Пипчин легко допустила бы применение этого метода лечения и к любому недомоганию Поля, но так как жесткие серые глаза были достаточно зорки и видели, что рецепт, который мистер Домби, быть может, и признавал эффективным по отношению к дочери, не является наилучшим лекарством для сына, то она, уяснив себе этот пункт, заявила, что перемена обстановки, новое общество, другой образ жизни в заведении доктора Блимбера и науки, которыми он должен овладеть, весьма скоро приведут к отчуждению. Так как это согласовалось с надеждой и уверенностью самого мистера Домби, то у этого джентльмена составилось еще более высокое мнение об уме миссис Пипчин; а так как миссис Пипчин в то же время выразила скорбь по поводу разлуки со своим милым маленьким другом (каковая разлука не была для нее ошеломляющим ударом: она давно ее ждала и вначале предполагала, что мальчик пробудет у нее не дольше трех месяцев), у него создалось не менее высокое представление о бескорыстии миссис Пипчин. Было ясно, что он тщательно обдумал этот вопрос, ибо составил план, с которым познакомил людоедку: поместить Поля в заведение доктора пансионером на полугодие и на это время оставить Флоренс в замке, чтобы брат мог навещать ее по субботам. Таким образом он отучится постепенно, сказал мистер Домби, вспомнив, быть может, что Поля отлучили от груди сразу.
В конце свидания мистер Домби выразил надежду, что миссис Пипчин сохранит за собою пост главной наставницы и руководительницы его сына во время его обучения в Брайтоне; затем, поцеловав Поля, пожал руку Флоренс, узрел мистера Байтерстона в его парадном воротничке и довел до слез мисс Пэнки, погладив ее по голове (каковое место было у нее чрезвычайно чувствительно вследствие привычки миссис Пипчин стучать по нему, как по бочонку, костяшками пальцев), после чего отправился в гостиницу обедать, приняв решение, что теперь, когда Поль так вырос и окреп, он должен безотлагательно приступить к усиленному прохождению курса обучения, дабы подготовиться к тому блестящему положению, какое предстоит ему занять, и что доктор Блимбер должен немедленно взять его в свои руки.
Всякий раз, когда доктор Блимбер забирал в руки какого-нибудь юного джентльмена, тот мог не сомневаться, что попадет в надежные тиски. Сам доктор занимался обучением не более десяти юных джентльменов, хотя у него всегда был наготове запас учености на сотню, и делом и наслаждением его жизни было кормить сей ученостью до отвала злосчастную десятку.
В сущности, заведение доктора Блимбера было большой теплицей, где постоянно работал форсирующий аппарат. Все мальчики расцветали преждевременно. Умственный зеленый горошек созревал к Рождеству, а интеллектуальная спаржа – круглый год. Под надзором доктора Блимбера математический крыжовник (и очень кислый) обычно появлялся в самую неожиданную пору года, и притом на молодых побегах. Все виды греческих и латинских овощей приносились самыми сухими ветками и в самый лютый мороз – Природа не имела ровно никакого значения. Для каких бы плодов ни был предназначен юный джентльмен, доктор Блимбер так или иначе заставлял его приносить плоды установленного образца.
Все это было очень приятно и искусно, но система насильственного выращивания имела и свою оборотную сторону. Не было надлежащего вкуса у скороспелых продуктов, и они плохо сохранялись. Мало того, один юный джентльмен с распухшим носом и чрезвычайно большой головой (старший из десятка, который «прошел через все») в один прекрасный день вдруг перестал цвести и остался в заведении просто в виде стебля. Говорили, что доктор хватил через край с молодым Тутсом и что тот утратил мозги, когда у него начали пробиваться усы.
Как бы там ни было, молодой Тутс жил у доктора Блимбера; он обладал самым грубым голосом и самым жалким умом, украшал свою рубашку булавками и носил кольцо в жилетном кармане, дабы украдкой надевать на мизинец, когда ученики выходили на прогулку; постоянно влюблялся с первого взгляда в нянек, которые понятия не имели о его существовании, и в час отхода ко сну взирал на освещенный газом мир сквозь железную решетку в левом угловом, выходившем на улицу окне третьего этажа, наподобие весьма великовозрастного ангелочка, слишком долго просидевшего там, наверху.
Доктор был представительный джентльмен в черном одеянии, с тесемками у колен, и в чулках, доходивших до тесемок. У него была лысая голова, весьма гладко отполированная, низкий голос и такой двойной подбородок, что чудом было, как он ухитрялся выбривать его в складках. Были у него маленькие глазки, всегда полузакрытые, и рот, всегда распускавшийся в некое подобие улыбки, словно он поставил мальчика в тупик своим вопросом и ждет, что тот сам признает себя виновным. Когда доктор закладывал правую руку за борт фрака, а левую за спину и, чуть заметно покачивая головой, обращался с банальнейшим замечанием к нервному незнакомцу, вид его заставлял вспоминать о сфинксе и решал дело.
У доктора был прекрасный дом, обращенный фасадом к морю. Дом внутри не из веселых, а как раз наоборот. Мрачного цвета занавески, слишком узкие и жалкие, уныло прятались за окнами. Столы и стулья были выстроены рядами, словно цифры в арифметической задаче: камин в парадных комнатах топили так редко, что они напоминали колодец, а посетитель изображал ведро; столовая казалась последним местом в мире, где можно было есть или пить; ни звука не слышно было в доме – только тиканье больших часов в холле, которое доносилось даже на чердак, а иной раз глухое завывание юных джентльменов, учивших урок, напоминавшее воркованье стаи меланхолических голубей.
Да и мисс Блимбер, хотя она и была стройной и грациозной девой, отнюдь не оказывала смягчающего влияния на суровую атмосферу дома. Глупое легкомыслие было чуждо мисс Блимбер. Волосы она стригла и завивала и носила очки. Она усохла и покрылась песком, раскапывая могилы мертвых языков. Живые языки не нужны мисс Блимбер. Они должны быть мертвыми – безнадежно мертвыми, – а тогда мисс Блимбер выроет их из могилы, как вампир.
Ее матушка, миссис Блимбер, не была ученой, но притворялась таковой, и получалось ничуть не хуже. На вечеринках она говорила, что, кажется, умерла бы спокойно, если бы могла познакомиться с Цицероном. Неизменной для нее радостью было видеть юных джентльменов доктора, когда они, в отличие от всех прочих юных джентльменов, выходили на прогулку в самых высоких воротничках и самых тугих галстуках. Это было так классически, – говорила она.
Что касается мистера Фидера, бакалавра искусств, помощника доктора Блимбера, то это был человек-шарманка, с маленьким репертуаром, каковой он постоянно исполнял снова и снова, без всяких вариаций. Быть может, на заре жизни его могли бы снабдить запасными валиками, если бы судьба ему благоприятствовала; но она не благоприятствовала; он получил только один валик, и его занятием было с помощью этого однообразно вращающегося цилиндра спутывать юные идеи юных джентльменов доктора Блимбера. Юные джентльмены преждевременно узнавали тяжкие заботы. Они не ведали отдыха, преследуя жестокосердные глаголы, безжалостные имена существительные, неумолимые синтаксические периоды и призраки упражнений, которые являлись им в сновидениях. Под влиянием форсирующей системы юный джентльмен обычно утрачивал бодрость через три недели. Все тяготы мира обрушивались на его голову через три месяца. Он начинал питать горькие чувства к родителям или опекунам через четыре; он становился старым мизантропом через пять; завидовал счастливому исчезновению Курция в недрах земли через шесть; а к концу первого года приходил к заключению, которому никогда уже не изменял, что все грезы поэтов и поучения мудрецов – набор слов и грамматических правил и никакого другого смысла не имеют. Но все это время он продолжал цвести – цвести и расцветать в теплице доктора, и велики были честь и слава доктора, когда воспитанник привозил зимние свои плоды домой, к родственникам и друзьям.
У двери доктора остановился однажды Поль с бьющимся сердцем, держась правой ручонкой за руку отца. Другая его рука сжимала руку Флоренс. Как крепко было пожатие этой крохотной ручки и как вяло и холодно – другой!
Миссис Пипчин маячила за спиной своей жертвы, в траурном оперении и с крючковатым носом, подобно зловещей птице. Она запыхалась, ибо мистер Домби, исполненный великих дум, шел очень быстро, и хрипло каркала, дожидаясь, когда откроют дверь.
– Поль, – с торжеством сказал мистер Домби, – вот путь к тому, чтобы действительно стать Домби и Сыном и распоряжаться деньгами. Ты уже почти мужчина.
– Почти, – отозвался ребенок.
Даже ребяческое волнение не могло стереть ту лукавую, странную и, однако, трогательную мину, с какой он произнес это слово.
Это вызвало неопределенное выражение недовольства на лице мистера Домби, но, когда дверь открылась, оно быстро исчезло.
– Доктор Блимбер, полагаю, дома? – спросил мистер Домби.
Слуга отвечал утвердительно, а когда они вошли, посмотрел на Поля, как будто тот был мышонком, а дом – мышеловкой. Молодой человек был подслеповат, с едва заметными признаками улыбки на лице. Это был попросту признак слабоумия, но миссис Пипчин вбила себе в голову, что он наглец, и тотчас в него вцепилась.
– Как вы смеете смеяться за спиной джентльмена? – сказала миссис Пипчин. – И за кого вы меня принимаете?
– Я ни над кем не смеюсь, и, право же, я вас ни за кого не принимаю, сударыня, – испуганно ответил молодой человек.
– Шайка бездельников! – сказала миссис Пипчин. – Годитесь только для того, чтобы поворачивать вертел. Ступайте и доложите своему хозяину, что пришел мистер Домби, иначе вам не поздоровится.
Подслеповатый молодой человек кротко пошел исполнять приказание и, вскоре вернувшись, пригласил их в кабинет доктора.
– Вы опять смеетесь, сэр, – сказала миссис Пипчин, замыкавшая шествие, когда дошла до нее очередь пройти мимо него в холле.
– Я не смеюсь, – отвечал крайне удрученный молодой человек. – Никогда еще не видывал я ничего подобного.
– В чем дело, миссис Пипчин? – спросил, оглянувшись, мистер Домби. – Тише! Прошу вас!
Миссис Пипчин из уважения к нему только зашипела на молодого человека, проходя мимо, и сказала: «О, это замечательный тип!» – оставив эту воплощенную кротость и глупость расстроенным до слез этим инцидентом. Но у миссис Пипчин был обычай набрасываться на всех кротких людей, и друзья ее говорили: что ж тут удивительного после Перуанских копей?
Доктор сидел в своем величественном кабинете, имея по глобусу у каждого колена, книги вокруг, Гомера над дверью и Минерву на каминной полке.
– Ну, как поживаете, сэр? – сказал он мистеру Домби. – И как поживает мой юный друг?
Торжественным, как орган, был голос доктора; а когда он умолк, большие часы в холле (во всяком случае, так показалось Полю) подхватили его слова и стали твердить: «Как пожи-ва-ет мой друг? Как по-жи-ва-ет мой друг?» – снова, и снова, и снова.
Так как юный друг был слишком мал, чтобы можно было разглядеть его из-за книг на столе с того места, где сидел доктор, то доктор делал тщетные попытки увидеть его из-за ножек стола; мистер Домби, заметив это, вывел доктора из затруднения – взял на руки Поля и посадил его на другой стол, против доктора, посреди комнаты.
– Так! – сказал доктор, откидываясь на спинку кресла и закладывая руку за борт фрака. – Теперь я вижу моего юного друга. Как поживаете, мой юный друг?
Часы в холле не пожелали признать это изменение в обороте речи и по-прежнему повторяли: «Как по-жи-ва-ет мой друг? Как по-жи-ва-ет мой друг?»
– Очень хорошо, благодарю вас, сэр, – отозвался Поль, отвечая и доктору и часам.
– Так! – сказал доктор Блимбер. – Сделаем из него мужчину?
– Ты слышишь, Поль? – добавил мистер Домби, так как Поль молчал.
– Сделаем из него мужчину? – повторил доктор.
– Я больше хотел бы остаться ребенком, – ответил Поль.
– Вот как! – сказал доктор. – Почему?
Мальчик сидел на столе, глядя на него странным взглядом, выражавшим подавленное волнение, и похлопывая одной рукой по колену, как будто именно здесь накипали у него слезы, а он их удерживал. Но другая его рука в то же время протянулась в сторону, дальше, еще дальше, пока не обвилась вокруг шеи Флоренс. «Вот почему», – как будто говорила она, а затем напряженное выражение лица изменилось, исчезло; дрожавшая губа опустилась, и хлынули слезы.
– Миссис Пипчин, – недовольным тоном сказал отец, – право же, мне очень неприятно это видеть.
– Отойдите от него, слышите, мисс Домби, – произнесла надзирательница.
– …Ничего, – сказал доктор, кротко кивая головой, чтобы удержать миссис Пипчин. – Ни-че-го. В скором времени мы это заменим новыми интересами и новыми впечатлениями, мистер Домби. Вы по-прежнему желаете, чтобы мой юный друг усвоил…
– Все! Прошу вас, доктор, – твердо произнес мистер Домби.
– Хорошо, – сказал доктор, который, полузакрыв глаза и улыбаясь обычной своей улыбкой, казалось, разглядывал Поля с тем любопытством, какое мог вызывать у него редкий зверек, из коего он намеревался сделать чучело. – Хорошо, превосходно. Так! Мы сообщим нашему маленькому другу самые разнообразные сведения и, смею думать, быстро его разовьем. Смею думать. Кажется, вы говорили, что почва совершенно девственная, мистер Домби?
– Если не считать обычной подготовки дома и у этой леди, – отвечал мистер Домби, представляя миссис Пипчин, которая тотчас напрягла всю свою мускульную систему и заранее фыркнула вызывающе на тот случай, если доктор отнесется к ней с пренебрежением, – если не считать этого, Поль до сих пор ничему не обучался.
Доктор Блимбер наклонил голову, мягко снисходя к такому ничтожному вмешательству, как вмешательство миссис Пипчин, и сказал, что рад это слышать. Значительно лучше, заметил он, потирая руки, начинать с самых основ. И снова он покосился на Поля, словно не прочь был тут же засадить его за греческую азбуку.
– Действительно, это обстоятельство, доктор Блимбер, – продолжал мистер Домби, взглянув на своего маленького сына, – и беседа, которую я уже имел удовольствие вести с вами, делают дальнейшие объяснения и, стало быть, дальнейшее посягательство на ваше драгоценное время столь бесполезными, что…
– Ну, мисс Домби! – кисло сказала Пипчин.
– Простите, – сказал доктор, – одну минуту. Разрешите представить вам миссис Блимбер и мою дочь, которые будут участвовать в домашней жизни нашего юного пилигрима, держащего путь к Парнасу. Миссис Блимбер (ибо эта леди, быть может, находившаяся на случай надобности под рукой, вошла как раз вовремя в сопровождении дочери, этого очаровательного могильщика в очках), мистер Домби. Моя дочь Корнелия – мистер Домби. Мистер Домби, дорогая моя, – продолжал доктор, обращаясь к жене, – оказывает нам такое доверие, что… Вы видите нашего юного друга?
Миссис Блимбер от избытка учтивости, относившейся к мистеру Домби, вероятно, не видела, ибо она пятилась, приближаясь к юному другу и подвергая серьезной опасности его позицию на столе. Но после этого намека она повернулась, чтобы полюбоваться классическими и интеллектуальными чертами его лица, и, снова повернувшись к мистеру Домби, промолвила со вздохом, что завидует его милому сыну.
– Как пчеле, сэр, – сказала миссис Блимбер, возводя глаза к потолку, – готовой спуститься в сад, к прекраснейшим цветам, и впервые вкусить их сладость. Вергилий, Гораций, Овидий, Теренций, Плавт, Цицерон. Какое обилие меду! Мистеру Домби, быть может, покажется странным, что та, кто является женой… женой такого мужа…
– Довольно, довольно, – сказал доктор Блимбер. – Какой стыд!
– Мистер Домби простит пристрастие жены, – сказала миссис Блимбер с чарующей улыбкой.
Мистер Домби отвечал: «Вовсе нет», относя эти слова, нужно думать, к пристрастию, а не к прощению.
– …И может показаться странным, что та, кто является также и матерью… – продолжала миссис Блимбер.
– И какой матерью! – заметил мистер Домби с по клоном, смутно предполагая, что говорит комплимент Кор нелии.
– Но, право же, – продолжала миссис Блимбер, – если бы я могла познакомиться с Цицероном, быть его другом и беседовать с ним в его уединении близ Тускула[23] (очаровательный Тускул!), я умерла бы счастливой.
Ученый энтузиазм весьма заразителен, и мистер Домби наполовину поверил, что так же обстоит дело и с ним; и даже миссис Пипчин, которая, как мы видели, не отличалась покладистым нравом, испустила не то стон, не то вздох, словно хотела сказать, что никто, кроме Цицерона, не мог бы стать для нее подлинным утешением после краха Перуанских копей и что он несомненно оказался бы спасительной лампой Дэви[24].
Корнелия смотрела сквозь очки на мистера Домби, как будто не прочь была блеснуть перед ним несколькими цитатами из упомянутого автора. Но замысел этот, если таковой у нее и возник, был разрушен стуком в дверь.
– Кто там? – спросил доктор. – О! Войдите, Тутс, войдите! Мистер Домби, сэр. – Тутс поклонился. – Какое совпадение, – сказал доктор Блимбер. – Здесь перед нами начало и конец. Альфа и омега. Это наш старший ученик, мистер Домби.
Доктор мог назвать его старшим и длиннейшим, ибо все остальные едва доходили ему до плеча. Тот сильно покраснел, очутившись в незнакомом обществе, и громко захихикал.
– Добавление к нашему скромному Портику, Тутс, – сказал доктор, – сын мистера Домби.
Молодой Тутс снова покраснел и, убедившись, судя по воцарившемуся глубокому молчанию, что от него ждут каких-то слов, сказал Полю «Как поживаете?» таким низким басом и с таким робким видом, что показалось бы не более удивительным, если бы зарычал ягненок.
– Пожалуйста, попросите мистера Фидера, Тутс, – сказал доктор, – приготовить несколько начальных учебников для сына мистера Домби и отвести ему удобное место для занятий. Дорогая моя, кажется, мистер Домби не видел дортуаров.
– Если мистер Домби пожелает подняться наверх, – сказала миссис Блимбер, – я буду гордиться возможностью показать ему владения бога сна и дремоты.
Вслед за сим миссис Блимбер, которая была весьма учтивой леди крепкого сложения и носила чепец, смастеренный из небесно-голубой материи, проследовала наверх с мистером Домби и Корнелией; миссис Пипчин шла за ними и зорко осматривалась по сторонам, не видно ли ее врага – лакея.
Пока их не было, Поль сидел на столе, держа за руку Флоренс, робко посматривая на доктора и окидывая взором комнату, тогда как доктор, откинувшись на спинку кресла и заложив, по своему обыкновению, руку за борт фрака, держал перед собой в другой вытянутой руке книгу и читал. Было нечто весьма устрашающее в такой манере чтения. Это была такая решительная, бесстрастная, неумолимая, хладнокровная манера приниматься за работу! Она оставляла на виду физиономию доктора; а когда доктор благосклонно улыбался автору, хмурился или качал головой и делал гримасы, точно желая сказать: «Не говорите мне, сэр, я не так глуп», – это наводило ужас.
Да и Тутсу совершенно незачем было стоять у двери, хвастаясь часами, механизм которых он рассматривал, и пересчитывая свои полукроны. Но это продолжалось недолго, ибо когда мистер Блимбер случайно изменил положение своих крепких толстых ног, словно собираясь встать, Тутс мгновенно исчез и больше не появлялся.
Вскоре послышалось, как мистер Домби и его спутницы, разговаривая, спускаются вниз, а затем они снова вошли в кабинет доктора.
– Надеюсь, мистер Домби, – сказал доктор, положив на стол книгу, – наши порядки заслужили ваше одобрение?
– Они превосходны, сэр, – сказал мистер Домби.
– В самом деле, очень недурны, – тихим голосом промолвила миссис Пипчин, отнюдь не расположенная к чрезмерным похвалам.
– С вашего разрешения, доктор и миссис Блимбер, – обернувшись, сказал мистер Домби, – время от времени миссис Пипчин будет навещать Поля.
– Когда будет угодно миссис Пипчин, – заметил доктор.
– Всегда рады ее видеть, – сказала миссис Блимбер.
– Кажется, – сказал мистер Домби, – я причинил достаточно хлопот и могу откланяться. Поль, дитя мое, – он подошел вплотную к столу, на котором тот сидел, – прощай.
– Прощайте, папа.
Вяло и небрежно протянутая ручка, которую мистер Домби взял в свою, странно не соответствовала напряженному выражению лица. Но мистер Домби не имел никакого отношения к этому скорбному лицу. Оно было обращено не к нему. Нет, нет! К Флоренс – все для Флоренс!
Если мистер Домби, чванившийся своим богатством, приобрел когда-либо врага, неумолимого и в ненависти своей безжалостно мстительного, то даже враг этот, быть может, принял бы боль, пронзившую надменное сердце мистера Домби, как возмездие за свою обиду.
Он наклонился к сыну и поцеловал его. Если глаза его были при этом затуманены чем-то, что на секунду заслонило маленькое личико, умственный его взор, может быть, стал зорче на это короткое мгновение.
– Скоро я тебя увижу, Поль. Ты свободен по субботам и воскресеньям.
– Да, папа, – отвечал Поль, глядя на сестру, – по субботам и воскресеньям.
– И ты постараешься многому научиться здесь и быть умным мужчиной, – сказал мистер Домби. – Не так ли?
– Постараюсь, – устало отвечал ребенок.
– И теперь ты скоро будешь взрослым, – сказал мистер Домби.
– О, очень скоро! – отозвался ребенок.
И снова старческое, старческое выражение промелькнуло на его лице, словно странный луч. Он упал на миссис Пипчин и погас в ее черном платье. Эта превосходная людоедка шагнула вперед, чтобы попрощаться и увести Флоренс, что она давно уже порывалась сделать. Это движение заставило встрепенуться мистера Домби, чей взгляд был устремлен на Поля. Погладив его по голове и еще раз пожав его маленькую ручку, он с обычной своей ледяной учтивостью попрощался с доктором Блимбером, миссис Блимбер и мисс Блимбер и вышел из кабинета.
Несмотря на просьбу не беспокоиться, доктор Блимбер, миссис Блимбер и мисс Блимбер устремились вперед, чтобы проводить его до холла, вследствие чего миссис Пипчин оказалась зажатою между мисс Блимбер и доктором и была вытеснена из кабинета, прежде чем успела схватить Флоренс. Этой счастливой случайности Поль был впоследствии обязан сладким воспоминанием о том, как Флоренс бегом вернулась к нему, чтобы обвить руками его шею, и ее лицо было последним, мелькнувшим в дверях, – лицо, обращенное к нему с ободряющей улыбкой, казавшейся еще светлее благодаря слезам, сквозь которые она сияла.
Вот почему его грудь вздымалась, когда улыбка исчезла, и тут же глобусы, книги, слепой Гомер и Минерва поплыли по комнате. Но вдруг они остановились; и тогда он услышал громогласные часы в холле, серьезно вопрошавшие: «Как пожи-ва-ет мой друг? Как по-жи-ва-ет мой друг?»
Скрестив руки, он сидел на своем пьедестале и молча прислушивался. Но он мог бы ответить: «Устал, устал! Очень одинок, очень грустно!» И вот с мучительной пустотой в детском сердце, когда вокруг было так холодно, пустынно и чуждо, сидел Поль, словно его, беззащитного, бросили в жизнь и не было никого, кто мог бы прийти и украсить ее.
Глава XII
Воспитание Поля
Спустя несколько минут, которые маленькому Полю Домби, сидевшему на столе, показались бесконечными, доктор Блимбер вернулся. Походка доктора была величественна и рассчитана на то, чтобы внушать юношеским умам возвышенные чувства. Это было нечто вроде маршировки; но когда доктор вытягивал правую ногу, он с достоинством поворачивался вокруг своей оси, делая полуоборот налево; а вытягивая левую ногу, он таким же манером поворачивался направо. Вот почему казалось, что он на каждом шагу озирается и как бы говорит: «Не будет ли кто-нибудь столь любезен указать какой-нибудь предмет в любом направлении, о котором я не осведомлен? Вряд ли это возможно».
Миссис Блимбер и мисс Блимбер вернулись вместе с доктором; и доктор, сняв нового ученика со стола, передал его мисс Блимбер.
– Корнелия, – сказал доктор, – первое время Домби будет на твоем попечении. Развивай его, Корнелия, развивай.
Мисс Блимбер приняла своего юного питомца из рук доктора; и Поль, чувствуя, что очки созерцают его, опустил глаза.
– Сколько вам лет, Домби? – спросила мисс Блимбер.
– Шесть, – ответил Поль, взглянув украдкой на молодую леди и удивившись, почему волосы у нее не такие длинные, как у Флоренс, и почему она похожа на мальчика.
– Что вы знаете из латинской грамматики, Домби? – спросила мисс Блимбер.
– Ничего, – ответил Поль. Сообразив, что такой ответ наносит удар чувствительности мисс Блимбер, он посмотрел снизу вверх на три лица, смотревшие на него сверху вниз, и сказал: – Я был нездоров. Я был слабым ребенком. Я не мог учить латинскую грамматику, потому что каждый день проводил на воздухе со старым Глабом. Мне бы хотелось, чтобы вы позвали старого Глаба навестить меня, будьте так добры.
– Какое возмутительно-вульгарное имя! – сказала миссис Блимбер. – В высшей степени неклассическое! Кто это чудовище, дитя?
– Какое чудовище? – осведомился Поль.
– Глаб! – сказала миссис Блимбер с великим омерзением.
– Он такое же чудовище, как и вы, – объявил Поль.
– Что такое?! – страшным голосом возопил доктор. – Ай-ай-ай! Это что такое?
Поль ужасно испугался, но тем не менее встал на защиту отсутствующего Глаба, хотя при этом весь дрожал.
– Он очень славный старик, сударыня, – сказал он. – Он возил мою колясочку. Он знает все об океане, о рыбах, которые в нем водятся, и об огромных чудищах, которые выползают на скалы и греются на солнце и снова ныряют в воду, если их испугать, и так пыхтят и плещутся, что их слышно за много миль. Есть там животные, – продолжал Поль, увлекаясь своим рассказом, – не знаю сколько ярдов в длину и я забыл, как они называются, но Флоренс знает, которые притворяются, как будто им грозит беда, а когда человек из жалости приближается к ним, они разевают огромную пасть и нападают на него. Но все, что нужно делать, – продолжал Поль, храбро сообщая эти сведения самому доктору, – это сворачивать на бегу то в ту, то в другую сторону, и тогда непременно от них убежишь, потому что они такие длинные и поворачиваются медленно. И хотя старый Глаб не знает, почему море напоминает мне о моей маме, которая умерла, и о чем это оно всегда говорит – всегда говорит! – но все-таки он знает о нем очень много. И я бы хотел, – закончил ребенок, который вдруг приуныл и забыл о своем оживлении, растерянно глядя на три незнакомых лица, – чтобы вы позволили старому Глабу приходить сюда ко мне, потому что я его очень хорошо знаю, и он меня знает.
– Так! – сказал доктор, покачивая головой. – Это плохо, но учение свое дело сделает.
Миссис Блимбер с некоторым содроганием высказала мнение, что он – непонятный ребенок, и, насколько это было возможно при несходстве лиц обеих леди, посмотрела на него почти так, как, бывало, смотрела миссис Пипчин.
– Пройдись с ним по всему дому, Корнелия, – сказал доктор, – и познакомь его с новым окружением. Ступайте с этой молодой леди, Домби.
Домби повиновался, протянув руку загадочной Корнелии и посматривая на нее искоса с робким любопытством, когда они вместе вышли. Ибо очки с поблескивающими стеклами делали ее такой таинственной, что он не знал, куда она смотрит, и, в сущности, был не совсем уверен в том, что за очками у нее есть глаза.
Корнелия повела его прежде всего в классную комнату, вход в которую был прямо из холла и которая сообщалась с ним посредством обитой байкой двойной двери, заглушавшей голоса молодых джентльменов. Здесь было восемь молодых джентльменов в различных стадиях умственной прострации, очень усердно работающих и очень серьезных. Тутс как старший сидел за отдельным пюпитром в углу, и великолепным мужчиною, безмерно взрослым, показался он юному Полю за этим пюпитром.
Мистер Фидер, бакалавр искусств, сидевший за другим маленьким пюпитром, затянул своего Вергилия и медленно наигрывал эту мелодию четырем молодым джентльменам. Из остальных четырех двое, судорожно сжав голову, занимались решением математических задач; один, у которого от долгого плача лицо сделалось похоже на грязное окно, силился одолеть до обеда безнадежное количество строк, а еще один сидел за своим уроком в отчаянии и каменном оцепенении, в каковом состоянии пребывал, по-видимому, с самого завтрака.
Появление нового мальчика не вызвало той сенсации, какой можно было ждать. Мистер Фидер, бакалавр искусств (у которого была привычка брить для прохлады голову, так что в настоящее время на ней красовалась только короткая щетина), протянул ему костлявую руку и сказал, что рад его видеть, – эти слова Поль был бы очень рад сказать ему, если бы при этом мог остаться хоть чуточку искренним. Затем Поль по предписанию Корнелии пожал руку четырем молодым джентльменам у пюпитра мистера Фидера; затем двум молодым джентльменам, корпевшим над задачей, которые были очень возбуждены; затем молодому джентльмену, корпевшему над срочной работой, который был весь в чернилах, и, наконец, молодому джентльмену, пребывавшему в оцепенении, который был вял и холоден как лед.
Так как Поль был уже представлен Тутсу, то этот воспитанник, по своему обыкновению, только хихикнул, засопел и продолжал заниматься своим делом. Оно было не из трудных, ибо, вследствие того, что он «через столько прошел» (понимая это не только буквально) и вдобавок, как было упомянуто выше, перестал цвести на самой заре жизни, Тутс пользовался теперь разрешением следовать особой учебной программе, главную часть которой составляло писание самому себе от имени выдающихся особ длинных писем, адресованных «П. Тутсу, эсквайру, Брайтон, Суссекс», и заботливое хранение их в пюпитре.
По окончании церемонии Корнелия повела Поля в верхний этаж дома. Это было довольно медленное путешествие, ввиду того, что Полю приходилось ставить обе ноги на каждую ступеньку, прежде чем подняться на следующую. Но в конце концов они достигли цели своего путешествия; и там, в комнате, выходившей окнами на бурное море, Корнелия показала ему хорошенькую кроватку с белыми занавесками, стоявшую перед окном; на табличке уже было написано красивым круглым почерком – нижняя половина очень жирно, верхняя – очень тонко: Домби, тогда как две другие кроватки в той же комнате возвещали таким же способом о том, что принадлежат Бригсу и Тозеру.
Как только они снова спустились в холл, Поль увидел, что подслеповатый молодой человек, который нанес смертельную обиду миссис Пипчин, вдруг схватил длинную барабанную палочку и набросился на висевший здесь гонг, как будто сошел с ума или жаждал мщения. Однако вместо того, чтобы быть уволенным или посаженным немедленно под стражу, молодой человек, произведя устрашающий шум, не подвергся никакому наказанию. Тогда Корнелия Блимбер сказала Домби, что обед будет подан через четверть часа, и предложила ему отправиться в классную комнату, к своим «друзьям».
Итак, Домби, почтительно пройдя мимо больших часов, которые по-прежнему горели желанием узнать, как он поживает, чуть-чуть приоткрыл дверь классной, проскользнул в нее, словно заблудившееся дитя, и не без труда закрыл ее за собой. Все его друзья слонялись по комнате, за исключением окаменевшего друга, который оставался недвижимым. Мистер Фидер потягивался в своей серой мантии, словно, не заботясь об убытке, решил вырвать рукава.
– Хей-хо-хо-хо-хаа! – воскликнул мистер Фидер, встряхиваясь, как ломовая лошадь. – Ах, Боже мой, Боже мой! А-а-а!
Поль даже испугался зевка мистера Фидера: зевок был чудовищный, и совершен он был с устрашающей серьезностью. Все мальчики (за исключением Тутса) казались измученными и готовились к обеду – одни перевязывали наново галстуки, чрезвычайно тугие, а другие мыли руки или приглаживали волосы в прихожей с таким видом, будто не ждали от трапезы никакого удовольствия.
Молодой Тутс был уже готов, и так как ему нечего было делать и он располагал временем, которое мог уделить Полю, то он сказал с неуклюжим добродушием:
– Садитесь, Домби.
– Благодарю вас, сэр, – сказал Поль.
Он попытался вскарабкаться на очень высокий подоконник, но соскальзывал с него вниз, и это, по-видимому, подготовило ум Тутса к открытию.
– Вы очень маленький мальчуган, – сказал мистер Тутс.
– Да, сэр, я маленький, – ответил Поль. – Благодарю вас, сэр. – Ибо Тутс поднял и посадил его и вдобавок сделал это ласково.
– Кто ваш портной? – осведомился Тутс, поглядев на него несколько секунд.
– До сих пор мои платья шила женщина, – сказал Поль. – Портниха моей сестры.
– Мой портной – Берджес и К°, – сказал Тутс. – Модный. Но очень дорогой.
У Поля хватило ума покачать головой, как будто он хотел сказать, что заметить это нетрудно; да он и в самом деле так думал.
– Ваш отец здорово богат, не правда ли? – осведомился мистер Тутс.
– Да, сэр, – сказал Поль. – Он – Домби и Сын.
– И кто? – спросил Тутс.
– И Сын, сэр, – ответил Поль.
Мистер Тутс шепотом сделал две-три попытки запечатлеть в памяти название фирмы, но, не совсем преуспев в этом, сказал, что попросит Поля повторить фамилию еще раз завтра утром, ибо это не лишено значения. И в самом деле, он собирался ни больше ни меньше как написать немедленно самому себе частное и конфиденциальное письмо от Домби и Сына.
К тому времени Поля окружили остальные ученики (по-прежнему – за исключением окаменевшего мальчика). Они были вежливы, но бледны и разговаривали тихо; и были так подавлены, что по сравнению с расположением духа этой компании юный Байтерстон был настоящим Миллером, или «Полным собранием шуток». А между тем и над ним, над Байтерстоном, также тяготело сознание обиды.
– Вы спите со мною в одной комнате? – спросил степенный молодой джентльмен в воротничке, подпиравшем мочки его ушей.
– Мистер Бригс? – осведомился Поль.
– Тозер, – сказал молодой джентльмен.
Поль ответил утвердительно, а Тозер, указывая на окаменевшего ученика, сказал, что это Бригс. Поль, сам не зная почему, был почти уверен в том, что это либо Бригс, либо Тозер.
– У вас здоровье хорошее? – осведомился Тозер.
Поль сказал, что он этого не думает. Тозер заметил, что и он этого не думает, судя по виду Поля, и что это печально, ибо здоровье ему понадобится. Затем он спросил Поля, предстоит ли ему начать ученье с Корнелией, а когда Поль ответил утвердительно, все молодые джентльмены (за исключением Бригса) испустили тихий стон.
Он потонул в звоне гонга, который снова загремел с великим неистовством, после чего все двинулись в столовую, опять-таки за исключением Бригса, окаменевшего мальчика, который остался на прежнем месте и в прежнем положении; Поль заметил, что ему отнесли ломоть хлеба, элегантно сервированный на тарелке с салфеткой и серебряной вилкой, лежащей поперек ломтя.
Доктор Блимбер уже сидел на своем месте в столовой, во главе стола, с мисс Блимбер по одну сторону и миссис Блимбер – по другую. Мистер Фидер в черном фраке сидел в другом конце стола. Стул Поля помещался рядом с мисс Блимбер; но когда он уселся, обнаружилось, что брови его приходятся почти на уровне скатерти, после чего было принесено из кабинета доктора несколько книг, на которые водрузили Поля и на которых он с тех пор всегда сидел; впоследствии он сам приносил и уносил их, уподобляясь маленькому слону с башенкой.
Доктор прочитал молитву, и обед начался. Был подан вкусный суп, а затем жаркое, вареная говядина, овощи, пирог и сыр. Перед каждым молодым джентльменом лежали массивная серебряная ложка и салфетка; и вся сервировка была внушительна и изящна. Особенно обращал на себя внимание дворецкий в синем фраке с блестящими пуговицами, который сообщал прямо-таки винный аромат легкому пиву – столь величественно он его разливал.
Никто не разговаривал, если к нему не обращались, за исключением доктора Блимбера, миссис Блимбер и мисс Блимбер, которые иногда перебрасывались словами. Всякий раз, когда внимание молодых джентльменов не было поглощено ножом, вилкой или ложкой, взоры их, повинуясь непреодолимой силе притяжения, искали взоров доктора Блимбера, миссис Блимбер или мисс Блимбер и скромно приковывались к ним. Тутс, по-видимому, был единственным исключением из этого правила. Он сидел возле мистера Фидера с той же стороны стола, что и Поль, и часто откидывался назад или наклонялся вперед, чтобы взглянуть на Поля, заслоненного сидевшими между ними мальчиками.
Один только раз зашел за обедом разговор, имевший отношение к молодым джентльменам. Это случилось за сыром, когда доктор, выпив рюмку портвейна и дважды или трижды кашлянув, начал:
– Замечательно, мистер Фидер, что римляне…
При упоминании об этом ужасном народе, неумолимом их враге, все молодые джентльмены обратили взоры на доктора с видом, глубоко заинтересованным. Один из них, который как раз в это время пил и который поймал на себе сквозь стакан пристальный взгляд доктора, откинулся назад с такой поспешностью, что в течение нескольких секунд корчился в судорогах и в конце концов все же прервал речь доктора Блимбера.
– Замечательно, мистер Фидер, – повторил доктор, – что римляне во время этих великолепных и обильных пиршеств в императорскую эпоху, о которых мы читаем, когда роскошь достигла пределов, неведомых дотоле и с той поры неизвестных, и когда целые области опустошались с целью добыть огромные средства для одного императорского пира…
Тут нарушитель порядка, который раздувался, напрягался и тщетно ждал точки, неудержимо взорвался.
– Джонсон, – сказал мистер Фидер тихим, укоризненным голосом, – выпейте воды.
Доктор с весьма суровым видом выдерживал паузу, пока не принесли воды, а затем продолжал:
– И когда, мистер Фидер…
Но мистер Фидер, который видел, что Джонсон готов снова взорваться, и знал, что доктор в присутствии молодых джентльменов никогда не поставит точки, прежде чем не произнесет все, что собирается сказать, не мог отвести глаз от Джонсона и, таким образом, попался на том, что не смотрит на доктора, который вследствие этого прервал свою речь.
– Прошу прощения, сэр, – краснея, сказал мистер Фидер. – Прошу прощения, доктор Блимбер.
– И когда, сэр, – продолжал доктор, повысив голос, – как мы читаем и чему не имеем оснований не верить, – хотя бы невеждам нашего века это и казалось невероятным, – когда брат Вителия устроил для него пир, на котором было подано две тысячи рыбных блюд…
– Выпейте воды, Джонсон… Блюд, сэр, – повторил мистер Фидер.
– Всевозможных видов птицы пять тысяч блюд…
– Или попробуйте взять корочку хлеба, – сказал мистер Фидер.
– И одно блюдо, – продолжал доктор Блимбер, снова повышая голос и окидывая взором стол, – названное вследствие грандиозных его размеров щитом Минервы и приготовленное, не говоря уже о прочих весьма дорогих ингредиентах, из мозгов фазанов…
– Кхы, кхы, кхы!
– Вальдшнепов…
– Кхы, кхы, кхы!
– Из плавательных пузырей рыбы, называемой скар…
– У вас какая-нибудь жила в голове лопнет, – сказал мистер Фидер. – Лучше не удерживайтесь.
– И из икры миноги, доставленной из Эгейского моря, – продолжал доктор самым грозным тоном, – когда мы читаем о таких дорогих пиршествах, как это, и памятуем, что есть еще Тит…
– Каково будет вашей матери, если вы умрете от удара! – сказал мистер Фидер.
– Домициан…
– Послушайте, вы уже посинели, – сказал мистер Фидер.
– Нерон, Тиберий, Калигула, Гелиогабал и многие другие, – продолжал доктор, – то это, мистер Фидер, если вы соблаговолите удостоить меня своим вниманием, примечательно, в высшей степени примечательно, сэр…
Но Джонсон, не будучи в силах больше удерживаться, разразился в этот момент таким устрашающим кашлем (хотя оба ближайших его соседа начали колотить его по спине, а мистер Фидер собственноручно поднес к его губам стакан воды, а дворецкий заставил его несколько раз промаршировать между столом и буфетом, наподобие часового), что прошло добрых пять минут, прежде чем он более или менее оправился, и тогда в комнате водворилось глубокое молчание.
– Джентльмены, – сказал доктор Блимбер, – встаньте на молитву, Корнелия, снимите Домби. – После этого над скатертью виден был только его скальп. – Завтра, перед завтраком Джонсон прочтет мне наизусть из Нового Завета первую главу послания апостола Павла к ефесянам, по-гречески. Мистер Фидер, мы возобновим занятия через полчаса.
Молодые джентльмены поклонились и вышли. Мистер Фидер поступил точно так же. В течение получаса молодые джентльмены, разбившись на пары, прохаживались рука об руку по маленькой площадке позади дома или пытались раздуть искру оживления в груди Бригса. Но ничего вульгарного вроде игр не было и в помине. Ровно в назначенный час прозвучал гонг, и занятия возобновили при благодетельном участии как доктора Блимбера, так и мистера Фидера.
Так как олимпийские игры, заключавшиеся в хождении взад и вперед, были в тот день сокращены из-за Джонсона, все отправились на прогулку перед чаем. Даже Бригс (хотя он еще не приступил к работе) участвовал в этом увеселении, наслаждаясь коим он раза два-три мрачно посматривал вниз с вершины утеса. Доктор Блимбер шествовал за ними, и Поль удостоился чести быть взятым на буксир самим доктором, почетная позиция, заняв которую он казался очень маленьким и хилым.
Чай был сервирован не менее изысканно, чем обед, а после чая молодые джентльмены, встав и поклонившись, как и раньше, удалились, чтобы вернуться к незаконченным урокам сегодняшнего дня или приняться за надвигающиеся уроки завтрашнего. Тем временем мистер Фидер ушел в свою комнату, а Поль уселся в уголок, размышляя, думает ли о нем Флоренс и что они там поделывают у миссис Пипчин.
Спустя некоторое время мистер Тутс, которого задержало важное письмо от герцога Веллингтона, разыскал Поля; он долго смотрел на него, как и раньше, а затем осведомился, любит ли он жилеты.
Поль ответил:
– Да, сэр.
– Я тоже, – сказал Тутс.
Больше ни слова не произнес в тот вечер Тутс; он только стоял, глядя на Поля, словно Поль ему нравился, и так как это было каким-то общением, а беседовать Поль не был расположен, то это отвечало его желаньям больше, чем разговор.
Часов в восемь снова зазвучал гонг, призывая на молитву в столовую, где дворецкий распоряжался за столом, стоявшим у стены, на котором находились хлеб, сыр и пиво для тех молодых джентльменов, кто не прочь был подкрепиться. Церемония закончилась словами доктора: «Джентльмены, мы возобновим наши занятия завтра в семь часов», и тогда Поль в первый раз увидел глаза Корнелии Блимбер и увидел, что они устремлены на него. Когда доктор произнес эти слова: «Джентльмены, мы возобновим наши занятия завтра в семь часов», ученики снова поклонились и пошли спать.
В комнате наверху Бригс сказал, что голова у него трещит и что он хотел бы умереть, не будь у него матери и черного дрозда, оставшегося дома. Тозер говорил мало, но вздыхал много и посоветовал Полю быть начеку, потому что завтра очередь дойдет до него. Произнося эти пророческие слова, он мрачно разделся и лег в постель. Бригс уже лежал в своей постели, а Поль – в своей, когда появился подслеповатый молодой человек, чтобы унести свечу, и пожелал им спокойной ночи и приятных сновидений. Но благие его пожелания, в той мере, в какой предназначались Бригсу и Тозеру, остались втуне, ибо Поль, который долго не мог заснуть, а потом часто просыпался, слышал, что Бригса урок преследует как кошмар, а Тозер, который терзался во сне по той же причине, – но в меньшей степени, – говорит на неведомых языках, не то по-гречески, не то по-латыни, – что для Поля было одно и то же, – и в тишине ночи это казалось необычайно нечестивым и преступным.
Поль погрузился в сладкий сон, и ему снилось, что он гуляет рука об руку с Флоренс по прекрасным садам и подходит к большому подсолнечнику, который вдруг превращается в гонг и начинает гудеть. Раскрыв глаза, он увидел, что уже настало утро – хмурое, ветреное, с моросящим дождем, а внизу в вестибюле настоящий гонг грозно возвещает, что пора приниматься за уроки.
Поэтому он тотчас вскочил и увидел, что Бригс с заплывшими глазами, – ибо лицо у него распухло от горя и ночных кошмаров, – натягивает башмаки, а Тозер стоит, дрожа и растирая себе плечи, в очень дурном расположении духа. Бедному Полю с непривычки трудно было одеваться самому, и он попросил их, не будут ли они так добры и не завяжут ли ему шнурки, но так как Бригс сказал только: «Вот надоел!», а Тозер: «Еще бы!» – он, кое-как одевшись, спустился этажом ниже, где увидел миловидную молодую женщину в кожаных перчатках, которая чистила печку. Молодая женщина как будто удивилась, заметив его, и спросила, где его мать. Когда Поль сказал, что она умерла, она сняла перчатки и сделала то, о чем он просил; а потом растерла ему руки, чтобы согреть их, поцеловала его и сказала, что всякий раз, когда ему понадобится что-нибудь в этом роде – имея в виду его туалет, – пусть он позовет Милию, на что Поль, горячо поблагодарив ее, отвечал, что непременно так и сделает. Затем он продолжал свое путешествие вниз, направляясь в ту комнату, где молодые джентльмены возобновили свои занятия, как вдруг, проходя мимо полуотворенной двери, услышал голос: «Это Домби?» На что Поль ответил: «Да, сударыня», так как узнал голос мисс Блимбер. Мисс Блимбер сказала: «Войдите, Домби». И Поль вошел.
Вид у мисс Блимбер был точь-в-точь такой же, как и вчера, с тою лишь разницей, что на ней была шаль. Ее короткие светлые волосы все так же курчавились, и она была уже в очках, что заставило Поля задуматься, не ложится ли она в них спать. В ее собственном распоряжении имелась холодная маленькая гостиная, где были книги и не было камина. Но мисс Блимбер никогда не бывало холодно и никогда не хотелось спать.
– Сейчас, Домби, – сказала мисс Блимбер, – я выйду прогуляться – мне нужен моцион.
Поль подивился, что бы это могло быть и почему в такую ненастную погоду она не пошлет за этим лакея. Но он не сделал по этому поводу никаких замечаний, ибо внимание его было сосредоточено на небольшой стопке новых книг, которые мисс Блимбер, по-видимому, только что просматривала.
– Это ваши книги, Домби, – сказала мисс Блимбер.
– Все, сударыня? – спросил Поль.
– Да, – ответила мисс Блимбер, – и в ближайшее время мистер Фидер подыщет для вас еще несколько, если вы окажетесь таким прилежным, каким я надеюсь вас видеть, Домби.
– Благодарю вас, сударыня, – сказал Поль.
– Я пойду прогуляться, мне нужен моцион, – продолжала мисс Блимбер, – а пока меня не будет, иными словами – до завтрака, Домби, я хочу, чтобы вы прочли все, что я отметила в этих книгах, и сказали мне, вполне ли вам понятно то, что вы должны выучить. Не мешкайте, Домби, времени у вас мало, возьмите их с собою вниз и приступайте немедленно.
– Хорошо, сударыня, – ответил Поль.
Их было столько, что, хотя Поль положил одну руку под нижнюю книгу, а другую руку и подбородок – на верхнюю и крепко сжал их в своих объятиях, средняя книга выскользнула, прежде чем он дошел до двери, а затем и все остальные посыпались на пол. Мисс Блимбер сказала: «О Домби, Домби, право же, вы очень небрежны!» – и снова сложила их в стопку; на этот раз, искусно удерживая книги в равновесии, Поль выбрался из комнаты и спустился с нескольких ступенек, где снова выронил две книги. Но остальные он держал так крепко, что потерял только одну во втором этаже и одну в коридоре, и, доставив остальные в классную комнату, снова отправился наверх подбирать упавшие. Собрав наконец всю библиотеку и вскарабкавшись на свое место, он взялся за работу, поощренный замечанием Тозера, высказавшегося в том смысле, что «теперь за него принялись»; больше никто не прерывал его до завтрака. За этой трапезой, к которой он приступил без всякого аппетита, все было так же торжественно и приятно, как и за прежними: по окончании ее он последовал за мисс Блимбер наверх.
– Ну-с, Домби, – сказала мисс Блимбер, – что вы извлекли из этих книг?
Среди них было несколько английских и очень много латинских; в них он нашел названия предметов, склонение артиклей и имен существительных, соответствующие упражнения и начальные правила правописания, обзор древней истории, два-три замечания о новой, несколько примеров из таблицы умножения, две-три меры веса и кое-какие общие сведения. Когда бедный Поль прочитал по складам номер второй, он обнаружил, что понятия не имеет о номере первом, обрывки коего позднее вторглись в номер третий, который проскользнул в номер четвертый, приросший к номеру второму. Таким образом, составляют ли двадцать Ромулов одного Рема, является ли hie, haec, hoc[25] монетным весом и всегда ли согласуется глагол с древним бриттом – все эти вопросы остались для него открытыми.
– О Домби, Домби! – сказала мисс Блимбер. – Это очень скверно.
– Простите, – сказал Поль, – мне кажется, если бы я мог иногда разговаривать со старым Глабом, дело пошло бы у меня лучше.
– Вздор, Домби! – сказала мисс Блимбер. – Об этом я и слышать не хочу. Здесь не место для Глабов. Мне кажется, Домби, вы должны брать эти книги вниз по одной, сначала усвоить намеченную на сегодня часть предмета А, а затем уже приступить к предмету Б. Теперь, Домби, возьмите, пожалуйста, верхнюю книгу и приходите, когда усвоите урок.
Мисс Блимбер высказала свое мнение по вопросу о невежестве Поля с мрачным удовлетворением, словно ждала такого результата и радовалась, что они будут находиться в постоянном общении. Поль удалился с верхней книгой, как было ему приказано, и, сойдя вниз, принялся за ее изучение; то он помнил каждое слово, то забывал урок от начала до конца, а вдобавок и все остальное, пока наконец не отважился подняться снова наверх, чтобы ответить урок, который чуть было не вылетел у него из головы, прежде чем он успел начать, ибо мисс Блимбер захлопнула книгу и сказала: «Продолжайте, Домби!», каковой поступок столь явно указывал на заключенные в мисс Блимбер познания, что Поль посмотрел на молодую леди с ужасом, точно на некоего ученого Гая Фокса или хитроумное пугало, набитое схоластической соломой.
Тем не менее он справился со своей задачей очень хорошо; мисс Блимбер, похвалив его, как подающего надежды на быстрое развитие, тотчас снабдила его предметом Б, после которого он еще до обеда перешел к В и даже к Г. Трудное было дело – возобновить занятия вскоре после обеда, и он чувствовал дурноту, головокружение, сонливость и утомление. Но – если только есть в этом какое-то утешение – все прочие молодые джентльмены испытывали такие же ощущения и также принуждены были возобновить занятия. Странно, что большие часы в холле, вместо того чтобы беспрерывно твердить один и тот же вопрос, никогда не провозглашали: «Джентльмены, сейчас мы возобновим наши занятия», хотя эта фраза повторялась по соседству с ними достаточно часто.
После чая при свечах приступили к письменным упражнениям и приготовлению уроков на завтрашний день. И в назначенный час улеглись в постель, где их ждал отдых и сладкое забвение, если бы только возобновление занятий не вторгалось и в сновидения.
О субботы! Счастливые субботы, когда Флоренс приходила в полдень и ни за что не хотела остаться дома, какая бы ни была погода, хотя миссис Пипчин злилась, ворчала и жестоко ее терзала. Эти субботы были днем субботним по крайней мере для двух маленьких христиан среди иудеев и делали святое субботнее дело, крепко связывая любовью брата и сестру.
Даже воскресные вечера – мучительные воскресные вечера, чья тень омрачала первые проблески рассвета в воскресные утра, – не могли испортить этих чудесных суббот. Был ли то морской берег, где они сидели и гуляли вместе, или скучная задняя комната у миссис Пипчин, где Флоренс тихо напевала ему, в то время как его сонная голова лежала у нее на плече, – Полю было все равно. С ним была Флоренс. Больше он ни о чем не думал. Поэтому в воскресные вечера, когда мрачная дверь доктора распахивалась, чтобы снова поглотить его на неделю, наступала минута прощания с Флоренс – больше ни с кем.
Миссис Уикем была отослана домой, в Лондон, и приехала мисс Нипер, ставшая бойкой молодой девушкой. Много поединков с миссис Пипчин выдержала мисс Нипер; и если хоть раз в своей жизни миссис Пипчин нашла достойного противника, то именно в те дни. Мисс Нипер вступила в бой в первое же утро, когда проснулась в доме миссис Пипчин. Она не просила и не давала пощады. Она сказала – быть войне, и началась война; и с тех пор миссис Пипчин жила под угрозой внезапных нападений, вылазок, наскоков и беспорядочных атак, которые обрушивались на нее из коридора даже в безмятежный час отбивных котлет и отравляли ей гренки.
Как-то в воскресный вечер, когда мисс Нипер с Флоренс, проводив Поля к доктору, вернулись домой, Флоренс достала из-за корсажа клочок бумаги, на котором было записано карандашом несколько слов.
– Смотрите, Сьюзен, – сказала она, – вот названия тех книжек, которые Поль приносит сюда, чтобы писать эти длинные упражнения, хотя он такой усталый. Я их списала вчера вечером, пока он работал.
– Пожалуйста, не показывайте мне, мисс Флой, – возразила Нипер. – Мне так же хочется смотреть на них, как на миссис Пипчин.
– Я хочу, чтобы завтра утром вы их купили для меня, Сьюзен, будьте так добры. Денег у меня хватит, – сказала Флоренс.
– Господи помилуй, мисс Флой, – отозвалась мисс Нипер, – как это вы можете говорить такие вещи, когда книг у вас и без того уже горы, а учителя и учительницы вечно обучают вас всякой всячине, хотя я уверена, что ваш папаша, мисс Домби, никогда и ничему не стал бы вас обучать, никогда и не подумал бы об этом, если бы вы его сами не просили, – а тут уже, конечно, он не мог отказать; но согласиться, когда просят, и самому предложить, когда не просят, мисс, две вещи разные; быть может, я не стану возражать, чтобы молодой человек за мной поухаживал, и когда он задаст известный вопрос, быть может, скажу: «Да», но это еще не значит сказать: «Не будете ли вы так добры полюбить меня?»
– Но вы можете купить для меня эти книги, Сьюзен, и вы их купите, когда узнаете, что они мне нужны.
– Ну, а зачем они вам нужны, мисс? – спросила Нипер и добавила, понизив голос: – Если затем, чтобы швырнуть их в голову миссис Пипчин, я готова купить целый воз.
– Мне кажется, Сьюзен, я могла бы помочь Полю, если бы у меня были эти книги, – сказала Флоренс, – и чуть-чуть облегчить для него следующую неделю. Во всяком случае, я хочу попробовать. Купите же их для меня, дорогая, я никогда не забуду, как будет мило с вашей стороны, если вы исполните мою просьбу.
Нужно было иметь сердце более черствое, чем у Сьюзен Нипер, чтобы отвернуться от маленького кошелька, который протянула ей с этими словами Флоренс, и от нежного умоляющего взгляда, сопровождавшего эту просьбу. Сьюзен молча сунула кошелек в карман и тотчас побежала исполнять поручение.
Найти книги было нелегко; в лавках ей говорили, что они только что распроданы, или что их и не было, или что была большая партия в прошлом месяце, или что большая партия ожидается на будущей неделе. Но Сьюзен трудно было смутить в подобном случае; и убедив беловолосого юношу в черном коленкоровом переднике, работавшего в библиотеке, где ее знали, принять участие в поисках, она до того измучила его хождением туда и сюда, что он приложил все усилия, хотя бы только для того, чтобы от нее избавиться, и в конце концов помог ей вернуться домой с триумфом.
Над этими сокровищами Флоренс сидела по вечерам, окончив свои собственные ежедневные уроки, следуя за Полем по тернистым тропам науки; от природы сообразительная и способная, руководимая чудеснейшим из учителей – любовью, она вскоре догнала Поля, поравнялась с ним и перегнала его.
Ни слова не было об этом сказано миссис Пипчин; но по ночам, когда все спали, когда мисс Нипер в папильотках, задремав в неудобной позе, спала, сидя подле Флоренс, и когда зола в камине становилась холодной и серой, и когда свечи догорали и оплывали, Флоренс так упорно старалась заменить некоего маленького Домби, что ее решимость и настойчивость, пожалуй, могли бы завоевать для нее право самой носить эту фамилию.
И велика была ее награда, когда как-то, в субботний вечер, Поль собрался, по обыкновению, «возобновить свои занятия», а она подсела к нему и показала, каким образом все, что было таким трудным, делается легким, и все, что было таким туманным, делается ясным и простым. Ничего особенного не случилось – только появилось изумление на увядшем лице Поля… вспыхнул румянец… улыбка… а потом крепкие объятия, – но Богу известно, как затрепетало ее сердце от этой щедрой награды за труды.
– О Флой! – воскликнул брат. – Как я люблю тебя! Как я люблю тебя, Флой!
– А я тебя, милый!
– О, в этом я уверен, Флой!
Больше он ничего не сказал, но весь вечер сидел возле нее очень молчаливый, а вечером раза три-четыре крикнул из своей комнаты, что любит ее.
После этого Флоренс всегда готовилась к тому, чтобы в субботний вечер сесть вместе с Полем и терпеливо объяснить ему все, что, по их мнению, предстояло ему пройти на будущей неделе. Приятное сознание, что его уроки уже выучила до него Флоренс, само по себе должно было подбодрить Поля, вечно «возобновлявшего» свои занятия; когда же к этому сознанию присоединялось и реальное облегчение его обязанностей – результат ее помощи, – то это, быть может, помешало ему свалиться под тяжестью ноши, которую взгромоздила на его плечи прекрасная Корнелия Блимбер. Нельзя сказать, что мисс Блимбер хотела быть слишком с ним суровой или что доктор Блимбер хотел взваливать слишком тяжелый груз на молодых джентльменов. Корнелия просто держалась той веры, в какой была воспитана, а доктор благодаря некоторой путанице в мыслях смотрел на молодых джентльменов так, будто все они были докторами и родились взрослыми. Было бы странно, если бы доктор Блимбер, успокоенный похвалами ближайшей родни молодых джентльменов и понукаемый их слепым тщеславием и безрассудной торопливостью, обнаружил свою ошибку или переменил галс.
Так было и в случае с Полем. Когда доктор Блимбер сказал, что он делает большие успехи и от природы смышлен, мистер Домби более, чем когда-либо, склонился к тому, чтобы его насильственно развивали и забивали ему голову знаниями. В случае с Бригсом, когда доктор Блимбер сообщил, что тот все еще не делает больших успехов и от природы несмышлен, Бригс-старший был неумолим, преследуя ту же цель. Короче говоря, как бы высока и искусственна ни была температура, которую доктор поддерживал в своей теплице, владельцы растений всегда готовы были оказать помощь, взявшись за мехи и раздувая огонь.
Ту живость, какою вначале отличался Поль, он, конечно, скоро утратил. Но он сохранил все, что было в его характере странного, старческого и сосредоточенного, и в условиях, столь благоприятствующих развитию этих наклонностей, стал еще более странным, старообразным и сосредоточенным.
Единственная разница заключалась в том, что он не проявлял своего характера. С каждым днем он становился задумчивее и сдержаннее и ни к кому из домочадцев доктора не относился с тем любопытством, какое вызвала у него миссис Пипчин. Он любил одиночество, и в короткие промежутки, свободные от занятий, ему больше всего нравилось бродить одному по дому или сидеть на лестнице, прислушиваясь к большим часам в холле. Он хорошо знал все обои в доме, видел в их узорах то, чего никто не видел, отыскивал миниатюрных тигров и львов, взбегающих по стенам спальни, и лица с раскосыми глазами, подмигивающие в квадратах и ромбах вощанки на полу.
Одинокий ребенок жил, окруженный этими причудливыми образами, созданными его напряженным воображением, и никто его не понимал. Миссис Блимбер считала его «странным», а иногда слуги говорили между собой, что маленький Домби «хандрит»; но тем дело и кончалось.
Пожалуй, у молодого Тутса возникали какие-то мысли об этом предмете, но к выражению их он был совершенно неспособен. К мыслям, как к привидениям (согласно привычному представлению о привидениях), нужно обратиться с вопросом, прежде чем они обретут ясные очертания, а Тутс давно уже перестал задавать какие бы то ни было вопросы своему мозгу. Быть может, какой-то туман исходил из этой свинцовой коробки – его черепа, – туман, который превратился бы в джинна, если бы имел возможность принять форму, но этой возможности у него не было, и он подражал дыму в известной арабской сказке лишь в том, что вырывался густым облаком и нависал и парил над головой. Однако он никогда не заслонял маленькой фигурки на пустынном берегу, и Тутс всегда пристально на нее смотрел.
– Как поживаете? – спрашивал он Поля раз пятьдесят в день.
– Очень хорошо, сэр, благодарю вас, – отвечал Поль.
– Вашу руку, – таково было следующее замечание Тутса.
И Поль, конечно, подавал ее немедленно. Мистер Тутс обычно спрашивал снова после того, как долго в него вглядывался и тяжело дышал: «Как поживаете?», на что Поль неизменно отвечал: «Очень хорошо, сэр, благодарю вас».
Как-то вечером мистер Тутс сидел за своим пюпитром, обремененный корреспонденцией, как вдруг его осенила, казалось, великая идея. Он положил перо и отправился разыскивать Поля, которого нашел наконец, после долгих поисков, у окна его маленькой спальни.
– Послушайте! – крикнул Тутс, едва войдя в комнату, ибо опасался, как бы эта идея от него не ускользнула. – О чем вы думаете?
– О, я думаю об очень многом, – отвечал Поль.
– Да неужели? – сказал Тутс, считая, по-видимому, что этот факт сам по себе удивителен.
– Если бы вам пришлось умирать… – начал Поль, глядя ему в лицо.
Мистер Тутс вздрогнул и, казалось, очень смутился.
– …не кажется ли вам, что хорошо было бы умереть в лунную ночь, когда небо совсем ясное, а ветер дует, как дул прошлой ночью?
Мистер Тутс, с сомнением посматривая на Поля и качая головой, сказал, что в этом не уверен.
– Или не дует, – сказал Поль, – а гудит, как гудит море в раковинах. Была чудесная ночь. Я долго слушал море, потом встал и посмотрел в окно. На море была лодка в ярком лунном свете, лодка с парусом.
Ребенок смотрел на него так пристально и говорил так серьезно, что мистер Тутс, почитая себя обязанным сказать что-нибудь по поводу этой лодки, сказал: «Контрабандисты». Но, добросовестно припомнив, что есть две стороны в любом вопросе, он добавил: «Или береговая охрана».
– Лодка с парусом! – повторил Поль. – В ярком лунном свете. Парус, похожий на руку, весь серебряный. Она уплывала вдаль, и как вы думаете, что она делала, когда неслась по волнам?
– Ныряла, – сказал мистер Тутс.
– Она как будто манила, – сказал мальчик, – манила меня за собой!.. Вот она! Вот она!
Тутс был не на шутку напуган этим неожиданным возгласом после того, что было сказано раньше, и крикнул:
– Кто?
– Моя сестра Флоренс! – воскликнул Поль. – Смотрит сюда и машет рукой. Она меня видит, она меня видит! Спокойной ночи, дорогая, спокойной ночи, спокойной ночи!
Быстрый переход к неудержимой радости, когда он стоял у окна, посылая воздушные поцелуи и хлопая в ладоши, и происшедшая с ним перемена, когда Флоренс скрылась из виду, а его маленькое личико потускнело и на нем застыло терпеливо-скорбное выражение, были так заметны, что не могли ускользнуть даже от внимания Тутса. Так как свидание их было в этот момент прервано визитом миссис Пипчин, которая имела обыкновение раза два в неделю под вечер угнетать Поля своими черными юбками, Тутс не имел возможности оставаться дольше, но визит миссис Пипчин произвел на него такое глубокое впечатление, что Тутс, обменявшись обычными приветствиями с ней, возвращался дважды, чтобы спросить у нее, как она поживает. Раздражительная старая леди увидела в этом умышленное и хитроумное оскорбление, порожденное дьявольскою изобретательностью подслеповатого молодого человека внизу, и в тот же вечер подала на него официальную жалобу доктору Блимберу, который заявил молодому человеку, что, если это еще повторится, он принужден будет с ним расстаться.
Вечера стали теперь длиннее, и каждый вечер Поль подкрадывался к своему окну, высматривая Флоренс. Она всегда прохаживалась несколько раз взад и вперед, в определенный час, пока не увидит его; и эта минута, когда они друг друга замечали, была проблеском солнечного света в будничной жизни Поля. Часто в сумерках еще один человек прогуливался перед домом доктора. Теперь он редко присоединялся к детям по субботам. Он не мог вынести свидания. Он предпочитал приходить неузнанным, смотреть вверх на окна, за которыми его сын готовился стать мужчиной, и ждать, наблюдать, строить планы, надеяться.
О, если бы мог он увидеть – или видел так, как видели другие, – слабого, худенького мальчика наверху, следившего в сумерках серьезным взглядом за волнами и облаками и прижимавшегося к окну своей клетки, где он был одинок, а мимо пролетали птицы, и он хотел последовать их примеру и улететь!
Глава XIII
Сведения о торговом флоте и дела в конторе
Контора мистера Домби помещалась на небольшой площади, где издавна находился на углу ларек, торговавший отборными фруктами, и где разносчики обоего пола предлагали покупателям в любое время от десяти до пяти часов домашние туфли, записные книжки, губки, ошейники и уиндзорское мыло, а иногда пойнтера или картину масляными красками.
Пойнтер всегда появлялся в расчете на фондовую биржу, где процветает любовь к спорту (коренящаяся в тех пари, которые держат новички). Другие предметы торговли предназначались для всех вообще; но торговцы никогда не предлагали их мистеру Домби. Когда он появлялся, владельцы этих товаров почтительно отступали. Главный поставщик туфель и ошейников, который считал себя общественным деятелем и чей портрет был привинчен к двери некоего художника в Чипсайде, подносил указательный палец к полям шляпы, когда мистер Домби проходил мимо. Носильщик с бляхой на груди, если только не отсутствовал по делу, всегда бежал угодливо вперед, чтобы распахнуть пошире дверь в контору перед мистером Домби, и, стоя с непокрытой головой, придерживал ее, пока тот входил.
Клерки в конторе нисколько не отставали в проявлении почтительности; когда мистер Домби проходил через первую комнату, водворялась торжественная тишина. Остряк, сидевший в бухгалтерии, мгновенно становился таким же безгласным, как ряд кожаных пожарных ведер, висевших за его спиною. Тот безжизненный и тусклый дневной свет, какой просачивался сквозь матовые стекла окон и окна в потолке, оставляя черный осадок на стеклах, давал возможность разглядеть книги и бумаги, а также склоненные над ними фигуры, окутанные дымкой трудолюбия и столь по виду своему оторванные от внешнего мира, словно они собрались на дне океана, а зарешеченная душная каморка кассира в конце темного коридора, где всегда горела лампа под абажуром, напоминала пещеру какого-нибудь морского чудовища, взирающего красным глазом на эти тайны океанских глубин.
Когда Перч, рассыльный, который подобно часам занимал место на маленькой подставке, видел входящего мистера Домби, или, вернее, когда чувствовал, что тот входит, – ибо он всегда чутьем угадывал его приближение, – он бросался в кабинет мистера Домби, раздувал огонь, доставал уголь из недр угольного ящика, вешал на каминную решетку газету, чтобы ее просушить, придвигал кресло, ставил на место экран и круто поворачивался в момент появления мистера Домби, чтобы принять от него пальто и шляпу и повесить их. Затем Перч брал газету, раза два повертывал ее перед огнем и почтительно клал у локтя мистера Домби. И столь мало возражений было у Перча против почтительности, доведенной до предела, что если бы мог он простереться у ног мистера Домби или наделить его теми титулами, какими когда-то величали калифа Гаруна аль Рашида, он был бы только рад.
Так как подобное воздаяние почестей явилось бы новшеством и экспериментом, Перч поневоле довольствовался тем, что раболепные заверения: «Вы свет очей моих, Вы дыхание души моей, Вы повелитель верного Перча!» – выражал как умел, на свой лад. Лишенный великого счастья приветствовать его в этой форме, он потихоньку закрывал дверь, удалялся на цыпочках и оставлял своего великого владыку, на которого через сводчатое окно в свинцовой раме взирали уродливые дымовые трубы, задние стены домов, а в особенности дерзкое окно парикмахерского салона во втором этаже, где восковая кукла, по утрам лысая, как мусульманин, а после одиннадцати часов украшенная роскошными волосами и бакенбардами по последней христианской моде, вечно показывала ему затылок.
От мистера Домби к миру простых смертных, – поскольку к этому миру был доступ через приемную, на которую присутствие мистера Домби в его собственном кабинете действовало, как сырой или холодный воздух, – вели две ступени. Мистер Каркер в своем кабинете был первой ступенью, мистер Морфин в своем кабинете – второй. Каждый из этих джентльменов занимал комнатку величиной с ванную, которая выходила в коридор, куда открывалась дверь мистера Домби. Мистер Каркер, как великий визирь, обитал в комнате, ближайшей к султану. Мистер Морфин, как чиновник более низкого ранга, обитал в комнате, ближайшей к клеркам.
Последний из упомянутых джентльменов был бодрый пожилой холостяк с карими глазами, одевавшийся солидно: что касается верхней его половины, – в черное, а что касается ног, – в цвет перца с солью. Темные волосы на голове были только кое-где тронуты крапинками седины, словно ее расплескало шествующее Время, хотя бакенбарды у него были уже совсем седые. Он питал глубокое уважение к мистеру Домби и воздавал ему должные почести; но так как сам он был веселого нрава и всегда чувствовал себя неловко в присутствии столь важной особы, то отнюдь не завидовал многочисленным беседам, коими наслаждался мистер Каркер, и испытывал тайное удовольствие оттого, что по характеру своих обязанностей очень редко удостаивался такого отличия. Он на свой лад был великим любителем музыки – после службы – и питал отцовскую привязанность к своей виолончели, которая аккуратно раз в неделю препровождалась из Излингтона, его местожительства, в некий клуб по соседству с банком, где вечером по средам небольшая компания исполняла самые мучительные и душераздирающие квартеты.
Мистер Каркер был джентльмен лет тридцати восьми – сорока, с прекрасным цветом лица и двумя безукоризненными рядами блестящих зубов, чья совершенная форма и белизна действовали поистине удручающе. Нельзя было не обратить на них внимания, ибо, разговаривая, он их всегда показывал и улыбался такой широкой улыбкой (хотя эта улыбка очень редко расплывалась по лицу за пределами рта), что было в ней нечто напоминающее оскал кота. Он питал склонность к тугим белым галстукам, по примеру своего патрона, и всегда был застегнут на все пуговицы и одет в плотно облегающий костюм. Его манера обращения с мистером Домби была глубоко продумана, и он никогда от нее не отступал. Он был фамильярен с ним, резко подчеркивая в то же время расстояние, лежащее между ними. «Мистер Домби, по отношению к человеку вашего положения со стороны человека моего положения никакие знаки почтения, совместимые с нашими деловыми связями, я не считаю достаточными. Скажу вам откровенно, сэр, я окончательно от этого отказываюсь. Я чувствую, что не мог бы удовлетворить самого себя; и, видит небо, мистер Домби, вам бы следовало избавить меня от таких усилий». Если бы эти слова были напечатаны на афише и мистер Каркер носил бы их на груди поверх своего сюртука так, чтобы мистер Домби в любой момент мог их прочесть, он не в силах был бы выразить яснее то, что уже выразил своим поведением.
Таков был Каркер, заведующий конторой. Мистер Каркер-младший, приятель Уолтера, был его братом, на два-три года старше его, но бесконечно ниже по своему положению. Место младшего брата было на верхней ступеньке служебной лестницы; место старшего – на нижней. Старший брат никогда не поднимался на следующую ступень и не заносил на нее ноги. Молодые люди проходили над его головой и поднимались выше и выше; но он всегда оставался внизу. Он совершенно примирился с тем, что занимает такое скромное положение, никогда на него не жаловался и, конечно, никогда не надеялся изменить его.
– Как вы себя сегодня чувствуете? – спросил однажды мистер Каркер, заведующий, входя с пачкой бумаг в руке в кабинет мистера Домби вскоре после его прибытия.
– Здравствуйте, Каркер! – сказал мистер Домби, поднимаясь со стула и становясь спиною к камину. – Есть у вас тут что-нибудь для меня?
– Не знаю, имеет ли смысл вас беспокоить, – отозвался Каркер, перебирая бумаги. – Сегодня в три у вас заседание комитета, как вам известно.
– И второе – без четверти четыре, – добавил мистер Домби.
– Никогда-то вы ничего не забываете! – воскликнул Каркер, все еще перебирая свои бумаги. – Если мистер Поль унаследует вашу память, беспокойной особой будет он для фирмы. Достаточно одного такого, как вы.
– У вас тоже хорошая память, – сказал мистер Домби.
– О! У меня! – отвечал заведующий. – Это единственный капитал у такого человека, как я.
Мистер Домби сохранял напыщенный и самодовольный вид, когда стоял, прислонившись к камину, и осматривал своего (конечно, не ведающего об этом) служащего с головы до пят. Чопорность и изящество костюма мистера Каркера и несколько высокомерные манеры, либо свойственные ему самому, либо принятые в подражание образцу, за которым недалеко было ходить, придавали особую цену его смирению. Он производил впечатление человека, который восстал бы против силы, если бы мог, но был совершенно раздавлен величием и превосходством мистера Домби.
– Морфин здесь? – спросил мистер Домби после короткой паузы, на протяжении которой мистер Каркер шелестел бумагами и бормотал себе под нос небольшие выдержки из них.
– Морфин здесь, – отвечал он, поднимая голову и неожиданно улыбаясь своей самой широкой улыбкой. – Мурлычет, предаваясь музыкальным воспоминаниям, полагаю, о последнем своем вечернем квартете, и все это – за стеной, разделяющей нас, – и сводит меня с ума. Лучше бы он устроил костер из своей виолончели и сжег бы свои ноты.
– Мне кажется, вы никого не уважаете, Каркер, – сказал мистер Домби.
– Да? – отозвался Каркер, снова осклабясь и совсем по-кошачьи скаля зубы. – Ну, что ж! Думаю, немногих. Пожалуй, – прошептал он, словно размышляя вслух, – пожалуй, только одного.
Опасная черта характера, если она была подлинной; и не менее опасная, если она была притворной. Но вряд ли так думал мистер Домби, который по-прежнему стоял спиной к камину, выпрямившись во весь рост и глядя на своего старшего клерка с величественным спокойствием, за которым как будто скрывалось сознание собственной власти, более глубокое, чем обычно.
– Кстати, о Морфине, – продолжал мистер Каркер, вынимая из папки одну бумагу, – он докладывает, что в торговом агентстве, на Барбадосе, умер младший агент, и предлагает поставить койку для заместителя на «Сыне и наследнике» – судно отходит приблизительно через месяц. Полагаю, вам все равно, кто поедет? У нас здесь нет подходящего лица.
Мистер Домби с величайшим равнодушием покачал головой.
– Место незавидное, – заметил мистер Каркер, взяв перо, чтобы сделать отметку на оборотной стороне листа. – Надеюсь, он предоставит его какому-нибудь сироте – племяннику одного из своих музыкальных друзей. Быть может, это положит конец его музыкальным упражнениям, если есть у того такой талант. Кто там? Войдите.
– Простите, мистер Каркер. Я не знал, что вы здесь, сэр, – сказал Уолтер, появляясь с письмами в руке, не распечатанными и только что доставленными. – Мистер Каркер-младший, сэр…
Услышав это имя, мистер Каркер-заведующий был задет за живое или притворился, будто почувствовал стыд и унижение. Он посмотрел в упор на мистера Домби, лицо его изменилось, он потупился и помолчал секунду.
– Мне кажется, сэр, – сказал он вдруг, с раздражением поворачиваясь к Уолтеру, – вас уже просили не упоминать в разговоре о мистере Каркере-младшем.
– Простите, сэр, – отозвался Уолтер, – я хотел только сказать, что, по словам мистера Каркера-младшего, вы ушли, иначе не постучал бы я в дверь, когда вы заняты с мистером Домби. Вот письма, мистер Домби.
– Прекрасно, сэр, – сказал мистер Каркер-заведующий, резко выхватив их у него. – Можете вернуться к исполнению своих обязанностей.
Но завладев ими столь бесцеремонно, мистер Каркер уронил одно на пол и не заметил этого; да и мистер Домби не обратил внимания на письмо, лежащее у его ног. Уолтер секунду колебался, надеясь, что кто-нибудь из них увидит это; но, убедившись в обратном, он остановился, вернулся, поднял письмо и положил на стол перед мистером Домби. Письма были получены по почте; и то, о котором шла речь, оказалось очередным отчетом миссис Пипчин; адрес на нем, по обыкновению, был написан Флоренс, ибо миссис Пипчин не владела пером в совершенстве. Когда внимание мистера Домби было привлечено Уолтером к этому письму, он вздрогнул и грозно посмотрел на юношу, как будто считал, что тот умышленно его выбрал!
– Можете удалиться, сэр! – надменно сказал мистер Домби.
Он скомкал письмо и, проводив взглядом уходившего Уолтера, сунул его в карман, не сломав печати.
– Вы говорили, что вам нужно послать кого-нибудь в Вест-Индию? – быстро сказал мистер Домби.
– Да, – ответил Каркер.
– Пошлите молодого Гэя.
– Прекрасно, очень хорошо! Ничего не может быть легче, – сказал мистер Каркер, не проявляя ни малейшего изумления и беря перо, чтобы сделать на бумаге новую пометку так же хладнокровно, как сделал это раньше. – «Послать молодого Гэя».
– Верните его, – сказал мистер Домби.
Мистер Каркер поспешил это сделать, а Уолтер поспешил явиться.
– Гэй, – сказал мистер Домби, слегка повернувшись, чтобы взглянуть на него через плечо, – есть…
– Вакансия, – вставил мистер Каркер, растягивая рот до последних пределов.
– В Вест-Индии. На Барбадосе. Я намерен послать вас, – сказал мистер Домби, не унижаясь до прикрашивания голой истины, – на должность младшего агента в торговом отделении на Барбадосе. Передайте от меня вашему дяде, что я выбрал вас для поездки в Вест-Индию.
Дыхание у Уолтера прервалось от изумления, и он едва мог повторить:
– …в Вест-Индию.
– Кто-нибудь должен ехать, – сказал мистер Домби, – а вы молоды, здоровы, и дела у вашего дяди идут плохо. Передайте дяде, что вы назначены. Вы поедете еще не так скоро. Быть может, пройдет месяц или два.
– Я там останусь, сэр? – осведомился Уолтер.
– Останетесь ли вы там, сэр? – повторил мистер Домби, слегка поворачиваясь к нему. – Что вы хотите сказать? Что он хочет сказать, Каркер?
– Буду ли я жить там, сэр? – запинаясь, выговорил Уолтер.
– Конечно, – ответил мистер Домби.
Уолтер поклонился.
– Это все, – сказал мистер Домби, возвращаясь к своим письмам. – Конечно, вы объясните ему заблаговременно, Каркер, все, что касается необходимой экипировки и прочего. Он может идти, Каркер.
– Вы можете идти, Гэй, – повторил Каркер, обнажая десны.
– Если, – сказал мистер Домби, прерывая чтенье и как бы прислушиваясь, но не сводя глаз с письма, – если ему больше нечего сказать.
– Нет, сэр, – отвечал Уолтер, взволнованный, растерянный и почти ошеломленный, в то время как всевозможные образы представлялись его воображению, среди которых капитан Катль в своей глянцевитой шляпе, онемевший от изумления в доме миссис Мак-Стинджер, и дядя, оплакивающий свою потерю в маленькой задней гостиной, занимали видное место. – Я, право, не знаю… я… я очень благодарен.
– Он может идти, Каркер, – сказал мистер Домби.
И так как мистер Каркер снова повторил слова патрона и собрал свои бумаги, словно также готовился уйти, Уолтер понял, что дальнейшее промедление было бы непростительной дерзостью, – к тому же ему нечего было сказать, – и вышел в полном смятении.
Проходя по коридору, не вполне отдавая себе отчет в том, что произошло, и чувствуя свою беспомощность, как бывает во сне, он услышал, что дверь мистера Домби снова захлопнулась, это вышел мистер Каркер, и тотчас же сей джентльмен окликнул его:
– Пожалуйста, приведите вашего друга мистера Каркера-младшего в мой кабинет, сэр.
Уолтер прошел в первую комнату и передал это распоряжение мистеру Каркеру-младшему, который вышел из-за перегородки, где сидел один в углу, и отправился вместе с ним в кабинет мистера Каркера-заведующего.
Этот джентльмен стоял спиной к камину, заложив руки за фалды фрака и глядя поверх своего белого галстука так же неумолимо, как мог бы смотреть сам мистер Домби. Он принял их, нимало не изменив позы и не смягчив сурового и мрачного выражения лица; только дал знак, чтобы Уолтер закрыл дверь.
– Джон Каркер, – сказал заведующий, когда дверь была закрыта, и внезапно повернулся к брату, оскалив два ряда зубов, словно хотел его укусить, – что это у вас за союз с этим молодым человеком, из-за чего меня преследуют и донимают упоминанием вашего имени? Или мало вам, Джон Каркер, что я – ближайший ваш родственник и не могу избавиться от этого…
– Скажите – позора, Джеймс, – тихо подсказал тот, видя, что он не находит слова. – Вы это имеете в виду, и вы правы: скажите – позора.
– От этого позора, – согласился брат, делая резкое ударение на этом слове. – Но неужели нужно вечно об этом кричать и трубить и заявлять даже в присутствии главы фирмы? Да еще в доверительные минуты? Или вы думаете, Джон Каркер, что ваше имя располагает к доверию и конфиденциальности?
– Нет, – отвечал тот. – Нет, Джеймс. Видит Бог, этого я не думаю.
– Что же вы в таком случае думаете? – сказал брат. – И почему вы мне надоедаете? Или вы еще мало мне навредили?
– Я никогда не причинял вам вреда умышленно, Джеймс.
– Вы мой брат, – сказал заведующий. – Это уже само по себе вредит мне.
– Хотелось бы мне, чтобы я мог это изменить, Джеймс.
– Хотелось бы и мне, чтобы вы могли изменить и изменили.
Во время этого разговора Уолтер с тоской и изумлением переводил взгляд с одного брата на другого. Тот, кто был старшим по годам и младшим в фирме, стоял с опущенными глазами и склоненной головой, смиренно выслушивая упреки другого. Хотя их делали особенно горькими тон и взгляд, коими они сопровождались, и присутствие Уолтера, которого они так удивили и возмутили, он не стал возражать против них и только приподнял правую руку с умоляющим видом, словно хотел сказать: «Пощадите меня!» Так мог бы он стоять перед палачом, будь эти упреки ударами, а он героем, скованным и ослабевшим от страданий.
Уолтер, великодушный и порывистый в своих чувствах, почитая себя невольной причиной этого издевательства, вмешался со всей присущей ему страстностью.
– Мистер Каркер, – сказал он, обращаясь к заведующему, – право же, право, виноват я один. С какой-то неосмотрительностью, за которую не знаю как и бранить себя, я, вероятно, упоминал о мистере Каркере-младшем гораздо чаще, чем было нужно; и иногда его имя срывалось с моих губ, хотя это противоречило выраженному вами желанию. Но это исключительно моя вина, сэр! Об этом мы никогда ни слова не говорили – да и вообще очень мало говорили о чем бы то ни было. И с моей стороны, сэр, – помолчав, добавил Уолтер, – это была не простая неосмотрительность; я почувствовал интерес к мистеру Каркеру, как только поступил сюда, и иной раз не мог удержаться, чтобы не заговорить о нем, раз я столько о нем думаю.
Эти слова вырвались у Уолтера из глубины сердца и дышали благородством. Ибо он смотрел на склоненную голову, опущенные глаза, поднятую руку и думал: «Я так чувствую; почему же мне не признаться в этом ради одинокого, сломленного человека?»
– По правде говоря, вы меня избегали, мистер Каркер, – сказал Уолтер, у которого слезы выступили на глазах, так искренне было его сострадание. – Я это знаю, к сожалению моему и огорчению. С тех пор как я в первый раз пришел сюда, я, право же, старался быть вашим другом – поскольку можно притязать на это в мои годы; но никакого толку из этого не вышло.
– И заметьте, Гэй, – быстро перебил его заведующий, – что еще меньше выйдет толку, если вы по-прежнему будете напоминать людям о мистере Джоне Каркере. Этим не помочь мистеру Джону Каркеру. Спросите его, так ли это, по его мнению?
– Да, этим услужить мне нельзя, – сказал брат. – Это приводит только к таким разговорам, как сейчас, без которых я, разумеется, прекрасно мог бы обойтись. Лишь тот может быть мне другом, – тут он заговорил раздельно, словно хотел, чтобы Уолтер запомнил его слова, – кто забудет меня и предоставит мне идти моей дорогой, не обращая на меня внимания и не задавая вопросов.
– Так как память ваша, Гэй, не удерживает того, что вам говорят другие, – сказал мистер Каркер-заведующий, распаляясь от самодовольства, – я счел нужным, чтобы вы это услышали от лица, наиболее в данном вопросе авторитетного. – Он кивнул в сторону брата. – Надеюсь, теперь вы вряд ли это забудете. Это все, Гэй. Можете идти.
Уолтер вышел и хотел закрыть за собой дверь, но, услышав снова голоса братьев, а также свое собственное имя, остановился в нерешительности, держась за ручку полуотворенной двери и не зная, вернуться ему или уйти. Таким образом, он невольно подслушал то, что последовало.
– Если можете, думайте обо мне более снисходительно, Джеймс, – сказал Джон Каркер, – когда я говорю вам, что у меня – да и может ли быть иначе, если здесь запечатлена моя история! – он ударил себя в грудь, – у меня сердце дрогнуло при виде этого мальчика, Уолтера Гэя. Когда он впервые пришел сюда, я увидел в нем почти мое второе я.
– Ваше второе я! – презрительно повторил заведующий.
– Не того, каков я сейчас, но того, каким я был, когда так же в первый раз пришел сюда; такой же жизнерадостный, юный, неопытный, одержимый теми же дерзкими и смелыми фантазиями и наделенный теми же наклонностями, которые равно способны привести к добру или злу.
– Надеюсь, что вы ошибаетесь, – сказал брат, вкладывая в эти слова какой-то скрытый и саркастический смысл.
– Вы бьете меня больно, – отвечал тот таким голосом (или, может быть, это почудилось Уолтеру?), словно какое-то жестокое оружие действительно вонзалось в его грудь, пока он говорил. – Все это мне мерещилось, когда он пришел сюда мальчиком. Я в это верил. Для меня это была правда. Я видел, как он беззаботно шел у края невидимой пропасти, где столько других шли так же весело и откуда…
– Старое оправдание, – перебил брат, мешая угли. – Столько других! Продолжайте. Скажите – столько других сорвалось.
– Откуда сорвался один путник, – возразил тот, – который пустился в путь таким же мальчиком, как и этот, и все чаще и чаще оступался, и понемногу соскальзывал ниже и ниже, и продолжал идти спотыкаясь, пока не полетел стремглав и не очутился внизу, разбитым человеком. Подумайте, как я страдал, когда следил за этим мальчиком.
– За все можете благодарить только самого себя, – отозвался брат.
– Только самого себя, – согласился он со вздохом. – Я ни с кем не пытаюсь разделить вину или позор.
– Позор вы разделили, – сквозь зубы прошипел Джеймс Каркер. И сколько бы ни было у него зубов и как бы тесно ни были они посажены, сквозь них он прекрасно мог шипеть.
– Ах, Джеймс! – сказал брат, впервые заговорив укоризненным тоном и, судя по его голосу, закрыв лицо руками. – С тех пор я служил для вас прекрасным фоном. Вы спокойно попирали меня ногами, взбираясь вверх. Не отталкивайте же меня каблуком!
Ответом ему было молчание. Спустя некоторое время послышалось, как мистер Каркер-заведующий стал перебирать бумаги, словно намеревался прекратить эту беседу. В то же время его брат отошел к двери.
– Это все, – сказал он. – Я следил за ним с таким трепетом и таким страхом, что для меня это было еще одною карою; наконец он миновал то место, где я первый раз оступился; будь я его отцом, я бы не мог возблагодарить Бога более пламенно. Я не смел предостеречь его и дать ему совет, но будь у меня повод, я рассказал бы ему о своем горьком опыте. Я не хотел, чтобы видели, как я разговариваю с ним, я боялся, как бы не подумали, что я порчу его, толкаю его ко злу и совращаю его, а может быть, боялся, что и в самом деле это сделаю. А что, если во мне кроется источник такой заразы, кто знает? Припомните мою историю, сопоставьте ее с теми чувствами, какие молодой Уолтер Гэй вызвал у меня, и, если возможно, судите обо мне более снисходительно, Джеймс.
С этими словами он вышел за дверь – туда, где стоял Уолтер. Он слегка побледнел, увидев его, и стал еще бледнее, когда Уолтер схватил его за руку и сказал шепотом:
– Мистер Каркер, пожалуйста, позвольте мне поблагодарить вас! Позвольте мне сказать, как я вам сочувствую! Как сожалею о том, что явился злосчастной причиной всего происшедшего! Я готов смотреть на вас как на моего покровителя и защитника. Как я глубоко, глубоко признателен вам и жалею вас! – говорил Уолтер, пожимая ему обе руки и, в волнении, вряд ли сознавая, что делает. Так как комната мистера Морфина находилась поблизости и никого там не было, а дверь была раскрыта настежь, они как будто по обоюдному соглашению направились туда; ибо редко случалось, чтобы кто-нибудь не проходил по коридору. Когда они вошли и Уолтер увидел на лице мистера Каркера следы душевного смятения, ему почудилось, что он еще никогда не видел этого лица – так сильно оно изменилось.
– Уолтер, – сказал тот, кладя руку ему на плечо, – большое расстояние отделяет меня от вас, и пусть всегда будет так. Вы знаете, кто я таков?
«Кто я таков?», казалось, готово было сорваться с губ Уолтера, пристально смотревшего на него.
– Это началось, – сказал Каркер, – раньше, чем мне исполнилось двадцать один год – к этому уже давно клонилось дело, но началось примерно в то время. Я их ограбил в первый раз, когда стал совершеннолетним. Я грабил их и после. Прежде чем мне исполнилось двадцать два года, все открылось. И тогда, Уолтер, я умер для всех.
Снова эти его слова готовы были сорваться и с губ Уолтера, но он не мог их выговорить и вообще ничего не мог сказать.
– Фирма была очень добра ко мне. Небо да вознаградит старика за его снисходительность! И этого также – его сына, который в ту пору только-только вошел в дела фирмы, где я пользовался огромным доверием! Меня вызвали в ту комнату, которую занимает теперь он, – с тех пор я ни разу туда не входил, – и я вышел из нее таким, каким вы меня знаете. В течение многих лет я занимал нынешнее мое место – один, как и теперь, но тогда я служил признанным и наглядным примером для остальных. Все они были милостивы ко мне, и я остался жить. С годами мое горькое искупление приняло иную форму, ибо теперь, за исключением трех руководителей фирмы, мне кажется, нет здесь никого, кто бы знал подлинную мою историю. К тому времени, когда подрастет мальчик и ему расскажут ее, мой угол, быть может, опустеет. Хотел бы я, чтобы так и случилось! Вот единственная перемена, происшедшая со мною с того дня, когда я в той комнате распрощался навсегда с молодостью, надеждой и обществом честных людей. Да благословит вас Бог, Уолтер! Сохраните себя и всех, кто нам дорог, от бесчестья, а если не удастся, лучше убейте их!
Смутное воспоминание о том, как он дрожал с головы до ног, словно в ознобе, и залился слезами, – вот все, что мог добавить к этому Уолтер, когда старался полностью восстановить в памяти то, что произошло между ними.
Когда Уолтер снова его увидел, он сидел, склонившись над своей конторкой, по-прежнему молчаливый, апатичный, приниженный. Тогда, видя его за работой и понимая, как твердо он решил прекратить всякое общение между ними, и обдумывая снова и снова все, что видел и слышал в то утро за такой короткий промежуток времени в связи с историей обоих Каркеров, Уолтер едва мог поверить, что получил приказ ехать в Вест-Индию и скоро лишится дяди Соля и капитана Катля и редких мимолетных встреч с Флоренс Домби, – нет, он хотел сказать – с Полем, – и всего, что он любил, к чему был привязан и о чем мечтал день за днем.
Но это была правда, и слухи уже проникли в первую комнату, ибо пока он сидел, с тяжелым сердцем размышляя об этом и подпирая голову рукой, рассыльный Перч, спустившись со своей подставки из красного дерева и тронув его за локоть, извинился и осмелился шепотом его спросить, не удастся ли ему переправить домой, в Англию, банку имбирного варенья по дешевой цене для подкрепления миссис Перч, когда она будет поправляться после следующих родов?
Глава XIV
Поль становится все более чудаковатым и уезжает домой на каникулы
Когда подошли летние вакации, никаких неприличных проявлений радости молодые джентльмены с потускневшими глазами, собранные в доме доктора Блимбера, не обнаружили. Такое сильное выражение, как «распускают», было бы совершенно неуместно в этом благопристойном заведении. Молодые джентльмены каждые полгода отбывали домой; но их никогда не распускали. Они отнеслись бы с презрением к такому факту.
Тозер, которого вечно раздражал и терзал накрахмаленный белый батистовый шейный платок, каковой он носил по особому желанию миссис Тозер, своей родительницы, предназначавшей его для принятия духовного сана и придерживавшейся того мнения, что чем раньше сын пройдет эту предварительную стадию подготовки, тем лучше, – Тозер сказал даже, что, если выбирать из двух зол меньшее, он, пожалуй, предпочел бы остаться там, где был, и не ехать домой. Хотя такое заявление и может показаться несовместимым с тем отрывком из сочинения, написанного на эту тему Тозером, где он сообщал, что «мысли о доме и все воспоминания о нем пробудили в его душе приятнейшие чувства ожидания и восторг», а также уподоблял себя римскому полководцу, упоенному недавней победой над икенами или нагруженному добычей, отнятой у карфагенян, и находящемуся на расстоянии нескольких часов пути от Капитолия, каковой в целях аллегории являлся предположительно местожительством миссис Тозер, – однако это заявление было сделано совершенно искренне. Ибо оказалось, что у Тозера есть грозный дядя, который не только добровольно экзаменует его в каникулярное время по непонятным предметам, но и цепляется за невинные события и обстоятельства и извращает их с той же гнусной целью. К примеру, если этот дядя брал его в театр или, прикрываясь маской добродушия, вел посмотреть великана, карлика, фокусника или еще что-нибудь, Тозер знал, что он заблаговременно прочел у древних авторов упоминание об этом предмете, и посему Тозер пребывал в смертельном страхе, не ведая, когда дядя разразится и на какой авторитет будет он ссылаться, уличая его в невежестве.
Что касается Бригса, то его отец отнюдь не прибегал к уловкам. Он ни на секунду не оставлял его в покое. Столь многочисленны и суровы были душевные испытания этого злополучного юнца в каникулярное время, что друзья семьи (проживавшей в ту пору в Лондоне, близ Бейзуотера) редко приближались к пруду в Кенсингтон-Гарден, не чувствуя туманных опасений увидеть шляпу мистера Бригса плавающею на поверхности и недописанное упражнение лежащим на берегу. Поэтому Бригс вовсе не был преисполнен радостных надежд по случаю каникул; а эти двое, помещавшиеся в одной спальне с маленьким Полем, были очень похожи на всех прочих молодых джентльменов, ибо самые легкомысленные из них ждали наступления праздничного периода с кроткою покорностью.
Совсем иначе дело обстояло с маленьким Полем. Окончание этих первых каникул должно было ознаменоваться разлукой с Флоренс, но кто станет думать об окончании каникул, которые еще не начались? Конечно, не Поль! Когда приблизилось счастливое время, львы и тигры, взбиравшиеся по стенам спальни, стали совсем ручными и игривыми. Мрачные, хитрые лица в квадратах и ромбах вощанки смягчились и посматривали на него не такими злыми глазами. Важные старые часы более мягким тоном задавали свой безучастный вопрос; а неугомонное море по-прежнему шумело всю ночь, мелодично и меланхолически, – однако мелодия звучала приятно, и нарастала, и затихала вместе с волнами, и баюкала мальчика, когда он засыпал.
Мистер Фидер, бакалавр искусств, кажется, полагал, что также будет рад каникулам. Мистер Тутс собирался превратить в каникулы всю жизнь, ибо, как неизменно сообщал он каждый день Полю, это было его «последнее полугодие» у док тора Блимбера, и ему предстояло немедленно вступить во владение своим имуществом.
Было совершенно ясно для Поля и мистера Тутса, что они – близкие друзья, несмотря на разницу в возрасте и положении. Так как вакации приближались и мистер Тутс сопел громче и таращил глаза в обществе Поля чаще прежнего, Поль понимал, что тот хотел этим выразить грусть по поводу близкой разлуки, и был ему очень благодарен за покровительство и расположение.
Было ясно даже для доктора Блимбера, миссис Блимбер и мисс Блимбер, равно как и для всех молодых джентльменов, что Тутс каким-то образом сделался защитником и покровителем Домби, и факт этот был столь очевиден для миссис Пипчин, что славная старуха питала злобу и ревность к Тутсу и в святая святых своего собственного дома не раз поносила его как «безмозглого болвана». А невинному Тутсу не приходило в голову, что он возбудил гнев миссис Пипчин, так же как не приходила в голову какая бы то ни было иная догадка. Напротив, он скорее был склонен считать ее замечательной особой, обладающей многими ценными качествами. По этой причине он улыбался ей с такою учтивостью и столь часто спрашивал ее, как она поживает, когда она навещала маленького Поля, что в конце концов как-то вечером она сказала ему напрямик, что не привыкла к этому, что бы он там ни думал, и не может и не хочет сносить это от него или от другого молокососа; после такого неожиданного ответа на его любезности мистер Тутс был так встревожен, что спрятался в укромном местечке и оставался там, покуда она не ушла. С тех пор он ни разу не встречался лицом к лицу с доблестной миссис Пипчин под кровом доктора Блимбера.
Оставалось две-три недели до каникул, когда Корнелия Блимбер позвала однажды Поля к себе в комнату и сказала:
– Домби, я собираюсь послать домой ваш анализ.
– Благодарю вас, сударыня, – ответил Поль.
– Вы понимаете, о чем я говорю, Домби? – осведомилась мисс Блимбер, строго глядя на него сквозь очки.
– Нет, сударыня.
– Домби, Домби, – сказала мисс Блимбер, – я начинаю опасаться, что вы нехороший мальчик. Если вы не понимаете смысла какого-нибудь выражения, почему вы не спрашиваете объяснений?
– Миссис Пипчин говорила мне, чтобы я не задавал вопросов, – отвечал Поль.
– Я должна просить вас, Домби, чтобы при мне вы ни в коем случае не упоминали о миссис Пипчин, – возразила мисс Блимбер. – Этого я не могу допустить. Курс обучения у нас весьма далек от чего-либо подобного. Повторение таких замечаний принудит меня потребовать, чтобы завтра утром, до завтрака, вы мне ответили без ошибок от verbum personale до simillima cygno[26].
– Я не хотел, сударыня… – начал маленький Поль.
– Будьте добры, Домби, потрудитесь не сообщать мне, чего именно вы не хотели, – сказала мисс Блимбер, которая оставалась устрашающе вежливой даже тогда, когда делала выговор. – Таких рассуждений я никак не могу допустить.
Поль счел самым благоразумным ничего не говорить; поэтому он только посмотрел на очки мисс Блимбер. Мисс Блимбер, серьезно покачав головой, обратилась к лежащей перед ней бумаге.
– «Анализ характера П. Домби». Если память мне не изменяет, – сказала мисс Блимбер, прерывая чтение, – анализ, противопоставленный синтезу, определяется Уокером так: «Разложение объекта наших чувств или интеллекта на первоначальные его элементы». Противопоставленный синтезу, заметьте. Теперь вы знаете, что такое анализ, Домби.
Домби как будто был не совсем ослеплен светом, пролившимся на его интеллект, однако он слегка поклонился мисс Блимбер.
– «Анализ, – продолжала мисс Блимбер, устремив взгляд на бумагу, – характера П. Домби. Я нахожу, что природные способности Домби чрезвычайно хороши и что прилежание его заслуживает такой же оценки. Принимая восемь за наше мерило и высшую отметку, я нахожу, что каждое из этих качеств Домби измеряется шестью и тремя четвертями!»
Мисс Блимбер приостановилась, чтобы посмотреть, как принял эту новость Поль. Хорошенько не зная, что означают шесть и три четверти – то ли это шесть фунтов пятнадцать шиллингов, шесть пенсов три фартинга, шесть футов три дюйма, шесть часов сорок пять минут или шесть каких-то предметов, которых он еще не проходил, с какими-то тремя неизвестными четвертями, – Поль потер руки и посмотрел прямо на мисс Блимбер. Оказалось, что этот ответ не хуже всякого другого, какой он мог дать, и Корнелия продолжала: – «Запальчивость – два. Эгоизм – два. Склонность к дурному обществу, проявившаяся в отношении человека по имени Глаб, первоначально – семь, но впоследствии уменьшилась. Поведение, приличествующее джентльмену, – четыре и постепенно улучшается». Теперь, Домби, я хочу обратить особое ваше внимание на общие замечания в конце этого анализа.
Поль приготовился слушать с особым вниманием.
– «Что касается общих замечаний, – продолжала мисс Блимбер, читая громким голосом и через каждые два слова обращая свои очки на маленькую фигурку, – можно сказать о Домби, что способности и наклонности его хороши и что он сделал такие успехи, на какие при данных обстоятельствах можно было рассчитывать. Но достойно сожаления, что этот молодой джентльмен отличается странностями (как принято говорить – „не от мира сего“) в характере и поведении и что, не проявляя таких черт, которые явно заслуживали бы порицания, он часто бывает очень не похож на других молодых джентльменов его возраста и общественного положения». Ну-с, Домби, – сказала мисс Блимбер, кладя бумагу на стол, – вы это понимаете?
– Кажется, понимаю, сударыня, – сказал Поль.
– Этот анализ, Домби, – продолжала мисс Блимбер, – будет, как вы знаете, послан домой вашему уважаемому отцу. Разумеется, ему очень неприятно будет узнать, что у вас есть странности в характере и поведении. Разумеется, это неприятно и для нас, ибо, видите ли, Домби, мы не можем вас любить так, как этого бы хотели.
Она задела больное место ребенка. По мере того как приближался его отъезд, он с каждым днем все больше заботился втайне о том, чтобы все в доме его любили. По какой-то скрытой причине, очень смутно им сознаваемой, а быть может, и вовсе не сознаваемой, он чувствовал, как постепенно усиливается его нежность чуть ли не ко всем и ко всему в этом доме. Ему нестерпимо было думать, что они останутся совершенно равнодушны к нему, когда он уедет. Ему хотелось, чтобы они вспоминали о нем хорошо, и он поставил себе задачей умилостивить даже большую охрипшую лохматую собаку, сидевшую на цепи позади дома, которая сначала приводила его в ужас, чтобы и она почувствовала его отсутствие, когда его здесь не будет.
Мало помышляя о том, что он лишний раз обнаруживает несходство со своими сверстниками, бедный крошечный Поль изложил все это как можно лучше мисс Блимбер и умолял ее, несмотря на официальный анализ, постараться полюбить его. К миссис Блимбер, которая присоединилась к ним, он обратился с такою же просьбой; а когда эта леди даже в его присутствии не удержалась и упомянула, как бывало нередко, о его странностях, Поль ответил ей, что, конечно, она права и, по-видимому, это вошло у него в плоть и кровь, но он не совсем понимает, в чем здесь дело, и надеется, что она посмотрит на это сквозь пальцы, потому что он любит их всех.
– Конечно, не так люблю, – сказал Поль застенчиво и в то же время с полной откровенностью, являвшейся одной из своеобразнейших и обаятельнейших черт этого ребенка, – не так люблю, как Флоренс; это было бы невозможно. Ведь вы не могли на это рассчитывать, сударыня!
– О, вы, маленький чудак! – прошептала миссис Блимбер.
– Но я очень привязан здесь ко всем, – продолжал Поль, – и мне было бы грустно уезжать и думать, что кто-то радуется моему отъезду или ему это безразлично.
Теперь миссис Блимбер окончательно убедилась в том, что Поль – самый странный ребенок в мире, а когда она рассказала доктору о происшедшем, доктор не опровергал мнения жены. Но он сказал, как говорил уже раньше, когда Поль только что прибыл, что учение свое дело сделает, а затем прибавил то же, что говорил в тот раз:
– Развивай его, Корнелия! Развивай его!
Корнелия развивала его со всей энергией, на какую была способна, и Полю жилось нелегко. Но, помимо приготовления уроков, он давно уже наметил себе другую цель, которую никогда не терял из виду и упорно преследовал: быть кротким, услужливым, тихим ребенком, всегда старающимся заслужить любовь и привязанность окружающих; и хотя его часто можно было застать на старом его местечке на лестнице или наблюдающим волны и облака из окна его уединенной спальни, теперь он чаще бывал с другими мальчиками, скромно оказывая им маленькие добровольные услуги. В результате даже среди этих суровых и сосредоточенных юных затворников, умерщвлявших плоть под кровом доктора Блимбера, Поль был объектом всеобщего интереса, хрупкой маленькой игрушкой, которую все любили и с которой никому не пришло бы в голову обращаться грубо. Но он не мог изменить свою натуру, а следовательно, не мог изменить и «анализ», и посему все они пришли к тому заключению, что Домби – «не от мира сего».
Были, впрочем, некоторые льготы, связанные с такой репутацией, которыми никто другой не пользовался. Эти льготы не были бы распространены на ребенка, менее чудаковатого, и уже одно это имело большое значение.
Когда остальные, отправляясь спать, ограничивались поклоном доктору Блимберу и семейству, Поль протягивал ручонку и смело пожимал руку доктора, а также миссис Блимбер, а также мисс Корнелии. Если нужно было отвести от кого-нибудь грозящее ему наказание, Поль всегда был делегатом. Даже подслеповатый молодой человек однажды советовался с ним относительно разбитого стекла и фарфора. И ходили смутные слухи, что дворецкий, взирая на него с благосклонностью, какой сей суровый человек доселе не удостаивал никого из смертных мальчиков, иногда подливал ему портер в столовое пиво, чтобы Поль окреп.
Помимо этих чрезвычайных привилегий, Поль имел свободный доступ в комнату мистера Фидера, откуда он дважды выводил на свежий воздух мистера Тутса в обморочном состоянии после неудачной попытки выкурить отвратительную сигару – одну из той пачки, которую этот молодой человек тайком приобрел на морском берегу у отчаяннейшего контрабандиста, сообщившего по секрету, что за его голову, живую или мертвую, таможня назначила награду в двести фунтов. Уютная комната была у мистера Фидера; кровать стояла в другой маленькой комнатке, смежной, а флейта, на которой мистер Фидер еще не умел играть, но, по его словам, поставил себе целью научиться, висела над камином. Было здесь также несколько книг и удочка, ибо, по словам мистера Фидера, он несомненно научится удить рыбу, когда у него будет свободное время. С тою же целью мистер Фидер приобрел прекрасный маленький, изогнутый, подержанный корнет-апистон, шахматную доску и шахматы, испанскую грамматику, принадлежности для рисования и пару перчаток для бокса. Искусство самозащиты, по словам мистера Фидера, он решительно намеревался изучить, считая это долгом каждого человека, так как оно дает возможность оказать покровительство женщине, попавшей в беду.
Но величайшим сокровищем мистера Фидера была большая зеленая банка нюхательного табаку, которую мистер Тутс привез ему в подарок по окончании последних вакаций и за которую заплатил очень дорого, так как она безусловно принадлежала принцу-регенту. Ни мистер Тутс, ни мистер Фидер не могли угоститься ни одной понюшкой, даже самой умеренной, чтобы не расчихаться до судорог. Тем не менее великим удовольствием было для них смочить табак в табакерке холодным чаем, размешать его на листе пергамента ножом для разрезания бумаги и время от времени заниматься его потреблением. Набивая себе нос, они претерпевали ужасную пытку со стойкостью мучеников и, попивая в промежутках столовое пиво, наслаждались всеми прелестями разгула.
Для маленького Поля, молча сидевшего в их компании возле главного своего патрона, мистера Тутса, было в этих беспутных занятиях какое-то жуткое очарование; а когда мистер Фидер заводил речь о мрачных тайнах Лондона и сообщал мистеру Тутсу, что намерен во время ближайших каникул изучить эти тайны внимательно, со всех сторон, и с этой целью договорился поселиться в пансионе у двух старых девствующих леди в Пекеме, Поль смотрел на него, словно тот был героем какой-нибудь книги путешествий или невероятных приключений, и готов был опасаться такого отчаянного человека.
Войдя как-то вечером в эту комнату, когда каникулы уже приближались, Поль увидел, что мистер Фидер заполняет пробелы в каких-то отпечатанных письмах, а мистер Тутс складывает и заклеивает другие, уже заполненные и разложенные перед ним. Мистер Фидер сказал:
– Ага, Домби, вот и вы! – ибо они были всегда ласковы с ним и рады его видеть; а затем добавил, бросив ему одно из писем: – А вот для вас, Домби. Это вам.
– Мне, сэр? – сказал Поль.
– Пригласительный билет вам, – отвечал мистер Фидер.
Поль взглянул: на билете было выгравировано, – только его имя и число написаны были рукою мистера Фидера, – что доктор и миссис Блимбер просят мистера П. Домби пожаловать на вечеринку, в среду, семнадцатого сего месяца, что она назначена на половину восьмого и что будут танцевать кадриль. Мистер Тутс, взяв такой же листок бумаги, в свою очередь показал ему, что доктор и миссис Блимбер просят мистера Тутса пожаловать на вечеринку, в среду, семнадцатого сего месяца, назначенную на половину восьмого; причем будут танцевать кадриль. Поль убедился также, взглянув на стол, за которым сидел мистер Фидер, что доктор и миссис Блимбер просят и мистера Бригса пожаловать, и мистера Тозера пожаловать, и всех молодых джентльменов пожаловать по тому же приятному поводу.
Затем мистер Фидер, к великой радости Поля, сообщил, что приглашена его сестра, что это событие завершает полугодие и что каникулы начнутся в тот же день, и он, если хочет, может уехать с сестрой после вечеринки, – тут Поль перебил его и сказал, что этого он очень хочет. Затем мистер Фидер сообщил ему о необходимости изящнейшим почерком написать доктору и миссис Блимбер, что мистер П. Домби польщен и будет счастлив посетить их согласно их любезному приглашению. Наконец мистер Фидер сказал, что он хорошо сделает, если не будет упоминать о празднестве в присутствии доктора и миссис Блимбер; ибо эти приготовления ведутся на началах классицизма и великосветского тона и что предполагается, будто доктор и миссис Блимбер, с одной стороны, а молодые джентльмены, с другой, в качестве особ ученых, понятия не имеют о предстоящем.
Поль поблагодарил мистера Фидера за эти указания, спрятал пригласительный билет в карман и уселся, как всегда, на скамейку возле мистера Тутса. Но голова Поля, которая давно уже побаливала, а иногда бывала очень тяжелой и сильно болела, была в тот вечер такой затуманенной, что он принужден был подпереть ее рукою. Однако она опускалась все ниже и ниже, приникла к колену мистера Тутса и тут и осталась, словно ей не предстояло снова подняться.
Не было у него никаких оснований оглохнуть; но, должно быть, это случилось, – подумал он, – ибо вскоре услышал, что мистер Фидер окликает его под самым ухом и тихонько встряхивает, желая привлечь его внимание. А когда он с испугом поднял голову и осмотрелся кругом, он увидел, что в комнате находится доктор Блимбер, что окно раскрыто и лоб у него смочен водой, хотя было действительно очень странно, каким образом все это произошло помимо его ведома.
– А! Ну-ну! Прекрасно! Как себя чувствуете сейчас, мой юный друг? – ободряюще сказал доктор Блимбер.
– Очень хорошо, благодарю вас, сэр, – отвечал Поль.
Но, по-видимому, случилось что-то неладное с полом, так как он не мог стоять на нем твердо; да и со стенами, ибо они обнаружили склонность вращаться, и остановить их можно было только глядя на них очень пристально. В то же время голова мистера Тутса казалась такой большой и находилась так далеко, что это было не совсем естественно; а когда он взял Поля на руки, чтобы отнести наверх, Поль с изумлением заметил, что дверь находится совсем не там, где он предполагал ее увидеть, и в первый момент он готов был подумать, что мистер Тутс собирается пройти прямо через дымоход.
Было очень любезно со стороны мистера Тутса отнести его так ласково в верхний этаж дома, и Поль сказал ему об этом. Но мистер Тутс ответил, что сделал бы гораздо больше, если бы это было возможно; да он и сделал больше, ибо помог Полю раздеться и с величайшей заботливостью уложил его в постель, а затем сел у кровати и очень долго хихикал; а мистер Фидер, бакалавр искусств, склонившись над кроватью, вздыбил костлявой рукой свою короткую щетину на голове, а затем притворился, будто нападает на Поля по всем правилам науки по случаю его полного выздоровления, и это было так забавно и так мило со стороны мистера Фидера, что Поль, не зная, нужно ему смеяться или плакать, и плакал и смеялся одновременно.
Как испарился мистер Тутс, а мистер Фидер превратился в миссис Пипчин – Полю не пришло в голову спросить, да он этим вовсе и не интересовался; но, увидев, что вместо мистера Фидера в ногах кровати стоит миссис Пипчин, он воскликнул:
– Миссис Пипчин, не говорите Флоренс!
– О чем не говорить Флоренс, мой маленький Поль? – спросила миссис Пипчин, обойдя кровать и опускаясь на стул.
– Обо мне, – сказал Поль.
– Нет, нет, не скажу, – сказала миссис Пипчин.
– Как вы думаете, миссис Пипчин, что я хочу сделать, когда вырасту? – осведомился Поль, поворачиваясь на подушке к ней лицом и задумчиво опуская подбородок на сложенные руки.
Миссис Пипчин не могла угадать.
– Я хочу, – сказал Поль, – положить все свои деньги в банк, не заботиться о том, чтобы их стало еще больше, уехать за город с моей дорогой Флоренс, где будет красивый сад, поля и леса, и жить там с ней всю жизнь!
– Вот как? – воскликнула миссис Пипчин.
– Да, – сказал Поль. – Вот что я хочу сделать, когда я…
Он запнулся и на секунду задумался.
Серые глаза миссис Пипчин всматривались в его сосредоточенное лицо.
– Если я вырасту, – сказал Поль.
Затем он тотчас же начал рассказывать миссис Пипчин о вечеринке, о приглашении Флоренс, о том, как он будет гордиться тем восхищением, какое она вызовет у всех мальчиков, о том, как они добры к нему и любят его, как он их любит и как он всему этому рад. Затем он сообщил миссис Пипчин об анализе и о том, что он, конечно, не от мира сего, и пожелал узнать мнение миссис Пипчин по этому поводу, а также известно ли ей, почему это случилось и что это значит. Миссис Пипчин, избрав легчайший способ выпутаться из затруднения, начисто отрицала этот факт, но Поль далеко не удовлетворился таким ответом и столь испытующе смотрел на миссис Пипчин в ожидании более правдивых слов, что она принуждена была встать и выглянуть в окно, чтобы уйти от его взгляда.
Некий, всегда уравновешенный лекарь, который посещал заведение, когда заболевал кто-нибудь из молодых джентльменов, каким-то образом проник в комнату и появился у постели вместе с миссис Блимбер. Как очутились они здесь и долго ли пробыли, – Поль не знал; но, увидев их, он уселся в постели и подробно ответил на все вопросы лекаря и шепнул ему, что, право, Флоренс ничего не должна знать об этом и что он твердо решил, чтобы она была на вечеринке. Он много болтал с лекарем, и они расстались наилучшими друзьями. Потом, лежа с закрытыми глазами, он слышал, как лекарь сказал, выйдя из комнаты и где-то очень далеко, – или ему это приснилось, – что наблюдается отсутствие жизненной силы («что бы это могло быть?» – подумал Поль) и организм чрезвычайно ослаблен; что мальчуган твердо решил расстаться со своими школьными товарищами семнадцатого и поэтому следует удовлетворить его желание, если ему не станет хуже; что он рад был узнать от миссис Пипчин о переезде мальчугана к родным в Лондон, назначенном на восемнадцатое; что он еще раньше, как только лучше ознакомится с болезнью, сам напишет мистеру Домби; что сейчас нет прямых оснований для… для чего? – Поль не расслышал слова; и что у мальчугана живой ум, но он – не от мира сего.
Что это значит «не от мира сего», – с замирающим сердцем размышлял Поль, – что это за особенность, так явно выраженная в нем, так отчетливо видимая столь многими?
Он не мог это понять и не мог долго утруждать себя размышлениями. Миссис Пипчин снова была возле него, словно и не уходила (он думал, что она вышла вместе с доктором, но, быть может, все это был сон), и вскоре у нее в руках таинственным образом появились стакан и бутылка, и она наполнила для него стакан. После этого он получил очень вкусное желе, которое принесла ему сама миссис Блимбер; и тогда он почувствовал себя так хорошо, что миссис Пипчин после настойчивых его просьб отправилась домой, а Бригс и Тозер пришли ложиться спать. Бедный Бригс ужасно жаловался на свой анализ – его разлагающее действие не могло бы быть сильнее, будь это настоящий химический процесс; но он был очень ласков с Полем, так же как и Тозер, так же как и все остальные, ибо все до единого заходили к нему перед сном и говорили: «Как вы себя чувствуете сейчас, Домби?» – «Не унывайте, маленький Домби!» и прочее. Когда Бригс лег в постель, он долго не спал, все еще сетуя на свой анализ и говоря, что, конечно, он совершенно неверен, и даже убийце они не могли бы дать анализа хуже, и что бы сказал доктор Блимбер, если бы сумма его собственных карманных денег зависела от такого анализа. «Очень легко, – заявил Бригс, – делать из мальчика галерного раба в течение целого полугодия, а потом заносить в анализ, что он лентяй, и каждую неделю дважды оставлять его втихомолку без обеда, а потом заносить в анализ, что он жаден; но это не значит, – полагает он, – что надо этому подчиниться, не так ли? Ох! Ах!»
На следующее утро, прежде чем приняться за гонг, подслеповатый молодой человек поднялся наверх к Полю и сказал ему, чтобы он не вставал с постели, что Поль с радостью исполнил. Миссис Пипчин снова появилась незадолго до прихода лекаря, а спустя некоторое время добрая молодая женщина, которая чистила печку, когда Поль увидел ее в то первое утро (каким далеким казалось оно теперь!), принесла ему завтрак. Был еще один консилиум где-то очень далеко, – или же Полю опять это приснилось, – а затем лекарь, снова появившись с доктором Блимбером и миссис Блимбер, сказал:
– Да, я думаю, доктор Блимбер, теперь мы можем освободить этого молодого джентльмена от книг: вакации уже на носу.
– Несомненно, – сказал доктор Блимбер. – Дорогая моя, пожалуйста, сообщите об этом Корнелии.
– Непременно, – сказала миссис Блимбер.
Лекарь, наклонившись, пристально посмотрел в глаза Полю, пощупал ему голову, пульс и выслушал сердце с таким вниманием и заботливостью, что Поль сказал:
– Благодарю вас, сэр.
– Наш юный друг, – заметил доктор Блимбер, – никогда не жаловался.
– О да! – ответил лекарь. – Вряд ли он стал бы жаловаться.
– Вы находите, что ему гораздо лучше? – осведомился доктор Блимбер.
– О, ему гораздо лучше, сэр, – ответил лекарь.
Поль по свойственной ему странной привычке начал размышлять о том, чем могли быть заняты в тот момент мысли лекаря, – так задумчиво ответил он на два замечания доктора Блимбера. Но поскольку лекарь случайно встретил взгляд своего маленького пациента, когда тот пустился в эти умозрительные изыскания, и тотчас же вывел его из раздумья веселой улыбкой, то Поль улыбнулся в ответ и бросил свои размышления.
Весь день он пролежал в постели, дремал, грезил и смотрел на мистера Тутса, но на следующий день встал и спустился вниз. О чудо! Что-то случилось с большими стенными часами, и рабочий, стоявший на стремянке, снял с них циферблат и при свете свечи ковырял инструментами в механизме! Это было великое событие для Поля, который уселся на ступеньку и внимательно следил за операцией, то и дело посматривая на циферблат, прислоненный к стене, и чувствуя некоторое смущение при мысли, что циферблат подмигивает ему.
Рабочий на стремянке был очень вежлив; когда, увидев Поля, он сказал: «Как поживаете, сэр?» – Поль вступил с ним в разговор и сообщил ему, что был не совсем здоров. Когда лед был таким образом сломан, Поль задал ему множество вопросов о часах-курантах и о том, дежурят ли по ночам люди на колокольнях, чтобы заставить часы бить, и как звонят в колокола, когда умирают люди, и отличается ли этот звон от свадебного звона, или живым только чудится, что он заунывен. Убедившись, что новый его знакомый не очень хорошо осведомлен, для чего в старину по вечерам звонили в колокол, Поль рассказал ему об этом обычае, а также спросил его как человека практического, какого он мнения о затее короля Альфреда измерять время при помощи горящих свечей, на что рабочий отвечал, что, по его мнению, она погубила бы торговлю часами, если бы снова вернулись к этой затее. Короче говоря, Поль наблюдал, пока часы не приняли обычного своего вида и не начали снова задавать свой степенный вопрос, после чего рабочий, сложив инструменты в длинную корзинку, пожелал ему всех благ и ушел. Но предварительно он шепнул что-то лакею у двери, причем употребил слово «чудаковат», – Поль это слышал.
Что такое «чудаковатость» и почему она вызывала сожаление у людей? Что бы это могло быть?
Свободный теперь от занятий, он часто об этом думал; хотя не так часто, как могло бы случиться, если бы ему нужно было думать о меньшем количестве вещей. А их было очень много, и он думал все время, с утра до вечера.
Прежде всего о Флоренс, которая придет на вечеринку. Флоренс увидит, что мальчики его любят, и это ее обрадует. Вот об этом он думал постоянно. Пусть Флоренс убедится, что они ласковы и добры к нему и что он стал их маленьким любимцем, и тогда она будет вспоминать о тех днях, которые он здесь провел, без особой грусти. Быть может, благодаря этому у Флоренс легче будет на душе, когда он сюда вернется.
Когда он сюда вернется! Пятьдесят раз в день его маленькие ножки бесшумно взбирались по лестнице в его комнату: он собирал свои книги и все свое имущество и складывал все, вплоть до последней мелочи, чтобы взять с собою домой! Незаметно было, чтобы маленький Поль собирался сюда вернуться; никаких приготовлений к этому, никаких намеков на это не было во всем, что он думал и делал, за исключением мимолетной мысли, связанной с сестрой. Наоборот, блуждая по дому в этом сосредоточенном расположении духа, он думал обо всем ему близком так, словно должен был с этим расстаться навсегда, а потому-то и надо было думать об очень многом, с утра до вечера.
Надо было заглянуть в комнаты наверху и подумать о том, как будет в них пусто, когда он уедет; и поинтересоваться, сколько безмолвных дней, недель, месяцев и лет будут они оставаться такими же торжественными и тихими. Надо было подумать о том, будет ли здесь бродить когда-нибудь другой мальчик («не от мира сего», как и он), которому откроются такие же странные изменения в узорах обоев и вощанки, и расскажет ли кто-нибудь этому мальчику о маленьком Домби, который жил здесь когда-то.
Надо было подумать о портрете на лестнице, который всегда провожал его задумчивым взглядом, когда он проходил, поглядывая через плечо, и который, если он шел не один, все-таки смотрел как будто только на него, а не на его спутника. Надо было хорошенько подумать о гравюре, висевшей в другом месте, на которой в центре потрясенной группы людей одна фигура, ему известная, фигура с сиянием вокруг головы – добрая, кроткая и милосердная – стояла, указывая вверх.
У окна его спальни сотни мыслей сливались с этими и приходили одна за другой, одна за другой, как набегающие волны. Где живут эти дикие птицы, которые в ненастную погоду всегда кружатся над морем; откуда поднимаются и где зарождаются облака; откуда мчится ветер в стремительном своем полете и где он останавливается; может ли то место, где они так часто сидели с Флоренс и смотрели вдаль и рассуждали обо всем, – может ли оно и без них оставаться точь-в-точь таким, каким было; могло ли оно остаться таким для Флоренс, если бы он был где-нибудь далеко, а она сидела там одна.
Надо было подумать также о мистере Тутсе и мистере Фидере, бакалавре искусств; обо всех мальчиках, и о докторе Блимбере, и о миссис Блимбер, и о мисс Блимбер, о доме, и о тетке, и о мисс Токс; об отце, Домби и Сыне, об Уолтере и его бедном старом дяде, получившем деньги, в которых он нуждался, и об этом капитане с хриплым голосом и железной рукой. Помимо всего этого, надо было сделать в течение дня множество маленьких визитов: побывать в классной комнате, в кабинете доктора Блимбера, в комнате миссис Блимбер, мисс Блимбер и у собаки. Ибо теперь он пользовался правом разгуливать по всему дому; а так как ему хотелось расстаться со всеми в наилучших отношениях, он по-своему старался всем услужить. То он находил нужные места в книге для Бригса, который всегда их терял; то отыскивал слова в лексиконах для других молодых джентльменов, попавших в затруднительное положение; то помогал миссис Блимбер мотать шелк; то приводил в порядок письменный стол Корнелии; то пробирался даже в кабинет доктора и, сидя на ковре близ его ученых ног, потихоньку поворачивал глобусы и отправлялся в кругосветное путешествие или совершал полет среди далеких звезд.
Короче говоря, в те дни перед самыми каникулами, когда прочие молодые джентльмены выбивались из сил, восстанавливая в памяти все пройденное за полугодие, Поль был таким привилегированным учеником, какого никогда еще не видали в этом доме. Он сам едва мог этому поверить; однако проходили часы и дни, а свободу он сохранял; и маленького Домби ласкали все. Доктор Блимбер был так внимателен к нему, что однажды за обедом приказал Джонсону выйти из-за стола, когда тот необдуманно назвал его «бедненьким Домби»; по мнению Поля, это было, пожалуй, сурово и жестоко, хотя в тот момент он вспыхнул и удивился, почему Джонсон его жалеет. Справедливость доктора была, по мнению Поля, тем более сомнительна, что накануне вечером он ясно слышал, как этот великий авторитет согласился с замечанием (высказанным миссис Блимбер), что бедненький милый Домби стал еще более «не от мира сего». Вот тогда-то Поль и начал подумывать о том, что быть не от мира сего – значит быть очень худым и слабым, быстро уставать и чувствовать желание где-нибудь прилечь и отдохнуть; а он не мог не замечать, что эта склонность развивается у него со дня на день.
Наконец настал день вечеринки, и доктор Блимбер сказал за завтраком:
– Джентльмены, мы возобновим наши занятия двадцать пятого числа следующего месяца.
Мистер Тутс немедленно сбросил иго рабства, надел кольцо и вскоре после этого, упомянув в случайном разговоре о докторе, назвал его «Блимбер». Такая вольность вызвала у старших учеников чувство восторга и зависти; но более юные умы были устрашены и как будто удивлялись, что потолок не рухнул и не раздавил его.
Как за завтраком, так и за обедом не было сделано ни одного намека на вечернюю церемонию, но в доме весь день царила суматоха, и во время своих скитаний Поль познакомился с многочисленными странными скамьями и подсвечниками и повстречался с арфой в зеленом пальто, стоявшей на площадке перед дверью гостиной. А за обедом голова миссис Блимбер имела какой-то странный вид, как будто волосы ее были закручены слишком туго; и хотя на обоих висках мисс Блимбер красовались накладные букли, ее собственные кудри под ними были как будто завернуты в бумагу, и вдобавок в театральную афишу, ибо над одним стеклом ее сверкающих очков Поль прочел: «Королевский театр», а над другим: «Брайтон».
Под вечер в дортуарах юных джентльменов был грандиозный парад белых жилетов и галстуков и стоял такой сильный запах паленых волос, что доктор Блимбер послал наверх лакея с приветом и пожелал узнать, не пожар ли в доме. Но в действительности это был всего лишь парикмахер, который завивал молодых джентльменов и в пылу усердия перегрел щипцы.
Когда Поль оделся, – что было сделано быстро, ибо он чувствовал недомогание и сонливость и не мог заниматься туалетом очень долго, – он спустился в гостиную, где застал доктора Блимбера, прогуливающегося по комнате, в вечернем костюме, но с таким величественным и безучастным видом, как будто он попросту не допускал возможность, что к нему кто-нибудь заглянет. Затем появилась миссис Блимбер, очаровательная, на взгляд Поля, и надевшая такое множество юбок, что нужно было совершить целую экскурсию, чтобы обойти вокруг нее. Мисс Блимбер спустилась вскоре после своей матушки, непомерно перетянутая, но прелестная.
Вслед за ними прибыли мистер Тутс и мистер Фидер. Каждый из этих джентльменов держал в руке свою шляпу, словно жил где-нибудь далеко отсюда; а когда дворецкий доложил о них, доктор Блимбер сказал: «А-а-а! Ах, Боже мой!» – и, казалось, был чрезвычайно рад их видеть. Мистер Тутс сверкал драгоценными камнями и пуговицами и придавал такое значение этому обстоятельству, что, пожав руку доктору и поклонившись миссис Блимбер и мисс Блимбер, отвел Поля в сторонку и спросил:
– Что вы об этом думаете, Домби?
Но, несмотря на такую скромную уверенность в себе, мистер Тутс, казалось, пребывал в нерешительности по поводу того, надлежит ли застегнуть нижнюю пуговицу жилета и следует ли, при трезвом учете всех обстоятельств, отвернуть или выправить манжеты. Заметив, что у мистера Фидера они отвернуты, мистер Тутс отвернул свои; но так как у следующего гостя манжеты были выправлены, мистер Тутс выправил свои. Что касается пуговиц жилета, не только нижних, но и верхних, то по мере прибытия гостей вариации стали столь многообразны, что Тутс все время теребил пальцами эту принадлежность туалета, точно играл на каком-то инструменте, и, по-видимому, находил эти неустанные упражнения весьма затруднительными.
Когда все молодые джентльмены, завитые, в тугих галстуках и лакированных туфлях, держа в руках новенькие шляпы, собрались, причем о появлении каждого было доложено дворецким, пришел учитель танцев, мистер Бепс, в сопровождении миссис Бепс, с которой миссис Блимбер была в высшей степени любезна. Мистер Бепс был очень серьезный джентльмен с медлительной и размеренной речью; не простояв и пяти минут под лампой, он заговорил с Тутсом (который молчаливо сравнивал его лакированные туфли со своими) о том, что стали бы вы делать с сырьем, когда оно прибывает в ваши порты в обмен на ваше золото. Мистер Тутс, которому вопрос показался туманным, предложил «сварить его». Но мистер Бепс как будто не считал такую меру целесообразной.
Поль выскользнул из своего уголка на диване, среди подушек, служившего ему наблюдательным пунктом, и спустился в комнату, где был сервирован чай, чтобы встретить Флоренс, которой не видел почти две недели, так как прошлую субботу и воскресенье оставался у доктора Блимбера во избежание простуды. Вскоре она пришла с живыми цветами в руках, такая красивая в своем скромном бальном платье, что, когда она опустилась на колени, чтобы обнять Поля за шею и поцеловать его (так как никого здесь не было, кроме его приятельницы и еще одной молодой женщины, которые разливали чай), он едва мог заставить себя отпустить ее или отвести взгляд от ее сияющих и любящих глаз.
– Что случилось, Флой? – спросил Поль, почти уверенный, что увидел слезу.
– Ничего, милый, ничего, – отвечала Флоренс.
Поль осторожно коснулся пальцем ее щеки – да, это была слеза!
– Что же это, Флой? – сказал он.
– Мы вместе поедем домой, и я буду ухаживать за тобой, мой милый, – сказала Флоренс.
– Ухаживать за мной? – повторил Поль.
Поль не мог понять, какое это имеет отношение к слезе, почему обе молодые женщины смотрели так серьезно и почему Флоренс на секунду отвернулась, а потом повернула к нему лицо, вновь светившееся улыбкой.
– Флой, – проговорил Поль, держа в руке локон ее темных волос, – скажи мне, дорогая: как ты думаешь, я – не от мира сего?
Сестра засмеялась, приласкала его и ответила: «Нет».
– Потому что я знаю, они так говорят, – продолжал Поль, – и мне хочется знать, что они хотят этим сказать, Флой.
Тут раздался громкий стук в дверь. Флоренс поспешила отойти к столу, и больше они об этом не говорили. Поль снова удивился, увидев, что его приятельница шепчет что-то Флоренс, как будто утешает ее, но прибытие новых гостей отвлекло его от этой мысли.
Это были сэр Барнет Скетлс, леди Скетлс и юный мистер Скетлс. После вакаций мистеру Скетлсу предстояло поступить в школу, и в комнате мистера Фидера постоянно прославляли его отца, который был в палате общин и о котором мистер Фидер сказал, что когда он поймает взгляд спикера (чего ждали от него вот уже три или четыре года), то можно предвидеть, как он отхлещет радикалов.
– Ну, а это что за комната? – обратилась леди Скетлс к приятельнице Поля, Милии.
– Кабинет доктора Блимбера, сударыня, – был ответ…
Леди Скетлс обозрела его в лорнет и с одобрительным кивком сказала сэру Барнету Скетлсу: «Очень хорошо». Сэр Барнет Скетлс согласился, но мистер Скетлс смотрел подозрительно и недоверчиво.
– Ну, а этот малютка, – сказала леди Скетлс, поворачиваясь к Полю. – Он один из…
– Один из молодых джентльменов, сударыня, – сказала приятельница Поля.
– Как же вас зовут, мое бедное дитя? – осведомилась леди Скетлс.
– Домби, – отвечал Поль.
Сэр Барнет Скетлс тотчас вмешался и заявил, что имел честь встретиться с отцом Поля на публичном обеде, и выразил надежду, что он находится в добром здравии. Затем Поль услышал, как он говорил леди Скетлс: «Сити… очень богат… в высшей степени респектабелен… доктор упоминал об этом». А затем он сказал Полю:
– Пожалуйста, передайте вашему милому папе, что сэр Барнет Скетлс весьма рад, что он находится в добром здравии, и посылает ему свой горячий привет.
– Хорошо, сэр, – отвечал Поль.
– Молодец! – сказал сэр Барнет Скетлс. – Барнет, – обратился он к юному мистеру Скетлсу, который, назло предстоящему ученью, налег на кекс с коринкой, – с этим молодым человеком тебе следует познакомиться. С этим молодым человеком ты можешь познакомиться, – сказал сэр Барнет Скетлс, выразительно подчеркивая свое позволение.
– Какие глаза! Какие волосы! Какое прелестное личико! – тихо воскликнула леди Скетлс, взирая в лорнет на Флоренс.
– Моя сестра, – сказал Поль, представляя ее.
Скетлсы были теперь вполне удовлетворены. А так как леди Скетлс с первого взгляда почувствовала расположение к Полю, они все вместе отправились наверх; сэр Барнет Скетлс взял на себя заботу о Флоренс, а юный Барнет следовал за ними.
Юный Барнет недолго пребывал на заднем плане после того, как они вошли в гостиную, ибо доктор Блимбер в одну минуту выдвинул его, заставив танцевать с Флоренс. Поль не заметил, чтобы тот был особенно счастлив или проявлял что-нибудь, кроме угрюмости и слабой заинтересованности своим занятием; но поскольку Поль слышал, как леди Скетлс сказала миссис Блимбер, отбивавшей такт веером, что ее дорогой мальчик явно без ума от этого ангела – мисс Домби, – то, по-видимому, Скетлс-младший пребывал в состоянии блаженства, отнюдь этого не обнаруживая.
Маленький Поль усмотрел странное стечение обстоятельств в том, что никто не занял его места среди подушек; и когда он вернулся в комнату, все, помня, что это место принадлежит ему, расступились, давая ему возможность снова его занять. И никто не останавливался перед ним, когда заметили, как приятно ему видеть Флоренс среди танцующих; напротив, все старались стать так, чтобы он мог все время следить за нею. Все были очень добры – даже незнакомые ему люди, которых вскоре появилось очень много, – и то и дело подходили и заговаривали с ним, спрашивали, как он себя чувствует, не болит ли у него голова и не устал ли он. Он был им очень признателен за доброту и внимание и, прислонясь к подушкам в своем уголке на диване, где сидели также миссис Блимбер и леди Скетлс, наблюдал и был очень счастлив; Флоренс приходила и подсаживалась к нему после каждого тура.
Флоренс сидела бы с ним весь вечер и предпочла бы вовсе не танцевать, но Поль заставил ее, сказав, какое удовольствие это ему доставляет. И он сказал правду, потому что сердечко его расширялось и лицо горело, когда он видел, как все восхищаются ею и каким прелестным цветком была она в этой комнате.
Из своего гнездышка среди подушек Поль мог видеть и слышать чуть ли не все происходящее, словно все это делалось для его развлечения. Помимо прочих мелких инцидентов, им замеченных, он увидел, как мистер Бепс, учитель танцев, вступил в разговор с сэром Барнетом Скетлсом и вскоре спросил его, как спрашивал мистера Тутса, что стали бы вы делать с сырьем, когда оно прибывает в ваши порты в обмен на ваше золото. Сэр Барнет Скетлс многое имел сказать по этому вопросу и сказал; но вопрос как будто остался неразрешенным, ибо мистер Бепс возразил: да, но, предположим, Россия выступит со своими жирами; после чего сэр Барнет чуть ли не онемел и мог только покачать головой и сказать: ну, что ж, тогда вам, вероятно, придется обратиться к своему хлопку.
Сэр Барнет Скетлс посмотрел вслед мистеру Бепсу, когда тот пошел подбодрить миссис Бепс (всеми покинутая, она делала вид, будто разглядывает ноты джентльмена, игравшего на арфе), – посмотрел так, словно считал его замечательным человеком; а вскоре он это и высказал доктору Блимберу и осведомился, может ли он спросить, имел ли когда-нибудь этот джентльмен отношение к департаменту торговли. Доктор Блимбер отвечал: нет, не совсем, и что, собственно говоря, он – преподаватель…
– Готов поклясться, в какой-нибудь области, связанной со статистикой? – заметил сэр Барнет Скетлс.
– Нет, видите ли, сэр Барнет, – ответил доктор Блимбер, потирая подбородок, – нет, не совсем так.
– Но с какими-нибудь расчетами, готов пари держать, – сказал сэр Барнет Скетлс.
– Да, видите ли, – сказал доктор Блимбер, – да, но в другом роде. Мистер Бепс – весьма достойный человек, сэр Барнет, и… собственно говоря, он – наш учитель танцев.
Поль с изумлением увидел, что эта новость совершенно изменила мнение сэра Барнета Скетлса о мистере Бепсе и что сэр Барнет пришел в бешенство и через всю комнату бросил грозный взгляд на мистера Бепса. Он даже до того дошел, что, сообщая леди Скетлс о случившемся, послал мистера Бепса к черту и сказал, что это ве-ли-чай-шая и воз-му-ти-тель-нейшая наглость.
И еще одну вещь отметил Поль. Мистер Фидер, выпив несколько бокалов негуса[27], начал веселиться. В общем, танцы были церемонные, а музыка торжественная, слегка напоминающая, собственно говоря, церковную музыку; но после вышеупомянутых бокалов мистер Фидер сказал мистеру Тутсу, что собирается внести некоторое оживление в танцы. Затем мистер Фидер не только начал танцевать так, как будто решил танцевать не на шутку, но и тайком подстрекал музыкантов к исполнению бравурных мелодий. Далее он стал оказывать большое внимание дамам и, танцуя с мисс Блимбер, нашептывал ей – нашептывал, но достаточно громко, чтобы Поль мог услышать! – замечательные стихи:
- Пускай обманом дышит сердце,
- Но вас не обману!
Поль слышал, как он повторил это четырем молодым леди по очереди. Не без оснований сказал мистер Фидер мистеру Тутсу, что опасается, как бы не пришлось ему расплачиваться за это завтра.
Миссис Блимбер была слегка встревожена этим, так сказать, разнузданным поведением и в особенности изменившимся характером музыки, в которой зазвучали вульгарные мелодии, популярные на улицах, что, как естественно было предположить, могло показаться оскорбительным для леди Скетлс. Но леди Скетлс была очень добра и просила миссис Блимбер не тревожиться; и объяснение ее касательно живости мистера Фидера, иногда приводящей его к эксцентрическим выходкам, приняла с величайшей любезностью и учтивостью, заметив, что он производит впечатление весьма приятного человека, если принять во внимание его положение, и что ей особенно нравится скромная его манера причесывать волосы, которые (как уже упоминалось) были примерно в четверть дюйма длиной.
Как-то, во время перерыва в танцах, леди Скетлс сказала Полю, что он, по-видимому, очень любит музыку. Поль ответил, что любит; а если и она ее любит, то следовало бы ей послушать, как поет его сестра Флоренс. Леди Скетлс тотчас поведала, что умирает от желания получить это удовольствие; и хотя Флоренс была сначала очень испугана просьбой петь в таком большом обществе и настойчиво просила освободить ее от этого, однако, когда Поль подозвал ее и сказал: «Спой! Пожалуйста! Для меня, моя дорогая!» – она подошла к фортепьяно и запела. Когда все отступили в сторону, чтобы Поль мог ее видеть, и когда он увидел, как она сидит там одна, такая юная, добрая, прекрасная и любящая его, и услышал, как ее звонкий голос, такой чистый и нежный, золотое звено между ним и всей любовью и счастьем его жизни, зазвучал среди общего молчания, – он отвернулся и постарался скрыть слезы. Дело не в том, как объяснял он, когда с ним заговаривали об этом, дело не в том, что музыка была слишком печальной или заунывной, но она так дорога ему!
Все полюбили Флоренс! Да и могло ли быть иначе?! Поль заранее знал, что они должны ее полюбить и полюбят; и когда он сидел в своем уголке среди подушек и смотрел на нее, спокойно сложив руки и небрежно подогнув под себя ногу, мало кому пришло бы в голову, каким торжеством и восторгом переполняется его детское сердце и какое сладкое упоение он чувствует. Восторженные похвалы «сестре Домби» он слышал от всех мальчиков; восхищенные отзывы об этой сдержанной и скромной маленькой красавице были у всех на устах; замечания об ее уме и талантах все время доносились к нему; и, словно разлитое в воздухе летней ночи, было рассеяно вокруг какое-то еле уловимое чувство, имевшее отношение к Флоренс и к нему и дышавшее симпатией к ним обоим, которое успокаивало и трогало его.
Он не знал – почему. Ибо все, что видел, чувствовал и думал в тот вечер Поль, – присутствующие и отсутствующие, настоящее и прошедшее, – все это слилось, как цвета в радуге или в оперении ярких птиц, когда светит на них солнце, или в тускнеющем небе, когда солнце клонится к закату. Все то, о чем последнее время приходилось ему думать, проплывало теперь перед ним в музыке; оно уже не требовало его внимания и вряд ли способно было снова его занять, оно как бы умиротворялось и уходило. Окно, в которое он смотрел так давно, было обращено к океану, отступившему от него на много миль; на водах океана занимавшие его еще вчера фантазии были усыплены, убаюканы, как укрощенные волны. Все тот же таинственный ропот, – чудилось ему, – которого он не мог понять, когда лежал в своей колясочке на морском берегу, он снова слышит сквозь пенье сестры и сквозь гул голосов и топот ног, и как-то отражается этот ропот в мелькающих мимо лицах и даже в неуклюжей нежности мистера Тутса, часто подходившего пожать ему руку. Сквозь доброту всех окружающих, – чудилось ему, – он снова слышит этот ропот, обращенный к нему, и даже его репутация ребенка не от мира сего словно была связана с ним каким-то неведомым ему образом. Так сидел маленький Поль, слушая, наблюдая и грезя, и был очень счастлив.
Пока не настало время прощаться, а тогда все заволновались. Сэр Барнет Скетлс подвел Скетлса-младшего пожать ему руку и спросил, не забудет ли он передать своему милому папе, что он, сэр Барнет Скетлс, шлет ему горячий привет и выражает надежду на будущую близкую дружбу обоих молодых джентльменов. Леди Скетлс поцеловала его, разгладила ему волосы на лбу и заключила его в свои объятия, и даже миссис Бепс – бедная миссис Бепс! – Полю это было приятно – покинула свое место у нотной тетради джентльмена, игравшего на арфе, и попрощалась с ним так же сердечно, как и все прочие.
– До свидания, доктор Блимбер, – сказал Поль, протягивая руку.
– До свидания, мой юный друг, – отвечал доктор.
– Я вам очень признателен, сэр, – сказал Поль, наивно глядя снизу вверх на это лицо, внушающее почтительный страх. – Пожалуйста, пусть не забывают о Диогене.
Диогеном звали собаку, которая за всю свою жизнь не имела ни одного близкого друга, кроме Поля. Доктор обещал, что в отсутствие Поля Диогену будут оказывать полное внимание, и Поль, снова поблагодарив его и пожав ему руку, попрощался с миссис Блимбер и Корнелией с такой задушевной серьезностью, что миссис Блимбер в тот момент забыла упомянуть о Цицероне в разговоре с леди Скетлс, хотя весь вечер собиралась это сделать. Корнелия, взяв Поля за обе руки, сказала:
– Домби, Домби, вы всегда были моим любимым учеником. Да благословит вас Бог!
По мнению Поля, это свидетельствовало о том, как легко быть несправедливым к человеку, ибо мисс Блимбер говорила то, что думала, хотя и была мучительницей.
Затем среди молодых джентльменов пронесся гул: «Домби уезжает!», «Маленький Домби уезжает!» – и все, включая семейство Блимберов, двинулись вслед за Полем и Флоренс вниз по лестнице в холл. Подобное обстоятельство, как заявил вслух мистер Фидер, на его памяти еще не имело места по отношению к кому бы то ни было из прежних молодых джентльменов; но трудно решить, было ли это трезвой оценкой фактов или сказано под воздействием бокалов. Все слуги, во главе с дворецким, пожелали проводить маленького Домби, и даже подслеповатый молодой человек, перенося его книги и чемоданы в карету, которая должна была отвезти на эту ночь его и Флоренс к миссис Пипчин, явно расчувствовался.
Даже влияние более нежного чувства на молодых джентльменов – а они все до единого были очарованы Флоренс – не помешало им шумно распрощаться с Полем, махать ему вслед шляпой, напирать друг на друга, спускаясь по лестнице, чтобы пожать ему руку, кричать: «Домби, не забывайте меня!» – и предаваться излияниям, несвойственным этим юным Честерфилдам[28]. Поль шептал Флоренс, в то время как она одевала его, прежде чем открыть дверь: слышит ли она их? Может ли она когда-нибудь забыть об этом? Приятно ли ей это знать? И радость светилась в его глазах.
Один раз он оглянулся, чтобы бросить прощальный взгляд, и, посмотрев на обращенные к нему лица, с удивлением увидел, какие они сияющие и веселые, как их много, словно в переполненном театре. Они проплывали перед ним, как будто отражались в дрожащем зеркале, а через секунду он уже сидел в темной карете, прижимаясь к Флоренс. С тех пор, когда бы ни случалось ему подумать о заведении доктора Блимбера, оно вспоминалось таким, каким он его видел в последний раз; и никогда не казалось оно реальным, но, как бывает в сновидениях, он видел только множество глаз.
Однако это не было последним впечатлением от заведения доктора Блимбера. Было еще кое-что. Мистер Тутс, неожиданно опустив одно окно кареты и заглянув внутрь, сказал с самым ненатуральным хихиканьем: «Домби здесь?» – и тотчас поднял окно снова, не дожидаясь ответа. Но и это не было последним появлением Тутса, ибо, не успела карета отъехать, как он так же внезапно опустил другое окно и, заглянув внутрь, точь-в-точь так же хихикнул и сказал точь-в-точь таким же тоном: «Домби здесь?» – и скрылся точь-в-точь так же, как и раньше.
Как смеялась Флоренс! Поль часто вспоминал об этом и сам всегда смеялся.
Но вскоре – на следующий день и позже – произошло много такого, о чем Поль помнил смутно. Так, например, почему они проводили дни и ночи у миссис Пипчин вместо того, чтобы ехать домой; почему он лежал в постели и Флоренс сидела возле него; находился ли в комнате отец, или то была лишь длинная тень на стене; слышал ли он, как доктор сказал о ком-то, что, если бы его увезли до праздника, который завладел его воображением слишком сильно и помог ему преодолеть слабость, весьма возможно, что он бы зачах.
Он даже не мог припомнить, говорил ли он часто Флоренс: «О, Флой, увези меня домой и никогда не оставляй меня одного!» – но, кажется, говорил. Ему чудилось иногда, будто он снова и снова слышит свой голос: «Увези меня домой, увези меня домой, Флой!»
Но он мог припомнить, когда вернулся домой и его несли по хорошо знакомой ему лестнице, что в течение долгих часов грохотала карета, а он лежал на сиденье, и около него была Флоренс, а старая миссис Пипчин сидела напротив. Он помнил и свою старую кроватку, куда его уложили; свою тетку, мисс Токс и Сьюзен; но случилось еще кое-что, совсем недавно, что все еще приводило его в недоумение.
– Будьте добры, я хочу поговорить с Флоренс, – сказал он. – Только с Флоренс, одну минутку!
Она наклонилась к нему, а все остальные стояли поодаль.
– Флой, милочка, не папа ли это был в холле, когда меня вынесли из кареты?
– Да, дорогой.
– Он не заплакал и не ушел в свою комнату, Флой, когда увидел, что меня несут?
Флоренс покачала головой и прижалась губами к его щеке.
– Я очень рад, что он не плакал, – сказал маленький Поль. – Мне показалось, что он заплакал. Не говори им, о чем я спрашивал.
Глава XV
Изумительная изобретательность капитана Катля и новые заботы Уолтера Гэя
На протяжении нескольких дней Уолтер не мог решить, как ему быть с барбадосским назначением; он даже лелеял слабую надежду, что мистер Домби, быть может, имел в виду не то, что сказал, или передумает и сообщит ему об отмене поездки. Но так как не случилось ничего сколько-нибудь подтверждающего эту догадку (которая сама по себе была в достаточной степени невероятна), а время шло и медлить было нельзя, он решился действовать без дальнейших колебаний.
Основная трудность для Уолтера заключалась в том, каким образом сообщить об этой перемене в его делах дяде Солю, для которого – чувствовал он – это будет жестоким ударом. Потрясти дядю Соля столь поразительным известием было ему тем труднее, что за последнее время дела пошли в гору и старик так повеселел, что маленькая задняя гостиная приняла прежний вид. Дядя Соль уплатил в назначенный срок часть долга мистеру Домби и надеялся покрыть остальное; и повергать его снова в уныние, когда он так мужественно справился со своими невзгодами, было весьма печальной необходимостью.
Однако не могло быть и речи о том, чтобы уехать потихоньку. Дядя должен был узнать обо всем заблаговременно; затруднение заключалось в том, как ему сказать. Что касается вопроса – ехать или не ехать, Уолтер считал, что не в его власти выбирать. Мистер Домби был прав, говоря, что он молод, а дела у его дяди идут плохо, и мистер Домби ясно выразил взглядом, сопровождавшим это напоминание, что в случае отказа ехать он может остаться дома, но не у него в конторе. Оба они с дядей были многим обязаны мистеру Домби; этого добился сам Уолтер. Самому себе он мог сознаться, что потерял надежду снискать расположение сего джентльмена, и мог считать, что тот иной раз относится к нему с пренебрежением, вряд ли оправданным. Но так или иначе, долг остается долгом – во всяком случае так думал Уолтер, – а долг нужно исполнять.
Когда мистер Домби взглянул на него и сказал, что он молод, а дела его дяди идут плохо, лицо его выражало презрение – пренебрежительную и унизительную мысль, что Уолтер-де весьма не прочь жить в праздности на средства обедневшего старика, и это задело благородную душу юноши. Решив доказать мистеру Домби, – если можно было дать такое доказательство, не прибегая к словам, – что тот судит о нем неверно, Уолтер старался после разговора о Вест-Индии быть еще веселее и расторопнее, чем раньше, насколько был на это способен человек с таким живым и пылким нравом, как у него. Он был слишком молод и неопытен и не помышлял о том, что эти самые качества могут быть неприятны мистеру Домби, а не унывать под сенью его грозной немилости, справедливой или несправедливой, отнюдь не значит подняться в его глазах. Могло быть и так, что великий человек усматривал вызов в этом новом проявлении благородного духа и решил его сломить.
«Ну что ж. В конце концов придется сказать дяде Солю», – со вздохом думал Уолтер. А так как Уолтер боялся, что голос его, пожалуй, дрогнет и физиономия будет не такой веселой, как было бы ему желательно, если он сам сообщит об этом старику и увидит по морщинистому его лицу, какое впечатление произвело это известие, он задумал прибегнуть к услугам могущественного посредника – капитана Катля. По этому, когда настало воскресенье, он решил после завтрака вторгнуться в обиталище капитана Катля.
По дороге он с удовольствием припомнил, что каждое воскресное утро миссис Мак-Стинджер совершает далекое путешествие, чтобы послушать проповедь преподобного Мельхиседека Хаулера, который, будучи уволен со службы в Вест-индских доках по ложному подозрению (выдвинутому против него неведомым врагом) в том, будто он просверливал бочки и прикладывался губами к отверстию, предсказал, что светопреставление настанет ровно в десять часов утра через два года, начиная с того дня, и открыл зал для приема леди и джентльменов, приверженцев секты Горланов; на первом же их собрании увещания преподобного Мельхиседека произвели столь сильное впечатление, что при восторженном исполнении священного джига, коим закончилась служба, все стадо провалилось в кухню и привело в негодное состояние каток для белья, принадлежавший одному из паствы.
Капитан в минуту необычайного оживления поведал об этом Уолтеру и его дяде в промежутках между куплетами «Красотки Пэг» в тот вечер, когда было уплачено маклеру Броли. Сам капитан аккуратно посещал церковь по соседству, которая поднимала великобританский флаг каждое воскресное утро, и где он по доброте своей – так как бидл был немощен – присматривал за мальчиками, среди которых пользовался большим авторитетом благодаря своему загадочному крючку. Зная нерушимые привычки капитана, Уолтер спешил по мере сил, чтобы застать его дома; и он развил такую скорость, что, свернув на Бриг-Плейс, имел удовольствие узреть широкий синий фрак и жилет, вывешенные из открытого окна капитана для проветривания на солнце.
Казалось невероятным, что смертный мог увидеть фрак и жилет без капитана, но последний несомненно не был в них облачен, в противном случае ноги его – дома на Бриг-Плейс невысоки – преграждали бы вход в парадную дверь, который был совершенно свободен. Изумленный этим открытием, Уолтер постучал один раз.
– Стинджер, – отчетливо услышал он возглас капитана, несшийся сверху из его комнаты, как будто стук его вовсе не касался. Тогда Уолтер постучал два раза.
– Катль! – услышал он возглас капитана; и тотчас же капитан в чистой рубашке и подтяжках, в платке, свободно повязанном вокруг шеи, наподобие свернутого в бухту каната, и в глянцевитой шляпе появился в окне, выглядывая из-за широкого синего фрака и жилета.
– Уольр! – воскликнул капитан, с изумлением глядя на него вниз.
– Да, да, капитан Катль, – отвечал Уолтер, – это я.
– Что случилось, мой мальчик? – с великой тревогой осведомился капитан. – Уж не стряслось ли еще что-нибудь с Джилсом?
– Нет, нет, – ответил Уолтер. – У дяди все благополучно, капитан Катль.
Капитан выразил удовольствие и сообщил, что спустится вниз и отопрет дверь, что и сделал.
– Однако ты раненько, Уольр, – сказал капитан, все еще недоверчиво на него посматривая, пока они поднимались наверх.
– Вот в чем дело, капитан Катль, – садясь, сказал Уолтер, – я боялся, что вы уйдете, а мне нужен ваш дружеский совет.
– Ты его получишь, – сказал капитан. – Чем тебя угостить?
– Вашим мнением, капитан Катль, – с улыбкой отвечал Уолтер. – Больше мне ничего не нужно.
– В таком случае продолжай, – сказал капитан. – С удовольствием скажу тебе свое мнение, мой мальчик!
Уолтер рассказал ему о том, что произошло; о затруднении, какое возникло у него в связи с дядей, и о том облегчении, какое он почувствует, если капитан Катль по доброте своей поможет ему; бесконечное изумление и недоумение, вызванные открывшейся перед капитаном перспективой, постепенно поглотили сего джентльмена, покуда его лицо не лишилось какого бы то ни было выражения, а синий костюм, глянцевитая шляпа и крючок, казалось, лишились хозяина.
– Видите ли, капитан Катль, – продолжал Уолтер, – что касается меня, то я молод, как сказал мистер Домби, и обо мне нечего думать. Я должен пробивать себе дорогу в жизни, я это знаю; но по пути сюда я размышлял о том, что должен быть осторожен в двух пунктах, поскольку это касается дяди. Я не хочу сказать, будто заслуживаю чести считаться гордостью и счастьем его жизни, – знаю, вы мне верите, – но тем не менее это так. Не кажется ли вам, что это так?
Капитан как будто сделал попытку подняться из бездны изумления и вновь обрести свое лицо; но это усилие ни к чему не привело, и глянцевитая шляпа только кивнула безгласно, с невыразимой многозначительностью.
– Если я буду жив и здоров, – сказал Уолтер, – а на этот счет у меня нет опасений, – все же, покидая Англию, я вряд ли могу надеяться увидеть дядю снова. Он стар, капитан Катль, кроме того, его жизнь основана на привычном…
– Стоп, Уолтер! На привычном отсутствии покупателей? – сказал капитан, вдруг воскресая.
– Совершенно верно, – отвечал Уолтер, покачивая головой, – но я имел в виду уклад его жизни, капитан Катль, постоянные привычки. И если (как вы очень справедливо заметили) он умер бы раньше времени, лишившись товаров и всех вещей, к которым привык за столько лет, то не думаете ли вы, что он умер бы еще раньше, лишившись…
– Своего племянника, – вставил капитан. – Правильно!
– Значит, – сказал Уолтер, пытаясь говорить весело, – мы должны уверить его, что разлука эта, в конце концов, только временная. Но я-то лучше знаю, капитан Катль, или опасаюсь, что лучше знаю, а так как у меня столько оснований относиться к нему с любовью, почтением и уважением, то боюсь, как бы не оказаться мне совсем беспомощным, если я попробую его в этом убеждать. Вот главная причина, почему я хочу, чтобы о моем отъезде сообщили ему вы; и это пункт первый.
– Поверни на три румба! – задумчивым тоном заметил капитан.
– Что вы сказали, капитан Катль? – осведомился Уолтер.
– Держись крепче! – глубокомысленно ответил капитан.
Уолтер замолчал, дабы удостовериться, не желает ли капитан присовокупить к этому какое-нибудь особое замечание, но так как тот ничего больше не сказал, он заговорил снова:
– Теперь пункт второй, капитан Катль. К сожалению, должен сказать, что я не пользуюсь расположением мистера Домби. Я всегда старался делать все как можно лучше и делал, но он меня не любит. Быть может, он не властен над своими симпатиями и антипатиями, – об этом я ничего не говорю. Я говорю только, что он несомненно не любит меня. На это место он меня посылает не потому, что оно хорошее; он не удостаивает изображать его лучше, чем оно есть; и я очень сомневаюсь, чтобы оно когда-нибудь помогло мне занять более высокое положение в фирме – оно, мне кажется, является средством навсегда избавиться от меня и убрать меня с дороги. Но об этом мы ни слова не должны говорить дяде, капитан Катль; мы должны по мере сил изобразить это место выгодным и многообещающим; я рассказываю вам, каково оно на самом деле, но делаю это только для того, чтобы на родине был у меня друг, который знает истинное положение – на случай, если явится когда-нибудь возможность оказать мне помощь там, далеко.
– Уольр, мой мальчик, – отвечал капитан, – в притчах Соломоновых ты найдешь следующие слова: «Пусть никогда не будет у тебя недостатка в друге нуждающемся и в бутылке для него!» Когда найдешь это место, сделай отметку.
Тут капитан протянул руку Уолтеру с самым простодушным видом, который был красноречивей слов, и снова повторил (ибо он гордился своей точной и кстати приведенной цитатой):
– Когда найдешь, сделай отметку.
– Капитан Катль, – продолжал Уолтер, беря обеими руками протянутую ему капитаном огромную лапу, которую он еле-еле мог обхватить, – после моего дяди Соля я больше всех люблю вас. И конечно, нет на свете никого, кому бы я мог больше доверять. Что касается отъезда, капитан Катль, меня это не беспокоит; чего мне беспокоиться? Будь я волен искать счастья, будь я волен отправиться простым матросом, будь я волен пуститься на свой страх на край света, – я бы с радостью поехал! Я бы с радостью уехал уже несколько лет назад и посмотрел, что из этого выйдет. Но это противоречило желаниям моего дяди и планам, которые он для меня строил, и тем дело и кончилось. Но я чувствую, капитан Катль, что мы все время немножко ошибались, и если уж говорить о моих видах на будущее, положение мое теперь ничуть не лучше, чем в то время, когда я только что поступил в фирму Домби, – быть может, чуточку хуже, ибо тогда фирма, пожалуй, была расположена ко мне благосклонно, а теперь это, конечно, не так.
– Вернись, Виттингтон, – пробормотал огорченный капитан, поглядев на Уолтера.
– Да, – смеясь, отвечал Уолтер. – Боюсь, придется возвращаться много раз, капитан Катль, прежде чем подвернется такая удача, как ему. Впрочем, я не жалуюсь, – добавил он со свойственным ему бодрым, оживленным, энергическим видом. – Мне не на что жаловаться. Я обеспечен. Я как-нибудь проживу. Оставляя дядю, я оставляю его на вас; и нет лучше человека, на которого я мог бы его оставить, капитан Катль. Все это я вам рассказал не потому, что я в отчаянии, о нет! Но нужно вас убедить, что я не могу выбирать, служа в фирме Домби, и куда меня посылают, туда я должен ехать, и что мне предлагают, то я должен принять. Для дяди лучше, что меня отсылают, так как в его глазах мистер Домби – драгоценный друг, каким он себя и показал, – вам это известно, капитан Катль; и я уверен, что он не сделается менее драгоценным, если не будет здесь меня, чтобы ежедневно возбуждать его неприязнь. Итак, да здравствует Вест-Индия, капитан Катль! Как начинается эта песня, которую поют моряки?
- В порт Барбадос, ребята!
- Веселей!
- Старая Англия прощай, ребята!
- Веселей!
Капитан заорал припев:
- Эх! Веселей, веселей!
- Эх, веселей!
Последний стих коснулся чутких ушей жившего напротив ревностного шкипера, не совсем трезвого, который немедленно вскочил с постели, распахнул окно и через улицу подхватил во всю глотку припев, что произвело прекрасное впечатление. Когда уже невозможно было тянуть дольше последнюю ноту, шкипер проревел устрашающе: «Эхой!» – отчасти в виде дружеского приветствия, а отчасти из желания показать, что он ничуть не задохся. Совершив это, он закрыл окно и снова лег в постель.