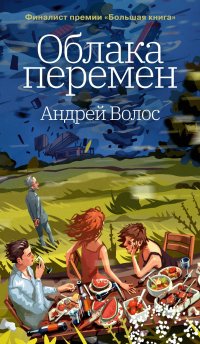Читать онлайн Возвращение в Панджруд бесплатно
- Все книги автора: Андрей Волос
© Волос А. Г.
© ООО «Издательство АСТ», 2016
* * *
Иветте Ивановне Воропаевой – дорогой моей маме, многие годы терпеливо ждавшей завершения этой книги, с любовью и благодарностью.
Прошлое когда-то было будущим,
И будущее когда-то станет прошлым.
Абу Абдаллах Джафар Рудаки
Пролог
Орлица медленно плыла в сине-серебряном воздухе, и его раковины и сгустки, оставлявшие ощущение легких толчков и поглаживаний, ласково теребили мягкое оперение брюха и поджатых лап. Твердые же, будто кованые перья крыльев и хвоста резали ветер, как резали бы стальные ножи, безжалостно разваливая его тугую плоть на две равные части, – и поток лишь жалобно посвистывал, сворачиваясь прозрачными лепестками возле жестких концов пружинисто подрагивавших перьев.
Несколько часов назад она удачно поохотилась. Желтые суслики бессмысленно-радостно посвистывали возле своих нор и, кажется, умирали от ужаса еще за мгновение до того, как орлица с размаху вонзала в их жирную плоть когти и наотмашь била клювом. Головы она тоже расклевывала – там ждал круглый орех сладкого мозга.
Самой ей некого было бояться в зыблемом до самого горизонта стеклистом просторе, накрывшем неровную землю лазурным колпаком. Она подремывала, вольно бросив над прозрачной бездной широкие крылья и лениво отмечая неохватные течения теплого воздуха – одни относили ее к востоку, к предгорьям, другие (когда она уже оказывалась над темной прохладой ущелья и была вынуждена несколькими сильными махами поднять себя на десяток локтей выше) медленно влекли к западу, к бурому краю неровной степи.
Шеравкан проследил взглядом плавное парение птицы, казавшейся отсюда, с дороги, темным штрихом, и почему-то почувствовал тоску. Он не умел разбираться в своих чувствах, но если бы попытался понять, почему так сжалось сердце и почему такими острыми показались в эту секунду одиночество и оторванность, то, возможно, нашел бы причину именно в мимолетном взгляде, брошенном в серо-синее небо – жаркое, пустое, украшенное только резкой черточкой парящей орлицы.
Да, орлица! Она была так свободна! – и в сравнении с ней так несвободен был он. Она могла лететь куда хотела. Она сама управляла своей жизнью. Каждый взмах ее крыльев был сделан по ее собственной воле – и потому она вольна была парить, куда влекло ее хоть бы и мимолетное желание, каприз, минутная прихоть: на юг, на север!.. на запад, на восток!..
Стоило лишь оглянуться, чтобы за переливчатым маревом, заставлявшим камни дрожать и колебаться, увидеть низкое облако, плоской лепешкой висящее над краем бугристой равнины. Закатное солнце красило его розовым, а ветер тщетно силился стронуть и потащить, как играючи таскал другие облака. Не тут-то было: неподвижное, буро-серое, оно вечно стояло на одном и том же месте.
Бухара, благородная Бухара! – это она оставалась за спиной! это была ее пыль, ее дым, ее запах! – это она клубилась и темнела, это ее нечистое сладкое дыхание поднималось к небесам!.. Ее сады волновались под ветром, ее ручьи гремели мутной водой!..
Отсюда уже нельзя было разглядеть ни слепых стен низких глинобитных строений, ни узких, извилистых и грязных улиц, ни снующих по ним озабоченных прохожих с вечным выражением подозрительности на хмурых физиономиях. Теперь совсем другая Бухара – выпуклая, ясная, горделивая – оставалась за спиной. Словно по волшебству поднявшись из того, что еще недавно казалось простой глиной, она открыла небу все свои купола, фасады высоких зданий, минареты, мечети, глыбу Арка[1], окруженную дворцами, зубчатую стену вокруг, расплавленное золото блистающего озера и зеленое кружево окрестных садов и рощ.
Будь его воля, Шеравкан сорвался бы, пустился бегом – и совсем скоро, задыхающийся, но счастливый, влетел бы в городские ворота… а там рукой подать до дома! Уж от ворот-то он добрался бы, даже если б и сам вдруг мгновенно ослеп, – зачем глаза, если все переулки там знакомы до каждого поворота, до каждой щербины в глиняной стене, до каждой тутовой ветви, торчащей из-за дувала?
Но никак, никак нельзя было повернуть назад: дорога домой, в Бухару лежала через этот чертов Панджруд[2], куда он должен был проводить слепца, – и никак иначе.
Слепец держался за конец поясного платка, то и дело спотыкался и дергал. В эти моменты отчетливо слышное его дыхание прерывалось – а вдобавок он еще иногда всхлипывал, набирая полную грудь воздуха.
Не взлететь, не вернуться! – потому что обречен шаг за шагом пройти все сорок фарсахов[3]: тупо идти по неровной каменистой дороге, не пытаясь повернуть назад и не сворачивая.
Да хоть бы идти по-человечески! – а если плестись такой походкой, такой семенящей, похожей на черепашью, – нет, на тараканью, одновременно суетливую и все-таки очень медленную в сравнении с обычным человеческим шагом, – то и подумать страшно, сколько времени уйдет на эти несчастные сорок фарсахов!..
– Шагайте, уважаемый, – досадливо сказал он, оборачиваясь.
Глава первая
Шеравкан
Его томило сожаление, что он не смог на прощание увидеть Сабзину. Накануне, ближе к вечеру, в урочное время стоял у изгороди, чувствуя холодок в груди, жадно высматривая, когда же мелькнет между яблоневых стволов красное платье. Но красное платье так и не показалось. Зато примчался ее шестилетний братишка и, едва переводя дух и тараща глаза от преданности, протараторил, что, оказывается, мать увела ее по каким-то делам к тетке.
Вот тебе раз!
Раньше-то они по целым дням не расставались – играли, лазали по деревьям, бегали на выгоне с другими детьми. А года два назад им запретили бывать вместе, и теперь приходилось видеться украдкой. Благо дома рядом: по разные стороны одного забора. И, между прочим, если бы родители Сабзины и Шеравкана не состояли в родстве, этот забор был бы высоченной глиняной стеной, а вовсе не редким плетнем из кривых жердей.
Нарвав охапку луковых стрелок, фиолетовых листьев базилика, курчавых перьев кинзы и петрушки, Сабзина, оглянувшись, подбегала и протягивала руку сквозь прутья. Шеравкан брал ее в свою, и несколько мгновений они стояли и молча смотрели друг на друга. Сабзина пахла пряными ароматами трав, глаза смеялись и сияли, а тонкая ладонь дрожала: ведь она боялась, что отец ненароком выйдет на крыльцо, приметит ее рядом с Шеравканом – и в наказание отдаст замуж за другого.
Дядя Фарух так и пригрозил однажды – смотрите у меня, мол!..
Но если бы у Шеравкана были крылья, его бы это не напугало. Что ему? Он бы просто выхватил любимую из-за плетня – и унес. Как птица Симург, как могучий джинн!
Но крыльев нет, и как ослушаться? Сговор уже сделали. На туй[4] мулла приходил. Теперь, отец сказал, положено год выждать. А уж тогда он всерьез потолкует с дядей Фарухом о свадьбе.
Вот так. Год терпеть… да пока еще столкуются!.. да приготовят все нужное!..
Эх, может быть, нужно было встать раньше и на всякий случай подождать ее у ограды? А вдруг она догадалась, что он уходит в дальние края… или дядя Фарух обмолвился – так и так, мол, твой-то суженый с утра в дорогу собирается… и Сабзина тайком выбежала бы проститься?
Но куда уж раньше?
Он долго не мог уснуть накануне, все ворочался, кутаясь в тонкое одеяльце, представлял, как придется ему идти невесть куда с этим слепцом… сорок фарсахов, отец сказал… кто считал-то их, фарсахи эти… а Сабзина протянет подрагивающую тонкую ладонь… обовьет шею… потянется к губам…
И вдруг кто-то стал теребить за плечо.
– Шеравкан! Эй, Шеравкан! – говорила мама. – Просыпайся!
Звезды бледнели на темно-сером небе. Он поднял голову и заскулил, ничего еще не понимая.
– Вставай, вставай, поесть не успеешь, – ворчливо повторила она, взъерошив сухой ладонью жесткие волосы. И вдруг обняла, стала гладить плечи, приникла: – Горе мое, куда он тебя тащит! Сыночек, да увижу ли я тебя! Ведь какая дорога! Сколько злых людей кругом!
– Ой, ну пусти, – пробормотал Шеравкан хриплым со сна голосом и сел на подстилке.
– Что ты причитаешь? – прикрикнул отец. – Замолчи! Слава богу, молодой эмир Нух переловил всех разбойников! Да и туркменов отогнал подальше. А ты не стой столбом, а иди полей мне. Да быстрей, идти пора!
Шеравкан взял глиняную чашку, окунул в чан.
Он был бос, и брызги ледяной воды казались обжигающе горячими.
– Что ерзаешь? – буркнул отец, снова подставляя ладони. – Лей как следует!
Из дома тянуло запахом молока. Мать суетилась возле танура – озаренный зев печи в рассветной мгле казался пастью огнедышащего дэва.
Отец утер лицо платком, посмотрел на него и спросил вдруг и ласково, и хмуро:
– Не боишься?
– Нет, – сказал Шеравкан, помотав головой.
А слезы вдруг сами собой брызнули из глаз, и чтобы скрыть их, ему пришлось торопливо плеснуть себе в лицо остатками воды.
* * *
Небо светлело, и уже с разных концов города летели вперебив друг другу протяжные вопли муэдзинов.
Возле мечети, как всегда перед утренним намазом, сойдясь несколькими небольшими группами, толклись мужчины. Шеравкан удивлялся – ну, допустим, сегодня они с отцом маленько припозднились… но все равно – как рано ни заявись, первым не окажешься. Обязательно уже кто-нибудь стоит у входа, чешет языком с соседом. В начале лета он специально прибегал утром один, никого не дожидаясь, чтобы оказаться раньше всех, и что толку? – как ни спеши, а придешь вторым, потому что Ахмед-жестянщик уже непременно подпирает стену своей сутулой спиной. Ночует здесь, что ли?
Сейчас Ахмед-жестянщик помогал Исхаку-молчуну вытащить носилки из дверей подсобки. Исхак-молчун не только исполнял в квартале[5] дворницкие нужды, но и служил при мечети – грел воду для омовений, привозил дрова, вытрясал коврики, чистил и заправлял маслом лампы для вечерних служб.
Носилки за что-то зацепились и не шли.
– Да погоди! – волновался Ахмед-жестянщик. – Да не так же!
В конце концов совместными усилиями выволокли.
– Постой, – сказал Исхак-молчун, скребя ногтями в клокастой бороде. – А сапоги-то брать?
– Какие сапоги? – удивился Ахмед. – Зачем сапоги? Третью неделю сушь стоит.
– Как скажете, – вздохнул Исхак, прикрывая двери. – Только чтоб потом разговору не было. А то вон, когда старого Фарида носили, всю плешь мне проели. Почему сапоги не дал?.. Не дал! А почему сами не взяли? Я что, своими руками вас обувать должен? Как дети малые, честное слово. Нужны, так берите… если грязно на кладбище… я ж не виноват, что дождь. А не нужны, так какой разговор? А то сначала одно, потом другое… вечно сами напутают, а потом попреков не оберешься.
– Да не ворчи ты! – прикрикнул Ахмед-жестянщик. – При чем тут Фарид? Фарид в январе умер. Есть же разница!
– Я и говорю: грязь была непролазная. Я ничего… только чтобы разговоров не было. А то сын-то его сапог не взял, а потом на меня накинулся. А я и говорю: так, мол, и так…
– Господи, ты можешь замолчать? Вот уж послал нам Бог работничка!
– Молчать, молчать, – недовольно забухтел Исхак, почесывая корявыми пальцами седые лохмы под грязной чалмой. – Я и так лишнего слова никогда не молвлю. Потому что скажешь правду, так тебя самого же за эту правду палкой по башке. А если, к примеру, попробуешь кому…
Но тут Ахмед-жестянщик зажмурился и стал трясти головой, как перед припадком, Исхак-молчун осекся, скорбно посмотрел на него и пожал плечами, а несколько мужчин подхватили носилки, чтобы прислонить к стене.
– Здравствуйте, – сказал отец, останавливаясь. – Что случилось?
– У Камола Самаркандца невестка умерла, – сказал Ахмед, виновато разводя руками. – С вечера легла, говорит – знобит. Молока ей дали горячего. Камол хотел с утра за лекарем послать… а она под утро возьми – и вон чего.
Опустив голову, отец несколько мгновений стоял неподвижно.
– Царство ей небесное, – сказал он, огладив бороду. – Аминь.
Со стороны канала Джуйбар показался человек. Чапан[6] был накинут на голову[7]. Мужчины как по команде повернулись и проводили его взглядом. Не открывая лица, человек торопливо прошагал к дверям пристройки и захлопнул за собой скрипучую дверь.
– Дело молодое, – неопределенно сказал Ахмед. – Жизнь есть жизнь. Что делать!.. Все мы гости в этом мире.
– Вот именно, вот именно, – кивнул отец и снова огладил бороду. – Как вы верно сказали, дорогой Ахмед! Бедный Камол! Что за беда пришла к нему в дом! Ай-ай-ай! А это часом не чума ли?
– Нет-нет, что вы! Ничего похожего. Лекарь сказал, что просто у нее желчь ушла в ноги, а кровь ударила в голову. Наверное, говорит, слишком много на солнце была. Честно сказать, Камол ей и впрямь покою не давал. У него же зеленные огороды… да вы знаете – за каналом Самчан. Дневала там и ночевала. Никуда не денешься: прополка. – Ахмед вздохнул. – Аллах сам знает, как распорядиться нашими жизнями… Шеравкан тоже пойдет?
Вопрос означал, что Ахмед-жестянщик причисляет Шеравкана к взрослым мужчинам, поскольку все взрослые мужчины квартала должны были, по обычаю, проводить покойную на кладбище. Шеравкан невольно приосанился.
– Нет, Шеравкан не сможет, – ответил отец извиняющимся голосом. – И я не смогу. К сожалению, после намаза мы должны идти по делу. Нас ждет господин Гурган.
– О-о-о! – протянул Ахмед.
Он жевал губу, и было похоже, что сейчас разведет руками, оглянется на присутствующих, часть из которых внимательно прислушивалась к разговору, и воскликнет что-нибудь вроде: «Какое дело может быть важнее, чем проводить в последний путь невестку соседа?!» Но вместо этого Ахмед-жестянщик вдруг расплылся в умильной улыбке и сказал, прижимая ладони к груди:
– Дорогой Бадриддин, конечно! Все мы знаем, что только неотложные дела могут помешать вам присоединиться! Если сам господин Гурган… что вы! Не волнуйтесь, мы достойно проводим покойную.
Тут он и в самом деле развел руками и оглянулся. Исхак-молчун тоже конфузливо хмыкнул, сдвинул чалму на лоб и почесал затылок.
* * *
Сейчас-то уж все более или менее успокоилось, но Шеравкан помнил, что было в Бухаре в конце зимы – месяц или полтора назад. Проклятые карматы[8] замышляли против эмира и веры, заговор раскрылся, главарей схватили, но много еще злоумышленников пряталось среди простого народа. По городу рыскали вооруженные люди, норовя их, окаянных, поскорее перебить. Как-то раз днем отца не оказалось дома – да и откуда ему взяться, он в ту пору днем и ночью пропадал на службе. Стали стучать. Шеравкан подумал, что вернулся отец, поднял щеколду – и во двор ворвались два злых пьяных человека на серых туркменских лошадях. Правда, Шеравкан только сначала испугался, а потом вовсе не испугался и хотел сам разговаривать с ними, чтобы разъяснить, что зря они машут саблями, потому что это дом стражника Бадриддина, его отца, который не кармат никакой, а, напротив, состоит при дворце, и чтобы они убирались подобру-поздорову.
Но один из них наставил острие пики ему в грудь и, щерясь, крикнул:
– Ты кармат, парень? Батинит?
Тут, слава богу, мама выбежала из дома. Подняла такой плач и такой крик, и так размахивала тряпкой перед лошадиными мордами, и так толкала Шеравкана к дверям, что не осталось ну просто никакой возможности продолжить. А всадники, несмотря на хмель и злобу, уяснив, что здесь карматством и не пахнет, хмуро выпятили фыркавших коней за ворота и двинулись куда-то дальше. В соседнем квартале возле большой мечети разорили два дома, зарубили несколько человек… но тех ли молодчиков это было рук дело или, может, совсем других, Шеравкан не знал, как не знал и того, кто подвернулся им под горячую руку.
Теперь они с отцом шли переулками к центру города, и Шеравкана подмывало спросить, кого же именно придется ему вести сорок фарсахов до кишлака Панджруд? Но мужчины не задают лишних вопросов, это только дети недостойно ноют, чтобы узнать что-нибудь поскорее. Мужчины сурово молчат – и в конце концов им говорят все, что нужно.
Вчера отец вернулся из казарм немного под хмельком… позвал к себе, долго втолковывал, в каком деле Шеравкану будет поручено участвовать. «Ты понял меня? – и повторял, поднимая толстый палец: – Сам господин Гурган, да пошлет ему Господь тысячу лет благополучия!..» Целый час рассуждал. Мол, смотри, Шеравкан, не упусти возможность. Мы маленькие люди, а жизнь маленького человека устроена просто: показал себя с самого начала – и дело пошло. Большая, мол, река начинается с одной капли. В следующий раз господину Гургану скажут: есть один такой славный парень по имени Шеравкан, – а он и спросит: какой еще такой Шеравкан-Меравкан? – Как же какой, господин Гурган! Извольте вспомнить: это же тот, который слепца препровождал в Панджруд. Тут Гурган воскликнет: «Ах! Конечно! Как я забыл! Отличный парень этот Шеравкан, как раз такие нам нужны! Сколько ему? Семнадцати нет? Ну ничего. Записать его в третью сотню и дать самую хорошую лошадь».
Отец твердил это на разные лады. А разве Шеравкан сам не понимает? Он понимает: конечно, важное дело… еще бы не важное!.. Кому сказать – не поверит: пацану только-только шестнадцать исполнилось, а он уже на казенной службе. И получает за нее как все – полновесными дирхемами[9] исмаили́. О таком и мечтать боязно!..
Но к утру хмель улетучился, отец был хмур, ничего не говорил, да и сам, должно быть, ничего больше не знал.
Квартальные ворота открылись.
Они прошли длинной узкой улочкой между глухих глинобитных стен.
Слева лежал квартал красильщиков. Их покровитель Шейх Рангрези некогда с молитвой окунул три мотка пряжи в чистую воду, и они окрасились в три разных цвета.
Справа простирался квартал святого Джанди. Этот не позволял ездить мимо себя: как ни спешишь, а все же коли верхом, так давай спешивайся, чтобы миновать могилу, будь любезен, – а иначе святой сбросит на землю своей таинственной силой.
Улица разложилась на две, и они свернули направо в сторону квартала Шакшак. Мазар[10] тутошнего святого располагался у большого обложенного камнем пруда – хауза. Сюда стекались маявшиеся головной болью. Каждый страждущий должен был принести блюдо с вареной бараньей головой и веник. Веником он подметал сторожку, воздвигнутую над самой могилой, баранью голову съедали местные водоносы. На мазаре стоял длинный шест с хвостом яка. Поговаривали, что хвост наделен магической силой: если череда пациентов редеет, алчные водоносы трясут его, чтобы оживить в округе головную боль.
Торговые улицы в этот ранний час были сравнительно малолюдны. Торговцы раскладывали товар, мальчишки поливали и яростно мели ободранными вениками утоптанную глину перед открывшимися лавками. Впрочем, уже слышались какие-то покрики, и чем ближе к Регистану, тем оживленней становилась жизнь в торговых рядах. Груды женских туфель, вороха и кучи москательных товаров, за ними корзины, корзинки, корзиночки, коробочки, пакетики и склянки благовоний – и все это рядами! рядами! Персидская бирюза, бадахшанские лалы, золотые подвески для тюрчанок – все россыпью и кучками (и тоже ряд за рядом, в каждом из которых орут и волнуются продавцы), следом засахаренные фисташки, сушеные фрукты и халва, пряности и приправы, еще дальше кольчуги и наконечники для стрел и копий, в трех шагах от них три десятка лавчонок, торгующих жареным горохом и сушеными дынями, потом амбары чужеземных тканей (а рядом свои – синяя занданачи и роскошная ярко-зеленая иезди), и снова съестные лавки, над которыми сизый дым вперемешку со сладостной вонью плова и кебабов.
Регистан уже шумел в полную силу. Возле большого хауза теснились разноцветные палатки, убираемые на ночь, а к утру столь же быстро возвигаемые владельцами. На площади, за века избитой бесчисленными копытами до глубоких ямин и покрытой вековечным же слоем конского и ослиного навоза, шумело, орало, вопило, гоготало и ржало торжище. Ловко уворачиваясь и крича, разносчики воды и сластей рассекали толпу во всех направлениях. Толпы пеших и отряды конных толклись в беспорядке, что настает лишь в тот непреложный момент битвы, когда один полководец должен познать сладость победы, а другой – горечь поражения. Каждый здесь являлся если не продавцом, то покупателем: дров, овощей, риса, ячменя, сухих снопов джугары, мяса, хлопкового семени, кунжутного масла, верблюжьего корма, фруктов, хлеба, кур, свечей (а также всего остального, здесь не упомянутого, но столь же необходимого для жизни большого города), – и неописуемый гвалт, поднимавшийся к ярко-синим небесам и золотому солнцу тысячеславной Бухары, являлся тому неопровержимым доказательством.
Ближе к воротам Арка, хмуро смотревшего с высоты своего холма, насыпанного некогда чародеем Афрасиабом, теснились здания казенных приказов и канцелярий. Их было десять, и неровный уступчатый полукруг строений ограждал и образовывал небольшую площадь перед воротами, возле которых прохаживались несколько стражников. Слева от ворот, вплотную к стене Арка, стояли покосившиеся столбы – виселицы. Шеравкан слышал, что вчера казнили пятерых воров, но тел уже не было. Зато чуть поодаль торчали чьи-то головы на палках, и еще десятка полтора лежали на низком помосте – должно быть, разбойных туркмен… а то и разысканных где-то окаянных карматов.
– Жди здесь, – сказал отец.
И неторопливо пошел к стражникам.
Сидя на корточках и чертя пыль подвернувшимся прутиком, Шеравкан поглядывал в сторону ворот. Стражники отцу оказались знакомые, и теперь они шумно и весело говорили, причем один, усатый коротышка, то и дело покатывался со смеху и хлопал себя по коленкам.
Между тем на другой стороне базарной площади показались несколько верховых. Два охранника помахивали плетками (впрочем, толпа и сама расступалась перед оскаленными мордами боевых коней), за ними какой-то вельможа на черном хатлонском жеребце, а следом еще два мордоворота, у одного в руке копье с белым бунчуком.
Расшитый золотом чапан вельможи посверкивал на солнце.
Заметив их, отец поспешил навстречу.
– А, Бадриддин, ты здесь, – придерживая коня, протянул человек в расшитом чапане.
– Конечно, ваша милость! С самого утра, как велели.
– Ну хорошо, – сказал господин, отчего-то морщась. – Давай подходи к зиндану[11].
Он махнул камчой, конь вскинул голову и переступил. Кавалькада повернула налево и ленивой рысью двинулась к тюрьме.
– Давай, давай, – торопил отец Шеравкана, спеша за верховыми. – Пошевеливайся!
Придержав коня у ворот, вельможа нетерпеливо оглянулся.
– Доброта эмира не знает границ, – недовольно сказал он, после чего спросил, показав камчой на Шеравкана: – Этот, что ли?
Шеравкан испуганно поклонился.
– Как вы и сказали, ваша милость, – заторопился отец. – Отведет за милую душу, не извольте беспокоиться.
– Как зовут?
– Шеравкан! – звонко сказал Шеравкан.
– Ишь ты! – господин Гурган ощерил крепкие белые зубы. – Ладно, что там? – мгновенно раздражась, крикнул он. – Что копаетесь?
Между тем тюремные воротца, на живую нитку связанные из жердей и косо висящие на кожаных петлях, отворились. Придерживая саблю, толстый человек в нечистом чапане подбежал к приехавшим.
– Господин Гурган! – воскликнул он неожиданно тонким голосом. – Я ваш слуга! Как вы себя чувствуете? Молюсь о вашем здравии, господин Гурган!
Он мелко кланялся, прикладывая руки к груди. Сабля болталась.
– Хорошо, хорошо, Салих… верю, верю. Рифмоплет жив у тебя?
– Жив, – сказал начальник тюрьмы, преданно прижимая руки. – Что ему сделается.
– А хоть бы и сдох. – Гурган нетерпеливо махнул плеткой, предупреждая попытку рассказа насчет того, как хорошо живется заключенным. – Давай его сюда. Постой, возьми там… одежду ему привезли. Доброта эмира не знает границ.
Мелко кивая и бормоча, начальник тюрьмы Салих попятился и, придерживая саблю, скрылся за воротами.
Гурган снова раздраженно взмахнул камчой.
– И ты смотри, парень! Этот человек не должен побираться на дорогах. Ты понял? Эмир не оказал ему такой милости. Эмир оставил ему жизнь, но не оказал милости собирать милостыню. Хватит и того, что в тюрьме его кормил народ Бухары!
Зло посмотрел и вдруг холодно засмеялся.
– Я понял, – торопливо ответил Шеравкан, кивая. – Я прослежу. Как же, господин. Обязательно.
Минут через пять два стражника, предваряемые начальником Салихом, крепко взяв под руки, вывели из ворот долговязого человека в колодках. Он деревянно переставлял ноги и стонал. Шеравкан невольно вытянул шею, всматриваясь, и вздрогнул – человек был явно зряч. Он то жмурился, то, наоборот, широко раскрывал глаза, надеясь, видимо, тем самым умерить боль, которую при каждом шаге причиняли ему колодки; так или иначе, глаза его были совершенно живыми.
– Вот дурак ты, Салих! – сказал вельможа. – Кого ты привел?!
Начальник тюрьмы схватился было за голову и, судя по всему, хотел броситься обратно, чтобы собственноручно исправить допущенную ошибку.
– Хотя нет, погоди-ка, – морщась, сказал господин Гурган. Привстав на стременах, он хрипло выкрикнул: – Эмир рассмотрел твое дело! Признал виновным! Ты караешься смертью!
Человек то ли не услышал его, то ли не понял – все так же озирался и мотал головой.
Начальник тюрьмы подбежал и кратко скомандовал.
Стражники снова схватили человека под руки. Подведя к городской стене, потащили наверх. Это было непросто – глиняные ступени давным-давно оплыли и выкрошились.
– Да снимите с него колодки, ослы! – не выдержал Гурган.
Остановившись, один из охранников связал заключенному руки какой-то тряпкой; второй осторожно, чтобы не потерять равновесия, присел; когда распрямился, колодки свалились.
Скоро они оказались на самом верху, под такими же, как ступени, оплывшими зубцами, – на длинной узкой террасе, откуда в пору былых войн и осад эмирские лучники пускали стрелы в осаждающего неприятеля.
Базар по-прежнему шумел; когда человек полетел вниз, шум колыхнулся, как будто какое-то огромное существо ахнуло от неожиданности.
Ударившись об откос, человек тяжело шмякнулся на землю, вскочил было, тут же снова упал и, сонно поворочавшись, затих.
– Вода, вода! – уже летело над толпой. – Вот кому свежая вода!.. Финики, финики!..
– Аллаху виднее, кого чем наказывать, – меланхолично произнес Гурган.
Стражники гуськом осторожно спустились со стены. Один подошел к лежащему и попинал его мыском мягкого сапога. Тот не шевельнулся. Стражник махнул рукой и что-то крикнул. Второй недовольно отмахнулся. Первый пожал плечами и тоже побрел к воротам тюрьмы.
– Вы будете шевелиться? – крикнул Гурган. – Мурад, дорогой, угости-ка их плетью. Долго мне ждать?
Один из мордоворотов тронул коня и порысил к воротам – тоже довольно неспешно.
– Даже крестьянские волы бодрее этих скотов, – буркнул Гурган. – Чтоб вас всех!
Взгляд его снова упал на Шеравкана.
– Так что вот так, – протянул он. – Да-да, пешочком. Подойди-ка.
Шеравкан сделал два шага и остановился, когда пыльный сапог вельможи и тусклое серебро стремени коснулось его одежды. Он задрал голову, преданно глядя в лицо господина Гургана.
– Ты, я вижу, парень хороший, – сказал Гурган.
Разжал пальцы. Тускло блеснув, что-то упало возле передних копыт его лошади.
Шеравкан наклонился и погрузил пальцы в теплую пыль.
– Господин Гурган, – растерянно сказал он, протягивая дирхем. – Вы уронили.
Яма
Того, кто почему-то проникся к нему сочувствием, звали Касымом. Оторвал полу от своей рубахи, сделал ему повязку на глаза. Величал шейхом, часто начинал фразу словами «при вашей-то учености, господин». По рукам Джафар понял, что он, скорее всего, человек высокий и худой: длинные кисти, длинные же тонкие пальцы. Касым брал его ладони в свои, держал, гладил, бормоча бессмысленные и жалкие слова утешений. В полубреду начинало казаться, что это добрые руки старой няньки Махбубы. «Ну не плачь, Джафарчик, хватит, миленький мой, перестань, все прошло, ничего не болит». Вот сейчас она вытрет его слезы, нежно взъерошит волосы, даст кусок лепешки с медом, легким шлепком проводит за порог; и он выбежит к солнечному сиянию, к радостным переливам света на свежей листве; а сейчас просто крепко зажмурился, чтобы разглядеть красные яблоки, плавающие под веками.
Ближе к вечеру стражники спускали в яму бадью с водой. В образовавшейся свалке Касым ухитрялся и сам испить, и беспомощному соседу принести в шапке несколько глотков. Так же и с кормежкой: вываливали в яму корзину подаяния, собранного у базарных доброхотов[12] – объедки, огрызки, непродажное гнилье, – и в новой потасовке долговязый урывал-таки кусок-другой своему шейху. И по нужде водил его в дальний угол ямы, откуда с утра до ночи слышалось жирное гудение зеленых мух.
Часто Касым, волнуясь и шепелявя, принимался толковать о своих собственных несчастьях. Он избил сборщика податей, когда тот вознамерился забрать люльку, предварительно вывалив из нее дитя, – ничего более подходящего для уплаты положенного налога мытарь в кибитке не нашел. Через день приехали конные, схватили Касыма, но не казнили сразу, а привезли сюда и бросили в эту зловонную яму к другим ее несчастным обитателям; и теперь он надеялся, что эмир, да ниспошлет ему Господь триста лет благоденствия, разберет дело и оправдает.
Впрочем, каждый тут ждал, что эмир доищется в его деле правды и поступит по справедливости. Один получил в наследство крепкий дом на хорошем участке. Дом приглянулся высокому чиновнику. Чиновник захотел его приобрести. Владелец не продал. Тогда его обвинили в том, что он беззаконно покушался на дочь этого чиновника. Нашлись свидетели, своими глазами видевшие то, чего не было, и готовые поклясться в своей честности хоть на Коране, хоть на самой Каабе. Пятый год несчастный домовладелец томился в аду. Другой был военным пенсионером – ежегодно получал небольшое казенное содержание – и явился в столицу, когда не дождался очередной выплаты. С солдатской прямотой шумнул в учреждении, добиваясь положенного, и по приказу раздраженного мустауфи – начальника финансового управления – был брошен в яму, благо что от канцелярии до зиндана рукой подать. Третий… да что там: все истории походили друг на друга, а необъяснимая уверенность в грядущем торжестве справедливости и вовсе у всех была одинаковой: она-то и помогала дожидаться светлого дня, не сойдя с ума, не разбив голову о плотную глиняную стену ямы.
Время текло медленно… вязкое время. Прожил день – думал, второго не переживет. Ничего, прожил и второй… третий… десятый. Дни не отличались друг от друга, только в четверг, в день самого богатого базара, им вываливали не одну, а две корзины объедков.
Прошел месяц, и он еще твердо надеялся на близкий конец.
Но стукнула вдруг роковая минута: хрипло бранясь, стражник требовал чего-то, и Касым вскинулся с теми самыми звуками, с какими всегда вскидываются всполошенные; на мгновение замер, невнятно запричитал, сказав дрожащим голосом:
– Это меня! Прощайте, шейх! Дай вам Бог!
Схватил напоследок ладони Джафара, приложился губами, разжал пальцы – и все, и пропал, и руки Джафара снова остались в пустоте.
Послышался шум краткой суматохи, который легко было разгадать: Касыма вытаскивали наверх. Загалдели, кратко брякнули чем-то (должно быть, надели колодки) – и все стихло.
Оставшиеся в яме, болезненно взбудораженные случившимся, выли и стонали. Кто-то расслышал брань одного из тюремщиков, и по всему выходило, что Касыма решили отпустить домой. Но минут через десять выяснилось другое: его кинули со стены.
Джафар прижал осиротевшие ладони к щекам – и неожиданно для самого себя тоже тихо завыл.
Несколько мгновений назад нельзя было и представить, что мрак его беспросветного несчастья можно еще хоть чем-нибудь всколыхнуть, но вот забрали и убили Касыма – и в прежней черной боли появилась еще одна боль, во тьме – еще одна чернота, отчетливая, как саднящее зияние на месте зуба.
Он бессмысленно завыл, схватившись за голову и раскачиваясь, – будто раньше не понимал, что в какую бы пучину несчастья ни был погружен человек, все равно проклятая судьба всякую минуту готова предъявить ему новый счет и новую беду.
Через недолгое время снова хрипло крикнули с края ямы – настойчиво требовали слепого: вы слышите там?! слепого, слепого сюда!.. а то опять не того, будь оно все неладно!.. вечно все наврут, разорви тебя пополам!..
– Слепой! Где слепой?
Наклонив голову и прислушиваясь, помедлил откликнуться. Может быть, он не один слепой. Может быть, здесь есть еще слепые?
– А хромой не нужен? – Вой и гомон взбудораженных обитателей ямы перекрыл плаксивый голос. Джафар различал кое-кого; это был болтливый дервиш, страдавший за отрицаемое им воровство. – Или безрукий? Меня возьми – я безголовый! Что за несправедливость? Одних берешь, других оставляешь!
– Вот я сейчас возьму! – пригрозил стражник. – Со стены давно не летал? Полетаешь еще. Слепой-то где?
Кто-то молча толкнул – тебя!
Он встал. Качнуло – едва удержался на ногах.
– Держись, ну!
Кто-то еще – или тот же? – помог взяться за петлю скользкого ремня.
– На-ка вот, держи… сейчас вытянут.
– Давненько эмир не посылал нам угощений со своего стола! – вопил дервиш. – Эй, братан! Увидишь эмира – передай: старый Исламшо соскучился по его яствам!
Должно быть, солдат изловчился кольнуть острием пики – дервиш взвизгнул и отскочил подальше.
– Давай, – предложил стражник со смешком. – Скребись!
Это было точное слово: схватившись за петлю, Джафар нащупал неровную глиняную стену ямы, заскребся – и тогда уже кто-то схватил его под мышки и бросил на край.
Больно ткнувшись щекой и подглазьем в сухую глину, он инстинктивно сделал несколько движений, чтобы отползти дальше. Потом сел, тяжело переводя дыхание.
– Раздевайся.
– Что?
– Снимай с себя все.
Что-то мягко упало рядом. Пощупал – тряпье.
– Одежду тебе послали, – недовольно сказал стражник.
– Кто послал?
– Кто, кто. Шевелись, сказал.
Голова кружилась.
Покорно стащил с себя чапан, швырнул в сторону. Нашарил в кипе новый… вот он… что еще?.. это рубаха… а это?.. штаны… платок… вот и сапоги. От новой одежды пахло свежестью, от сапог – новой кожей; только сейчас почуял: должно быть, обоняние, убитое вонью зиндана, возвращалось к нему.
– Все, что ли? – недовольно спросил стражник. – Это в яму кинь… А, черт! – Раздраженно шаркнул сапогом, сваливая вниз тряпье. – Ладно, иди… да не туда!
Джафар послушно побрел, вытянув перед собой руки и спотыкаясь. Сопровождающий направлял его движение, тыча чем-то твердым в бока, – должно быть, ножнами. Дорога была неровной. Солнце уже осветило площадь – щека чувствовала едва уловимое тепло.
Они шли, шли… кажется, вышли из ворот… куда теперь?
– Стой, – сказал наконец стражник. – Вот он. Принимай.
– Здравствуйте, уважаемый, – услышал Джафар мужской голос.
Джафар молча остановился.
Слышен гул базара. Справа, казалось, есть еще люди… пахнет конским потом… точно: в нескольких шагах фыркнула и переступила лошадь.
Стоявший перед ним откашлялся.
– Уважаемый, слышите? Вот этот мальчик будет вашим провожатым. Он отведет вас в Панджруд… вы слышите меня?
– Здрасти, – еще один голос.
Мальчик? Какой мальчик? Разве здесь место мальчикам?
– В Панджруд? – пробормотал Джафар, не понимая смысла.
– Так приказано, – пояснил тот. – Вот с ним пойдете, с сыном моим. И вы не должны просить милостыню. Эмир не оказал вам такой милости. Слышите?
Ноги ослабли. Джафар неловко сел на землю и опустил голову. Жар прихлынул к глазам, и он с трудом подавил рыдание.
Снова фыркнула лошадь. Звякнула пряжка. Морщась, повернул голову на звук.
Там кто-то сказал негромко:
– Вот каков он теперь, полюбуйтесь.
«Вот каков он теперь» – это о нем?
И голос, голос… Гурган?!
Лошади шатнулись, шагнули… неспешно застучали копыта.
Уезжают!
Кинуться!.. запрыгнуть в седло за его спиной!.. вгрызться в горло!
Тьма, тьма вокруг!
Тьма!..
Он неслышно застонал.
– Вы поняли меня?
– Что?
Низкий гул стоял над Бухарой. Гул жизни. Шум существования. Оказывается, его не будут казнить. Почему?
Трепетала в груди готовая порваться струна.
– Уважаемый! Я вам в третий раз говорю: вы должны идти в Панджруд. Вас поведет вот этот мальчик. И вы не должны просить милостыню. Поняли?
– Просить милостыню? – От мгновенного возмущения рука потянулась, чтобы сорвать наконец с глаз проклятую повязку. И замерла. – Да на кой черт мне просить милостыню?!
Ответа не последовало – должно быть, собеседник просто недоуменно пожал плечами.
– Как тебя зовут? – властно спросил Джафар.
– Бадриддин, – ответил человек.
– Что ты несешь, Бадриддин? Какой Панджруд? Мне не надо в Панджруд. Мне домой надо, а не в Панджруд. Послушай-ка, Бадриддин, дорогой. Найди где-нибудь лошадь. Или повозку. Отвезешь меня к мечети Кох… я там живу. Знаешь мечеть Кох?
– Я знаю мечеть Кох, уважаемый. Но…
– Я тебе хорошо заплачу… Нет, подожди! лучше сам беги туда… найдешь дом Джафара, тебе всякий покажет. Спросишь Муслима… скажешь – мол, так и так… хозяин нашелся. Пусть гонит сюда. Ты понял? Давай иди. Я тебя не обижу.
Справа, оттуда, где переминались лошади, послышалось что-то вроде смешка.
– Видите ли, уважаемый, – со вздохом сказал Бадриддин. – У вас нет дома в квартале Кох. Ваш дом… э-э-э… тот дом, что был вашим… он теперь принадлежит другому человеку. Понимаете?
– Как это? – тупо переспросил Джафар.
– И слуг ваших тоже нет. Эмир распорядился отдать вас под надзор родственников. Как неимущего. Если бы у вас был кто-нибудь в Бухаре… но у вас никого нет в Бухаре, уважаемый. Вы должны идти на родину, в Панджруд.
– Неимущего? – непонимающе повторил он.
Бадриддин замолчал.
Джафар хотел произнести имя – и не смог: голос отказал.
Справа снова что-то брякнуло… шумнуло… негромко стучали копыта, удаляясь.
– Гурган? – сипло выговорил он в конце концов.
– Вставайте, уважаемый, – вздохнул Бадриддин. – Вставайте.
Палка
Слепой сидел на камне, повернув лицо к солнцу.
Лицо его было узким, и засаленная повязка только подчеркивала это. Щеки впалые, худые и темные. Борода серебрится на солнце. Нос тонкий, а ноздри то и дело раздуваются. Войлочный кулях на башке. Такой грязный кулях, что противно смотреть. Где он взял такой кулях? Шеравкан сразу приметил – вся одежда новая, а кулях – будто с другого нищего снял. Губа закушена. Вечно он грызет губу.
В общем, неприятное лицо. Несчастное какое-то… злое, обиженное. И всегда голова немного запрокинута – то ли ворон считать собрался, то ли из-под повязки своей на дорогу хочет посмотреть… чем ему смотреть на эту дорогу?
Шеравкан отвел взгляд и спросил:
– Ну что, отдохнули?
Тот, помедлив, встал. Он был высок ростом, но сутулился, как будто стараясь быть меньше. Неуверенно протянул руку.
Морщась, Шеравкан помог ему нащупать конец своего поясного платка. Потом вытер ладонь о штаны – рука слепца была влажной, в испарине.
* * *
Широкая конная тропа сбегала в пологий сай, показывалась на противоположном склоне и снова терялась в темных зарослях. Вдали в курчавой зелени пестрели глиняные кубики большого кишлака. В разбредшихся по увалам садах еще кое-где доцветали яблоневые и вишневые деревья, и порывы теплого ветра приносили то запах скошенной травы и дыма, то сложный аромат цветов и зелени.
Правой рукой слепец цепко держался за пояс поводыря. И все равно шагал неловко, неуверенно. То и дело задирал голову, как будто пытаясь взглянуть-таки из-под повязки, и лицо у него было напряженное и сердитое. И дергал, когда оступался.
Это раздражало Шеравкана.
Ему казалось, что они идут слишком медленно.
На его взгляд, слепцу следовало встряхнуться и шагать тверже. Ведут тебя, так давай шевелись. А он все ощупкой норовит. Ногу ставит боязливо – будто край обрыва нашаривает. И голову задирает. Что толку? Разве еще не понял, что к чему? Задирай, не задирай – ни черта не увидишь… лучше б ногами двигал. Уж если пошли, так надо идти. А иначе как?
Отец говорил, что им неспешной дороги дня на четыре. Пять – от силы. Но отец имел в виду, что если на лошади. Он ведь так и сказал – отвезешь его. А вовсе не отведешь.
Вообще, непонятно, почему им не дали лошадей. Нет, ну правда, дали бы пару. Хоть плохоньких. Шеравкан на первой, вторая в поводу. Сидел бы сейчас, развалясь в седле, похлопывал камчой по голенищу. А как в кишлак въезжать – так приосанился бы, нахмурил брови, повод взял покруче да покрепче. Копыта между глухими дувалами – цок-цок, цок-цок! Ему наплевать, конечно, а ведь наверняка смотрит какая-нибудь украдкой – ишь, какой ладный наездник! «Эй, красавица! Где дорога на Пенджикент?» Любая смутится – голос у Шеравкана густой, басовитый. Дядя Фарух смеется: ой, говорит, из-за занавески услышишь – испугаешься! Это он шутит так. Испугаться, может, и не испугаешься, а вот что парню всего шестнадцать, точно никогда не подумаешь.
Да, на коне – дело другое!
А так плестись – что ж?
Сорок фарсахов, сказал отец. Так и сказал – мол, кто их мерил-то, фарсахи эти. Чуть больше, чуть меньше… фарсахов сорок, короче говоря. Вот и считай. Лучший скороход за час проходит один фарсах. И то ему сорок часов бежать – конечно, если найти такого, чтоб не ел, не спал, а только дорогу пятками обмолачивал. А так-то, по-черепашьи, сколько им тащиться? Если б этот хоть шагал по-человечески… так нет. Семенит…
– Не дергайте так, уважаемый, – хмуро сказал Шеравкан. – Давайте постоим, что ли. Не дай бог заденет.
Два желтых вола нехотя влекли визжащую арбу. Давно нагоняют. Волы – они и есть волы. Ленивая сволочь. Тоже не шевелятся, хоть и зрячие. Вон слюни какой вожжой распустили. Спят на ходу. А хозяину, видать, все равно – быстро, медленно. А что? Навалил коряг да и сиди себе, подремывай. Волы сами довезут.
– День добрый, – сказал седок.
– Добрый, – кивнул Шеравкан и зачем-то спросил: – На продажу дровишки-то?
– Да какой там, – отмахнулся тот. – Ну, дай вам бог.
Было похоже, что необходимость пошевелить языком вынудила погонщика взбодриться. Он бодро хлестнул равнодушную животину измочаленным прутом и загорланил что было мочи:
– Принеси мне глины, ла-а-а-а-асточка!..
Снова замахнулся:
– Ну, чтоб вас разорвало!
И продолжил:
– Подари тростинку, го-о-о-орлица!..
В эту секунду Шеравкан случайно взглянул на слепца – и впервые увидел его улыбающимся. Песня его тронула, что ли? Песня известная, грустная, у него самого, бывало, комок к горлу подкатывал, когда отец напевал негромко: «Я себе хоромы выстрою, заживем с тобой, любимая!»
Улыбка слабая, тусклая – вроде и не улыбка даже. Может, просто показалось. То же самое лицо – худое, недоброе. Нет, все-таки чему-то улыбался.
– Пойдемте, уважаемый, – сказал Шеравкан, с тоской оглядываясь туда, где еще виднелся город. – Пойдемте.
Но слепец отстранил его.
– Парень! Погоди!
Возница оглянулся. Слепец не мог этого видеть, однако махнул рукой так, будто был уверен, что тот заметит его жест.
Волы встали.
– Чего вам, уважаемый? – спросил погонщик.
– Ты, я слышу, песни поешь, – с хмурой усмешкой сказал слепец.
– А что не петь? – удивился тот.
– Пой на здоровье… хорошая песня, душевная. А скажи, не пожертвуешь ли страннику какую-нибудь палку?
– Палку-то?
Аробщик сдвинул на лоб свой плоский, как блин, кулях и с сомнением почесал затылок.
Шеравкан ждал, что он сейчас скажет что-нибудь насчет того, что палка на дороге не валяется. Палка денег стоит. Так оно и есть, конечно. Бухара степью окружена, дерево в цене. Но все-таки за один фельс – самую мелкую медную монету – целую охапку дают. Небольшую, правда. Казан воды вскипятить – и то не хватит.
– Ну что ж, – протянул погонщик.
Он обошел свой воз, приглядываясь. Подергал одну хворостину, потом другую; чертыхнулся. В конце концов вытащил какую-то. Вынул из-за пояса тешу, посрубал сучки.
– Вот вам, уважаемый. Пользуйтесь.
Слепец взял, ощупал; оперся, потыкал; погладил, поднес к носу свежий сруб, удовлетворенно кивнул:
– Подходящая. Спасибо тебе.
– Да не за что, – отмахнулся тот, карабкаясь на воз. – По вашему положению без палки никуда. Здоровья вам.
И замахал над головой хворостиной, заорал на всю округу:
– Ну, разумники!
* * *
Прошли не больше ста саженей.
– Да не дергайте же так! – раздраженно крикнул Шеравкан, оборачиваясь. – Сколько можно?!
Вместо ответа слепец, злобно оскалившись, изо всех сил рванул его за поясной платок, отчего Шеравкан едва не упал, а сам отступил на шаг, занося свою новую палку.
Шеравкан отскочил в сторону. Посох с треском ударился о камень.
– Сволочь! – рычал слепой, тыча им перед собой, как румийским мечом. – Мерзавец! Иди сюда, я разобью тебе башку! Пошел вон! Брось меня здесь, шакалий сын! Слышать тебя не могу! Лучше сдохнуть, чем это терпеть!
Он задохнулся и смолк.
Ветер шуршал травой.
– Что с вами? – хмуро спросил Шеравкан. – Вы с ума сошли?
Слепой не ответил. Тяжело дыша, оперся о посох. Склонил голову, ссутулился, обмяк.
Шеравкан не знал, могут ли незрячие плакать. Да и под повязкой слез все равно не увидишь.
– Ну ладно, – хмуро, но все же примирительно сказал Шеравкан, делая шаг к нему. – Простите меня, уважаемый. Просто вы…
– Уважаемый! – передразнил слепец, поднимая голову. – Многоуважаемый! Почитаемый! Высокочтимый!.. Болван! Джафаром меня зови. Понял?
– Понял, – кивнул Шеравкан, решив не обращать внимания на грубость. – Хорошо, уваж… гм!.. Джафар. Пойдемте?
Слепец упрямо отвернулся, перехватив посох и оперевшись на него обеими руками.
Потом спросил:
– Мы сколько прошли?
– Сколько прошли!.. Мало прошли. Четверти фарсаха не будет, вот сколько прошли.
Тот тяжело вздохнул и перехватил посох удобнее.
Джафар
Дорога.
Сколько дорог было в жизни?
От самой первой остались в памяти какие-то обрывки. Зима, снег… постоялый двор на краю большого кишлака… ощущение чего-то огромного… холодок открывавшегося мира. Лоскутки, из которых уже ничего не сшить. Сорок с лишним лет назад – когда дед Хаким отпустил его, мальчишку, в Самарканд. Шестнадцать было, что ли? Ну да, примерно как этому хмурому джигиту. Все так в жизни. Пойдешь на несколько дней или месяцев, оглянешься – сорока лет как не бывало. В первый раз он ехал – дед дал коня. В последний – идет пешком. Точнее, ковыляет. И деда давно нет. Зато сам он как дед…
Должно быть, дед его любил. Никогда впрямую не говорил об этом. Он вообще был жестким человеком. И не очень разговорчивым. Позже Джафар понял, что ему, возможно, приходилось быть таким. Разве сможешь поддержать устройство мира, если ты мягок? Колонны строят из дерева и камня, а не из ваты.
Вот и дед старался быть камнем, железом! – и когда супил брови, трепетало все живое вокруг.
Но уже старел, должно быть, – мягчел, смирялся, подчас поражая близких неожиданной податливостью.
Подзывал, сажал на колени. Горделиво рассказывал, как командовал когда-то конницей Абу Мансура.
Джафар никак не мог взять в толк, чем дед гордится. Князь Абу Мансур был давно и прочно всеми на свете забыт. Ладно, можно не говорить про конницу, но армия в целом у него все равно оказалась никудышная. А иначе почему его победил собственный брат – Абу Исхак? Войска разбил, самого Абу Мансура пленил и зарезал. Деда, правда, помиловал, позволил встать под свои знамена простым конником. Чем тут гордиться? Служил одному, теперь служишь другому… чем они отличаются друг от друга?
– А потом эмир Исмаил Самани разметал недолгое величие Абу Исхака! – говорил старый Хаким, качая седой головой, и в голосе его снова звучали гордость и изумление тем, с какими людьми пришлось ему коротать век. – Великий эмир Самани забрал себе главную драгоценность мира – Бухару! Да пошлет ему Аллах тысячу лет благоденствия!..
Надо полагать, дед был готов и Исмаилу служить так же, как служил другим, но неотложные дела потребовали его присутствия в Панджруде: тамошняя голота заволновалась. Он взял короткий отпуск и направил стопы в родовое гнездо, чтобы за неделю-другую навести порядок и вернуться. Однако пока порол сволоту (лишь с зачинщиками обошелся круче – одного повесил, другого же приказал, не умерщвляя, порубить на ломти, отчего бунтарь в скором времени отдал Богу душу), пока по-отечески вразумлял подданных, восстанавливал закон и внушал благоразумие, пока налаживал заново привычный порядок оброка, пока разбирался с женами… короче говоря, сам не заметил, как присиделся.
К тому времени, слава Аллаху, и дети подросли – нашлось кому вместо него ехать махать мечом в расчете на будущую милость очередного эмира.
Среди окрестных князей-дихканов дед был, пожалуй, самым бедным. Бывало, расхаживал в грязном и рваном чапане – но все же перехваченном не веревкой, а золотым поясом, знаком дихканского достоинства. На поясе висело два тяжелых кинжала, следом шагал телохранитель Усман, при необходимости исполнявший и должность палача.
Почти четверть подвластного Хакиму Панджруда занимал его собственный замок: разросшийся, расползшийся многочисленными пристройками дом – не дом, а улей, в самой сердцевине которого коротала дни опоясанная золотым поясом матка.
Личные покои составляли несколько спален, одна из которых примыкала к небольшой мечети, укромная каморка казны, где хранилось самое ценное имущество, и комната приемов – здесь Хаким вершил суд и расправу над чадами, домочадцами, многочисленными рабами и крестьянами, отличавшимися от рабов только тем, что они были вынуждены сами заботиться о своем пропитании.
Вторым кругом шли горенки жен и наложниц. Часть из них выходила на галерею, а все вместе (с пекарней, кладовой, конюшнями и колодцем) представляло собой самодостаточную вселенную, к которой снаружи лепились убогие жилища простолюдинов.
Детей у Хакима было много. Старшие сыновья – в том числе и отец Джафара – давно выпорхнули из отцова гнезда, пополнив собой служилое сословие. Младшие были сверстниками Джафара – Ислам, Ильхан, Фархад, Бузург, Шамсуддин, самый маленький – Шейзар.
Не мальчишки – львята! Один только Джафар – правда, не сын, а внук Хакима, сын сына его Мухаммеда, мальчик от пугливой раштской[13] девчушки, – квашня квашней.
Что с ним делать? Был бы и в самом деле тестом, так хоть лепешку испечь, а так куда? Но какой-никакой, а все же внук, со двора не сметешь. В мать, должно быть, – огорчался дед Хаким. Слишком мягкая была, слишком слабая. Такие не живут долго, вот и она не вынесла тяготы первых родов… да что говорить!
Да-да! – весь в мать, ничего от отца… а ведь отец его сильным воином был.
– Твой отец погиб в той битве, когда великий эмир Самани разбил Амра Саффарида!
Так старик говорил.
Джафар слушал его рассказы, и картины прошлого, грозно вздымаясь из небытия, плыли перед глазами, сменяя друг друга, подобно пышным весенним облакам, скользящим по яркому небу. Тяжелые, грубые, как будто высеченные из камня: при одном лишь взгляде на них сердце начинало трепетать и биться чаще. Все в них внушало страх, все грозно подрагивало от избытка мощи, все было больше и значительней настоящего. Огромные кони мотали тяжелыми вороными гривами, косили горящими глазами, удары копыт крошили камни и высекали искры, золотая упряжь слепила взор. Кольчуги сияли, островерхие шлемы лучились гранями, неподъемные мечи, в мощных десницах богатырей казавшиеся тростинками, сверкали ярче солнца.
И как знойное марево, струясь над песком и камнями, заставляет дрожать и крениться дальние скалы, так и струение смерти, трепеща и волнуясь, оживляло суровые лица бесстрашных бойцов: казалось, витязи снисходительно улыбаются мальчику, зачарованно глядящему на них из смутной дали неизвестного будущего.
* * *
Жили-были два брата – старший Якуб и младший Амр.
Якуб ибн Лейс Саффарид, вечно пребывавший в состоянии злобной остервенелости, прославился тем, как ответил послу халифа на предложение мира и дружбы. Якуб приказал принести деревянное блюдо, положить на него зелень, рыбу, пяток луковиц, затем распорядился ввести посла, усадил его и сказал, трясясь от ненависти:
– Передай своему хозяину, что я сын медника! В детстве моей пищей были ячменный хлеб, рыба и зелень! Власть, войска, оружие и сокровища я не от отца унаследовал, не от халифа получил в подарок! – сам добыл своей удалью и львиным мужеством! Передай, что не успокоюсь, пока не возьму в руки его голову, – а иначе, клянусь Аллахом, пропади все пропадом, снова буду жрать ячменный хлеб, рыбу и траву!
Брат его Амр, наследовав умершему коликами Якубу, отказался от идеи воевать Багдад, получил от халифа ярлык на Хорасан, избрал столицей Нишапур и стал мирно править своими землями (пределы которых столь расширились благодаря осатанелости Якуба). Народ его любил: он был человеком нравственным, разумным, бдительным, правил умело; хлебосольство Амра было таково, что кухню возили за ним на четырехстах верблюдах.
Государство Амра благоденствовало, армия крепчала. У халифа возникли сомнения: не предпримет ли в один прекрасный день столь миролюбивый ныне Амр то, к чему так рвался покойный брат его Якуб?
Кого-то нужно было использовать в качестве противовеса, а поспорить с Амром о правах на владение Хорасаном мог только Исмаил Самани, владетель Бухары.
К Исмаилу зачастили посланники. Одни сообщали мнения повелителя правоверных устно, другие привозили пространные письма.
– Восстань на Амра, сына Лейса! – писал халиф. – Двинь войска, отними царство! Ты имеешь больше прав на эмирство в Хорасане: эти владения принадлежали твоим предкам. Следовательно, во-первых, за тобою – право. Во-вторых – твои похвальные качества. В-третьих – мои молитвы! Верю, что Всевышний окажет тебе поддержку. Не смотри, что у тебя немного войска, а прислушайся к тому, что говорит Господь: «Сколько раз небольшие ополчения побеждали многочисленные армии!» Бог с терпеливым!
И в конце концов Исмаил решился.
Он перешел Амударью с двумя тысячами всадников. Каждый второй из них владел щитом, каждый двадцатый – кольчугой. На пятьдесят человек приходилась одна пика, и наличествовал некий оборванец, который из-за отсутствия вьючного животного был вынужден привязать доспехи к седельным ремням собственной лошади.
Когда Амру ибн Лейсу сообщили об этом войске, он рассмеялся и сказал:
– Клянусь Аллахом, я им покажу звезды при свете дня!
Что касается своего собственного войска, то Амр держался строгого обычая. Было у него два барабана – «мубарак» и «маймун». Как наступал конец года, Амр приказывал бить в оба, чтобы все воинство узнало – наступил день награждения. Казначей высыпал перед собой груду дирхемов, начальник войска читал реестр. Первым выкликалось его имя – Амра, сына Лейса. Амр, сын Лейса, выступал вперед. Начальник войска строго оглядывал его одеяние, коня и оружие, проверял принадлежности, хвалил и одобрял. После чего отвешивал положенные триста дирхемов, высыпал в кису. Амр совал жалованье за голенище и говорил: «Хвала Аллаху, Всевышний Господь отличил меня послушанием повелителю правоверных!» Затем он восходил на положенное ему место, садился и смотрел, как начальник войска таким же порядком осведомляется о каждом. Лошади были в панцирях, оружие и снаряжение – в полной готовности.
Но воистину судьба – ненадежная крепость.
Когда армии сошлись, почему-то случилось так, что Амр был разбит: после первой же сшибки, потеряв всего десяток человек, все семьдесят тысяч его невредимых всадников обратили холеных коней в паническое бегство.
Начавшись после утреннего намаза, дело кончилось уже ко времени дневного, а промедливший Амр ибн Лейс оказался в плену.
Горестно помолившись, знатный пленник заметил одного из бывших своих обозников, неприкаянно бродившего по лагерю победителей. Подозвал:
– Побудь со мною, я остался совершенно один. Да приготовь что-нибудь поесть: как ни печалься, а пока жив, все равно не обойтись без пищи.
Обознику стало жалко поверженного владыку. Он раздобыл кусок мяса, попросил взаймы у чужих солдат железный котелок, собрал сухого навозу, положил друг возле друга пару булыжников, развел огонь, поставил мясо на огонь и отлучился поклянчить соли.
В это время к очагу подбежал невесть откуда взявшийся пес: сунул морду в котелок, схватил было кость, обжегся и отдернул морду; стоявшая вертикально дужка котелка упала ему на шею, пес с визгом кинулся прочь, унося с собой раскаленную кастрюлю.
Увидев это, Амр ибн Лейс обернулся к вражескому войску и сказал, смеясь:
– Воистину, судьба переменчива: утром мою кухню везли четыреста верблюдов, а вечером унесла одна собака!
Между тем Исмаил, собрав вельмож и войсковых начальников, сказал:
– Эту победу мне даровал всемогущий Бог, я никому не обязан этой милостью, кроме Господа, да будет возвеличено Его имя.
Помолчал, переводя тяжелый взгляд с одного лица на другое и как будто ожидая возражений. Не дождавшись, продолжил:
– Этот Амр, сын Лейса, – человек большого великодушия и щедрости. Он владел оружием и большим войском, рассуждением, правильностью и неусыпностью в делах, он был хлебосолен и справедлив. Мое желание таково: постараюсь, чтобы он не претерпел никакого бедствия, провел остаток своей жизни в благополучии.
Когда слова Исмаила дошли до ушей Амра ибн Лейса, он, великодушный, но пораженный великодушием победителя, решил не сдаваться в этой битве великодуший.
Несколько дней он сидел на тюке с сеном, перебирая четки; борода его в эти дни сильно поседела, голос сел. Придя к итогу своих размышлений, Амр попросил аудиенции.
Сославшись на нездоровье, осторожный Исмаил прислал к нему доверенное лицо.
– Ну хорошо, – разочарованно сказал Амр. – Тогда передай Исмаилу вот что. – Он прикрыл глаза веками, подбирая слова. – Скажи так: меня разбил не ты, но твои благочестие и праведность. Бог, преславный и всемогущий, отнял у меня государство и вручил тебе. Я согласен с волей Аллаха. И ничего не желаю тебе, кроме добра. Ты достиг желаемого: твоя держава пополнилась. Будто переспелый плод, Хорасан сам упал тебе в руки. Вместе со своей столицей – золотым Нишапуром. У тебя стало много забот. Тебе понадобятся деньги. А у меня остались от брата большие сокровища. Я дарю их тебе! Вот список.
Распустил завязки рубахи и достал свернутый в трубку лист пергамента.
Исмаил долго перечитывал: то, хмыкнув, задумчиво сворачивал, то снова принимался изучать.
– Хитрюга этот Амр, – в конце концов сказал он, в сердцах хлопнув по коленке трубкой пергамента. – Хитрец! Догадливый хочет выскользнуть из рук недогадливых. Но он меня не перехитрит.
– Что вы имеете в виду? – спросил визирь.
– И Якуб говорил, и Амр повторяет: наш отец был медником. Хороши медники! Что-то не видывал я прежде, чтобы медники владели такими сокровищами. Если ты сын медника, откуда богатства? – силой отнимали. Все, до чего дотягивались руки, они обращали в свои динары и дирхемы. Подумать только! Жалкое имущество чужеземцев и путешественников, пожитки убогих и сирот… даже носки, связанные на продажу несчастными старухами! Ведь так?
Визирь пожал плечами и кивнул, соглашаясь:
– Скорее всего.
– Завтра ему держать ответ перед Господом, а сегодня он ловчит, норовя переложить свои грехи на мою шею. Его спросят на Страшном суде – и он с чистым сердцем ответит: «Все, что было у нас, препоручили мы Исмаилу, у него и требуйте!»
Он был в таком гневе, что визирь невольно зажмурился.
– Спасибо! Я не так силен, чтобы ответствовать перед гневом Аллаха. Верни ему, – сказал Исмаил, отшвыривая пергамент. – Я разочарован.
* * *
Да, в этой странной, не успевшей толком начаться битве (произошедшей как будто специально, чтобы показать, как легко птица удачи перелетает из одних рук в другие), насчитали всего десятка два убитых. Одним из них оказался отец Джафара. На всем скаку и совершенно неожиданно Мухаммед ибн Хаким встретился с тяжелой кипарисовой стрелой, искавшей жертву в полупрозрачном знойном воздухе. Она угодила в узкую щель между воротником кольчуги и подбородником шлема, пробила горло и мгновенно перенесла несчастного с дымящегося поля брани – обычно покрытого тучами бурой пыли, оглашенного лязгом, ревом, ржанием взбешенных коней и надсадными стонами умиравших, – прямо в тихие райские кущи, где у нежной прохлады хрустальных бассейнов полногрудые гурии радостно встретили доблестного воина чашами алого вина.
Славно бился, славно погиб! А маленький Джафар – нет, не в отца!
Чуть подрос, дед взялся переделывать натуру внука, упрямо выковывать в нем рыцарские качества. В строгости держал, в движении. Плачешь? – не плачь. Посмотри на Шейзара. Ведь младше тебя, а не плачет. Почему есть не хочешь? – ешь, должен сильным быть. Не натянешь тугой лук? – вот тебе поменьше. Меч велик? – держи сабельку. Седло? – ну, седел других не бывает, как и лошадей… не на баране же тебе ездить. Сиди уж как-нибудь во взрослом. Вон, смотри, как Шейзар скачет!
Воспитывал, воспитывал… потом увидел однажды, как Джафара тузит пятилетний сын повара. Сорванца на конюшню, повара в яму, внука пред светлые очи – ты что?! Размазня! Ты на два года старше! Почему сам не ударишь?! Уж не говорю, что раб не смеет тебя пальцем коснуться!.. но все же, сынок, внучек ты мой, почему ты не стукнул его в ответ?
Джафар молча теребил полу, потом поднял черные от горя, полные слез глаза:
– Дедушка, ему же больно будет…
Ах, чтоб тебя!
То ли дело Шейзар!
Они росли вместе, были неразлучны и лет до трех казались близнецами, хоть и появились на свет от разных матерей.
С годами это сходство истаивало. Шейзар и на самом деле был совсем другой. Верткий, сильный, цепкий, всегда охваченный каким-нибудь новым порывом, страстным желанием, исполнение которого не терпело даже минутного промедления. Когда охота, широким пожаром гудящая в тугаях, наваливалась на кабанье стадо, мальчик Шейзар, скалясь и вереща, как ошалелый кот, обгонял взрослых братьев и егерей, чтобы первым рубануть по загривку освирепелого секача. Чуть что не по нему – за нож: однажды из-за какой-то ерунды пырнул раба-прислужника; прибежал возбужденный, взахлеб рассказывал Джафару, как, оказывается, это легко: одно движение – и, став белее речной воды, человек уже не может ничем ответить.
Джафара замутило. А старый Хаким пожурил младшенького – мол, что же ты, испортил хорошего раба. Не надо было; теперь если и выживет, будет болеть целый год. Тем дело и кончилось. Понятно, безжалостность – одна из главных составляющих столь ценимого всеми рыцарства.
Военному делу мальцов старого Хакима учил хромой вояка Шакир. Некогда он служил под знаменами Афшина Уструшани – командира одного из самых боеспособных корпусов армии Багдада. Джафар, как ни силился, сроду не мог попасть стрелой даже в самую большую тыкву из тех, что были расставлены в качестве мишеней. А когда доходило дело до Шейзара, Шакир вешал на ветку грушу, схватив бечевкой черенок, и тот, бешено разогнав коня, на всем скаку насаживал ее на остриё копья.
Джафар знал, что главное в этом деле – железно прижать локтем к бедру тяжелое древко, но у самого него, как ни старался, ни тужился, и близко так не получалось, и приходилось только поеживаться, представляя, что будет, если вместо груши на пути Шейзара окажется человеческое горло, заманчиво белеющее в узкой щели доспехов.
Да, брат Шейзар рос совсем другим. Пятнадцати ему не было, взял силой одну из юных невольниц – степнячку Айшу, – приобретенную стареющим Хакимом для себя, да в силу множества иных забот оставленную почти на полгода без мужского пригляда. Тут уж Хаким освирепел хуже кабана. Сгоряча приказал бросить Шейзара в яму, но к вечеру остыл, призвал к себе; через час стало известно – подарил Айшу бойкому сынку… а и впрямь, куда ее теперь? Через полгода Шейзар выгнал затяжелевшую наложницу из летнего шатра, а сам тут же сцапал девочку из деревни – и тоже силой добыл, так что Хакиму в конце концов пришлось даже чем-то откупаться от ее родных.
И, несмотря на то, что Шейзар умел и мог все, что касалось пиров и битв и было потребно для достойной жизни сына знатного дихкана (пусть пока только в бесспорных задатках), а Джафар, хоть и был так же всему выучен, но столь же бесспорно уступал ему всюду, где дело касалось удальства и безрассудства, именно Шейзар благоговел перед Джафаром, относясь к нему как к старшему (даже вопреки тому, что приходился ему дядей), то есть с безоговорочным уважением и послушанием, – хоть тот и старше-то был всего на полгода.
Нет, Шейзара не поражало, что брат может сложить песенку. Подумаешь! У них в Панджруде каждый может сложить песенку – любой подпасок. Потому что у них в Панджруде самые голосистые, самые звонкие во всем Аджаме[14] соловьи. Как самому не запеть, если заросшие арчой склоны возносят ночами небывалой красоты хоры? Коли наслушаешься их, так невольно начнешь лопотать какие-нибудь на скорую руку рифмованные глупости. Все здесь сочиняют песни. Сам Шейзар сколько раз складывал. Правда, до его творений никому нет дела, а вот Джафаровы почему-то разлетаются по всей округе. Да ведь песенка – она, в конце концов, и есть песенка.
Дело в другом. По просьбе Джафара Хаким взял ему учителя – старого Абусадыка, муллу и знатока Корана. Шейзар начал было учиться за компанию с братом-племянником, однако, сделав две-три попытки вникнуть в смысл того, что происходит на пергаменте, пришел к ошеломительному, но совершенно неопровержимому выводу, что все его умения, навыки и способности не стоят ничего по сравнению с тем, чему так быстро научился Джафар. Овладеть мечом и искусством стрельбы из лука, клещом сидеть на коне, уворачиваясь от чужих стрел и лезвий, – не представляло никакой трудности. А вот понять чертовы законы, по которым пишутся эти чертовы буквы![15] Нет, что ни говори, это не его дело.
Шейзар бросил занятия, только время от времени просил разрешения молча посидеть рядом, чтобы, и впрямь ни бельмеса не понимая, с радостным изумлением наслаждаться высокоумием своего ученого брата.
Отпускать Джафара в Самарканд дед Хаким не хотел. Он уже решил для себя, что среди стольких сыновей-воинов ему не помешает и один внук-мулла. В конце концов, не все споры решаются мечом, иногда нужен человек, который способен при случае привести и божественные аргументы. Пререкаться с дедом было бесполезно. Тогда Джафар подговорил Абусадыка, и тот в разговоре со старым князем посетовал, что ничему уже не может научить даровитого подростка, которому теперь только возраст мешает стать муллой (да что возраст? – дело поправимое, со временем переменится). И что не перестает удивляться его разумности, явно выходящей за границы возраста, – обо всем на свете юноша способен рассудить как взрослый, опытный человек, всерьез, с пониманием всех последствий того или иного поворота событий. Вздохнул и о том, что такие вот, самодельные как бы, муллы, какими бы чудными достоинствами ума и образования они ни обладали, вечно живут под угрозой смещения: придет человек с эмирским фирманом, с ярлыком медресе – и все, извини-подвинься, теперь этот выскочка будет настоятелем мечети. А то еще бывает, из халифата таких присылают – вовсе беда. Разве нужен нам в Панджруде мулла-араб?
Большой Хаким призадумался.
* * *
Было у дихкана Панджруда три знатных меча – Благодетель, Остряк и Избавитель. Много лет назад Хаким, препоясанный в тот раз Избавителем, вышел из дома. Он не нашел лошади у дверей и постоял немного, поджидая. Когда замешкавшийся стремянный привел ее, Хаким ударил слугу мечом, не вынимая из ножен. Хотел приложить плашмя, да тяжелая десница сама повернулась, как привыкла.
Меч рассек ножны, серебряные наконечники, плащ и шерстяную рубашку; локоть был разрублен, и рука отлетела. Удар, конечно, славный, но с тех пор Хаким содержал семью своего стремянного, одному из детей которого он и поручил заботу о внуке – звероватому, до самых глаз заросшему курчавой бородой парню лет двадцати трех, звавшемуся Муслимом.
Муслим был калач тертый: пару-тройку раз Хаким брал его в свою дружину – гонять шайки местных бродяг, в какие вечно сбиваются беглые рабы и прочая рвань, – и тот показал себя с самой выгодной стороны; в мирное же время помогал отцу, занимавшемуся (тоже по поручению дихкана) кое-какой торговлишкой, бывал и в Самарканде. За словом в карман не лез, любил и пошутить, да так, что жертвы его веселых шуток долго еще плевались и почесывались.
– Ты должен всегда быть рядом, – настойчиво повторял Хаким. – Следи за ним. Как за собственным глазом следи! Чтоб одет был, обут, сыт, чтоб крепкая крыша была над головой. Денег не жалей. Но и не транжирь попусту – вам до весны жить. Весна придет – хочет он того, не хочет, а ты хватай его и вези в Панджруд. Понял?
– Понял, хозяин, – кивал Муслим, прижимая руки к груди. – Все исполню, хозяин!
– Смотри у меня! – тряс костлявым кулаком Хаким. – Головой ответишь!
Утро было пронзительным и ясным.
Джафар взобрался в седло.
Он старался не показать своего смятения. Как ни хотел уехать, как ни стремился в Самарканд, как ни мечтал, воображая скорое будущее, а все же теперь, когда вот-вот копыта должны были и в самом деле застучать по камням, его охватила смутная бесприютность.
Казалось, прошлое уже грустно смотрит в спину, печально вздыхает и почему-то – несмотря на все его жаркие и искренние обещания – не надеется на новую встречу. Как будто стеклянная стена отделяла его от прежней жизни – и он тосковал, еще не до конца понимая, но уже смутно предчувствуя, что здесь, за стеной, остается самый тихий, самый теплый и надежный мир из тех, по коим предстоит ему странствовать.
– Я вернусь, – сказал он, глядя в выцветшие глаза деда.
– Сынок, – сказал старый Хаким.
Держась за стремя, Хаким смотрел на внука, и губы его подрагивали.
– Дед, ну чего ты?
– Сынок, я тебе вот что на прощание скажу. – Хаким вздохнул и погладил его по колену. – Понимаешь, всякую хорошую вещь можно оценить каким-то количеством таких же вещей, но дурного свойства. Одна хорошая лошадь стоит сто динаров – и десять скверных лошадей тоже стоят сто динаров. Хороший верблюд сто динаров – и десять никчемных сто динаров. Также и одежда, и оружие, и драгоценности. Но только не сыны Адама: тысяча негодных людей не стоит и одного хорошего человека. Помни об этом!
Старик зажмурился и через мгновение уже шагал к дверям, опираясь на палку так тяжело и резко, что конец ее крошил глину.
– Дедушка! – крикнул в его сутулую спину Джафар. – Ты что? Ну я же правда вернусь! Весной!
Хаким не обернулся.
Вабкент
Дорога ползла по косогору, понемногу забирая выше. Справа оставался обрыв и щебенистый склон, сбегавший к непроходимым, пышно зеленеющим сейчас, в конце апреля, зарослям, в глубине которых глухо ворчала невидимая вода. Слева – громадные валуны и фиолетово-красные заросли барбариса. А если оглянуться, увидишь все ту же кочковатую бурую степь, чередующуюся с белесыми пятнами солончаков. Поросшая редкой щетиной буро-зеленых кустов верблюжьей колючки, она уводила взгляд к горизонту, где в зыбком мареве еще угадывались очертания оставленного города.
Но он ничего этого не видит. Более того: удивительно, какой неровной становится дорога, когда ты шагаешь по ней незрячим, – спотыкаешься буквально через шаг.
Как плохо быть слепым! – привычно подумал он, но не возмущенно, а с жалостью к самому себе: от этого горло свело мгновенной судорогой, а в пустых глазницах стало неожиданно горячо и влажно.
Как плохо!.. и зачем теперь жизнь?.. длить мучения?..
Странно: но ведь он и прежде думал, что жизнь невыносима. Даже в дни полного благополучия, в дни, видевшиеся сегодня нескончаемой порой неслыханного счастья, – и тогда подчас накатывало что-то темное, отчаянное: мысли о смерти, о добровольном отказе от жизни приходили к нему.
Трудно понять, откуда бралось тогда. Но теперь…
Какой смысл теперь держаться за жизнь? Чем его непроглядный мрак отличается от мрака смерти?
Человека убивать нельзя. Можно убивать барана, корову. Можно убить собаку, льва. Кого угодно. Но если убивают человека, нарушают закон. Убивающие людей совершают грех.
Почему?
Потому что человек единственный знает Бога.
Ну да.
Но знает ли Бог человека? Какое дело Богу до знающих Его?
Человек должен верить. Но разве вера прибавляет что-нибудь Богу? А если да, если Бог кормится верой людей, то зачем такой Бог?
Ах, если бы Он помнил о людях! Пусть не как о лучшем Своем создании, а хотя бы для того, чтобы питать к ним приязнь!..
– Джафар, подождите.
– Что? – слепой поморщился, отрываясь от своих мыслей. – Что такое?
Они стояли неподалеку от громадного валуна. Ветви деревьев вокруг украшало множество разноцветных лоскутков.
– Мазар, – пояснил Шеравкан. – Я сейчас.
– Чей мазар? – поинтересовался Джафар.
– Святого Амира, – с благоговением ответил Шеравкан. – Святой Амир, покровитель телок.
Слепец фыркнул.
– Каких еще телок?
В голосе его Шеравкану почудился оттенок издевки.
– Обыкновенных, – сдержанно сказал он, аккуратно отрывая от подола рубахи тонкую полоску.
Встав на цыпочки и бормоча молитву, повязал на ветку. Отошел на шаг, с удовольствием посмотрел. Бесчисленные выгорелые тряпочки трепетали на ветру. Его приношение было самым свежим. Между тем слепец, похоже, ждал продолжения.
«Надо же, таких простых вещей не знать!» – подумал Шеравкан.
– Стельных телок, – несколько покровительственно разъяснил он. – В прошлом году у нас телушка должна была первого теленка принести. Мы с отцом привели ее сюда. Она свежей травы с могилы пощипала, мы помолились как следует, маленький туй сделали: лепешку с молитвой поели. – По мере рассказа лицо Шеравкана светлело. – И все отлично прошло, святой Амир заступился за нас перед Господом.
Джафар скрипуче расхохотался.
– Что за глупость! Покровитель телок! Заступился перед Господом! Дурачье! Если Господу нет дела до людей, что за нужда ему думать о ваших телках?!
Шеравкан вспыхнул, набрал в грудь воздуху… но потом сжал зубы и ничего не ответил – только отвернулся и в ярости сплюнул на дорогу.
Они шагали в полном молчании. И каждую секунду этого молчания Шеравкану хотелось так дернуть старого дурака, чтобы он, запнувшись, со всего маху повалился на дорогу, да еще и плюхнулся своей тупой безглазой физиономией в коровью лепеху!
Нет, ну что ж такое, а! – такое про святого Амира сказать.
* * *
– Ручей, – неприязненно буркнул Шеравкан. – Подождите.
Коричневая вода негромко журчала, вымывая из глины бока черных камней. Пеший мог, переступая с одного на другой, пройти, не замочив ног. Пеший – и вдобавок зрячий.
– Слышу, – хрипло сказал слепец.
Он отпустил пояс и сделал осторожный шаг. Постоял, шаря впереди себя палкой. Потом снова куце шагнул, присел, протянул руку. Стал черпать ладонью и пить. Вода текла по бороде.
Шеравкан шагнул на камень, присел и тоже стал черпать холодную воду.
Слепой стоял, оперевшись на посох и наклонив голову набок. Выражение лица было внимательное, настороженное. Что он хочет услышать?
Шеравкан утерся полой и решительно произнес:
– Джафар!
– Что? – спросил слепец, вскидывая голову.
Он недослышал голос поводыря, не понял, откуда тот раздался, и стоял теперь, напряженно вслушиваясь в журчание воды и шелест ветра. В правой руке была палка, на которую он, обернувшись, нетвердо опирался. Шеравкан еще утром сбросил чапан, оставшись в одной рубахе – солнце лупило с ясного неба, жгло землю и глянцевую зелень растений. А этот левой рукой собирает ворот в горсть, – мерзнет, что ли?
Во всей его фигуре была какая-то птичья неуверенность. Горделиво вскинутая голова с повязкой на глазах не могла добавить силы и достоинства.
Шеравкан собирался сказать насчет сорока фарсахов. И что хорошо бы им шагать побыстрее.
Закашлялся.
– Я говорю, ручей надо перейти. Слышите?
– Ну да, – кивнул слепой. – Конечно.
Кое-как сел, с кряхтеньем снял сапоги и завернул штанины.
* * *
Вода была холодной. Камни – круглыми и скользкими. Поток дошел почти до колен и стал напирать. Ступня поехала по слизи, он пошатнулся, взмахнул посохом и едва не выронил сапоги. Но поводырь крепко держал за локоть.
Рука поводыря потянула вперед – и отпустила. Пропала, исчезла… и он снова почувствовал укол растерянности. Вернется ли? Влажный песок под ногами казался холоднее воды. Пробрал озноб. Надо сесть и обуться… вот камень. Вот он. Господи. Гладкий.
Легкий ветер неприятно холодил лицо.
Как странно чувствовать любовь к поводырю – робкую, трепетную любовь. Даже заискивающую. Хочется ему понравиться – чтобы относился лучше, чтобы не бросил… Лет семнадцать. Так солидно басит – а все же голос иногда предательски срывается. Мальчишка, пацан. Но он видит! Он может показать дорогу! Он всемогущ! Рука его – это рука Всевышнего. Когда он протягивает ее слепцу, у того в глотке уже булькают слова благодарственной молитвы. А когда отпускает, охватывает детский ужас: ведь оставляет одного. Одного – и в темноте!
За что он его так ненавидит?
Наверное, мальчишке в тягость вести его по этой дороге… ну да, конечно.
Он попробовал вспомнить себя в свои пятнадцать, шестнадцать, семнадцать лет. Каким он был? Что бы чувствовал, доведись вести слепца за сорок фарсахов?
Память обманчиво струилась – будто марево в степи… зыбкое струение, перламутровые волны, в которых бурые кусты пустыни изгибаются и танцуют.
Каким он был?
Каким? – да вот как сейчас и был. Он всегда был одним и тем же. Время меняло только его тело… переливало душу из одного сосуда в другой. Сначала ребенок… потом мальчик… вот и юноша, горделиво напрягающий мышцы… а скоро сильный, ловкий, веселый мужчина, смешливый, как кишлачная девчушка… и дальше, дальше… и вот – старик.
Правда, всегда прежде душа владела пятью чувствами… рассылала пять гонцов, доставлявших ей всю роскошь мира. Одного не стало. Наверное, самого важного. Да, конечно. Если бы исчезло осязание… или, допустим, вкус. Он никогда бы не смог отличить хлеб от вина, рис от мяса… или не чувствовал бы аромата цветов… запаха женской плоти… лошадиного пота… запаха огня, мокрой шерсти. Или, например, утратил бы слух – не слышал бы ни журчания воды, ни людских голосов… ни пения птиц, ни упоительного гула ветра в вершинах деревьев… ни тех глубоких вздохов, когда вихрь шумной опрометью летит по заросшему склону горы. Но он бы видел, видел! Блаженный дар зрения. Никакая иная утрата не может сделать человека столь беспомощным. Отняли самое дорогое. Славный, честный дар, позволявший видеть – видеть!..
Как он смотрел! Смотрел – и не мог насмотреться. Жадно, пристально, вглядываясь во всякую мелочь. В пустяк, мимо которого другие проходили, не заметив. Какого цвета земля? На что похоже дерево? Искал сходство в вещах неродственных… различия в похожих. Зачем? Сначала не понимал, просто слушался инстинкта. Потом осознал. Если не увидел – как облечь в слова? И что именно облечь? Что видят все? Тогда и скажешь то, что говорили до тебя тысячи раз. И еще тысячи и тысячи раз скажут после. Слепцы. Скажут – небо синее. Вода – голубая. Трава – зеленая. А на самом деле небо – как глаза невольницы. А вода – будто утренние круги у нее под глазами. А трава – трава высохнет от зависти к несказанной красоте северянки – и только тогда станет похожей на пряди ее волос.
Смотрел, не мог насмотреться.
Конечно, они знали, что отнять. Это придумал Гурган. Наверняка он.
Ах, если б могли до тебя дотянуться руки! Вырвал бы сердце из твоей жирной груди! Взял бы его – сальное, содрогающееся! – в ладони. Поднес бы ко рту, как праздничную чашу! И медленно, по глотку, пил бы твою черную кровь!
С кем тебя сравнить? Со змеей? – обидеть змею… с крокодилом? – оскорбить крокодила.
Укус кобры отнимает жизнь… и крокодил быстро избавляет беспечного купальщика от тяготы существования. Гурган оставил ему жизнь. Но разве он поступил лучше крокодила или кобры? Нет, хуже. Жизнь? – что стоит она, если каждый день думать, не лучше ли быть мертвым? Поминутно вспоминать, что мертвые, по крайней мере, не страдают из-за своей слепоты: ведь мертвые не помнят, как это было – видеть!
Сначала казалось – такого нельзя пережить. Ведь это конец, смерть: душа не выдержит, сердце остановится, мозг воспламенится, сгорит, станет золой.
Так нет же. Ничего подобного. Душа не отлетела. Сердце не разорвалось. Глазницы вот ноют по ночам, слезятся… но тоже мало-помалу подживают. И проклятый рассудок ничуть не пошатнулся, не расстроился: скребет себе и скребет… правда, все по одному и тому же месту. Перекладывает камушки. Справа налево… по одному. Потом слева направо – тук-постук.
По-прежнему что угодно можно обдумать, взвесить, размыслить: проклятый разум жует и жует свою вату.
Вот и выходит – что ни сделай с человеком, а он все тянет лямку существования. Зачем? – не скажет. Знает, что существовать бессмысленно, – и бессмысленно существует. Знает, что не нужно это теперь, ни к чему… убежден, что лучше было вовсе не появляться на этом свете, чем терпеть такие муки.
Так нет – живет. Перекладывает камушки. Тук-постук.
Червяк. Таракан.
Не надо думать об этом, не надо. Когда-нибудь его собственное сердце остановится от этих мыслей. От ненависти оно сжимается в комок… дрожит, ноет. Того и гляди лопнет, порвется. Не надо думать об этом.
Господи.
Рука поводыря.
Наверное, прежде тоже хотелось иметь такую руку – чтобы поддерживала, чтобы тянула куда надо.
Только сейчас это понял.
Верно – хотелось, да.
Но прежде не было руки.
Или была?
– Отдохнули?
* * *
Помедлив, слепец поднялся. Правая рука держала посох, левая как будто робко искала что-то в воздухе, да, так и не найдя, разочарованно присоединилась к правой. Ага! вот его шаги.
– Сколько тебе лет? – спросил Джафар, невольно вскидывая голову. Он еще не до конца привык говорить, видя перед собой только тьму.
Шеравкан вздрогнул от неожиданности – прежде слепой ничего не спрашивал. Вообще не заговаривал.
– Что? Мне-то?
Да еще и голос подвел – сорвался.
– Тебе, тебе. Сколько мне самому, я знаю.
– Ну, шестнадцать… А что?
– Да ничего, – слепой пожал плечами. – Нельзя спросить?
– Почему, можно, – смутился Шеравкан.
Слепой пожевал губами, как будто хотел что-то добавить, да так и не собрался.
Шеравкан протянул ему конец поясного платка. Тот сжал его в руке и сделал первый шаг. Потом второй. Третий.
Солнце висело низко. Широкую дорогу располосовали сизые тени.
Шеравкану надоело раздражаться, и он невольно все замедлял и замедлял шаг, потому что никаких средств заставить слепого шагать бодрее все равно не было. Устал слепец. Хоть и медленно тащились, а ему и это давалось через силу – дышал хрипло, лоб над повязкой был мокрым, грязная короткая чалма вокруг куляха норовила размотаться, и он то и дело неловко затыркивал в середину ее свисавший конец.
Почему его не посадили на повозку? – подумал Шеравкан. – Сорок фарсахов все-таки. Могли бы, правда, дать хотя бы повозку. А что? – он бы управился с лошадью.
Вообще, как-то странно было все с этим слепцом. С одной стороны – нищий преступник, которому даже повозку взять не на что. Но с другой – сам господин Гурган с надменным и презрительным видом стоял поодаль, когда его выводили из ворот тюрьмы. С надменным и презрительным видом – но стоял! Сам господин Гурган! Каждого ли нищего преступника провожает господин Гурган? Вряд ли, вряд ли. Господин Гурган приближен к эмиру Нуху. Молодой эмир Нух сел на место своего отца, эмира Назра… и говорили, что сам эмир Назр заточен в Кухандизе – Старой крепости. Не то жив, не то уже умер.
Аллах лучше знает.
* * *
Все это время они шли молча.
То ли потому, что сам слепой шагал теперь осторожнее и не вызывал лишнего раздражения поводыря, то ли сам Шеравкан старался не дергать попусту конец платка, за который тот держался, но к той поре, когда они вышли на околицу села, ничего плохого не случилось.
Вечерние дымы уже струились над крышами, путались в листве, таяли. Палец минарета сверху еще золотился, снизу уже розовел.
– Вабкент? – спросил Джафар.
– Вабкент, – хмуро ответил Шеравкан. – Ночевать будем.
Джафар со вздохом оперся о посох, повел носом, принюхиваясь.
– Смешное место этот Вабкент, – рассеянно сказал он. – Славную Бухару знают во всем подлунном мире. Скажи, что ты из одной деревушки близ ее окраины, и все поймут. Но нет – вабкентец никогда в жизни этого не скажет. Ни за что! Куда бы ни заявился, будет упрямо твердить, что приехал из Вабкента – из самого Вабкента! Всех запутает, всем заморочит голову, навлечет на себя раздражение и гнев, схлопочет десяток-другой палок – и только тогда признается, где находится его славная родина. Где же? – в полуфарсахе от такого незначительного местечка, как Бухара.
Хмыкнул и снова потянул носом.
Пахло дымом, пылью, сохнущей травой, навозом, парным молоком.
– Да-а-а! – повторил слепец с таким видом, будто вдохнул ароматы райского сада. – Вот он – Вабкент!
Глава вторая
Хозяин, келья, поэт. Явление каравана
Две желтые собаки, валявшиеся у ворот караван-сарая в золотом свете закатного солнца, подняли головы. Одна села и стала чесаться. Вторая лениво взлаяла и снова уронила голову на лапы.
Шеравкан подвел слепца к колоде, стоявшей у стены.
– Садитесь, я сейчас.
Хозяин караван-сарая, толстый человек со шрамом на щеке, только что снял тряпицу с блюда, на котором лежали куски жареной баранины.
– Здравствуйте, господин, – сказал Шеравкан, кланяясь. – Сколько комната стоит?
– Пожрать не дадут, – со вздохом заметил хозяин и снова накрыл мясо тряпицей. – Откуда?
– Из Бухары.
– Из Бухары? Что-то не торопитесь.
– Вышли поздно, – сухо сказал Шеравкан.
– Ну что ж… лучше поздно, чем никогда, – вроде как пошутил тот. – Полдирхема.
– Полдирхема?!
– А что такого?
– Недешево…
– Ну, дорогой мой, – урезонивающе сказал хозяин. – Ты же в Вабкент пришел, а не куда-нибудь.
Шеравкан хмыкнул. Похоже, прав слепец насчет Вабкента.
– Ладно. Только на первом этаже дайте комнату.
Хозяин взял монету. Сощурился.
– У вас товар?
– Какой товар?
– На первом у меня купцы селятся, – пояснил хозяин. – С товарами.
– Нет товара. Я слепого веду, ему трудно по лестнице.
– Слепого? – насторожился хозяин. – Зачем мне слепые?
– Какая разница? Я такие же деньги плачу.
– А такая разница, что у меня приличное заведение, – сердито сказал хозяин, бросив дирхем в холщовый кошель и принимаясь выбирать из него медные фельсы похуже. – У меня купцы останавливаются. Караванщики. У меня чистота. Порядок! Понял? Калеки и нищеброды должны ночевать на базаре. Если караван придет, я вас на галерею выселю. Мне купцам нужно место давать. Держи сдачу. Почему ты вообще ко мне его привел, а не на базар?
Шеравкан пожал плечами.
– Мне сказали ночевать в караван-сараях.
– Сказали ему!.. Кто он такой, вообще?
– Не знаю.
– Как это? – удивился хозяин. – Ведешь сам не знаешь кого?
Шеравкан мученически возвел глаза к небу, намекая, что эти ненужные расспросы его уже страх как утомили.
– Из тюрьмы он. Джафаром зовут.
– Из тюрьмы? Ты родственник ему, что ли?
– Нет.
– Ничего не понимаю. Если он тебе никто, почему ты с ним?
Шеравкан снова пожал плечами.
– Поручили.
– Кто поручил?
– Господин Гурган.
– Господин Гурган? – изумился хозяин. – Это же…
Замер с полуоткрытым ртом.
– Ну да, – кивнул Шеравкан. – Господин Гурган. Визирь молодого эмира. Эмира Нуха.
– Визирь молодого эмира Нуха, да продлится его благословенная жизнь на тысячу веков, – пробормотал хозяин. – Кто же он тогда?
– Кто?
– Да слепец твой, слепец, – раздраженно сказал хозяин. – Что ж ты такой тупой-то, парень! Какое дело до него господину Гургану?
Шеравкан обиделся.
– Я не тупой, – сухо сказал он. – Я на самом деле не знаю. Мне не говорили. Слепой он. И нищий.
– Нищий, говоришь?
Хозяин призадумался.
– Я пойду, – воспользовался Шеравкан паузой. – Кумган можно взять?
– Кумган-то? – рассеянно переспросил хозяин. – Бери, да… в прошлом году шесть кумганов купил. Шесть! Один украли. Я знаю, кто украл. Знаю. Если этот мерзавец снова сунется сюда, гулять ему без руки.
– Ага, – Шеравкан кивал, переминаясь. Кумганы интересовали его с чисто практической точки зрения, однако уйти на полуслове было бы невежливо. – Так куда нам?
– Селись в угловую, справа от ворот. Там чисто.
– В угловую… ага.
– Погоди-ка! – Хозяин уже перекладывал остатки мяса с блюда на лепешку. – Ты вот что. Отнеси своему слепому, пусть поест как следует. Скажи, так, мол, и так. Скажи, дескать, Сафар послал, каравансарайщик. Кланяется, мол, желает благополучия. Да и сам перекуси. Вечером похлебка будет. Понял?
– Понял, – кивнул Шеравкан, принимая подношение. – Спасибо.
Оказавшись наконец на воле, он пересек пыльный двор, осторожно поставил блюдо у стены.
Жердяная дверь крошечной комнаты висела на ременных петлях. Вошел в келью, потянул носом. В углу лежала тощая стопка засаленных подстилок, курпачей. Должно быть, это именно от них несло застарелой псиной и гнильем.
Вынес наружу, по очереди вытряс, сложил в стороне. Побрызгал водой и вымел пол, тут и там заляпанный бараньим салом. Сажи тоже хватало.
Аккуратно расстелил курпачи. Ну хоть так.
Принес еще одну бадейку воды.
– Джафар, давайте-ка полью.
Слепец покорно сложил ладони лодочкой.
Когда с умыванием было покончено, помог ему пробраться внутрь.
– Садитесь. Я подмел, тут чисто.
Джафар с кряхтеньем сел, положил посох. Перевел дух.
– Вот, – сказал Шеравкан, ставя перед ним блюдо. – Хозяин угостил. Ешьте. Мясо, лепешка.
Взял слепого за руку, протянул к еде.
Тот нашарил кусок, принюхался. Шеравкан оторвал краюху хлеба, вложил в руку.
Джафар откусил, стал нехотя жевать.
– Странный он какой-то, – добавил Шеравкан. – Сам дерет за ночь полдирхема, а сам вот мяса дал.
Ели молча.
– Вот и хорошо, – сказал Шеравкан, когда блюдо опустело. – Отряхните бороду. Чай будете пить?
– Потом.
Пошарив вокруг себя ладонями, слепец лег и отвернулся к неровной глинобитной стене.
– Ну и ладно, – согласился Шеравкан. – Отдыхайте.
* * *
Он вышел за порог, постоял, пожевывая сухую колючку боярышника и осматриваясь.
После еды настроение значительно улучшилось.
Идут они, конечно, медленно, ничего не скажешь. Потратили целый день – и что? До Вабкента добрели. Шеравкан в одиночку за полчаса добежал бы и не запыхался. Час – это совсем уж если нога за ногу. Очень, очень медленно идут. Даже вообразить страшно, сколько придется плестись до этого чертова Панджруда.
Но что делать?
Странно представить, как это – ничего не видеть? Вот Шеравкан смотрит – и видит: вот земля, вот трава… вот дерево, вот розовая полоса заката… Голову повернет: другое дерево, совсем непохожее на первое… другая трава… собаки у ворот… Все-все-все!
А он – ничего.
В одну сторону посмотрит – темно.
В другую – тоже.
И старый вдобавок. И больной, наверное.
Как ему быстрее?
Ну ладно, ничего. Сегодня отдохнет как следует, выспится. Вечером Шеравкан похлебкой накормит. Шаг за шагом, фарсах за фарсахом – так и доберутся. Ничего!
Вздохнув, направился к воротам. Постоял, глядя на дорогу. Проследил, как в одну сторону проехала арба, а минут через пять в другую – сутулый старик на печальном осле. Проводив его взглядом, решил пройтись под галереей. Ненадолго задержался у одной из комнат, наблюдая, как торговец сластями, проклиная настырных ос, сортирует свои липкие мешки.
Невдалеке от лестницы расположились два постояльца. Один сидел на приступке и, похоже, в беседе участвовал через силу. Другой стоял перед ним, страстно жестикулируя.
– Мои песни поют по всему Аджаму! – взволнованно восклицал он, то и дело сводя руки в замок, а потом снова расцепляя, чтобы резко взмахнуть или подергать себя за тощую бороденку. Взгляд глубоко посаженных глаз был лихорадочно-тревожным, грязные пальцы левой ноги торчали из рваного сапога. – Я – великий поэт! Я – Рудаки![16] Я – Царь поэтов при дворе бухарского эмира! Никто – вы слышите: никто! – не сравнится со мной в искусстве поэзии!
– Да, да, – удрученно кивал второй. – Вы уже мне это говорили, уважаемый.
«Рудаки?» – удивился про себя Шеравкан.
Вот это да! Рудаки! Царь поэтов!
Разве мог найтись в Бухаре хоть кто-нибудь, не знавший этого имени? Стихи Рудаки были у всех на слуху. То и дело по городу прокатывались новые бейты, и каждый тут же запоминался наизусть – да в том и труда никакого не было, потому что все эти строки, раз услышанные, навсегда застревали в памяти.
Рудаки! Ничего себе!
Поэт Рудаки был известный, очень известный в Бухаре человек. Правда, известность его была иной, нежели, скажем, известность начальника эмирской стражи или визиря. Скорее, она походила на славу одного из святых покровителей города: ведь простые люди не имеют дела ни с визирями, ни с начальниками стражи, они молятся святому Хызру; вот и быть причастным к Рудаки хотя бы тем, что знаешь несколько его бейтов, всякому так же приятно и лестно, как верить, что о тебе помнит святой заступник.
И вот – надо же: прославленный, обласканный царями поэт сидит на глиняной приступке грязного караван-сарая, нервно подергивая выглядывающими из сапог босыми ступнями.
Невероятно!
– Многие просто не знают! – нервно настаивал между тем на своем великий Рудаки. – Поют – и не знают, что это мои песни. Вы слышали, должно быть, такую, уважаемый…
Царь поэтов сцепил руки в замок, сложил, нелепо вывернув у груди, и заголосил надтреснутым голосом:
– Принеси мне глины, ласточка! Подари тростинку, горлица! Я себе хоромы выстрою!.. Или нет, подождите-ка… мне вот эта больше всего нравится… слышали?
И тут же принялся горланить на совершенно другой мотив:
– Ты смугла, как закаты Турана!.. Но восход на ланитах твоих!..
– Да, да, – мучительно морщась, кивнул собеседник. – Я слышал эту песню… не надо!..
– А мои стихи о вине? Все твердят мои стихи о вине, все их поют, на любом базаре можно услышать! – и никто не знает, что это мои стихи, стихи великого поэта, Царя поэтов – Рудаки! Вот послушайте! Как там у меня? Нам надо мать вина… сперва предать мученью, – торопливо декламировал он. – Затем само дитя… подвергнуть заключенью! Ребенка малого не позволяют люди… до времени отнять от материнской груди. Отнять нельзя дитя, покуда мать жива, – так раздави ее и растопчи сперва![17]
– Да, да, – пробормотал второй, поднимаясь. – Извините… я должен… дела!..
Вскочил и, на ходу запахивая чапан, поспешно направился к навесу.
– Дитя, в тюрьму попав, тоскуя от невзгод! Семь дней в беспамятстве, в смятенье проведет! – безнадежно выкрикнул поэт, провожая убегавшего пронзительным взглядом, полным тревожного сожаления, а потом повернул голову, оглядывая двор в поисках новой жертвы.
С одной стороны, конечно, было бы лестно привлечь внимание такого знаменитого человека… но с другой – какой-то он, оказывается, странный, этот Рудаки.
Поэтому Шеравкан отвернулся и как ни в чем не бывало пошагал в сторону, от греха подальше.
Неспешно обошел двор, возле кухни постоял, поглазел на галерею. Выглянул за ворота. Еще раз прошелся кругом, приглядываясь к постояльцам.
В общем, пошатавшись некоторое время без дела, он вполне уяснил обстановку. Да и впрямь: в Бухаре ли, в Мазаре, Вабкенте, или Кермине, или в других концах света, на других дорогах, – а сколько ни таскайся по ним, но как доплетешься до караван-сарая, так и увидишь все то же самое.
Вот и здесь так.
Просторный двор охвачен квадратом глинобитного здания. Скрипучая деревянная галерея обегает хлипкие двери второго этажа. Об эту пору там было бы совсем пусто, если б не больной хивинец, одиноко хворавший в своей жаркой клетушке, – время от времени слышны его слабые стоны.
Помещения первого этажа тоже поделены на комнатушки. Купцы снимают их, чтобы хранить товары. Вон копошится пара солидных постояльцев, уже вернувшихся с базара, – упаковывают не проданное сегодня, достают и расправляют то, что надеются продать завтра.
Слева тянет дымком – там в углу, под камышовым навесом, невеселый хромой человек в синей рубахе и таких же штанах занят готовкой. Лук он уже почистил и нарезал. Теперь неспешно рубит морковь на корявой доске. Между делом помешивает в котле, под которым едва шевелится огонек. Коли есть деньги, можно, наверное, получить у него плошку мятного чаю, горсть сушеного тутовника или изюма.
В правой половине двора, напротив конюшен, коновязей, разгороженных жердями и пустующих сейчас верблюжьих загонов, расположены квадратные глинобитные возвышения – топчаны, – застеленные паласами. Тут тоже пустовато: на одном спит, накрыв голову рваным чапаном, какой-то босяк, на другом устроились два крестьянина из окрестных сел – им лучше здесь заночевать за пару медяков, чем гонять туда-сюда осла с полмешком непроданной капусты. У третьего собрались любители божественного.
Вот покамест и все общество.
Шеравкан присоединился к тем, кто слушал чтение Корана.
Хаджи[18] выглядел так, будто пять минут назад его случайным вихрем вырвало из смертельных объятий какой-то страшной бури: одеждой служили тлелые лоскуты, из прорех которых тут и там выглядывало голое тело, всклокоченные седые волосы полны мелкого сора и, вероятно, песка, а на темном морщинистом лице – отпечаток одновременно безнадежности и упрямства, оставленный годами богобоязненных скитаний.
Он сидел на топчане, положив раскрытую книгу на колени и ведя заскорузлым пальцем по таинственной вязи священных букв.
Дребезжаще допев очередной стих, замолк, чтобы аккуратно подуть на стоявшую перед ним чашку.
Шеравкан догадался, что хаджи готовит лекарство для больного хивинца, стоны которого по-прежнему доносились со второго этажа. Второй хивинец, узкоглазый молодой человек в зеленом суконном чапане, терпеливо дожидался окончания процедуры.
Хаджи замолк, переворачивая страницу, и хивинец заботливо придвинул чашку с водой ближе – не хотел, должно быть, чтобы пропала даром даже малая толика целебного дыхания, напоенного святостью заунывно читаемого текста.
«Неплохо было бы Джафару смочить веки! – подумал вдруг Шеравкан. – Вдруг прозреет? Интересно, сколько хаджи берет?»
Между тем хаджи дочитал суру, произнес завершающее благословение, последний раз аккуратно подул на чашу и придвинул ее клиенту.
– Спасибо, учитель, – сказал хивинец. – Может быть, поможет.
Он снял с себя свой роскошный чапан и набросил его на плечи хаджи.
Хаджи онемел.
Хивинец взял чашу и, осторожно держа ее перед собой, направился к лестнице.
– Ц-ц-ц-ц! – очень похоже цокали языками присутствующие. – Ц-ц-ц-ц-ц!
Шеравкан тоже был поражен щедростью хивинца. Чапан! Совсем новый чапан! «Брат, наверное! – вдруг догадался он. – Вот в чем дело: брат его болеет!»
– Ну вот, благослови его Аллах, – сконфуженно сказал хаджи, утирая слезы рукавом своего нового чапана. – Велика милость Господа! А то что ж… Совсем поизносился – ведь два года домой добираюсь. И пусть горячего похлебает – тоже, бывает, оттягивает! – надтреснуто крикнул он вслед хивинцу.
Затем встряхнулся, окончательно приходя в себя после обрушившегося потрясения, и недовольно буркнул, глядя в сторону дымящего очага:
– Если, конечно, этот ленивец когда-нибудь настрогает свою проклятую морковь! Иначе мы его шурпы до Судного дня не дождемся.
Именно в это мгновение три кудлатые собаки, прежде мирно дремавшие поблизости от кухни (на таком удалении от котла, чтобы, с одной стороны, по возможности не упускать соблазнительного запаха готовящегося варева, а с другой – не вызвать раздражения повара, медлительность которого чудесным образом исчезала в случае необходимости схватиться за суковатую палку), сорвались с места и, отчаянно взбадривая себя спросонья хриплым лаем, погнали к воротам.
Кто вздрогнул, кто просто чертыхнулся – но и повар, стучавший капкиром по казану, и купец-москательщик, на пару со своим мальчишкой перемерявший у открытой двери комнаты свертки маты и зенденя[19], и два огородника, давно препиравшиеся из-за какой-то веревки, и хивинец, уже скрипевший ступенями по пути на галерею, и благочестивый хаджи, и два или три его слушателя, и Шеравкан – все повернули головы в ту сторону.
– Должно быть, караван идет, – сказал хаджи, прислушиваясь. – Несет их нелегкая на ночь глядя.
Собаки отчаянно брехали и бросались в сторону ворот, между делом поглядывая, не кинут ли кусок за отвагу и верность порядку.
– Ну, сейчас начнется, – недовольно повторил хаджи, беря лежавший подле святой посох из финикового дерева и шаря ногами под топчаном в поисках своих жалких опорок.
И точно: даже самый проворный повар не успел бы настрогать соломкой три желтые канибадамские морковки, как глухие бряканья верблюжьих ботал стали слышнее и звонче, заклубилась пыль, и вереница животных и людей начала втекать в ворота караван-сарая.
Рассказ паломника. Снова поэт. Шахбаз Бухари
Суматоха и впрямь поднялась несусветная.
Хаджи поспешил к воротам и встал там, бормоча молитву и раздавая благословения, более или менее благодарно принимаемые утомленными странниками. Караван-баши, предводитель каравана, – невозмутимый человек громадного роста в некогда голубой, а теперь до белизны выгорелой чалме и длиннейшей хламиде из какой-то очень грубой ткани, с достоинством принимал приветствия хозяина, в промежутках покрикивая на вновь прибывших, занятых развьючиванием животных.
С одного из верблюдов снимали куджеве – две корзины, навешиваемые в качестве вьюков. Из одной тупо глазел трехдневный теленок, в другой настырно и громко мекали козлята. Когда их поставили на твердую землю, козлята забились под теленка, образовав хоть и ошалелую, но все же довольно живописную группу.
Крик и гам стоял несусветный – купцы выкликали имена подручных, таскавших вьюки, хозяин метался между ними, пытаясь быстро и справедливо распределить помещения, собаки тоже по мере сил участвовали в расселении, и в конце концов одну из них крепко прибил злой кипчак[20] в треугольной шапке.
Шеравкан волновался, предчувствуя, что сейчас их с Джафаром попросят из нижней комнаты, в которую кто-нибудь из торговцев свалит свои товары. Однако обошлось: все мало-помалу утихло, и теперь деятельность кипела только возле верблюжьих загонов и коновязей, куда таскали бадьями колодезную воду, охапки сена и мешки с овсом.
На помощь хромому в синей рубахе поспешили еще двое, и теперь уже в нескольких очагах пылал огонь, плевались кипятком кумганы, бурлили казаны, поспешно стучали ножи по разделочным доскам. Кудрявая шкура, из которой еще пять минут назад хрипло орал возмущенный баран, висела на одном сучке, а его перламутрово-красная туша – на другом, и повар ловко пластал ее ножом, наведенным до остроты бритвенного лезвия.
Хаджи встретил знакомых паломников – таких же, как он, оборванных и изможденных. С некоторыми он переживал ужасы дальних путешествий. Для начала обнявшись и облив друг друга слезами, духовные братья сели в кружок и принялись толковать о многообразных чудесах, отголоски которых долетали до них в дороге. К ним то и дело подходил кто-нибудь с просьбой подарить ему нефес – святое дыхание. Получив согласие и присев на корточки, проситель закрывал глаза. Паломник налагал руки на больное место, а потом три раза сильно дул. По окончании процедуры человек просветленно вставал, вручал подаяние в виде мелкой монеты или лепешки и удалялся, радостно возглашая, что теперь у него ничего не болит.
– Аллах сам знает, кому слать Свои благодеяния! – дребезжал хаджи, то и дело горделиво поправляя ворот нового чапана. – Второй месяц сижу тут, как старая обезьяна, честное слово! Боюсь дальше тронуться. Сколько раз меня грабили, сколько раз едва с жизнью не простился! Неделями ни крова, ни хлеба, ни воды! Всю дорогу трясешься от страха… убьют, возьмут в плен, продадут в рабство… песчаная буря заживо похоронит. Под Хамаданом в снегу ноги поморозил, до сих пор ноют. На все воля Господа!
Паломники жарко с ним соглашались и толковали свое; с их слов выходило, что человек, пустившийся в дальний путь, вышедший за более или менее обжитые пределы своего города или, чего доброго, приблизившийся к окраинам родного края, рискует не только имуществом, сколь бы малым оно ни казалось на взгляд оседлого жителя, но и свободой, и жизнью. Особо бранили злых воинственных туркмен, живущих разбоем и работорговлей. Шеравкан невольно вспомнил головы, что время от времени появлялись на кольях возле стен Арка.
– Им пустыня – что тебе весенний луг. Они в песках – как у себя дома. Верблюд дорогу потеряет – а туркмен помнит. Твоя лошадь сдохнет, а туркмен свою гонит к тайнику, а там у него бараний курдюк закопан. Годами в песке лежит, а как придет пора, туркмен выроет, лошади даст, она сожрет – и ни воды ей не нужно, ни ячменя. Чуть передохнет – и опять скачет.
Шеравкан отвлекся на минуту, а когда вернулся, молодой беззубый паломник страстно рассказывал о происшествии, случившимся с ним во время одного из переходов:
– Я вам так скажу, братья: большего ужаса в жизни не знал. А ведь и в пустыне сох, и разбойники ломали. Кабанов в тех болотах – как блох в подстилке. Едем мы, значит, с дружком на лошади по топкому месту, а они вокруг в тростниках так и хрюкают, так и хрюкают – чисто бесы. Лошадей-то не хватает, – жарко откликнулся паломник на вопрос одного из слушателей. – Кто ж тебе одному лошадь даст? Была бы у меня лошадь, я бы!.. – и он отчаянно махнул рукой. – А то еще как побегут всем стадом – треск стоит. Ужас, братья. И вдруг кобылка наша испугалась да как рванет! Мы с нее в разные стороны кубарем. Шмякнулся я и слышу: брат Ильяс, что сзади едет, хохочет, прямо заливается. И еще вой какой-то у меня под ногами. Глянул – Господи Ты мой и святые Твои угодники! Упал-то я, оказывается, на двух совсем еще маленьких кабанчиков. Кабаниха рассвирепела, что я ее сосунков подавил, да на меня. Ужас, братья! Клыки – во! – Паломник ударил себя ребром правой ладони по левому локтю. – Зубы – во! – Он растопырил большой и указательный пальцы. – Чуть только не пламя из пасти! Все, думаю, конец.
Присутствующие принялись дружно цокать языками.
– Наверняка бы она меня забила, да спасибо брату Ильясу, что сзади ехал, – пришпорил коня и преградил ей путь копьем.
Все снова стали качать головами и цокать, а хаджи, огладив бороду, важно сказал:
– Повезло тебе, брат. Очень повезло. Ты должен быть счастлив, как никто из нас. Ведь если даже самый благочестивый мусульманин умирает от ран, нанесенных кабаном, он попадает на тот свет как нечистый.
Молодой паломник испуганно ахнул и прикрыл рот ладонью.
– И даже пятисотлетнее пребывание в чистилище не может избавить его от этой нечистоты! – грозно закончил хаджи и одернул на себе новый чапан.
– Какое счастье! – забормотали прочие. – Какая радость!
Кто-то завел молитву. Шеравкан увидел, как бегут слезы по щекам молодого паломника. Он тоже пел фатиху[21].
* * *
Скоро стемнело, но большая бело-розовая луна, повисшая над землями Мавераннахра[22], заливала все вокруг серебристым светом, и даже утлые строения постоялого двора казались слепленными не из крошащейся глины, а из благородного серого мрамора.
Шурпа допревала в котлах, повар не уставал заливать чайники кипятком и доставать крючком лепешки из пламенеющей пасти танура, а рассевшиеся постояльцы, потягивая чай, толковали о том о сем.
На ближайшем к кухне топчане вниманием завладел Рудаки – тот самый нервный человек, которого Шеравкан уже приметил ранее. Обжигаясь, он жадно пил горячий чай, давился, засовывая в рот новые куски дармового хлеба, кое-как глотал, снова припадал к пиале – и все в целом почти не мешало ему говорить.
– …но три раза я отказывался. Зачем мне это нужно? Я Царь поэтов – живу себе, командую писаками при дворе. Они мне делают различные подношения – на все готовы, только бы я обратил внимание на их нелепые вирши. И вот на тебе: бросай все и езжай в Герат вытаскивать оттуда эмира Назра!
Он окинул слушателей возмущенным взглядом и развел руками – мол, сами понимаете, какая глупость.
– Эмиру что? Эмир уехал погостить у двоюродного брата, ну и загуляли они там, ясное дело. Охота, пиры, наложницы! – что еще нужно человеку для счастья? Это же просто рай на земле – сады, прохлада, в ручьях вода – зубы ломит, всюду родники специальные понаделаны, из которых вино бьет, девушки кругом – нет, не девушки, а самые настоящие гурии – пышногрудые, податливые! Как от всего этого уехать? Месяц он сидит в Герате, другой, третий… год сидит! Свита томится, конечно, понятное дело… кому охота торчать там без жен и детей? Бухара начала волноваться – где правитель? Ну и впрямь – как жить людям без эмира? Ни суда, ни порядка, все в тревоге… А он гуляет. Один раз за ним послали – так, мол, и так, солнце наше, пожалуйте в столицу, без вас не может Бухара. Другой раз послали – то же самое. В конце концов визирь ко мне чуть ли не со слезами: «Рудаки, дорогой, поезжай в Герат, эмир тебя любит как родного сына… как отца тебя уважает!.. может быть, он хотя бы тебя послушает». До восстания недалеко, честное слово! Бухара в смятении – что, если туранские племена нападут? Кто защитит?
Рассказчик откусил от краюхи и опять приник к пиале.
Воспользовавшись краткой паузой, пожилой купец, со вздохом оглаживая бороду, заметил:
– Верное говорите, уважаемый. Бухара без эмира – что тело без головы. Это исстари так. Еще когда великому Исмаилу Самани, да усладится его душа райскими наслаждениями, посоветовали ввести новый налог на поддержание крепостной стены вокруг города, он ответил: «Не надо! Пока я жив, я – стена Бухары!» Верно, верно говорите, уважаемый: эмир – стена и крепость Бухары.
– Да, да… Кушбеги опять ко мне: «Рудаки, дам тебе десять золотых, только поезжай, всего святого ради!» Что?! – говорю. Десять золотых?! – говорю. Нет, говорю, за десять золотых я и с места не сдвинусь. Сто золотых! – тогда поеду.
Оратор победительно оглядел слушателей, многие из которых восхищенно переглядывались, повторяя: «Сто золотых!.. Сто золотых!..»
– Да! Сто! – повторил он. – Поеду, думаю. Делать-то все равно нечего. Кто еще, кроме меня, вернет эмира из Герата? Никто. Ладно. Получил сто полновесных динаров, сел на коня, взял слуг – и вперед. А туда, между прочим, путь неблизкий. Ну, дорога хорошая, кони сытые, вспенили, как говорится, копытами воду древнего Джейхуна[23], миновали брод… домчались в два дня.
Говорящий перевел дух, отхлебнул чаю.
– Подъезжаем к дворцу… а дворец, дворец!.. – Он закатил глаза, поднес ладонь ко лбу. – Смотришь – кажется, джинны построили этот волшебный дворец! Золотые крыши! Башни! О-о-о!.. Конечно, стража с мечами, с копьями наперевес – куда?! зачем?! Я с седла кричу: великий поэт Рудаки примчался из славной Бухары к своему эмиру! Расступились, пропустили. Слышу, перешептываются: Рудаки, сам Царь поэтов Рудаки приехал! Ага, думаю, здесь тоже знают мое славное имя. Спешиваюсь, стремительно шагаю к залу, где пирует мой дорогой эмир со своим двоюродным братом. Пинком распахиваю дверь – и прямо с порога бью по струнам своего сладкозвучного чанга[24]. И пою! пою! Голос-то у меня тогда был не такой, что сейчас. Люди плакали от моего голоса. Последнее отдавали, чтобы только услышать.
Рассказчик сложил руки так, будто и в самом деле держал чанг – левой охватил гриф, правой стал часто бить по воображаемым струнам, – и задребезжал нечистым козлетоном, воспроизводя всем известные стихи о чудной красоте бухарских садов Мулиан: о покрывающей их душистой пене цветущих яблонь, о том, как непреложен их зов и сколько наслаждений обещают они далекому путнику.
– Когда я спел первый бейт, – сказал он, откладывая в сторону свой призрачный чанг, – эмир Назр встрепенулся и отстранил от себя нагую красавицу, расчесывавшую ему волосы. Я спел второй…
Повествователь встал и оглянулся так, будто только что проснулся и не может понять, где находится.
Слушатели безмолвно смотрели на него.
– Я спел третий бейт! Вы все знаете – про то, сколь страстно шершавый брод Аму жаждет шелковым песком расстелиться под ноги своего владыки. Ну, тут уж он совсем очухался, провел ладонью по лицу, помотал головой, сел кое-как… потом и встал, сделал шаг к двери… как был – босиком… в нелепых каких-то подштанниках… еще шаг!.. еще!.. побежал!.. мне пришлось посторониться. Уже в спину ему я спел четвертый. А пятый и вовсе пропал даром, потому что эмир вырвал у конюха поводья и взлетел в седло!..
Слушатели дружно ахнули.
– И слуги догнали его, чтобы обуть и одеть, только через два фарсаха, в местечке Бурута, – торжествующе закончил рассказчик. – Вот какую силу имели мои слова!
Он печально усмехнулся.
Повисла тишина, которую совершенно неожиданно нарушил громкий смех человека, с интересом прислушивавшегося к окончанию истории в нескольких шагах от топчана.
Слушатели невольно закрутили головами.
– Да, уважаемый, – продолжая смеяться, сказал незнакомец. Он был высок ростом, плотен, чернобород, опоясан красным кушаком и в целом выглядел довольно величественно. – Из вас бы получилась неплохая Шахразада – ну, знаете, героиня этих новомодных арабских сказок. Вы все рассказали совершенно правильно, все так и было. И допустили только одну ошибку: мой давний друг и учитель Рудаки, на которого вы, к сожалению, совершенно не похожи, получил тогда вовсе не сто, а пять тысяч динаров.
Присутствующие удивленно зароптали.
– Что? – грозно сказал купец, толковавший про славного Самани, не желавшего строить стену. – Да кто вы такой? Вы хотите сказать, будто…
Услышав его голос, человек с тревожными глазами сначала распрямился, как если бы хотел броситься на обидчика, но тут же, напротив, съежился, свесил ноги с топчана и, вяло бормоча какую-то бессвязицу, сунул их в свои дырявые сапоги.
– Я кто такой? – переспросил чернобородый в красном кушаке. – Меня зовут Шахбаз Бухари. А сказать я хочу именно то, что этот тип – самозванец и никакого отношения к Рудаки не имеет. Уж можете мне поверить.
В это самое время дверь комнатенки, где спал Джафар, отворилась, и сам он шаткой тенью появился на пороге.
– Шеравкан! Эй, Шеравкан!
Услышав его голос, Бухари резко повернулся. Уверенная улыбка, с которой он изобличал обманщика, сползла с лица.
– Шеравкан! – повторил слепец громче.
Бухари напряженно всматривался в сумрачное пространство, из которого доносился знакомый ему голос.
– Боже мой! – пробормотал он. – Неужели! Джафар, это вы?! Господи, что с вами?! Джафар!
– Бухари? – удивленно спросил слепец. Он повернул голову, прислушиваясь. – Неужели Бухари? Шахбаз, где ты?
Тихо смеясь, он протянул руки и неловко шагнул вперед.
* * *
Джафар сидел, подперев голову левой рукой. Правой он медленно покачивал пиалу.
Бухари подпирал голову обеими руками и вдобавок мотал ею из стороны в сторону, как если бы пытался избавиться от терзающей его боли.
– Что за зверье, господи!
– Да, да, – рассеянно сказал Джафар. – Хватит, дорогой мой. Согласись, что, даже если мы так зальем слезами округу, что расплодим лягушек, глаз у меня не прибавится.
Поднес пиалу ко рту, отпил.
– Это же звери, а не люди! – воскликнул Бухари плачущим голосом. – Почему именно с вами такое несчастье?!
Джафар раздосадованно крякнул, посопел, потом сказал с усмешкой:
– Интересный вопрос, не спорю. Боюсь, правда, мы не найдем на него простого ответа. Скажи лучше, почему ты стал вдруг обращаться ко мне на «вы»? Думаешь, слепой я заслуживаю большего уважения, чем зрячий?
– Нет, не могу поверить, не могу! – повторял Бухари сквозь слезы.
Слепец взмахнул рукой, и пиала с громким треском раскололась о стену. Робкое пламя масляного фитиля испуганно затрепетало, тени метнулись по углам кельи.
– Ты заткнешься, наконец?! Или так и будешь выть, как поганый шакал?!
Бухари оцепенел.
Было слышно только тяжелое дыхание.
– Прости, – сказал в конце концов Джафар, протягивая руку, чтобы нашарить его ладонь и сжать ее. – Прости. Я не хотел. Прости. Видишь, у меня тоже выдержки не хватает, и я…
Бухари, всхлипнув, припал к его коленям.
– Ладно, перестань, – говорил Джафар, трепля его по плечу. – Перестань. Новые глаза мне уже никто не подарит, согласен? Не проводить же остаток жизни в бесконечных стенаниях. Шеравкан!
– Да?
– Придется заплатить за эту чертову пиалу… у нас еще есть деньги?
– Деньги?! – встрепенулся Бухари. – Бог с вами! Не думайте о деньгах! Уже завтра к полудню я буду в Бухаре. Я везу восемь тюков пенджабского кимекаба[25]. Восемь тюков златотканого кимекаба! Вы же знаете, племянник дал мне в долг под пятнадцать процентов годовых… видите, вы меня отговаривали от этого предприятия, а как все славно вышло. Завтра я заложу часть и тут же пришлю вам деньги. Какой смысл идти в Панджруд пешком? Вы наймете повозку и…
– Тебе нельзя сейчас в Бухару, – прервал его Джафар. – Тебя тут же подгребут. Исмаилит? – исмаилит. Сочувствовал карматам? – сочувствовал. Со мной и с Муради знаком был? – был. Речи возмутительные слушал? – слушал. Этого хватит, уверяю тебя. В лучшем случае – станешь таким, как я. В худшем – вовсе голову снимут.
Бухари поежился.
– Разве они еще не остыли?
– Не знаю. Говорят, возле Арка кровь ручьями текла.
Купец ахнул.
– Так говорят, – невозмутимо уточнил Джафар.
– Но прошло уже полтора месяца, – робко заметил Шахбаз Бухари. – Может быть, все успокоилось? И потом, разве я – важная птица? Я всего лишь ваш ученик… мои стихи мало кому интересны.
Джафар пожал плечами.
– Насчет того, насколько успокоилось, не знаю… В яме сидел. Да и вообще мало что мог разглядеть… Ну да, конечно, тебя мало в чем можно обвинить… заходил иногда вместе с другими молодыми поэтами… рассуждал о поэзии… казалось бы, это не преступление. Но ведь можно и иначе вопрос поставить: с кем рассуждал о поэзии? С бунтовщиком Муради рассуждал, с поощрителем карматских идей Джафаром Рудаки рассуждал. Если с ними рассуждал, значит и сам такой.
– Да-а-а, – вздохнул Бухари.
– И потом: был бы ты бедняк – дело другое. Но ты, к сожалению, человек сравнительно обеспеченный. Дом у тебя… имущество кое-какое… деньги в обороте… товары вот из Индии везешь. Почему не попользоваться? Тут же: так, мол, и так, поэт Шахбаз Бухари прибыл в Бухару с бесценным грузом пенджабского кимекаба. Кто сей Шахбаз? Известно кто: приверженец всемирной справедливости, сторонник двенадцатого имама, враг порядка и возмутитель спокойствия. Следовательно, сам он подлежит немедленной казни, а кимекаб его бесценный – столь же немедленной конфискации. Как прикажете, господин Гурган: прямо сейчас башку снести? А насчет кимекаба не беспокойтесь, доставим в сохранности.
И Джафар рассмеялся, качая головой, – похоже, ему нравилась собственная речь.
Бухари молчал, грызя ноготь на большом пальце.
– Пока соберешься объяснить, что вовсе ты не приверженец никакой, а напротив – верный слуга нового эмира. Впрочем, не знаю, – неожиданно переменил он мнение. – Может, и не так. Все-таки ты больше купец, чем поэт… пишешь не много, стихи твои малоизвестны… да и вообще.
Джафар осекся, будто чуть не сказал лишнего, пожевал губами.
– Да я не обижаюсь, учитель, – усмехнулся Бухари. – Я и сам знаю, что у меня таланта немного. Я ведь почему за стихи взялся? Понравилось мне с поэтами время проводить. Совсем другие люди. Со своим братом-купцом о чем толковать? Где повыгодней купить, как везти да кому сбыть подороже. День слушаешь, два, неделю, год – прямо выть хочется. А к поэтам придешь – благодать. Душа отдыхает! Они все о высоком. О божественном!
Бухари счастливо рассмеялся.
– Это да, – вздохнул слепец. – Те еще болтуны попадаются.
Помолчали.
– А брат ваш жив? – спросил Бухари.
– Шейзар? Был бы жив, нашел бы меня… но не знаю, ничего не могу сказать. Может, прячется.
Безнадежно махнув рукой:
– Я даже про Муслима ничего не знаю – жив ли, нет?
– Будем надеяться на лучшее… А эмир?
– Эмир? Эмир Назр отрекся в пользу сына Нуха… ныне сидит в Кухандизе. Во всяком случае, сидел. Теперь-то уж, может, и с голоду помер…
– Ужасно, – вздохнул Бухари. – И все равно мне нужно в Бухару. Племянник ждет денег. Или хотя бы товара. Мы разоримся, если я буду здесь сидеть. Что мне остается делать?
Джафар пожал плечами.
– Продай товар здесь, деньги поручи кому-нибудь из купцов, они люди честные, передадут твоему племяннику.
– Здесь я получу вчетверо меньше, – заметил Бухари и вдруг фыркнул: – Честные купцы! Знаю я этих честных купцов. Остригут как барана. Нет-нет-нет. Приеду, брошу товар на постоялом дворе, сам к племяннику. Он продаст кимекаб, хорошо заработаем. Пришлю вам денег, – вдохновенно говорил Бухари. Глаза его блуждали: должно быть, он просто описывал встающие перед ним мысленные картины. – Вы наймете повозку…
– Да что ты заладил про эту повозку! – возмутился Джафар. – Не нужна мне никакая повозка. Я пойду пешком.
– Почему?
– Так велел господин Гурган. – Джафар скрипуче рассмеялся. – И пусть весь Мавераннахр знает, какие веления вылетают из уст этого господина. Я буду идти и рассказывать, почему я делаю это!
– Да, но…
– Перестань! – снова вспылил слепец. – Неужели ты не понимаешь? Пешком ли я заявлюсь в Панджруд, на повозке ли прикачу, принесут меня рабы в паланкине или нечистые аджинб[26] на ковре-самолете – все это не имеет ровно никакого значения.
Бухари помолчал, обдумывая сказанное.
– Что же тогда имеет значение? – спросил он.
Джафар не ответил – безмолвствовал, упрямо наклонив голову; желваки играли на скулах.
Сверчки голосили на восемь разных ладов, и казалось, что вся их несметная толпа собралась здесь, в этой затхлой комнатенке.
От длительности молчания перехватило горло, и тогда Шеравкан спросил, осторожно тронув слепца за колено:
– Учитель, вам другую пиалу принести?
Спор с паломником. Самад и головы. Душа хивинца
Разбившись о стену, пиала, казалось, разбила и то тяжелое напряжение, что висело в воздухе кельи.
Шахбаз Бухари встряхнулся, голос его если не повеселел, то, по крайней мере, утратил надрывное звучание непоправимого несчастья, и говорил он теперь с Джафаром совершенно обычно – будто тот как был зрячим во время последней их встречи, так им и остался; и Джафар отвечал ему или задавал собственные вопросы точно так же – как будто по-прежнему видел лицо друга, а не томился в кромешной тьме.
Шеравкан тоже чувствовал облегчение.
Однако со второго этажа все это время доносились стоны несчастного хивинца, и было жутко представить, каково ему сейчас приходится – глухой ночью, на чужой стороне, вдали от дома. Эка стонет, бедолага! эка стонет!..
Шеравкан размышлял, почему не помогло лекарство, с таким тщанием приготовленное стариком хаджи. Что может быть полезнее и целительней, чем благодать святого Корана? В конце концов он пришел к выводу, что, скорее всего, хаджи проявил какую-то недобросовестность. Читать-то он читал, конечно, все видели. Но сам в это время, может быть, думал о шурпе и морковке, кто его знает. Выходит, зря ему купец такой хороший чапан подарил.
Когда поели, Бухари, подмигнув Шеравкану, ненадолго вышел, а вернулся с небольшим глиняным кувшином в руках.
– Учитель! – торжественно сказал он, осторожно ставя его на пол. – Как известно, поэту нужно только два сосуда: склянка с чернилами и чаша с вином. Что касается чернил, то сейчас слишком темно, чтобы ими пользоваться. Как вы смотрите на то, чтобы припасть ко второму из упомянутых?
Джафар хмыкнул.
– Ты прав, – сказал он. – Слишком темно. Для тебя еще не рассвело, для меня… – Он осекся и махнул рукой. – Наливай, если не шутишь.
Дело пошло. Шахбаз Бухари то и дело наполнял пиалы. Пробормотав друг другу краткое пожелание благополучия, друзья немедленно их опустошали. Постепенно голоса их становились громче. Шеравкан сидел, прислонившись спиной к стене, и смотрел на огонек каганца, причудливо танцующего на кончике фитиля. Этот маленький гибкий танцовщик был в оранжевой рубахе и голубых шароварах… или, может быть, танцовщица?
Кто-то осторожно постучал в дверь и, выждав секунду, приотворил.
– Входите! – машинально сказал Шеравкан, отводя взгляд от пламени.
На пороге стоял один из паломников, прибывших с караваном. Худой, с лицом морщинистым, как сухой плод джиды, в неверном свете каганца казавшимся и вовсе черным, он, глядя на Джафара и переминаясь, робко попросил:
– Благословите, учитель!
Все молчали.
В конце концов Джафар сказал, наклоняя голову, чтобы лучше слышать:
– Кто это, а? Шахбаз, это он кому?
– Вам, – вздохнул Шахбаз Бухари.
– Мне? – изумленно переспросил слепец. – Подожди! Вы это кому, уважаемый?
– Благословите, учитель! – повторил паломник, стеснительно скаля гнилые зубы.
– Что за глупость! – возмутился Джафар. – Как я могу тебя благословить? Я не мулла, не хаджи, не прилежный богомолец! То есть нет – я, конечно, тоже мулла… не зря я учился когда-то в медресе и толковал Коран почище любого законоведа. Я мулла, ты прав… я и богомолец… ибо на кого нам уповать еще, кроме Бога… и как еще обращаться к Нему, если не молитвой? Но видишь ли ты, что у меня в руке? – он протянул перед собой пиалу. – Чаша с вином, запрещенным для нас Аллахом!
Покачал головой, будто раздумывая над собственными словами, потом допил вино и закончил, утирая губы:
– Жаль, что ты немного опоздал, а то бы сам услышал разъяснения моего друга насчет того, что нам с ним в нашей пропащей жизни ничего не нужно, кроме этой чаши да еще чернильницы. И как же я, человек, нарушающий законы Пророка, могу тебя благословить?
– Ну и что, подумаешь! – примирительно возразил паломник. – Да, мы мусульмане. Но наши деды поклонялись огню. Мы отреклись от огня, от Ормазда, Михра и Зардушта[27]. Неужели нам нужно отречься еще и от вина? И потом: вы же Рудаки? Царь поэтов?
Слепец хмыкнул.
– Ишь какой рассудительный, шельмец… вон куда завел – к Ормазду! А с чего ты взял, что я – Рудаки?
– Люди говорят, учитель… земля слухом полнится.
– Не знаю, уважаемый, какая там земля и каким там еще слухом, – проворчал Джафар. – Болтовня и сплетни. Ну, допустим. Да, я – Рудаки. Джафар Рудаки. Сын Мухаммеда, внук Хакима. Отец Абдаллаха, вечная память несчастному малютке. Это так. Правда, насчет Царя поэтов теперь уже не уверен… но был когда-то, был… даже сравнительно недавно.
Лицо просителя просветлело, а Рудаки не совсем твердым движением протянул пиалу Бухари, и тот ее наполнил, не забыв при этом и о собственной.
– Учитель, вы ближе к Богу, чем самый богомольный хаджи, – убежденно сказал паломник. – Ведь Господь говорит вам Свои слова напрямую, без посредства мулл и мечетей. Благословите!
– Подожди-ка, друг мой! Разве ты забыл, что сказано? – за поэтами следуют заблудшие. Слова поэтов внушены им не Господом, а его падшими слугами – джиннами.
– Но ведь джинны подслушивают чистые речи ангелов, которые спускаются на облака от Божьего престола, чтобы потолковать о делах Всевышнего?
– Верно, да только когда потом пересказывают услышанное поэтам и прорицателям, то прибавляют множество собственных нелепиц. Нет, дружище, – печально сказал слепец, качая головой. – Держись от поэтов подальше. Пропащие они люди. Заведут тебя, не дай бог, в преисподнюю.
– Но ведь сказано и другое, – возразил паломник. – «Кроме тех, которые уверовали и творили добрые дела». Разве не так?
– Перестань. Какие еще добрые дела? Поэзия – обман. По-твоему, обманывать – это творить доброе дело?
– Когда обманывает простой человек – это, конечно, грех, – не сдавался паломник. – А когда поэт – это всего лишь украшение. Это вовсе не обман, это просто другая правда.
– Глупости, – фыркнул Рудаки. – Правду поэт может сказать разве что в скорбной элегии… да и то если пишет ее на смерть близкого человека, а не эмира. А когда говоришь по заказу или из страха перед гневом правителя – какая же это правда?
– Благословите, учитель! – настаивал пришелец.
– Во народ, а! – вздохнул Рудаки. – Нет, ну вы только посмотрите! Не знаю, уважаемый, не знаю… вряд ли найдется лицо духовного сана, которое похвалит вас за подобные убеждения. Подожди, дай отхлебну этого волшебного напитка… м-м-м!.. настоящий мусалас![28]
Паломник встал на колени, склонился.
Рудаки положил ладонь ему на голову, пробормотал фатиху.
– Дела, – протянул Шахбаз Бухари, когда тот, радостно шепча слова благодарности и своих собственных благословений, выскользнул за дверь. – Это еще что. Там один сумасшедший себя за вас выдает. Только что толковал, как он эмира Назра из Герата вызволял. Честное слово, я вам позавидовал – вот это слава!
– Серьезно? Не рассказывал, что когда он – то есть я – в первый раз ударил по струнам, все стали смеяться, когда второй – заплакали, в третий – уснули, а в четвертый – вскочили и разбежались?
– Нет, учитель, – твердо ответил Шахбаз Бухари. – Врать не буду. Этого не было.
Джафар хмыкнул:
– Ладно, наливай.
Бухари наполнил чаши, а ставя кувшин, меланхолично сообщил, что некий аджина, незримое присутствие которого возле себя он только что обнаружил по свойственному их нечистой породе запаху корицы, ни с того ни с сего разлившемуся в воздухе, нашептал ему совершенно ангельское рубаи, в которое им, джинном, по его, Шахбаза Бухари, мнению, не было добавлено ни единого словечка. И тут же прочел громко и нараспев. Выслушав, Джафар буркнул что-то насчет пустой траты времени. У Шеравкана уже слипались глаза. Он лег на курпачу, с головой накрылся чапаном и повторил про себя рубаи, и еще, и еще, и с каждым разом этот краткий стишок нравился ему все больше. Но потом он отвлекся на что-то иное, а когда попробовал снова вспомнить, то рифмы почему-то потерялись, музыка расстроилась, строй развалился, и остался только смысл: что-де мусалас я люблю больше, чем жен и детей: потому что жены и дети беспрестанно досаждают мне, требуя хлеба; в награду же за сладостное молчание мусаласа я сам готов с радостью дать ему хлеба – то есть обмакнуть в него хлеб.
– А я вам говорю, учитель, – вдруг громко сказал Шахбаз Бухари. – Все равно мы дождемся светлого дня. Все равно Махди придет!
– Тише ты, – шикнул Рудаки. – Мальчика разбудишь.
Однако Шеравкан не спал. Сон почему-то не шел к нему. Он куце позевывал, закрывал глаза, вот уже, казалось, начинал медленно проваливаться, тонуть в теплой, тягучей реке… и вдруг издалека звучало знакомое, внятное слово или известное имя. Река отступала, и оказывалось, что он снова прислушивается к негромкому разговору, большую часть которого не разбирает. Вот опять они об этом – Гурган… несчастный эмир Назр… новый эмир – Нух, сын эмира Назра… Почему «несчастный»?.. ну да, конечно… во время избиения карматов и пожара Бухары молодой эмир Нух не то убил отца, не то посадил в темницу… всем известно.
Они-то, должно быть, лучше всех знают. Рудаки знает… и этот его ученик… этот толстый весельчак Шахбаз Бухари. Еще бы, ведь они оба – придворные поэты, они всегда во дворце… Нет, Бухари – не придворный поэт, а всего лишь купец… но Рудаки – вообще Царь поэтов, главный поэт двора. Хотя какой же он теперь главный поэт… и какой дворец? Шеравкан ведет его в Панджруд, на родину… он слеп… его ослепили. За что? Так поступают с закоренелыми преступниками… потому что это наказание хуже смерти. Смерть – тоже страшно. Но слепота!..
Шеравкан видел. Они с Самадом – сыном десятника[29] из соседнего переулка – забрались на дерево, и правильно сделали, потому что иначе им и краем глаза не удалось бы ничего увидеть: ведь в тот день вся Бухара сошлась смотреть на казнь. Войско эмира Нуха пригнало толпу пленных туркмен из захваченных врасплох, сметенных с лица земли стоянок и селений. Поделом: зимой они разграбили караван в две тысячи верблюдов. Караван следовал из Хивы в Бухару. Не пощадили путешественников – отняли все припасы и одежду, и некоторые умерли в пустыне с голоду, другие замерзли, из семидесяти человек спаслись только восемь, да и то, как говорили, чудом, не без заступничества Аллаха и святого Хызра.
Без устали трещали барабаны. Пленных разделили на две группы. Тех, что были помоложе и годились для продажи, солдаты сковывали друг с другом человек по десять и уводили, нещадно молотя палками по чему ни попадя. Оставшиеся – все как один старики с длинными седыми бородами – по знаку палача легли на землю лицом кверху. Подручные быстро связывали им руки и ноги. Палач становился каждому коленом на грудь, делал два быстрых движения, а потом вытирал окровавленный нож о белую бороду ослепленного старца. Освобожденные от пут, они вставали ощупью, помогая себе руками… некоторые сталкивались, стукались головами, многие снова падали, издавая глухие стоны.
Когда все кончилось, толпа зрителей забурлила, спеша вернуться к своим торговым занятиям, и мальчишки едва вырвались из ее тесных и пахучих объятий.
Самад ликовал, перекрикивал дикий гвалт торжища, снова и снова расписывая подробности казни – хотя Шеравкан и сам все отлично видел, и его еще мутило от увиденного. Отец Самада был в числе того самого отряда конной гвардии, что захватил и пригнал пленных. Самад восторженно толковал, что завтра отличившимся воинам будут раздавать наградные одежды – шелковые чапаны ярких расцветок с большими цветами, вышитыми золотом; и что эти почетные чапаны, которые герои похода получат из рук начальника кавалерии, кушбеги или даже самого эмира, – Аллах лучше знает! – имеют разное достоинство и бывают четырехглавыми, двенадцатиглавыми, двадцатиглавыми и сорокаглавыми.
«Головы, что ли, какие-то вышиты?» – вяло спросил Шеравкан, который уже не чаял отделаться от своего надоедливого соседа.
«Ты совсем, что ли?! – снова раскричался Самад, хохоча и хлопая себя по коленкам. – Какие вышивки?! Сколько голов из мешка всадник перед чиновником высыпал, такой чапан и получит. Если всего четыре головы – так четырехглавый, простенький, а сорок – ну тогда уж сорокаглавый, самый дорогой. Эх ты, деревенщина!..»
Шеравкан дернулся и чуть не закричал, потому что прямо на него покатились, как с горы, оскаленные человечьи головы. Но тут же понял, что не наяву, а привиделось в дреме.
«А это что за плач?» – заволновался он, засыпая. Что же это?.. это хивинец?.. это его негромкие хриплые стоны?.. или просто ветер слетел с холмов и с грубой нежностью ерошит во тьме листву карагачей? – раз за разом, раз за разом.
Ветер, конечно же, ветер!.. Хивинец спокойно спит, хаджи дал ему хорошее лекарство, болезнь отпустила, ушла! Завтра он встанет здоровым, спустится с галереи – осунувшийся, бледный, взволнованный своей радостью: ведь он выздоровел!..
Шеравкан увидел залитый солнцем двор караван-сарая… разномастных постояльцев, занятых своими делами, но дружно повернувшихся на скрип деревянных ступеней. Сконфуженное лицо хивинского купца, озирающегося так, будто вернулся с того света. И уже смех, улыбки, оклики: о-о-о, молодец!.. давай-давай, дружище!.. еще не хватало – разболеться в дороге!.. что еще выдумал!.. Аллах лучше знает, когда нам болеть, а когда быть здоровыми!.. когда жить, а когда прощаться с жизнью!.. Аллах ведь лучше знает, правда?.. Ведь правда?..
Так оно и было.
Душа принадлежала Господу, была предоставлена человеку во временное пользование, и под утро Всевышний послал ангела Азраила, чтобы вернуть себе свое имущество.
Незримый посланник сошел с небес, приблизился к одру и протянул хивинцу длань, в которой лежало райское яблоко. Учуяв сладостное благоухание этого дивного аромата, душа, приняв обличье мелкой фруктовой мушки, выпорхнула из левой ноздри умиравшего и тут же взмыла в поднебесье, а потом еще выше и еще – к самому небесному престолу, возле которого вечно шелестит бесчисленной листвой Дерево судеб. Некоторое время мушка растерянно сновала между ветвями, читая написанные на листьях имена, и никак не могла найти свое собственное. В конце концов она сообразила, что ее лист должен быть чуточку выше. Поднялась – и тут же радостно обнаружила его, и села на душистый зеленый глянец, и, часто крутя глазастой головой, стала мыть лапки и крылышки.
Похороны
Утро только-только начало отделять тьму от света, а постоялый двор уже проснулся – жил, двигался, покрикивал и был озабочен множеством неотложных надобностей.
Четверо, в числе которых и Шахбаз Бухари, вооружившись мотыгами, ни свет ни заря ушли на кладбище копать могилу.
Тем временем толстый одышливый мулла начал обряд выкупа грехов.
Привели из конюшни лошадь покойного Саида – старую пегую кобылу. Она стояла смирно и только часто взмахивала сильно траченным хвостом. Левую руку, в пальцах которой у него были четки, мулла продел в уздечку. Правой взялся за край большого блюда с пшеничным зерном, комками каменной соли и мелкими деньгами. Другой край блюда держал старик хаджи: то ли по бедности, то ли из-за стыда за недейственность приготовленного им лекарства, приведшую к столь печальному концу, он согласился взять на себя грехи покойного.
Постояльцы столпились, образовав довольно тесный круг.
– Сколько было бедняге? – спросил мулла неожиданно тонким голосом.
– Двадцать пять, – сообщил хивинец.
– До двенадцати лет все мы безгрешны, – вздохнул мулла. – Стало быть, речь идет о тринадцати годах.
Он прочел короткую молитву, закончив словами:
– Саид, сын Аркеша, в своей жизни некоторые религиозные обязанности выполнял вовремя, а некоторые с опозданием. Сейчас пришел его смертный час. А жизни ему было двадцать пять лет.
Затем щелкнул первым камнем четок и, кивнув на блюдо, строго спросил у старого хаджи:
– Вы эти вещи мне подарили?
– Да, я их вам подарил, – согласился хаджи.
– Тогда вот вам за них грехи покойного, – сказал мулла, и хаджи, протянув руку, покорно коснулся пальцами первого камня четок.
Так было тринадцать раз – по числу грешных лет умершего. Тринадцать раз мулла читал молитву, тринадцать раз хаджи касался очередного камня, принимая на себя чужие грехи. Когда отзвучал последний год, хивинский купец, товарищ умершего, положил на блюдо несколько отрезов ткани. Один, самый большой, предназначался для шитья савана, пара других, значительно меньших, служила платой мулле и старику хаджи, остатки, из которых, даже сложив их вместе, не удалось бы выкроить приличного поясного платка, предстояло разделить между присутствующими.
Следовало также позаботиться о носилках, и хозяин предложил взять их в ближайшей мечети.
– Очень хорошие носилки, – кивнул мулла. – Отличные носилки. Пойдемте, я дам.
Однако хивинец воспротивился.
– Саид умер совсем молодым, – повторял он, качая головой и даже не пытаясь утирать слезы, беспрестанно текущие по смуглым и почти безбородым щекам. – Нет, мы не можем нести его на старых носилках. Что я скажу его родным? Что их сына и брата положили на старые носилки, как какого-нибудь седобородого старца, благополучно прожившего все положенные ему годы? Ему нужна колыбель – свежие носилки из гибких ветвей, украшенные зеленой листвой. Что делать, что делать!.. – причитал хивинец.
– Да, – вздохнул хозяин. – Но умер-то он не в родном селе, согласитесь. Возможно, они захотят его перезахоронить ближе к дому.
– Нет, – возразил хивинский купец. – Не захотят. Здесь он будет лежать ближе к Мекке, чем там.
– Это верно, – согласился хозяин. – Конечно. Так что? Может быть, все-таки послать в мечеть?
– Ах, верно говорят, что иметь одно неплодовое дерево лучше, чем дурного отпрыска! – горестно воскликнул хивинец, а потом спросил, указывая на раскидистую иву в углу двора: – Чье это дерево? Чья это ива?
Понятно, что обеспечить нуждающегося древесиной для носилок – дело богоугодное, а брать за него деньги – грех.
Однако ива (как и все прочее, что здесь было) принадлежала хозяину караван-сарая, и на его хмурой физиономии в ту минуту можно было прочесть, что последнее рассуждение представляется ему столь же справедливым, сколь и безрадостным.
Короче говоря, хозяин замялся.
– Вы не волнуйтесь, – взволнованно заговорил хивинец. – Если бы я просил у вас древесину для строительства дома или мечети, тогда, конечно, вам было бы зазорно брать с меня деньги. Мы бы обошлись богатым угощением, как и положено. Что же касается носилок, то дело обстоит иначе. Конечно, если бы вы продавали жерди родственникам бедного Саида, для них это явилось бы серьезным унижением – ведь они могли и сами в свое время позаботиться о посадке ивы, чтобы теперь не побираться по чужим людям. И они позаботились! – но Саид умер вдали от предназначенной ему ивы. А я не прихожусь ему даже дальним родственником, я просто попутчик. Поэтому, если вы, уважаемый, возьмете с меня за эту услугу один дирхем, все окажутся в выигрыше. Как вам кажется?
– Гость говорит правду, – одобрил мулла путаную логику хивинца.
Вздохнув и почесав плешивый затылок под засаленной чалмой, хозяин сказал свою цену. После краткого торга сошлись на полутора дирхемах, и добровольцы подступили к трепещущему на утреннем ветерке дереву.
Не прошло и получаса, как новые носилки, связанные тряпками из двух свежесрубленных жердей и пяти перекладин между ними, стояли у ворот. Хозяин помогал хивинцу доделывать свод: тот осторожно, чтобы не повредить листву, сгибал ивовые прутья дугами, а хозяин ловко привязывал концы к поперечным перекладинам. Постояльцы переминались вокруг, дожидаясь окончания.
Когда погребальные носилки и впрямь стали похожи на колыбель, хивинец распрямился, отряс руки и воздел их к небу.
– Хы-ха, облохи! – крикнул он, жмуря глаза, из которых катились слезы.
К нему быстро подошли несколько мужчин. Хивинец положил руки двум из них на плечи, и все сделали так же. Образовался круг человек из десяти.
Круг медленно двинулся посолонь. Вокруг него уже быстро складывался второй – больший. Этот пошел в обратную сторону.
– Хы-ха, облохи! Хы-ха, облохи!
На каждый выкрик «ха!» все склонялись в поклоне. На «облохи!» – резко выпрямлялись и делали следующий шаг. Смысл этих слов давно потерялся в темноте веков, и можно было только догадываться, что в «облохи» все еще звучит имя Господа – Аллах.
Вдруг хивинец высвободился из объятий своих соседей и вышел в центр круга. То же сделали еще трое. Они одновременно взялись за ножки носилок и резко подняли их на вытянутых руках к небу.
– Хы-ха, облохи! Хы-ха, облохи!
Каждый хотел на время оказаться в центре, чтобы с яростным криком поднять к солнцу погребальные носилки, и они кружили, пели и менялись местами до тех самых пор, пока, наконец, не пришла весть, что все готово для обмывания. Круг распался. Под громкие рыдания возбужденных, взвинченных танцем мужчин вынесли тело. Когда оно утвердилось на положенном ему месте, все смолкло и успокоилось.
Обмывальную доску, в качестве которой использовали хлипкую дверь одной из келий, установили в углу двора, завесив от лишних глаз двумя паласами. Один конец лежал на низком табурете, другой упирался в пару колышков, вбитых в землю. Котел с водой стоял чуть поодаль. Пук соломы под ним жарко полыхнул оранжевыми языками. Обычай предписывал греть воду, но не определял, сколь теплой она должна оказаться. Пламя поспешно облизало стенки казана и сникло, оставив после себя серый пух разлетающегося пепла.
Старик-хаджи, взявший на себя грехи покойного, вызывался также и в обмывальщики.
Мулла, проницательно на него посмотрев и одобрительно высказавшись в том смысле, что каждому человеку в жизни полагается трижды совершить богоугодное дело обмывания покойника, заметил затем, что как недобор, так и перебор этого числа является настолько большим грехом, что даже плата чрезмерно усердствующему считается нечистой.
После его слов хаджи нехотя сознался, что ему пришлось обмыть уже четверых, – и пригорюнился, поскольку, вероятно, рассчитывал на положенные обмывальщику рубаху, штаны, пояс и, главное, еще один новый чапан.
Однако назначенный в обмывальщики паломник предложил ему исполнять роль помощника, великодушно посулив четверть из того, что получит сам, и старик снова воспрял.
Шеравкану вручили пустотелую тыкву-горлянку. Он зачерпывал чуть теплую воду из котла, в три или четыре приема наполнял медный кумган и передавал его средних лет бухарцу. Покойник лежал на наклонной плоскости обмывальной доски. Бормоча молитву, паломник показывал, куда лить воду, и протирал тело ладонью, обернутой лоскутом грубого карбоса, а когда осторожно переворачивал тело, следил за тем, чтоб, не дай бог, не соскользнул кусок холста, стыдливо прикрывавший покойника от пояса до колен.
Когда дело подошло к концу, Шеравкану велели нарвать желтых цветков сафлора.
Выйдя за ворота, Шеравкан увидел Шахбаза Бухари – тот, закинув кетмень[30] на плечо, плелся к постоялому двору вместе с тремя другими гробокопателями, выглядевшими не менее усталыми.
– Ох, тяжела земля, – сказал Бухари, замедляя шаг. – И как только Господь сумел ее от неба отделить?.. Ну, что там?
Шеравкан пожал плечами.
– Носилки готовы. Меня за цветами послали.
– Понятно, – кивнул Шахбаз Бухари и произнес, разводя руками, будто заранее извиняясь:
- Бьешься за жизнь, будто мышь на обмылке,
- А под конец – лишь цветы да носилки.
– Хорошие стихи, – вежливо похвалил Шеравкан.
– А, разве это стихи! – отмахнулся тот.
Кивнул на колючие стебли сафлора, тут и там торчавшие по обочинам.
– За этими, что ли?
– Ну да.
– А Джафар что делает?
– Я уходил – спал вроде.
– Вот бедняга! Господи, что за беда!..
Качая головой, он прошептал слова молитвы, а потом бросил кетмень на землю и принялся помогать. Шеравкан расстелил платок, и они кидали на него сорванные цветки.
– Хорошую могилу выкопали? – между делом спросил Шеравкан.
– Хорошую, – вздохнул Шахбаз Бухари. – Еще какую хорошую – аж спина трещит. Отличная могила. Чистенькая такая, глубокая. Сам бы в такую сел… дожидался бы Судного дня, – бормотал он, беспрестанно подмигивая и ловко отщипывая соцветия с верхушек стеблей. – А то ведь минуты спокойной не найти, суета сует: поездки, торговля… разве это для меня? Вот в могиле – совсем другое дело. Сочиняй сколько влезет… жаль, прочесть будет некому, кроме Мункара и Накира.
Он невесело рассмеялся, а Шеравкан вдруг с легким содроганием осознал, что этими желтыми цветами, лепестки которых отчего-то холодят пальцы, скоро осыплют мертвеца. Кто-то уже сунул бусину в его косный рот, чтобы не закусил невзначай край савана, а иначе беды не оберешься – будет шастать к живым по ночам, разносить свое несчастье, пока не разроют могилу, не разожмут сведенные зубы. Другой накинул угол ткани на лицо и затянул узел, а сделав это, подошел к одному из столбов, поддерживающих крышу, и совершил точно такое же действие, крепко обвязав столб поясным платком, – ведь что парное, то чистое. Долго ли трижды приподнять носилки, чтобы тот, кто лежит на них, забыл дорогу назад? Да и поставить у ворот блюдо с чечевицей и масляный светильник – на это тоже потребуется не больше двух вздохов. Сколько времени нужно десятку-другому мужчин, чтобы они, часто чередуясь, быстрым шагом, почти бегом, донесли его до кладбища – даже если задержатся на краю клеверного поля и прочтут еще одну поминальную молитву? А чтобы осторожно снять с носилок, опустить на поясных платках, протолкнуть в камеру и усадить? Вот и минули эти краткие сроки, и громкие голоса свидетельствуют, что люди освободились от тяжести смерти. А вот, кажется, стук булыжников, которыми они споро закладывают вход в его тесную келью. Хоть душа и отлетела, хоть Саид недвижен и холоден, хоть как будто сквозь вату или глубокий снег – но он слышит: грохот камней сменился шорохом – должно быть, кладку замуровывают глиняным раствором… вот шлепающий звук падающей земли… потом шелестение и скрежет – наверное, ее остатки сгребают в холм над могилой… краткий удар – это воткнули шест, украшенный разноцветными лоскутами… снова голоса, топот… кто-нибудь подхватил носилки – не бросать же, еще, глядишь, когда-нибудь пригодятся… шаги удаляются… совсем затихли… тишина.
В этот-то миг и возникнут перед ним Мункар и Накир – два Божьих пламенных ангела с черными лицами. И увидит мертвец, что один высок, и статен, и мощен, и смотрит пронзительно и страшно, а тяжелая булава в руке пламенеет синим, почти не видимым огнем. Второй же сутулится, правая лопатка выпирает над левой – он горбат.
– Встань! – властно скажет один, на короткое время наделяя покойника душой.
Саид вздрогнет и попытается встать – и не сможет, а только стукнется головой о земляной свод.
– Я умер? – удивится он.
– Кто твой Бог? – грозно спросит другой Вышний посланец. – Кто ты сам?
Терзаемый неотступными дознавателями, он будет мучительно вспоминать былую жизнь, похожую сейчас на отражение мимолетного облака в текучей воде, и путаться, и запинаться, и снова вспоминать, и фантазировать, и находить ответы, и стараться выглядеть лучше, и снова быть уличаемым во лжи, – и когда они наконец-то покинут могилу, Саид с облегчением и окончательно умрет: закроются уши, погаснут глаза, и станет он безмолвным и вечным ожидателем грядущего воскрешения, о котором протрубит с высокой горы над Иерусалимом вестник Всевышнего – ангел Исрафил.
Глава третья
Эмир Назр. Смерть Джайхани. Поход
Прозвища саманидским[31] правителям давали после их смерти. Эмир Ахмад стал зваться Убиенный. Сон его сторожил лев, взятый котенком на одной из охот. Однажды у дверей покоев почему-то не оказалось ни льва, ни иных охранников, и темной декабрьской ночью 913 года от Рождения Христова, то есть через триста с небольшим лет после переселения пророка Мухаммада из Мекки в Медину, несколько тюркских гулямов[32] беспрепятственно вошли к эмиру, чтобы перерезать ему горло.
На протяжении некоторого времени было не совсем понятно, в чьи руки упадет теперь золотое яблоко Хорасана. Однако счастье склонилось все же на сторону Саманидов. Заговорщиков перебили, причем двое перед смертью показали на катиба, то есть главу эмирской канцелярии, как на своего главаря и организатора. Слышать это было странно: никогда прежде секретари-письмоводители в предприятия такого рода не пускались. Так или иначе, злонамеренного грамотея, тщетно силившегося уверить сподвижников покойного в очевидной своей невиновности, спешно и кроваво умертвили, после чего шейхи и воинство Бухары, недолго посовещавшись, единодушно выкликнули на царство восьмилетнего сына эмира Убиенного – Назра.
Он ясно помнил промозглый зимний день своего возвышения. Над Бухарой ползли низкие тучи. Заставляя всадников щурить глаза, холодный ветер бросал в лица то горсти мокрого снега, то брызги дождя. Лошадиные морды лоснились. Меховые шапки сотников тоже выглядели прилизанными. Рослый гулям поднял мальчика на плечи и вышел вперед. Когда войско яростно взревело, потрясая пиками и горяча храпящих коней, влажный воздух заколыхался в ритме долгого эха.
На следующий день его, как это и было положено каждому, кто всходил на престол Бухары, подняли на белой кошме и поставили на Зеленый камень, Санги сабз. Он лежал во дворе Арка – параллелепипед полированного зеленого мрамора длиной в человеческий рост, а высотой и шириной в два локтя.
В регенты при мальце гулямы выдвинули книжника Джайхани.
Это был человек сведущий, разумный, расторопный и образованный, во всем проницательный, – даром что ученый. При начале визирства он написал в разные страны света, прося выслать правила и обычаи царских дворов, как то: государств Рума, Туркестана, Хиндустана, Китая, Ирака, Сирии, Египта, Занзибара, Забула, Синда и арабских стран. Все полученные списки рассмотрел и хорошо обдумал. Казавшееся лучшим он отбирал, а что было непохвальным – отставлял. Благодаря его уму и распорядительности все дела государства пришли в порядок. Возникали мятежи; на каждый из них он посылал войско, и оно возвращалось с победой и успехом.
Если бы Назр не был сиротой, жизнь его, скорее всего, текла бы так же, как течет в Хорасане жизнь всякого высокородного отпрыска: игра в човган[33], охота, безделье, раннее пьянство и столь же раннее распутство. Имея более или менее верные представления о жизни сверстников, мальчик сразу принялся бунтовать против ритма и стиля жизни, навязываемых регентом. Некоторое время они тягались в упрямстве, однако Джайхани, кроме упрямства, сумел проявить и последовательность, жестко пресекая попытки царедворцев купить расположение малолетнего эмира ценой лишнего пряника.
Жизни иных высокородных отпрысков мальчик мог только позавидовать: не было дня, чтобы после утренней беготни, прыжков, борьбы, ратных упражнений и купания, заведенных регентом по греческому образцу, он не попадал в тиски двух угрюмых сирийцев, наставлявших его в арабском, законоведении, географии, астрономии и математике, а также (напоследок) в толковании Корана. Затем, взбодрившись чашкой кислого молока и лепешкой, малолетний властитель оказывался в помещении совета, где ему предназначался самый высокий ворох подушек, возле которого на чуть более низком сидел Джайхани.
Джайхани учил его навыкам дипломатии, единственной целью которой было поддержание существующего миропорядка.
Конечно, каждое событие в отдельности было по-своему неповторимо и, как бы ни походило на предыдущее, требовало своей собственной оценки. Поэтому, например, год назад Джайхани рассудил богато отдарить хивинцев, приведших целый караван подношений, а ныне проявил оскорбительную сдержанность, хотя ни грабежей не стало больше, ни хивинской хитрости. Почему? – ему самому неизвестно. Но и неважно, поскольку нынешний визит хивинцев – не последний. Все повторяется, подтверждая тем самым неизменность времен: снова и снова возвращаясь, прошлое избавляет настоящее от налета сиюминутности и позволяет иметь некоторую уверенность в будущем.
Да, небо вращается, с каждым мигом меняя все вокруг, но и неуклонно поворачивая свой диск к той зарубке, с которой все начнется сначала. Снова хивинцы принесут дары, и снова эмир их примет. Многое в мире имеет значение, но еще большее – нет.
Говорили неспешно: слово стоило дорого – за каждым маячили громоздкие смыслы, – а будучи произнесенным, безвозвратно каменело.
Послы вручали Назру ярлыки и свитки. Посмотрев на учителя, он медленным кивком подтверждал свое согласие принять их. Присутствующие – человек тридцать-сорок знатных мужей Бухары и двора – степенно поглаживали бороды в ожидании той минуты, когда их обязанность быть свидетелями происходящего подойдет к концу.
После недолгой официальной беседы – все больше обиняками – Джайхани мог пуститься в расспросы о всякой всячине. Не приходили ли купцы с севера, от славян? Нет?.. А откуда приходили? Ах, вот как!.. ну, это обычное. А еще говорят, в Герат приехал один человек из Пешавара, толкует, будто в заполуденном климате снова расплодились одноглазые рогатые люди… не слышали?.. жаль. Ну, Аллах лучше знает.
Как-то раз кто-то из гостей, робея и смущаясь, сказал, что его люди принесли ему морские раковины, – спешно вытряс из кожаной сумки и протянул.
– Откуда принесли? – уточнил Джайхани, удивленно рассматривая высыпанные перед ним на дастархан[34] пыльные камни; кое-какие и впрямь гляделись чем-то вроде ракушек.
– С горы.
– С горы? – удивленно и задумчиво переспросил регент. – Впрочем, я слышал, что на горах находят подобия морских животных.
– Да, да, – кивал приободренный даритель.
– Это не подделка? – строго спросил Джайхани.
– Боже мой, разве посмел бы я представить вам подделку?! Нет-нет! Совсем простые люди принесли мне… вот, говорят, эмир, что мы нашли.
– Морским животным свойственно жить в воде, – заметил Джайхани. – Следовательно, либо на этом месте прежде была вода, либо кто-то вынул их из воды и принес на гору.
– Ветер? – предположил один из гостей.
– Птицы! – уверенно высказался другой.
– Может быть, учитель, там и на самом деле прежде было море?
– Это совершенно исключено, – отрезал Джайхани. И усмехнулся: – Море есть море, а горы есть горы. Горы не ходят.
– Но, учитель, например, песчаные барханы меняют свое местоположение. Ветер несет песок, и бархан постепенно перемещается. Отец говорил мне, что его родное селение было погребено барханом, а когда он был мальчишкой, ничто этого не предвещало.
– Песок! – раздраженно бросил Джайхани. – Какой смысл сравнивать несравнимые вещи? Что общего между песком и камнем, между водой и огнем?
Он помолчал.
Присутствующие тоже молчали.
– Должно быть, все-таки птицы, – с нерешительностью размышления сказал учитель. – Собственно, чем плохи морские животные в качестве корма для птенцов?
Этот вопрос не получил ответа. Просто все покивали: действительно, чем?
Но, как правило, Джайхани не заводил разговор в столь глубокие научные русла, ориентироваться в которых может только по-настоящему просвещенный человек. Как правило, он лишь неспешно кивал, прикрывая веками усталые глаза, потому что ему, автору многих сочинений по разным прикладным и умозрительным наукам, было хорошо известно, сколь велика нелюбознательность вельмож – просто удивительно, до каких границ она простирается.
В конце концов дело переходило в пьяное застолье, являвшееся обязательным подтверждением серьезности достигнутых договоренностей, и всегда-то Джайхани делал так, что у Назра находились какие-то новые и совершенно неотложные дела – готовиться к завтрашней охоте, на которой его будут сопровождать послы, или играть в човган с их почтительными слугами и помощниками.
Если выдавался свободный час или день, когда можно было дать себе передышку в создании ученых трудов, Джайхани переписывал Коран. Он был великолепный каллиграф. Назр любил смотреть, как регент, расставив перед собой на низком столике несколько чернильниц, разложив порядком перья и кисти, завиток за завитком покрывает свежий пергамент все новыми и новыми строками. Очередной переписанный и переплетенный текст Джайхани клал в большой деревянный сундук. Назр неоднократно спрашивал, сколько их там всего.
– Придет время – узнаете, – всякий раз отвечал ученый.
И время пришло: не больше недели промучившись болями в спине и не получив облегчения ни от своих, ни от еврейских лекарей, старик отдал душу в добрые руки Того, Кто ведает и знает.
Перед смертью он просил положить ему в изголовье могилы все собственноручно переписанные Книги – как залог того, что Господние ангелы, которым придется иметь дело с новоотпущенной душой, отнесутся к ней благосклонно.
* * *
Оказалось, вдобавок к каждому Корану Джайхани написал отдельное заключение. В самом объемистом из них подробно излагались коранические науки: разночтения, редкие слова, арабские обороты, отменяющие и отмененные стихи, толкования, причины ниспослания Корана и его законы. От первой до последней буквы оно было написано золотом. Текст обрамляли празднично светившиеся орнаменты – яркая синь порошка бирюзы, нетускнеющий кармин червяков кошенили – и круглые голубые медальоны с золотыми изречениями Пророка.
Все остальное Джайхани выводил простыми чернилами, однако десятые и пятые части Корана, начала стихов, сур и всех тридцати двух частей тоже прорисовывал золотом.
– Сорок три списка! – сказал Балами, качая головой. – Да еще заключения. Ничего себе!
Они вынули и разложили на полу тяжеленные книги и теперь сидели у раскрытого сундука.
Назр кивнул.
– Да, потрудился старик. Уже сегодня его душа окажется в раю.
– Надеюсь. Однако нужно сказать людям, чтобы рыли могилу попросторней.
– Зачем?
– Иначе Кораны не поместятся.
Назр хмыкнул. Абулфазл Балами был не просто его другом, а другом с колыбели: они росли вместе, деля сначала детские забавы, затем часы занятий и отдыха, а теперь заседания совета и суда. Но больше всего он ценил своего друга за то, что именно в его голову приходили такие простые и здравые мысли.
Рядом с семнадцатилетним Назром – высоким, плечистым, мощным, стремительным в движениях, резким – его тонкокостный, худощавый, всегда будто чем-то опечаленный друг, так любивший тишину и книги, так часто замиравший в задумчивом созерцании облака или цветка, хоть и был старше на целых полгода, а выглядел совсем мальчиком.
Однако не зря отец Абулфазла состоял некогда столь ценимым и почитаемым визирем при эмире Убиенном: именно от отца он унаследовал рассудительный характер, умел проявить выдержку, предпочитал лишнюю минуту подумать, нежели исправлять последствия опрометчивых решений, и в целом как нельзя лучше уравновешивал порывистость молодого эмира.
– Тебе придется назначить визиря, – сказал Абулфазл с едва приметным вздохом.
– Я уже назначил, – кивнул Назр. – Мой визирь – ты.
– Понимаю. Но гулямы хотят видеть на этом посту своего человека.
Юный эмир вскинул брови.
– Неслыханно! Они думают, что имеют дело с пугливым мальцом! Я им покажу «хотеть»! Забыли свое место?! Напомню! Саманиды от веку брали визирей только из двух родов: Джайхани или Балами! Джайхани упокоился с миром, не оставив подходящего отпрыска. Балами в наличии. Ничего больше не нужно! Или они собрались мне указывать?
Хмурясь, Назр начал быстро щелкать сердоликовыми четками, как всегда делал размышляя.
Конечно, он и сам понимал, что сказанное им вовсе не решает задачу. Всегда разделенный на партии двор источал яд многообразных интриг. Покойный Джайхани умел поддерживать равновесие – так индийские фокусники крутят на пальце большое медное блюдо, по которому катаются, не сталкиваясь друг с другом, несколько яблок. Со смертью регента задача поддержания равновесия ложится на его собственные плечи.
Между тем гулямы – одна из главных сил государства. Это армия. Точнее, ее тюркская часть. Гулямы хотят, чтобы от государя их отделяло как можно меньше властных ступенек. Поэтому желали бы видеть на посту визиря одного из своих соплеменников и предводителей – бека Ай-Тегина.
Ай-Тегин – сипах-салар, один из главных военачальников, командир тюркской дворцовой гвардии. Это серьезная фигура: он занимает третий пост в государстве после хаджиба – распорядителя двора. Командует не только гвардией, под его началом служат и кипчаки – два полка легкой кавалерии. Ай-Тегин набирает их сам – преимущественно из неграмотных, но бойких представителей своего сложно разветвленного рода. Слава Аллаху, что кипчаки вечно враждуют с огузами: если сойдутся, с ними вовсе не будет никакого сладу.
Очередного щелчка камня о камень не последовало.
– Хорошо бы его наместником в Самарканд, – протянул Назр, мечтательно глядя перед собой. И тут же сам недовольно констатировал: – Но Ай-Тегин в Самарканд не поедет.
– Не поедет, – согласился Балами. – Да и вообще все придут в недоумение, если ты назначишь наместником гуляма. Надо его как-нибудь задобрить. Потому что ничего решительного в отношении него мы сейчас предпринять не сможем.
– Понимаю, – вздохнул Назр. – Я уже думал об этом. Он чертовски осторожен. Всегда окружен оруженосцами, дом – крепость. Рабы его любят… Кроме тюрков никого к себе не подпускает. Понадобится время – каким-то образом внедрить к нему своего человека… выждать момент.
Оба они понимали, о чем идет речь.
– Ну да. А решать нужно сейчас.
– От этих проклятых тюрков всегда больше головной боли, чем пользы! – Назр выругался и в сердцах пнул подушку. – Плевать! Не обращай внимания! Пусть Ай-Тегин проглотит и утрется! Визирем он хочет! Советы мне давать?! Тупой мужлан! Что он умеет, кроме как головы с плеч сносить?! Все, я сказал: визирь – ты!
Балами хмыкнул.
– Интересное решение. Даже если они не взбунтуются тотчас же, ты получишь себе врага на всю жизнь. Сильного, серьезного врага.
– Взбунтоваться не посмеют. Они, конечно, сила. Но все же без поддержки имамов не рискнут на серьезные действия. Пока имамы в стороне – на тюрков можно опираться без опаски. Ничего, переживет. Посулю что-нибудь… обласкаю, поговорю, пообещаю. Может, место кушбеги освободится?
– Не знаю, – вздохнул Балами. – Все может быть. Пока ничто не предвещает.
– Ну и все, хватит об этом. Есть более важные темы.
– Например? Вообще-то нам пора идти, все давно собрались.
– Да-да… сейчас, – Назр покивал. – Обсудим одну вещь. Джайхани ушел от нас. Мы его проводим с почетом. Совесть наша будет чиста. Следовательно, мы сможем начать то, что предначертано.
– А что предначертано? – с деланым недоумением спросил Балами.
– Ты отлично знаешь, что нам предначертано. Поход в Нишапур!
– Ах, поход в Нишапур…
– Ты забыл? – рассердился Назр. – Говорено-переговорено! Да, поход в Нишапур. Нишапур наш! Но все время норовит отложиться. Это еще при жизни деда началось. Нишапур третий год не платит налогов! Чего ждать?! Пока они вовсе перестанут обращать на нас внимание?
– Джайхани был против этого похода, – меланхолично заметил Балами и тут же поднял руки, заведомо гася возмущение эмира. – Но даже если я соглашусь с тобой насчет того, что пора вразумить тамошних царьков, то все равно есть по крайней мере одно обстоятельство, которое препятствует походу. Я хочу сказать: сейчас препятствует, в настоящее время.
– Ну?
– Твой самаркандский дядя.
– Фарнуш?
– Фарнуш. Фарнуш Саманид.
– Ты думаешь, он…
– Непременно. И в очень скором времени. Буквально со дня на день. Поэтому до разрешения этого вопроса Бухару тебе покидать нельзя.
Назр снова всласть пощелкал четками.
– Глупости, – сказал он.
– Почему? – поинтересовался визирь.
– Фарнуш ленив и бездеятелен! Здоров как бык, а честолюбия – и на маковое зерно не наберется. Он тюфяк! Знаю я его как облупленного. Поленится задницу от подушки оторвать. Зачем ему эти хлопоты? Сидит себе в Самарканде, горя не знает, всегда может рассчитывать на нашу поддержку – и вот он ни с того ни с сего задушит синицу в кулаке и двинется добывать журавля в небе?! Нет, не такой он человек.
– А если кто-нибудь присоветует? И потом, знаешь, когда на кону такие куши, люди иногда меняются, – заметил Балами. – Что такое Самарканд в сравнении с Бухарой? Благородная Бухара! Это не лишняя тыква на базаре.
– И войско у него – дрянь! Остолопы! Видел я их в деле. Не посмеет.
– Войско – дрянь, – согласился Балами. – Но ведь и противник перед ним не ахти какой. – И добавил, чтобы подсластить пилюлю: – Так он, по крайней мере, думает.
– Ах, так он думает! – взъярился Назр. – Ах, не ахти! Хорошо же! Совет сюда! Воинских начальников сюда! Немедленно!
Назр вскочил.
– Погоди, – сказал Балами, поднимаясь следом. – Давай хоть старика похороним.
* * *
Следующие полторы недели прошли в суматохе, свойственной периодам, когда застоявшееся, зажиревшее и почти забывшее о своем предназначении воинство приводится командирами в чувство с помощью беспрестанного ора, зуботычин, беготни и всеобщей бестолковщины.
– Дерьмо! – стервенел Назр, наблюдая то за пехотными маневрами сарбазов, то за такой же спотычливой, неровной походью кавалерии. – Господи, Балами, у нас нет армии! Нас можно брать голыми руками!
– Не горячись, – успокаивал его визирь. – Застоялись ребята, жизнь была слишком спокойной. Дай срок, все будет.
И срок был даден – но совсем короткий: уже к вечеру следующего дня пришла весть, доказавшая совершенную правоту дальновидного визиря: Фарнуш Самаркандский, брат эмира Убиенного, то есть родной дядя Назра, собрал рать и двинулся на Бухару за тем, что было ему положено по праву; оказывается, он и прежде так считал, и только интриги старого книжника все эти годы мешали ему навести наконец должный порядок в благословенном Мавераннахре.
– Вот же старый ишак, а! – с досадой бросил Назр, выслушав донесение. – Надоела ему голова на плечах. Ну что ж…
Мимо шатра вялой рысью пылила конница.
– Обрати внимание на вторую сотню, – сказал Балами.
Приложив ладонь ко лбу, Назр проводил ее взглядом. Чем-то она и впрямь отличалась от прочих – то ли кони глаже, то ли всадники бодрее.
– Сотника ко мне! – приказал эмир.
От строя отделился всадник, стремительно, прижавшись к шее лошади, проскакал к шатру, поднял коня на дыбы – и уже скатился на землю, опустившись перед эмиром на одно колено и склонив голову.
– Как зовут?
– Шейзар, ваше величество.
– Встань! Откуда такой?
– Из Панджруда, ваше величество. Сын дихкана Хакима.
– Дихкана Хакима? – Назр вопросительно взглянул на Балами.
– Верный слуга вашего деда, – подтвердил визирь. – Сыновья дихкана Хакима воевали под знаменами эмира Убиенного… Жив старик?
– Жив, – улыбнулся сотник.
– Ну хорошо, Шейзар. Будь поблизости. Может, понадобишься.
– Слушаюсь!
* * *
Скоро из донесений разведчиков стало понятно, что к утру армия Фарнуша выйдет на рубеж старого русла Хайдарьи. И если обнаружит перед собой строй войска Назра, будет вынуждена развернуться в боевые порядки.
Назр видел в этой диспозиции два преимущества. Во-первых, старое русло полузанесено песком, а самоощущение пехотинца, вынужденного принять оборону на нетвердой почве, отличается от самоощущения бойца, с диким «ур-р-р-р-ром» летящего на него по стеклянно-шершавой глади солончака. Во-вторых, справа от предполагаемого фронта лежала мелкая, как все в пустыне, жалкая, предательская, но все же ложбина: в ней, если положить лошадей на песок и не поднимать до мгновения атаки, могла укрыться конная сотня.
Остался час или полтора, чтобы вздремнуть.
Назр не спал. Он лежал с открытыми глазами, глядя во тьму, едва разреживаемую светом тусклого каганца. Его хватало, чтобы высветить бесконечную череду мгновений предстоящего боя, набегающих друг на друга, будто рябь речной воды. Случалось все: он побеждал, он был побежден; он вонзал меч в грудь великана Фарнуша, великан Фарнуш разрубал его от плеч до самого седла; голоса и ржание сливались в дикий ор, почти заглушаемый бряцанием, лязгом, хрустом, храпом; его бойцы бежали, петляя в панике, как зайцы, в тщетной надежде уйти от летящей за ними вражеской конницы; его конница сметала ряды сарбазов Фарнуша и гнала их по степи, оставляя за собой порубленные тела, щедро обагрившие кровью песок и полынь; все кончалось; все начиналось; все, все, все!
Балами коснулся плеча; Назр вскочил, растерянно озираясь.
– Пора, – сказал Балами.
Судя по всему, в час битвы счастье Фарнуша смотрело в другую сторону. Что же касается верного расчета Назра, то те неизбежные превратности войны, что подстерегают даже самых опытных полководцев, не смогли чрезмерно его исказить.
Когда войска сошлись, сотня Шейзара, возникшая из своего укрытия с ошеломительной неожиданностью (так орлица падает на мирно посвистывающего суслика) и оказавшаяся как раз на том расстоянии от порядков Фарнуша, чтобы кони успели набрать ход, с такой силой ударила в левый фланг, что армия тотчас же обратилась в бегство.
Сам полководец поздно заметил, что остался один. Возможно, впрочем, он решил не переживать своего позора – поражения от рук малолетнего племянника. Так или иначе, он действительно был велик ростом, мощен и отважно бился, немало навредив наседающим на него сарбазам Назра. Конь пал. Фарнуш сражался пешим, пока наконец знаменитый сотник Камол Малютка не снес его голову с плеч мощным взмахом своего пудового меча.
* * *
Назр ликовал.
Когда миновала пора пиров, вызвал из Самарканда старшего сына покойного Фарнуша, да насладится его душа свежестью райских источников.
Тот послушно прибыл с целым караваном подарков. В их числе было легендарное золотое блюдо, принадлежавшее некогда Исмаилу Самани; владение им, по мысли участников процедуры, означало безоговорочное признание старшинства Назра в роду Саманидов.
Назр, ублаготворенный символическим и неожиданным для него даром, провел с племянником полдня; найдя его вполне подходящим для исполнения должности, эмир принял клятву в вечной верности, вручив взамен ярлык на Самаркандский вилаят.
Теперь ничто не мешало походу в Нишапур.
Балами вздыхал, Назр же был полон энтузиазма и целыми днями терзал чиновников, добиваясь от них предприимчивости и решительности в исполнении всех тех надобностей, которые должны предшествовать столь серьезному предприятию. Кроме того, он то и дело собирал совет, вновь и вновь внушая, что не стоит размениваться на мелочи, когда есть возможность совершить серьезное, масштабное деяние, воистину достойное внука великого воина и собирателя хорасанских земель.
Члены совета соглашались насчет того, что провинцию давно следует посетить на предмет должного вразумления, а не то, не приведи господи, Нишапур и впрямь отложится, о каковых его намерениях были знаки еще при жизни эмира Убиенного. С другой стороны, многие высказывали осторожное мнение, что Господь знает лучше и, возможно, было бы разумней начать с чего-то менее масштабного. Представляемые чиновниками сметы тоже многих неприятно поражали.
Однако Назр настаивал, уговаривал, приказывал, толкал дело вперед.
Все мало-помалу складывалось, однако складывалось как-то через силу, как будто некие таинственные силы и впрямь не хотели, чтобы этот поход состоялся. Северные области тянули с выплатой податей: выдача армейского жалованья оказалась под вопросом. Начальник кавалерии умер коликами. Прогнозы звездочетов выглядели не весьма благоприятными. Гадания тоже внушали множество сомнений. И так во всем – куда ни сунься, все не слава богу.
Однако слава деда – великого Исмаила Самани! – не давала Назру покоя.
Теплым мартовским вечером они с Балами сидели в айване за поздним ужином. Выступление войск было назначено на утро, все вокруг стремилось к этому часу, поэтому даже дворец, который, по идее, не должен был участвовать ни в каких перемещениях, приобрел налет чего-то походного, что выражалось, в частности, в том, что прислуга мешкала и путала очередность блюд.
Балами задумчиво отпил из чаши и сказал:
– Я вот что думаю. Не знаю, может быть, тебе эта мысль покажется неприятной…
Назр вопросительно поднял брови.
– Я имею в виду твоих братьев.
– Моих братьев?
– Ну да. Что ты так удивляешься? У тебя же есть братья?
– Есть, – согласился Назр, откусывая от утиной ножки, томленной в розмариновом сиропе. – Мансур, Хасан и Ибрахим. Братики мои родные. То есть два родных, а один единокровный. По отцу.
– Мансуру уже шестнадцать, – заметил Балами.
– Верно, – согласился Назр. – Недавно исполнилось шестнадцать. Я ему лошадь подарил. Хорошая лошадь, хатлонская.
– Вот я и говорю, – не отступал Балами. – По возрасту он совсем немного тебе уступает.
– Но гораздо глупее, – возразил Назр. – Я даже удивляюсь – от одного отца вроде. Правда, мать у него была арабка.
– Никто в этом разбираться не будет – умнее он тебя или глупее. Важно, что он тоже сын эмира Убиенного.
– И что?
– Назр, ты правда не понимаешь?
– Нет. – Назр бросил на дастархан обглоданную кость. – Не понимаю.
– Хорошо. Говорю прямо. В твое отсутствие могут найтись люди, которым выгодно забыть о том, что истинный эмир – ты. И выкликнуть на царство Мансура. И получить все выгоды этого положения.
– А, ты вот о чем. – Назр зевнул и откинулся на подушки. – Об этом не волнуйся.
– Почему?
– Сегодня всех троих переселили в Кухандиз.
– Боже святый! – изумился Балами. – Ты заточил их в крепость?!
– Ну, «заточил» – это, пожалуй, слишком сильно звучит, – с сомнением сказал Назр. – Но что запер, то правда. Пусть посидят месячишко-другой. Нуждаться ни в чем не будут. Но и разговоров лишних вести не с кем. Ты ведь это имел в виду? – спросил он, усмехаясь.
Балами только развел руками.
* * *
Неизвестно, чем бы кончился поход, если бы Назр и в самом деле достиг Нишапура, однако Аллаху было угодно, чтобы этого не случилось.
Тем не менее назначенное утро настало, и все до поры до времени пошло своим чередом: трубы заревели, залязгали удила в лошадиных зубах, зашатались, заныли обозные повозки, влекомые понурыми быками, затрепетали бунчуки на концах пик – и эмир Назр, горяча скакуна под алым ковровым чепраком, повел свое войско в дальний край.
Пыль встала в полнеба, а шум, лязг, ржание, скрип колес и топот копыт разлетелись до горизонта.
Впрочем, уже через час не было видно в мареве степи ни коней, ни всадников. Пыль осела, и тишина легла на зеленые весенние окрестности благородной Бухары.
Абу Бакр. Мятеж
Вечерело. Тени оплывших башен вытягивались, ложась на крыши кибиток, лепящихся изнутри городской стены к мощным стенам старой крепости.
В скучных местах время течет медленно.
Кухандиз – скучное место.
Прежде тут хоть десятка полтора всеми забытых узников бытовало, а когда эмир приказал братьев поместить, то всех бедолаг перекинули в Арк, в тамошние зинданы. Оно для них, может, и лучше – к судьям ближе, может, с кем и разберутся наконец – кому плетей, кому со стены полетать, кого, глядишь, и выпустят – на свете ведь всякое бывает.
Прежде хоть изредка оживление случалось, а теперь вообще как на том свете. Высокородные узники молчаливы – что с них взять, пацаны совсем. Сидят, прижухнулись, как птенцы. Думают, небось, как дело повернется, когда вернется эмир из похода. Может быть, прикажет выпустить их, как в праздники люди горлинок выпускают. А то, не приведи Аллах, еще что удумает.
Ох-хо-хо!
Живут царевичи в одном покое. У двери день и ночь стража. Окна узкие, не высунешься. А высунешься, так тоже рад не будешь – стена высокая, внизу ров, лететь до него и лететь. Коли крыльев нету, так шарахнешься, что и костей не соберешь.
Всем необходимым их повар обеспечивает – Абу Бакр. Прежде он гарнизон своим варевом окармливал, а теперь и для царевичей старается. Правда, царевичам продукты из Арка привозят. И готовит им Абу Бакр отдельно… да где же он, чертов сын?!
– Абу Бакр! – хрипло крикнул начальник стражи, сидевший на низком топчане, покрытом ветхим паласом. – Ты меня голодом хочешь уморить?!
– Иду, иду!
И уже через минуту начальник, помешивая щербатой ольховой ложкой в такой же щербатой глиняной миске, недовольно принюхивался к ее содержимому.
– Из чего он эту шурпу варит, мать его так! – буркнул начальник, откладывая ложку, и снова рявкнул: – Абу Бакр!
Повар опять высунулся из-за двери.
– Что?
– Ты из чего шурпу варишь? – грозно спросил начальник. – Почему всегда грязной тряпкой воняет?!
– Ничего не воняет, – возразил Абу Бакр. – Из чего положено, из того и варю. Вам – из ослятины варю, из требухи, а молодым князьям…
– Из ослиной требухи? – сдавленно спросил начальник караула, давя рвотный позыв. – Да я тебя!
– Шучу, шучу! Нормальный баран был… ну, может, староват маленько для казана… зато уважаемый!.. ему бы в совете муфтиев заседать.
Абу Бакр дико загыкал, нечеловечески запрокинув голову. Выразив таким образом охватившее его веселье, он скрылся в кухне.
– Вот же дурень, а! – с горечью сказал начальник караула. – Никакого сладу с ним. Я б такого дурака никогда в жизни при Кухандизе не оставил. Благородное место – а тут этот олух.
– Старинное место, – подтвердил молодой стражник, деливший с ним трапезу. Миска у него была поменьше, а от края общей лепешки он отщипывал осторожно, с деликатностью.
– Старинное! Не просто старинное. Сам Сияуш построил. – Начальник задумчиво пожевал и пояснил: – Его потом Афрасиаб убил.
– Афрасиаб много силы имел, – подтвердил стражник.
– Две тысячи лет жил, – наставительно сказал начальник, зачерпывая ложкой.
– Мощен был туранский царь, – снова согласился молодой.
– Убил – и закопал, – твердо сказал начальник, не обращая внимания на слова стражника. – Прямо где убил, там и закопал.
Они молча похлебывали шурпу.
– А говорят, он в Рамтине похоронен, – осторожно заметил стражник. – Так я слышал.
– Говорят! Ты слушай больше – такого наговорят, что уши заложит. Кто что толкует. Самаркандцы говорят – у них. Уструшанцы – тоже у них. Всех не наслушаешься. Здесь он похоронен, в крепости.
– Ну да, – на всякий случай кивнул молодой.
– Только никто могилу найти не может, – заметил начальник, задумчиво жуя. – Старики толкуют, что если в ночь Предопределения увидишь голубой огонь – там, значит, и могила. Разроешь, тронешь останки – станешь сильный, могучий, каким был Сияуш, вся власть мира к тебе стечется.
– Здорово! – мечтательно вздохнул стражник.
– Неплохо, что говорить, – рассудил начальник караула, с хлюпаньем втягивая юшку.
Некоторое время жевали молча.
– А я еще слышал, что потом крепость развалилась, – сказал стражник.
– Так и есть, – покровительственно одобрил его слова начальник. – Кей-Хусрав убил Афрасиаба и начал крепость перестраивать. Что-то ему не понравилось, значит. А она возьми – и развались. Снова кое-как слепили – опять рассыпается. В третий раз принялись – никакого толку. Тогда собрали ученых со всех краев земли. Ученые посоветовались и так решили: возвести крепость по плану наподобие созвездия Большой Медведицы – на семи каменных столбах.
Начальник караула отложил ложку, двумя глотками допил из миски остатки шурпы и сказал сдавленно:
– С тех пор стоит как влитая.
– А еще говорят, тут ни один царь не умер, – поспешил вставить свое слово стражник.
– Верно говорят, – кивнул начальник караула, отдуваясь. – Ни один. Ни из язычников, ни из мусульман. Да ведь судьбу, братец ты мой, все равно не обманешь! Им бы сидеть тут и не высовываться. Они бы и горя не знали. Жили бы себе поживали. Но ведь иных не переспоришь. Как его время подходит, так ему непременно приспичит куда-нибудь ехать. Проси его, умоляй – как об стену горох. Неужели нельзя ради такого дела день-другой на месте посидеть? И все бы образовалось, и, глядишь, еще сто лет бы прожил. Так нет. Втемяшится ему переть куда-нибудь по какой-то там срочной его царской надобности. И вот такой тебе, понимаешь, подарочек: только приедет в другое место, тут же: бац! – и готово, шагайте за лопатами…
– Да уж, судьба – это не огурец настругать, – вздохнул стражник. – Если позволите, дядя, я тоже кое-что расскажу. Когда пришел час моему отцу…
Пока охранники неспешно заканчивали трапезу, Абу Бакр бросил в закипевший кумган добрую горсть мяты, поставил на поднос блюдо с жареным мясом, положил сверху пару лепешек, приткнул три пиалы и, взяв кумган в одну руку, а поднос в другую, направился к юным узникам.
Пройдя низким коридором, он вышел в полукруглый залец. Низкое солнце било в два щелеобразных окна, заливая ярким светом расположенные напротив резные двустворчатые двери.
Сидевший у дверей стражник Хатлух мирно спал, свесив бородатую голову на грудь и цепко держась во сне за древко стоявшей между ног пики.
– Тревога! – со всей дури рявкнул Абу Бакр.
– Что? – Хатлух заполошно вскочил, перехватывая пику и направляя острие на повара. – Кто? Кого?
(В караулке молодой стражник тоже вздрогнул и недоуменно посмотрел на начальника. «А! – тот безнадежно махнул рукой. – Все шуткует, шакал»).
– Кого! Того! – передразнил Абу Бакр, балансируя подносом. – Дай пройти! Совсем совесть потерял. Дрыхнешь на посту.
– А, это ты! – сказал Хатлух, вытер рот рукой и спросил недоуменно: – Ты что орешь?
– Да то! – озлился повар. – Двери открывай! Вот ты тут спишь, как у мамки под сиськой, а царевичи сбегут, что будешь делать?
– Царевичи-то не сбегут, – буркнул Хатлух. – А вот ты в следующий раз так заорешь – я тебя точно проткну, ишак ты безмозглый.
– Ничего, посмотрим еще, сбегут или не сбегут, – ворчал повар, осторожно пронося поднос мимо притолоки. – Сбегут, так тебя собакам скормят. А тыквой твоей бестолковой горох будут обмолачивать.
– Иди, иди!
Хатлух заглянул в комнату поверх плеча Абу Бакра, убедился, что все на месте, затворил за ним двери, сплюнул с досады и снова сел, бормоча насчет того, что кое-кому самому давно уж пора настучать по безмозглой башке.
В комнате царевичей было сумрачно. Узкие зарешеченные окна смотрели на восток, солнце заглядывало в них только утром, скупо расплескивая раннее свое золото на стены, завешенные ткаными покрывалами, и на пол, застеленный коврами и одеялами.
Десятилетний Хасан лежал на животе, подперев голову руками и скрестив ступни согнутых в коленях ног. Шестилетний Ибрахим сидел с противоположной стороны шахматной доски, тоже подперев голову руками. Однако подпертая голова старшего выражала беззаботность и уверенность в себе, младший же хмурился, и напряженно сведенные к вискам ладони наводили на мысль об охватившем его отчаянии.
Мансур, развалившись в другом углу, рассеянно пощелкивал четками.
Войдя, Абу Бакр низко поклонился, ухитрившись при этом ничего не поронять с подноса, и осторожно поставил его на дастархан.
– Повелитель, – сказал он, с новым поклоном обращаясь к Мансуру. – Откушайте, пожалуйста. Ягненок молодой, сочный. Мальчики! Пожалуйте кушать!
Ибрахим только пуще нахмурился; Хасан, заинтересованно посмотрев в сторону яств, перевернулся, сел и сказал не глядя:
– Ладно, сдавайся.
– Сам сдавайся! – зло ответил Ибрахим. – Скоро смерть твоему царю!
– Да уж ладно, смерть, – примирительно пробормотал старший, пересаживаясь ближе к дастархану. – Давай лучше поедим, потом новую начнем.
Секунду помедлив, Ибрахим решился и с громким хохотом смел с доски фигуры, одну из которых заменяла персиковая косточка.
Младшие увлеклись ягненком. Абу Бакр, беспрестанно кланяясь, подсел к Мансуру.
– Все готово, ваше величество, – тихо говорил он, успокоительно разводя ладонями. – Вы, главное, когда начнется, не выходите отсюда, не надо. Если кричать кто будет, на помощь звать – все равно сидите, не высовывайтесь. Верные люди все сами сделают. Бухара ждет вас, повелитель. Скоро вы будете в Арке!
– А Назр? – хмурясь и нервно пощелкивая теперь уже не четками, а костяшками пальцев, перебил его Мансур. – Он точно погиб?
– Соболезную, повелитель… брат есть брат, я понимаю. Но известие верное – погиб. Гюрза его укусила… гюрза, ваше величество… черная смерть… знаете?
– Знаю, – снова поморщился Мансур. – Ладно, хорошо. Точно завтра?
– Точно, ваше величество. А если нет, если какая неожиданность, тогда я, как обычно, вам обед принесу… тогда и новости скажу, все как есть… хорошо?
Мансур нервно поежился.
– Вы поешьте, поешьте, – бормотал Абу Бакр. – Ягненок – как горлица… во рту тает.
– Не хочу! – скривился Мансур.
Дверь приоткрылась.
– Ты что опять тут застрял? – с подозрением спросил Хатлух, заглядывая внутрь. – Поставил поднос – и вали!
– Поели бы, – упрашивал Абу Бакр, на коленках пятясь от царевича к дверям. – Во рту тает!
На ноги он встал у самого порога.
Грозно сведя брови, Хатлух еще раз осмотрел внутренность покоев и неспешно закрыл дверь.
Между тем начальник охраны и молодой стражник доели свою шурпу и теперь сидели порыгивая.
– У этой птицы два сердца, – толковал молодой стражник, – поэтому она и летает быстрее всех, и живет дольше.
– Чушь какая-то, – сказал начальник.
– Не чушь, дяденька, – заупрямился стражник. – Мне отец говорил. А мой отец, между прочим, при великом эмире Самани…
Речь его прервало новое появление повара.
– Я пошел, Ахмад, дорогой, – полувопросительно сказал Абу Бакр, легко кланяясь начальнику караула. – Царевичам ужин отнес, не беспокойтесь.
– Отнес? – строго переспросил начальник, супясь. – Ну хорошо.
Абу Бакр шагнул было, но задержался, расплывшись в широкой улыбке.
– Завтра из чего вам шурпу сварить? Хотите, из козлиных копыт сварганю? А если шурпа надоела, могу редьку с парочкой крыс потушить? – их в подвале, как блох в подстилке, жирные такие.