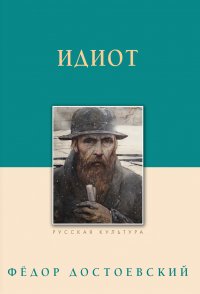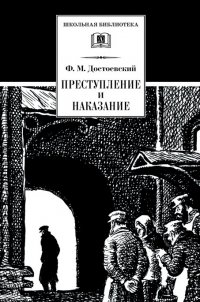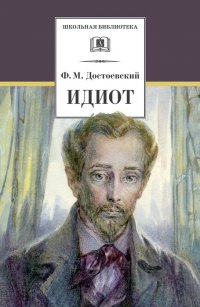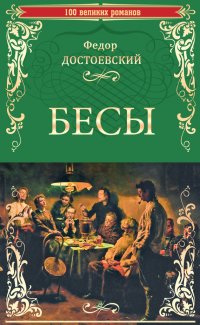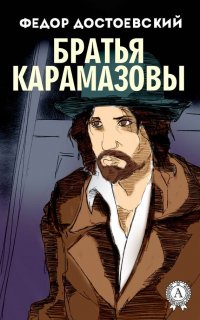Читать онлайн Двойник бесплатно
- Все книги автора: Федор Достоевский
Глава I
Было без малого восемь часов утра, когда титулярный советник Яков Петрович Голядкин очнулся после долгого сна, зевнул, потянулся и открыл, наконец, совершенно глаза свои. Минуты с две, впрочем, лежал он неподвижно на своей постели, как человек, не вполне ещё уверенный, проснулся ли он или всё ещё спит, наяву ли и в действительности ли всё, что около него теперь совершается, или – продолжение его беспорядочных сонных грёз. Вскоре, однако ж, чувства господина Голядкина стали яснее и отчётливее принимать свои привычные, обыденные впечатления. Знакомо глянули на него зелёно-грязноватые, закоптелые, пыльные стены его маленькой комнатки, его комод красного дерева, стулья под красное дерево, стол, окрашенный красною краскою, клеёнчатый турецкий диван красноватого цвета, с зелёненькими цветочками и, наконец, вчера впопыхах снятое платье и брошенное комком на диване. Наконец серый осенний день, мутный и грязный, так сердито и с такой кислой гримасою заглянул к нему сквозь тусклое окно в комнату, что господин Голядкин никаким уже образом не мог более сомневаться, что он находится не в тридесятом царстве каком-нибудь, а в городе Петербурге, в столице, в Шестилавочной улице, в четвёртом этаже одного весьма большого, капитального дома, в собственной квартире своей. Сделав такое важное открытие, господин Голядкин судорожно закрыл глаза, как бы сожалея о недавнем сне и желая его воротить на минутку. Но через минуту он одним скачком выпрыгнул из постели, вероятно попав, наконец, в ту идею, около которой вертелись до сих пор рассеянные, не приведённые в надлежащий порядок мысли его. Выпрыгнув из постели, он тотчас же подбежал к небольшому кругленькому зеркальцу, стоящему на комоде. Хотя отразившаяся в зеркале заспанная, подслеповатая и довольно оплешивевшая фигура была именно такого незначительного свойства, что с первого взгляда не останавливала на себе решительно ничьего исключительного внимания, но, по-видимому, обладатель её остался совершенно доволен всем тем, что увидел в зеркале. «Вот бы штука была, – сказал господин Голядкин вполголоса, – вот бы штука была, если б я сегодня манкировал в чём-нибудь, если б вышло, например, что-нибудь не так, – прыщик там какой-нибудь вскочил посторонний или произошла бы другая какая-нибудь неприятность; впрочем, покамест недурно; покамест всё идёт хорошо». Очень обрадовавшись тому, что всё идёт хорошо, господин Голядкин поставил зеркало на прежнее место, а сам, несмотря на то что был босиком и сохранял на себе тот костюм, в котором имел обыкновение отходить ко сну, подбежал к окошку и с большим участием начал что-то отыскивать глазами на дворе дома, на который выходили окна квартиры его.
По-видимому, и то, что он отыскал на дворе, совершенно его удовлетворило; лицо его просияло самодовольной улыбкою. Потом, – заглянув, впрочем, сначала за перегородку в каморку Петрушки, своего камердинера, и уверившись, что в ней нет Петрушки, – на цыпочках подошёл к столу, отпер в нём один ящик, пошарил в самом заднем уголку этого ящика, вынул, наконец, из-под старых пожелтевших бумаг и кой-какой дряни зелёный истёртый бумажник, открыл его осторожно, – и бережно и с наслаждением заглянул в самый дальний, потаённый карман его. Вероятно, пачка зелёненьких, сереньких, синеньких, красненьких и разных пёстреньких бумажек тоже весьма приветливо и одобрительно глянула на господина Голядкина: с просиявшим лицом положил он перед собою на стол раскрытый бумажник и крепко потёр руки в знак величайшего удовольствия. Наконец он вынул её, свою утешительную пачку государственных ассигнаций, и в сотый раз, впрочем считая со вчерашнего дня, начал пересчитывать их, тщательно перетирая каждый листок между большим и указательным пальцами. «Семьсот пятьдесят рублей ассигнациями! – окончил он, наконец, полушёпотом. – Семьсот пятьдесят рублей… знатная сумма! Это приятная сумма, – продолжал он дрожащим, немного расслабленным от удовольствия голосом, сжимая пачку в руках и улыбаясь значительно, – это весьма приятная сумма! Хоть кому приятная сумма! Желал бы я видеть теперь человека, для которого эта сумма была бы ничтожною суммою? Такая сумма может далеко повести человека…»
«Однако что же это такое? – подумал господин Голядкин. – Да где же Петрушка?» Всё ещё сохраняя тот же костюм, заглянул он другой раз за перегородку. Петрушки опять не нашлось за перегородкой, а сердился, горячился и выходил из себя лишь один поставленный там на полу самовар, беспрерывно угрожая сбежать, и что-то с жаром, быстро болтал на своём мудрёном языке, картавя и шепелявя господину Голядкину, – вероятно, то, что, дескать, возьмите же меня, добрые люди, ведь я совершенно поспел и готов.
«Черти бы взяли! – подумал господин Голядкин. – Эта ленивая бестия может, наконец, вывесть человека из последних границ; где он шатается?» В справедливом негодовании вошёл он в переднюю, состоявшую из маленького коридора, в конце которого находилась дверь в сени, крошечку приотворил эту дверь и увидел своего служителя, окружённого порядочной кучкой всякого лакейского, домашнего и случайного сброда. Петрушка что-то рассказывал, прочие слушали. По-видимому, ни тема разговора, ни самый разговор не понравились господину Голядкину. Он немедленно кликнул Петрушку и возвратился в комнату совсем недовольный, даже расстроенный. «Эта бестия ни за грош готова продать человека, а тем более барина, – подумал он про себя, – и продал, непременно продал, пари готов держать, что ни за копейку продал. Ну, что?..»
– Ливрею принесли, сударь.
– Надень и пошёл сюда.
Надев ливрею, Петрушка, глупо улыбаясь, вошёл в комнату барина. Костюмирован он был странно донельзя. На нём была зелёная, сильно подержанная лакейская ливрея, с золотыми обсыпавшимися галунами, и, по-видимому, шитая на человека, ростом на целый аршин выше Петрушки. В руках он держал шляпу, тоже с галунами и с зелёными перьями, а при бедре имел лакейский меч в кожаных ножнах.
Наконец, для полноты картины, Петрушка, следуя любимому своему обыкновению ходить всегда в неглиже, по-домашнему, был и теперь босиком. Господин Голядкин осмотрел Петрушку кругом и, по-видимому, остался доволен. Ливрея, очевидно, была взята напрокат для какого-то торжественного случая. Заметно было ещё, что во время осмотра Петрушка глядел с каким-то странным ожиданием на барина и с необыкновенным любопытством следил за всяким движением его, что крайне смущало господина Голядкина.
– Ну, а карета?
– И карета приехала.
– На весь день?
– На весь день. Двадцать пять, ассигнацией.
– И сапоги принесли?
– И сапоги принесли.
– Болван! Не можешь сказать принесли-с. Давай их сюда.
Изъявив своё удовольствие, что сапоги пришлись хорошо, господин Голядкин спросил чаю, умываться и бриться. Обрился он весьма тщательно и таким же образом вымылся, хлебнул чаю наскоро и приступил к своему главному, окончательному облачению: надел панталоны почти совершенно новые; потом манишку с бронзовыми пуговками, жилетку с весьма яркими и приятными цветочками; на шею повязал пёстрый шёлковый галстук и, наконец, натянул вицмундир, тоже новёхонький и тщательно вычищенный. Одеваясь, он несколько раз с любовью взглядывал на свои сапоги, поминутно приподымал то ту, то другую ногу, любовался фасоном и что-то всё шептал себе под нос, изредка подмигивая своей думке выразительною гримаскою. Впрочем, в это утро господин Голядкин был крайне рассеян, потому что почти не заметил улыбочек и гримас на свой счёт помогавшего ему одеваться Петрушки. Наконец, справив всё, что следовало, совершенно одевшись, господин Голядкин положил в карман свой бумажник, полюбовался окончательно на Петрушку, надевшего сапоги и бывшего, таким образом, тоже в совершенной готовности, и, заметив, что всё уже сделано и ждать уже более нечего, торопливо, суетливо, с маленьким трепетанием сердца сбежал с своей лестницы. Голубая извозчичья карета, с какими-то гербами, с громом подкатилась к крыльцу. Петрушка, перемигиваясь с извозчиком и с кое-какими зеваками, усадил своего барина в карету; непривычным голосом и едва сдерживая дурацкий смех, крикнул: «Пошёл!», вскочил на запятки, и всё это, с шумом и громом, звеня и треща, покатилось на Невский проспект. Только что голубой экипаж успел выехать за ворота, как господин Голядкин судорожно потёр себе руки и залился тихим, неслышным смехом, как человек весёлого характера, которому удалось сыграть славную штуку и которой штуке он сам рад-радёхонек. Впрочем, тотчас же после припадка весёлости смех сменился каким-то странным озабоченным выражением в лице господина Голядкина. Несмотря на то что время было сырое и пасмурное, он опустил оба окна кареты и заботливо начал высматривать направо и налево прохожих, тотчас принимая приличный и степенный вид, как только замечал, что на него кто-нибудь смотрит. На повороте с Литейной на Невский проспект он вздрогнул от одного самого неприятного ощущения и, сморщась, как бедняга, которому наступили нечаянно на мозоль, торопливо, даже со страхом прижался в самый тёмный уголок своего экипажа. Дело в том, что он встретил двух сослуживцев своих, двух молодых чиновников того ведомства, в котором сам состоял на службе. Чиновники же, как показалось господину Голядкину, были тоже, с своей стороны, в крайнем недоумении, встретив таким образом своего сотоварища; даже один из них указал пальцем на господина Голядкина. Господину Голядкину показалось даже, что другой кликнул его громко по имени, что, разумеется, было весьма неприлично на улице. Герой наш притаился и не отозвался. «Что за мальчишки! – начал он рассуждать сам с собою. – Ну, что же такого тут странного? Человек в экипаже; человеку нужно быть в экипаже, вот он и взял экипаж. Просто дрянь! Я их знаю, – просто мальчишки, которых ещё нужно посечь! Им бы только в орлянку при жалованье да где-нибудь потаскаться, вот это их дело. Сказал бы им всем кое-что, да уж только…» Господин Голядкин не докончил и обмер. Бойкая пара казанских лошадок, весьма знакомая господину Голядкину, запряжённых в щегольские дрожки, быстро обгоняла с правой стороны его экипаж. Господин, сидевший на дрожках, нечаянно увидев лицо господина Голядкина, довольно неосторожно высунувшего свою голову из окошка кареты, тоже, по-видимому, крайне был изумлен такой неожиданной встречей и, нагнувшись сколько мог, с величайшим любопытством и участием стал заглядывать в тот угол кареты, куда герой наш поспешил было спрятаться. Господин на дрожках был Андрей Филиппович, начальник отделения в том служебном месте, в котором числился и господин Голядкин в качестве помощника своего столоначальника. Господин Голядкин, видя, что Андрей Филиппович узнал его совершенно, что глядит во все глаза и что спрятаться никак невозможно, покраснел до ушей. «Поклониться иль нет? Отозваться иль нет? Признаться иль нет? – думал в неописанной тоске наш герой. – Или прикинуться, что не я, а что кто-то другой, разительно схожий со мною, и смотреть как ни в чём не бывало? Именно не я, не я, да и только! – говорил господин Голядкин, снимая шляпу пред Андреем Филипповичем и не сводя с него глаз. – Я, я ничего, – шептал он через силу, – я совсем ничего, это вовсе не я, Андрей Филиппович, это вовсе не я, не я, да и только». Скоро, однако ж, дрожки обогнали карету, и магнетизм начальнических взоров прекратился. Однако он всё ещё краснел, улыбался, что-то бормотал про себя… «Дурак я был, что не отозвался, – подумал он наконец, – следовало бы просто на смелую ногу и с откровенностью, не лишённою благородства: дескать, так и так, Андрей Филиппович, тоже приглашён на обед, да и только!» Потом, вдруг вспомнив, что срезался, герой наш вспыхнул, как огонь, нахмурил брови и бросил страшный вызывающий взгляд, в передний угол кареты, взгляд так и назначенный, с тем чтоб испепелить разом в прах всех врагов его. Наконец вдруг, по вдохновению какому-то, дёрнул он за снурок, привязанный к локтю извозчика-кучера, остановил карету и приказал поворотить назад, на Литейную. Дело в том, что господину Голядкину немедленно понадобилось, для собственного же спокойствия, вероятно, сказать что-то самое интересное доктору его, Крестьяну Ивановичу. И хотя с Крестьяном Ивановичем был он знаком с весьма недавнего времени, именно посетил его всего один раз на прошлой неделе, вследствие кой-каких надобностей, но ведь доктор, как говорят, что духовник, – скрываться было бы глупо, а знать пациента – его же обязанность. «Так ли, впрочем, будет всё это, – продолжал наш герой, выходя из кареты у подъезда одного пятиэтажного дома на Литейной, возле которого приказал остановить свой экипаж, – так ли будет всё это? Прилично ли будет? Кстати ли будет? Впрочем, ведь что же, – продолжал он, подымаясь на лестницу, переводя дух и сдерживая биение сердца, имевшего у него привычку биться на всех чужих лестницах, – что же? Ведь я про своё, и предосудительного здесь ничего не имеется… Скрываться было бы глупо. Я вот таким-то образом и сделаю вид, что я ничего, а что так, мимоездом… Он и увидит, что так тому и следует быть».
Так рассуждая, господин Голядкин поднялся до второго этажа и остановился перед квартирою пятого нумера, на дверях которого помещена была красивая медная дощечка с надписью:
Крестьян Иванович Рутеншпиц,
доктор медицины и хирургии.
Остановившись, герой наш поспешил придать своей физиономии приличный, развязный, не без некоторой любезности вид и приготовился дёрнуть за снурок колокольчика. Приготовившись дёрнуть за снурок колокольчика, он немедленно и довольно кстати рассудил, что не лучше ли завтра и что теперь покамест надобности большой не имеется. Но так как господин Голядкин услышал вдруг на лестнице чьи-то шаги, то немедленно переменил новое решение своё и уже так, заодно, впрочем, с самым решительным видом, позвонил у дверей Крестьяна Ивановича.
Глава II
Доктор медицины и хирургии, Крестьян Иванович Рутеншпиц, весьма здоровый, хотя уже и пожилой человек, одарённый густыми седеющими бровями и бакенбардами, выразительным, сверкающим взглядом, которым одним, по-видимому, прогонял все болезни, и, наконец, значительным орденом, – сидел в это утро у себя в кабинете, в покойных креслах своих, пил кофе, принесённый ему собственноручно его докторшей, курил сигару и прописывал от времени до времени рецепты своим пациентам. Прописав последний пузырёк одному старичку, страдавшему геморроем, и выпроводив страждущего старичка в боковые двери, Крестьян Иванович уселся в ожидании следующего посещения. Вошёл господин Голядкин.
По-видимому, Крестьян Иванович нисколько не ожидал, да и не желал видеть пред собою господина Голядкина, потому что он вдруг на мгновение смутился и невольно выразил на лице своём какую-то странную, даже, можно сказать, недовольную мину. Так как, с своей стороны, господин Голядкин почти всегда как-то некстати опадал и терялся в те мгновения, в которые случалось ему абордировать[1] кого-нибудь ради собственных делишек своих, то и теперь, не приготовив первой фразы, бывшей для него в таких случаях настоящим камнем преткновения, сконфузился препорядочно, что-то пробормотал, – впрочем, кажется, извинение, – и, не зная, что далее делать, взял стул и сел. Но, вспомнив, что уселся без приглашения, тотчас же почувствовал своё неприличие и поспешил поправить ошибку свою в незнании света и хорошего тона, немедленно встав с занятого им без приглашения места. Потом, опомнившись и смутно заметив, что сделал две глупости разом, решился, нимало не медля, на третью, то есть попробовал было принести оправдание, пробормотал кое-что, улыбаясь, покраснел, сконфузился, выразительно замолчал и, наконец, сел окончательно и уже не вставал более, а так только на всякий случай обеспечил себя тем же самым вызывающим взглядом, который имел необычайную силу мысленно испепелять и разгромлять в прах всех врагов господина Голядкина. Сверх того, этот взгляд вполне выражал независимость господина Голядкина, то есть говорил ясно, что господин Голядкин совсем ничего, что он сам по себе, как и все, и что его изба во всяком случае с краю. Крестьян Иванович кашлянул, крякнул, по-видимому в знак одобрения и согласия своего на всё это, и устремил инспекторский, вопросительный взгляд на господина Голядкина.
– Я, Крестьян Иванович, – начал господин Голядкин с улыбкою, – пришёл вас беспокоить вторично и теперь вторично осмеливаюсь просить вашего снисхождения… – господин Голядкин, очевидно, затруднялся в словах.
– Гм… да! – проговорил Крестьян Иванович, выпустив изо рта струю дыма и кладя сигару на стол, – но вам нужно предписаний держаться; я ведь вам объяснял, что пользование ваше должно состоять в изменении привычек… Ну, развлечения; ну, там, друзей и знакомых должно посещать, а вместе с тем и бутылки врагом не бывать; равномерно держаться весёлой компании.
Господин Голядкин, всё ещё улыбаясь, поспешил заметить, что ему кажется, что он, как и все, что он у себя, что развлечения у него, как и у всех… что он, конечно, может ездить в театр, ибо тоже, как и все, средства имеет, что днём он в должности, а вечером у себя, что он совсем ничего; даже заметил тут же мимоходом, что он, сколько ему кажется, не хуже других, что он живёт дома, у себя на квартире, и что, наконец, у него есть Петрушка. Тут господин Голядкин запнулся.
– Гм, нет, такой порядок не то, и я вас совсем не то хотел спрашивать. Я вообще знать интересуюсь, что вы большой ли любитель весёлой компании, пользуетесь ли весело временем… Ну, там, меланхолический или весёлый образ жизни теперь продолжаете?
– Я, Крестьян Иванович…
– Гм… я говорю, – перебил доктор, – что вам нужно коренное преобразование всей вашей жизни иметь и в некотором смысле переломить свой характер. (Крестьян Иванович сильно ударил на слово «переломить» и остановился на минуту с весьма значительным видом.) Не чуждаться жизни весёлой; спектакли и клуб посещать и во всяком случае бутылки врагом не бывать. Дома сидеть не годится… вам дома сидеть никак невозможно.
– Я, Крестьян Иванович, люблю тишину, – проговорил господин Голядкин, бросая значительный взгляд на Крестьяна Ивановича и, очевидно, ища слов для удачнейшего выражения мысли своей, – в квартире только я да Петрушка… я хочу сказать: мой человек, Крестьян Иванович. Я хочу сказать, Крестьян Иванович, что я иду своей дорогой, особой дорогой, Крестьян Иванович. Я себе особо и, сколько мне кажется, ни от кого не завишу. Я, Крестьян Иванович, тоже гулять выхожу.
– Как?.. Да! Ну, нынче гулять не составляет никакой приятности; климат весьма нехороший.
– Да-с, Крестьян Иванович. Я, Крестьян Иванович, хоть и смирный человек, как я уже вам, кажется, имел честь объяснить, но дорога моя отдельно идёт, Крестьян Иванович. Путь жизни широк… Я хочу… я хочу, Крестьян Иванович, сказать этим… Извините меня, Крестьян Иванович, я не мастер красно говорить.
– Гм… вы говорите…
– Я говорю, чтоб вы меня извинили, Крестьян Иванович, в том, что я, сколько мне кажется, не мастер красно говорить, – сказал господин Голядкин полуобиженным тоном, немного сбиваясь и путаясь. – В этом отношении я, Крестьян Иванович, не так, как другие, – прибавил он с какою-то особенною улыбкою, – и много говорить не умею; придавать слогу красоту не учился. Зато я, Крестьян Иванович, действую; зато я действую, Крестьян Иванович!
– Гм… Как же это… вы действуете? – отозвался Крестьян Иванович. Затем, на минутку, последовало молчание. Доктор как-то странно и недоверчиво взглянул на господина Голядкина. Господин Голядкин тоже в свою очередь довольно недоверчиво покосился на доктора.
– Я, Крестьян Иванович, – стал продолжать господин Голядкин всё в прежнем тоне, немного раздражённый и озадаченный крайним упорством Крестьяна Ивановича, – я, Крестьян Иванович, люблю спокойствие, а не светский шум. Там у них, я говорю, в большом свете, Крестьян Иванович, нужно уметь паркеты лощить сапогами… (тут господин Голядкин немного пришаркнул по полу ножкой), там это спрашивают-с, и каламбур тоже спрашивают… комплимент раздушенный нужно уметь составлять-с… вот что там спрашивают. А я этому не учился, Крестьян Иванович, – хитростям этим всем я не учился; некогда было. Я человек простой, незатейливый, и блеска наружного нет во мне. В этом, Крестьян Иванович, я полагаю оружие; я кладу его, говоря в этом смысле, – всё это господин Голядкин проговорил, разумеется, с таким видом, который ясно давал знать, что герой наш вовсе не жалеет о том, что кладёт в этом смысле оружие и что он хитростям не учился, но что даже совершенно напротив. Крестьян Иванович, слушая его, смотрел вниз с весьма неприятной гримасой в лице и как будто заранее что-то предчувствовал. За тирадою господина Голядкина последовало довольно долгое и значительное молчание.
– Вы, кажется, немного отвлеклись от предмета, – сказал, наконец, Крестьян Иванович вполголоса, – я, признаюсь вам, не мог вас совершенно понять.
– Я не мастер красно говорить, Крестьян Иванович; я уже вам имел честь доложить, Крестьян Иванович, что я не мастер красно говорить, – сказал господин Голядкин, на этот раз резким и решительным тоном.
– Гм…
– Крестьян Иванович! – начал опять господин Голядкин тихим, но многозначащим голосом, отчасти в торжественном роде и останавливаясь на каждом пункте. – Крестьян Иванович! вошедши сюда, я начал извинениями. Теперь повторяю прежнее и опять прошу вашего снисхождения на время. Мне, Крестьян Иванович, от вас скрывать нечего. Человек я маленький, сами вы знаете; но, к счастию моему, не жалею о том, что я маленький человек. Даже напротив, Крестьян Иванович; и, чтоб всё сказать, я даже горжусь тем, что не большой человек, а маленький. Не интригант, – и этим тоже горжусь. Действую не втихомолку, а открыто, без хитростей, и хотя бы мог вредить в свою очередь, и очень бы мог, и даже знаю, над кем и как это сделать, Крестьян Иванович, но не хочу замарать себя и в этом смысле умываю руки. В этом смысле, говорю, я их умываю, Крестьян Иванович! – господин Голядкин на мгновение выразительно замолчал; говорил он с кротким одушевлением.
– Иду я, Крестьян Иванович, – стал продолжать наш герой, – прямо, открыто и без окольных путей, потому что их презираю и предоставляю это другим. Не стараюсь унизить тех, которые, может быть, нас с вами почище… то есть я хочу сказать нас с ними, Крестьян Иванович, я не хотел сказать с вами. Полуслов не люблю; мизерных двуличностей не жалую; клеветою и сплетней гнушаюсь. Маску надеваю лишь в маскарад, а не хожу с нею перед людьми каждодневно. Спрошу я вас только, Крестьян Иванович, как бы стали вы мстить врагу своему, злейшему врагу своему, – тому, кого бы вы считали таким? – заключил господин Голядкин, бросив вызывающий взгляд на Крестьяна Ивановича.
Хотя господин Голядкин проговорил всё это донельзя отчётливо, ясно, с уверенностью, взвешивая слова и рассчитывая на вернейший эффект, но между тем с беспокойством, с большим беспокойством, с крайним беспокойством смотрел теперь на Крестьяна Ивановича. Теперь он обратился весь в зрение и робко, с досадным, тоскливым нетерпением ожидал ответа Крестьяна Ивановича. Но, к изумлению и к совершенному поражению господина Голядкина, Крестьян Иванович что-то пробормотал себе под нос; потом придвинул кресла к столу и довольно сухо, но, впрочем, учтиво объявил ему что-то вроде того, что ему время дорого, что он как-то не совсем понимает; что, впрочем, он, чем может, готов служить, по силам, но что всё дальнейшее и до него не касающееся он оставляет. Тут он взял перо, придвинул бумагу, выкроил из неё докторской формы лоскутик и объявил, что тотчас пропишет что следует.
– Нет-с, не следует, Крестьян Иванович! нет-с, это вовсе не следует! – проговорил господин Голядкин, привстав с места и хватая Крестьяна Ивановича за правую руку. – Этого, Крестьян Иванович, здесь вовсе не надобно…
А между тем, покамест говорил это всё господин Голядкин, в нём произошла какая-то странная перемена. Серые глаза его как-то странно блеснули, губы его задрожали, все мускулы, все черты лица его заходили, задвигались. Сам он весь дрожал. Последовав первому движению своему и остановив руку Крестьяна Ивановича, господин Голядкин стоял теперь неподвижно, как будто сам не доверяя себе и ожидая вдохновения для дальнейших поступков.
Тогда произошла довольно странная сцена.
Немного озадаченный, Крестьян Иванович на мгновение будто прирос к своему креслу и, потерявшись, смотрел во все глаза господину Голядкину, который таким же образом смотрел на него. Наконец Крестьян Иванович встал, придерживаясь немного за лацкан вицмундира господина Голядкина. Несколько секунд стояли они таким образом оба, неподвижно и не сводя глаз друг с друга. Тогда, впрочем, необыкновенно странным образом разрешилось и второе движение господина Голядкина. Губы его затряслись, подбородок запрыгал, и герой наш заплакал совсем неожиданно. Всхлипывая, кивая головой и ударяя себя в грудь правой рукою, а левой схватив тоже за лацкан домашней одежды Крестьяна Ивановича, хотел было он говорить и в чём-то немедленно объясниться, но не мог и слова сказать. Наконец Крестьян Иванович опомнился от своего изумления.
– Полноте, успокойтесь, садитесь! – проговорил он, наконец, стараясь посадить господина Голядкина в кресла.
– У меня есть враги, Крестьян Иванович, у меня есть враги; у меня есть злые враги, которые меня погубить поклялись… – отвечал господин Голядкин боязливо и шёпотом.
– Полноте, полноте; что враги! не нужно врагов поминать! это совершенно не нужно. Садитесь, садитесь, – продолжал Крестьян Иванович, усаживая господина Голядкина окончательно в кресла.
Господин Голядкин уселся, наконец, не сводя глаз с Крестьяна Ивановича. Крестьян Иванович с крайне недовольным видом стал шагать из угла в угол своего кабинета. Последовало долгое молчание.
– Я вам благодарен, Крестьян Иванович, весьма благодарен и весьма чувствую всё, что вы для меня теперь сделали. По гроб не забуду я ласки вашей, Крестьян Иванович, – сказал, наконец, господин Голядкин, с обиженным видом вставая со стула.
– Полноте, полноте! я вам говорю, полноте! – отвечал довольно строго Крестьян Иванович на выходку господина Голядкина, ещё раз усаживая его на место. – Ну, что у вас? расскажите мне, что у вас есть там теперь неприятного, – продолжал Крестьян Иванович, – и о каких врагах говорите вы? Что у вас есть там такое?
– Нет, Крестьян Иванович, мы лучше это оставим теперь, – отвечал господин Голядкин, опустив глаза в землю, – лучше отложим всё это в сторону, до времени… до другого времени, Крестьян Иванович, до более удобного времени, когда всё обнаружится, и маска спадёт с некоторых лиц, и кое-что обнажится. А теперь покамест, разумеется, после того, что с нами случилось… вы согласитесь сами, Крестьян Иванович… Позвольте пожелать вам доброго утра, Крестьян Иванович, – сказал господин Голядкин, в этот раз решительно и серьёзно вставая с места и хватаясь за шляпу.
– А, ну… как хотите… гм… (Последовало минутное молчание.) Я, с моей стороны, вы знаете, что могу… и искренно вам добра желаю.
– Понимаю вас, Крестьян Иванович, понимаю; я вас совершенно понимаю теперь… Во всяком случае извините меня, что я вас обеспокоил, Крестьян Иванович.
– Гм… Нет, я вам не то хотел говорить. Впрочем, как угодно. Медикаменты по-прежнему продолжайте…
– Буду продолжать медикаменты, как вы говорите, Крестьян Иванович, буду продолжать и в той же аптеке брать буду… Нынче и аптекарем быть, Крестьян Иванович, уже важное дело…
– Как? в каком смысле вы хотите сказать?
– В весьма обыкновенном смысле, Крестьян Иванович. Я хочу сказать, что нынче так свет пошёл…
– Гм…
– И что всякий мальчишка, не только аптекарский, перед порядочным человеком нос задирает теперь.
– Гм… Как же вы это понимаете?
– Я говорю, Крестьян Иванович, про известного человека… про общего нам знакомого, Крестьян Иванович, например, хоть про Владимира Семёновича…
– А!..
– Да, Крестьян Иванович; и я знаю некоторых людей, Крестьян Иванович, которые не слишком-то держатся общего мнения, чтоб иногда правду сказать.
– А!.. Как же это?
– Да уж так-с; это, впрочем, постороннее дело; умеют этак иногда поднести коку с соком.
– Что? что поднести?
– Коку с соком, Крестьян Иванович; это пословица русская. Умеют иногда кстати поздравить кого-нибудь, например; есть такие люди, Крестьян Иванович.
– Поздравить?
– Да-с, поздравить, Крестьян Иванович, как сделал на днях один из моих коротких знакомых…
– Один из ваших коротких знакомых… а! как же это? – сказал Крестьян Иванович, внимательно взглянув на господина Голядкина.
– Да-с, один из моих близких знакомых поздравил с чином, с получением асессорского чина, другого весьма близкого тоже знакомого, и вдобавок приятеля, как говорится, сладчайшего друга. Этак к слову пришлось. «Чувствительно, дескать, говорит, рад случаю принести вам, Владимир Семёнович, моё поздравление, искреннее моё поздравление в получении чина. И тем более рад, что нынче, как всему свету известно, вывелись бабушки, которые ворожат», – тут господин Голядкин плутовски кивнул головой и, прищурясь, посмотрел на Крестьяна Ивановича…
– Гм… Так это сказал…
– Сказал, Крестьян Иванович, сказал, да тут же и взглянул на Андрея Филипповича, на дядю-то нашего нещечка, Владимира Семёновича. Да что мне, Крестьян Иванович, что он асессором сделан? Мне-то что тут? Да жениться хочет, когда ещё молоко, с позволения сказать, на губах не обсохло. Так-таки и сказал. Дескать, говорю, Владимир Семёнович! Я теперь всё сказал; позвольте же мне удалиться.
– Гм…
– Да, Крестьян Иванович, позвольте же мне теперь, говорю, удалиться. Да тут, чтоб уж разом двух воробьёв одним камнем убить, – как срезал молодца-то на бабушках, и обращаюсь к Кларе Олсуфьевне (дело-то было третьего дня у Олсуфья Ивановича), а она только что романс пропела чувствительный, – говорю, дескать, «чувствительно пропеть вы романсы изволили, да только слушают-то вас не от чистого сердца». И намекаю тем ясно, понимаете, Крестьян Иванович, намекаю тем ясно, что ищут-то теперь не в ней, а подальше…
– А! ну что же он?..
– Лимон съел, Крестьян Иванович, как по пословице говорится.
– Гм…
– Да-с, Крестьян Иванович. Тоже и старику самому говорю, – дескать, Олсуфий Иванович, говорю, я знаю, чем обязан я вам, ценю вполне благодеяния ваши, которыми почти с детских лет моих вы осыпали меня. Но откройте глаза, Олсуфий Иванович, говорю. Посмотрите. Я сам дело начистоту и открыто веду, Олсуфий Иванович.
– А, вот как!
– Да, Крестьян Иванович. Оно вот как…
– Что ж он?
– Да что он, Крестьян Иванович! мямлит; и того, и сего, и я тебя знаю, и что его превосходительство благодетельный человек – и пошёл, и размазался… Да ведь что ж? от старости, как говорится, покачнулся порядком.
– А! так вот как теперь!
– Да, Крестьян Иванович. И всё-то мы так, чего! старикашка! в гроб смотрит, дышит на ладан, как говорится, а сплетню бабью заплетут какую-нибудь, так он уж тут слушает; без него невозможно…
– Сплетню, вы говорите?
– Да, Крестьян Иванович, заплели они сплетню. Замешал свою руку сюда и наш медведь и племянник его, наше нещечко; связались они с старухами, разумеется, и состряпали дело. Как бы вы думали? Что они выдумали, чтоб убить человека?..
– Чтоб убить человека?
– Да, Крестьян Иванович, чтоб убить человека, нравственно убить человека. Распустили они… я всё про моего близкого знакомого говорю…
Крестьян Иванович кивнул головою.
– Распустили они насчёт его слух… Признаюсь вам, мне даже совестно говорить, Крестьян Иванович…
– Гм…
– Распустили они слух, что он уже дал подписку жениться, что он уже жених с другой стороны… И как бы вы думали, Крестьян Иванович, на ком?
– Право?
– На кухмистерше, на одной неблагопристойной немке, у которой обеды берёт; вместо заплаты долгов руку ей предлагает.
– Это они говорят?
– Верите ли, Крестьян Иванович? Немка, подлая, гадкая, бесстыдная немка, Каролина Ивановна, если известно вам…
– Я признаюсь, с моей стороны…
– Понимаю вас, Крестьян Иванович, понимаю, и с своей стороны это чувствую…
– Скажите мне, пожалуйста, где вы живёте теперь?
– Где я живу теперь, Крестьян Иванович?
– Да… я хочу… вы прежде, кажется, жили…
– Жил, Крестьян Иванович, жил, жил и прежде. Как же не жить! – отвечал господин Голядкин, сопровождая слова свои маленьким смехом и немного смутив ответом своим Крестьяна Ивановича.
– Нет, вы не так это приняли; я хотел с своей стороны…
– Я тоже хотел, Крестьян Иванович, с своей стороны, я тоже хотел, – смеясь, продолжал господин Голядкин. – Однако ж я, Крестьян Иванович, у вас засиделся совсем. Вы, надеюсь, позволите мне теперь… пожелать вам доброго утра…
– Гм…
– Да, Крестьян Иванович, я вас понимаю; я вас теперь вполне понимаю, – сказал наш герой, немного рисуясь перед Крестьяном Ивановичем. – Итак, позвольте вам пожелать доброго утра…
Тут герой наш шаркнул ножкой и вышел из комнаты, оставив в крайнем изумлении Крестьяна Ивановича. Сходя с докторской лестницы, он улыбался и радостно потирал себе руки. На крыльце, дохнув свежим воздухом и почувствовав себя на свободе, он даже действительно готов был признать себя счастливейшим смертным и потом прямо отправиться в департамент, – как вдруг у подъезда загремела его карета; он взглянул и всё вспомнил. Петрушка отворял уже дверцы. Какое-то странное и крайне неприятное ощущение охватило всего господина Голядкина. Он как будто бы покраснел на мгновение. Что-то кольнуло его. Он уже стал было заносить свою ногу на подножку кареты, как вдруг обернулся и посмотрел на окна Крестьяна Ивановича. Так и есть! Крестьян Иванович стоял у окна, поглаживал правой рукой свои бакенбарды и довольно любопытно смотрел на героя нашего.
«Этот доктор глуп, – подумал господин Голядкин, забиваясь в карету, – крайне глуп. Он, может быть, и хорошо своих больных лечит, а всё-таки… глуп, как бревно». Господин Голядкин уселся. Петрушка крикнул: «Пошёл!» – и карета покатилась опять на Невский проспект.
Глава III
Всё это утро прошло в страшных хлопотах у господина Голядкина. Попав на Невский проспект, герой наш приказал остановиться у Гостиного двора. Выпрыгнув из своего экипажа, побежал он под аркаду, в сопровождении Петрушки, и пошёл прямо в лавку серебряных и золотых изделий. Заметно было уже по одному виду господина Голядкина, что у него хлопот полон рот и дел страшная куча. Сторговав полный обеденный и чайный сервиз с лишком на тысячу пятьсот рублей ассигнациями и выторговав себе в эту же сумму затейливой формы сигарочницу и полный серебряный прибор для бритья бороды, приценившись, наконец, ещё к кое-каким в своём роде полезным и приятным вещицам, господин Голядкин кончил тем, что обещал завтра же зайти непременно или даже сегодня прислать за сторгованным, взял нумер лавки и, выслушав внимательно купца, хлопотавшего о задаточке, обещал в своё время и задаточек. После чего он поспешно распростился с недоумевавшим купцом и пошёл вдоль по линии, преследуемый целой стаей сидельцев, поминутно оглядываясь назад на Петрушку и тщательно отыскивая какую-то новую лавку. Мимоходом забежал он в меняльную лавочку и разменял всю свою крупную бумагу на мелкую, и хотя потерял на промене, но зато всё-таки разменял, и бумажник его значительно потолстел, что, по-видимому, доставило ему крайнее удовольствие. Наконец, остановился он в магазине разных дамских материй. Наторговав опять на знатную сумму, господин Голядкин и здесь обещал купцу зайти непременно, взял нумер лавки и, на вопрос о задаточке, опять повторил, что будет в своё время и задаточек. Потом посетил и ещё несколько лавок; во всех торговал, приценялся к разным вещицам, спорил иногда долго с купцами, уходил из лавки и раза по три возвращался, – одним словом, оказывал необыкновенную деятельность. Из Гостиного двора герой наш отправился в один известный мебельный магазин, где сторговал мебели на шесть комнат, полюбовался одним модным и весьма затейливым дамским туалетом в последнем вкусе и, уверив купца, что пришлёт за всем непременно, вышел из магазина, по своему обычаю, с обещанием задаточка, потом заехал ещё кое-куда и поторговал кое-что. Одним словом, не было, по-видимому, конца его хлопотам. Наконец всё это, кажется, сильно стало надоедать самому господину Голядкину. Даже, и бог знает по какому случаю, стали его терзать ни с того ни с сего угрызения совести. Ни за что бы не согласился он теперь встретиться, например, с Андреем Филипповичем или хоть с Крестьяном Ивановичем. Наконец городские часы пробили три пополудни. Когда господин Голядкин сел окончательно в карету, из всех приобретений, сделанных им в это утро, оказалась в действительности лишь одна пара перчаток и склянка духов в полтора рубля ассигнациями. Так как для господина Голядкина было ещё довольно рано, то он и приказал своему кучеру остановиться возле одного известного ресторана на Невском проспекте, о котором доселе он знал лишь понаслышке, вышел из кареты и побежал закусить, отдохнуть и выждать известное время.
Закусив так, как закусывает человек, у которого в перспективе богатый званый обед, то есть перехватив кое-что, чтобы, как говорится, червячка заморить, и, выпив одну рюмочку водки, господин Голядкин уселся в креслах и, скромно осмотревшись кругом, мирно пристроился к одной тощей национальной газетке. Прочтя строчки две, он встал, посмотрелся в зеркало, оправился и огладился; потом подошёл к окну и поглядел, тут ли его карета… потом опять сел на место и взял газету. Заметно было, что герой наш был в крайнем волнении. Взглянув на часы и видя, что ещё только четверть четвёртого, следовательно, ещё остается порядочно ждать, а вместе с тем и рассудив, что так сидеть неприлично, господин Голядкин приказал подать себе шоколаду, к которому, впрочем, в настоящее время большой охоты не чувствовал. Выпив шоколад и заметив, что время немного подвинулось, вышел он расплатиться. Вдруг кто-то ударил его по плечу.
Он обернулся и увидел пред собою двух своих сослуживцев-товарищей, тех самых, с которыми встретился утром на Литейной, – ребят ещё весьма молодых и по летам и по чину. Герой наш был с ними ни то ни сё, ни в дружбе, ни в открытой вражде. Разумеется, соблюдалось приличие с обеих сторон; дальнейшего же сближения не было, да и быть не могло. Встреча в настоящее время была крайне неприятна господину Голядкину. Он немного поморщился и на минутку смешался.
– Яков Петрович, Яков Петрович! – защебетали оба регистратора. – Вы здесь? по какому…
– А! это вы, господа! – перебил поспешно господин Голядкин, немного сконфузясь и скандализируясь изумлением чиновников и вместе с тем короткостию их обращения, но, впрочем, делая развязного и молодца поневоле. – Дезертировали, господа, хе-хе-хе!.. – тут даже, чтоб не уронить себя и снизойти до канцелярского юношества, с которым всегда был в должных границах, он попробовал было потрепать одного юношу по плечу; но популярность в этом случае не удалась господину Голядкину, и, вместо прилично-короткого жеста, вышло что-то совершенно другое.
– Ну, а что, медведь наш сидит?..
– Кто это, Яков Петрович?
– Ну, медведь-то, будто не знаете, кого медведем зовут?.. – господин Голядкин засмеялся и отвернулся к приказчику взять с него сдачу. – Я говорю про Андрея Филипповича, господа, – продолжал он, кончив с приказчиком и на этот раз с весьма серьёзным видом обратившись к чиновникам. Оба регистратора значительно перемигнулись друг с другом.
– Сидит ещё и вас спрашивал, Яков Петрович, – отвечал один из них.
– Сидит, а! В таком случае пусть его сидит, господа. И меня спрашивал, а?
– Спрашивал, Яков Петрович; да что это с вами, раздушены, распомажены, франтом таким?..
– Так, господа, это так! Полноте… – отвечал господин Голядкин, смотря в сторону и напряжённо улыбнувшись. Видя, что господин Голядкин улыбается, чиновники расхохотались. Господин Голядкин немного надулся.
– Я вам скажу, господа, по-дружески, – сказал, немного помолчав, наш герой, как будто (так уж и быть) решившись открыть что-то чиновникам, – вы, господа, все меня знаете, но до сих пор знали только с одной стороны. Пенять в этом случае не на кого, и отчасти, сознаюсь, я был сам виноват.
Господин Голядкин сжал губы и значительно взглянул на чиновников. Чиновники снова перемигнулись.
– До сих пор, господа, вы меня не знали. Объясняться теперь и здесь будет не совсем-то кстати. Скажу вам только кое-что мимоходом и вскользь. Есть люди, господа, которые не любят окольных путей и маскируются только для маскарада. Есть люди, которые не видят прямого человеческого назначения в ловком уменье лощить паркет сапогами. Есть и такие люди, господа, которые не будут говорить, что счастливы и живут вполне, когда, например, на них хорошо сидят панталоны. Есть, наконец, люди, которые не любят скакать и вертеться по-пустому, заигрывать и подлизываться, а главное, господа, совать туда свой нос, где его вовсе не спрашивают… Я, господа, сказал почти всё; позвольте ж мне теперь удалиться…
Господин Голядкин остановился. Так как господа регистраторы были теперь удовлетворены вполне, то вдруг оба крайне неучтиво покатились со смеха. Господин Голядкин вспыхнул.
– Смейтесь, господа, смейтесь покамест! Поживёте – увидите, – сказал он с чувством оскорблённого достоинства, взяв свою шляпу и ретируясь к дверям.
– Но скажу более, господа, – прибавил он, обращаясь в последний раз к господам регистраторам, – скажу более – оба вы здесь со мной глаз на глаз. Вот, господа, мои правила: не удастся – креплюсь, удастся – держусь и во всяком случае никого не подкапываю. Не интригант – и этим горжусь. В дипломаты бы я не годился. Говорят ещё, господа, что птица сама летит на охотника. Правда, и готов согласиться: но кто здесь охотник, кто птица? Это ещё вопрос, господа!
Господин Голядкин красноречиво умолк и с самой значительной миной, то есть подняв брови и сжав губы донельзя, раскланялся с господами чиновниками и потом вышел, оставя их в крайнем изумлении.
– Куда прикажете? – спросил довольно сурово Петрушка, которому уже наскучило, вероятно, таскаться по холоду. – Куда прикажете? – спросил он господина Голядкина, встречая его страшный, всеуничтожающий взгляд, которым герой наш уже два раза обеспечивал себя в это утро и к которому прибегнул теперь в третий раз, сходя с лестницы.
– К Измайловскому мосту.
– К Измайловскому мосту! Пошёл!
«Обед у них начнётся не раньше как в пятом или даже в пять часов, – думал господин Голядкин, – не рано ль теперь? Впрочем, ведь я могу и пораньше; да к тому же и семейный обед. Я этак могу сан-фасон[2], как между порядочными людьми говорится. Отчего же бы мне нельзя сан-фасон? Медведь наш тоже говорил, что будет всё сан-фасон, а потому и я тоже…» Так думал господин Голядкин; а между тем волнение его всё более и более увеличивалось. Заметно было, что он готовился к чему-то весьма хлопотливому, чтоб не сказать более, шептал про себя, жестикулировал правой рукой, беспрерывно поглядывал в окна кареты, так что, смотря теперь на господина Голядкина, право бы, никто не сказал, что он сбирается хорошо пообедать, запросто, да ещё в своем семейном кругу, – сан-фасон, как между порядочными людьми говорится. Наконец у самого Измайловского моста господин Голядкин указал на один дом; карета с громом вкатилась в ворота и остановилась у подъезда правого фаса. Заметив одну женскую фигуру в окне второго этажа, господин Голядкин послал ей рукой поцелуй. Впрочем, он не знал сам, что делает, потому что решительно был ни жив ни мёртв в эту минуту. Из кареты он вышел бледный, растерянный; взошёл на крыльцо, снял свою шляпу, машинально оправился и, чувствуя, впрочем, маленькую дрожь в коленках, пустился по лестнице.
– Олсуфий Иванович? – спросил он отворившего ему человека.
– Дома-с, то есть нет-с, их нет дома-с.
– Как? что ты, мой милый? Я – я на обед, братец. Ведь ты меня знаешь?
– Как не знать-с! Принимать вас не велено-с.
– Ты… ты, братец… ты, верно, ошибаешься, братец. Это я. Я, братец, приглашён; я на обед, – проговорил господин Голядкин, сбрасывая шинель и показывая очевидное намерение отправиться в комнаты.
– Позвольте-с, нельзя-с. Не велено принимать-с, вам отказывать велено. Вот как!
Господин Голядкин побледнел. В это самое время дверь из внутренних комнат отворилась и вошёл Герасимыч, старый камердинер Олсуфия Ивановича.
– Вот они, Емельян Герасимович, войти хотят, а я…
– А вы дурак, Алексеич. Ступайте в комнаты, а сюда пришлите подлеца Семёныча. Нельзя-с, – сказал он учтиво, но решительно обращаясь к господину Голядкину. – Никак невозможно-с. Просят извинить-с; не могут принять-с.
– Они так и сказали, что не могут принять? – нерешительно спросил господин Голядкин. – Вы извините, Герасимыч. Отчего же никак невозможно?
– Никак невозможно-с. Я докладывал-с; сказали: проси извинить. Не могут, дескать, принять-с.
– Отчего же? как же это? как…
– Позвольте, позвольте!..
– Однако как же это так? Так нельзя! Доложите… Как же это так? я на обед…
– Позвольте, позвольте!..
– А, ну, впрочем, это дело другое – извинить просят; однако ж позвольте, Герасимыч, как же это, Герасимыч?
– Позвольте, позвольте! – возразил Герасимыч, весьма решительно отстраняя рукой господина Голядкина и давая широкую дорогу двум господам, которые в это самое мгновение входили в прихожую.
Входившие господа были: Андрей Филиппович и племянник его, Владимир Семёнович. Оба они с недоумением посмотрели на господина Голядкина. Андрей Филиппович хотел было что-то заговорить, но господин Голядкин уже решился; он уже выходил из прихожей Олсуфия Ивановича, опустив глаза, покраснев, улыбаясь, с совершенно потерянной физиономией.
– Я зайду после, Герасимыч; я объяснюсь; я надеюсь, что всё это не замедлит своевременно объясниться, – проговорил он на пороге и отчасти на лестнице.
– Яков Петрович, Яков Петрович!.. – послышался голос последовавшего за господином Голядкиным Андрея Филипповича.
Господин Голядкин находился тогда уже на первой забежной площадке. Он быстро оборотился к Андрею Филипповичу.
– Что вам угодно, Андрей Филиппович? – сказал он довольно решительным тоном.
– Что это с вами, Яков Петрович? Каким образом?..
– Ничего-с, Андрей Филиппович. Я здесь сам по себе. Это моя частная жизнь, Андрей Филиппович.
– Что такое-с?
– Я говорю, Андрей Филиппович, что это моя частная жизнь и что здесь, сколько мне кажется, ничего нельзя найти предосудительного касательно официальных отношений моих.
– Как! касательно официальных… Что с вами, сударь, такое?
– Ничего, Андрей Филиппович, совершенно ничего; дерзкая девчонка, больше ничего…
– Что!.. что?! – Андрей Филиппович потерялся от изумления. Господин Голядкин, который доселе, разговаривая снизу лестницы с Андреем Филипповичем, смотрел так, что, казалось, готов был ему прыгнуть прямо в глаза, – видя, что начальник отделения немного смешался, сделал, почти неведомо себе, шаг вперёд. Андрей Филиппович подался назад. Господин Голядкин переступил ещё и ещё ступеньку. Андрей Филиппович беспокойно осмотрелся кругом. Господин Голядкин вдруг быстро поднялся на лестницу. Ещё быстрее прыгнул Андрей Филиппович в комнату и захлопнул дверь за собою. Господин Голядкин остался один. В глазах у него потемнело. Он сбился совсем и стоял теперь в каком-то бестолковом раздумье, как будто припоминая о каком-то тоже крайне бестолковом обстоятельстве, весьма недавно случившемся. «Эх, эх!» – прошептал он, улыбаясь с натуги. Между тем на лестнице, внизу, послышались голоса и шаги, вероятно новых гостей, приглашённых Олсуфьем Ивановичем. Господин Голядкин отчасти опомнился, поскорее поднял повыше свой енотовый воротник, прикрылся им по возможности и стал, ковыляя, семеня, торопясь и спотыкаясь, сходить с лестницы. Чувствовал он в себе какое-то ослабление и онемение. Смущение его было в такой сильной степени, что, вышед на крыльцо, он не подождал и кареты, а сам пошёл прямо через грязный двор до своего экипажа. Подойдя к своему экипажу и приготовляясь в нём поместиться, господин Голядкин мысленно обнаружил желание провалиться сквозь землю или спрятаться хоть в мышиную щёлочку вместе с каретой. Ему казалось, что всё, что ни есть в доме Олсуфия Ивановича, вот так и смотрит теперь на него из всех окон. Он знал, что непременно тут же на месте умрёт, если обернётся назад.
– Что ты смеёшься, болван? – сказал он скороговоркой Петрушке, который приготовился было его подсадить в карету.
– Да что мне смеяться-то? я ничего; куда теперь ехать?
– Ступай домой, поезжай…
– Пошёл домой! – крикнул Петрушка, взмостясь на запятки.
«Экое горло воронье!» – подумал господин Голядкин. Между тем карета уже довольно далеко отъехала за Измайловский мост. Вдруг герой наш из всей силы дёрнул снурок и закричал своему кучеру немедленно воротиться назад. Кучер поворотил лошадей и через две минуты въехал опять во двор к Олсуфию Ивановичу. «Не нужно, дурак, не нужно; назад!» – прокричал господин Голядкин, – и кучер словно ожидал такого приказания: не возражая ни на что, не останавливаясь у подъезда и объехав кругом весь двор, выехал снова на улицу.
Домой господин Голядкин не поехал, а, миновав Семёновский мост, приказал поворотить в один переулок и остановиться возле трактира довольно скромной наружности. Вышед из кареты, герой наш расплатился с извозчиком и, таким образом, избавился, наконец, от своего экипажа. Петрушке приказал идти домой и ждать его возвращения, сам же вошёл в трактир, взял особенный нумер и приказал подать себе пообедать. Чувствовал он себя весьма дурно, а голову свою в полнейшем разброде и в хаосе. Долго ходил он в волнении по комнате; наконец сел на стул, подпёр себе лоб руками и начал всеми силами стараться обсудить и разрешить кое-что относительно настоящего своего положения…
Глава IV
День, торжественный день рождения Клары Олсуфьевны, единородной дочери статского советника Берендеева, в оно время благодетеля господина Голядкина, – день, ознаменовавшийся блистательным, великолепным званым обедом, таким обедом, какого давно не видали в стенах чиновничьих квартир у Измайловского моста и около, – обедом, который походил более на какой-то пир вальтасаровский, чем на обед, – который отзывался чем-то вавилонским в отношении блеска, роскоши и приличия с шампанским-клико, с устрицами и плодами Елисеева и Милютиных лавок, со всякими упитанными тельцами и чиновною табелью о рангах, – этот торжественный день, ознаменовавшийся таким торжественным обедом, заключился блистательным балом, семейным, маленьким, родственным балом, но всё-таки блистательным в отношении вкуса, образованности и приличия. Конечно, я совершенно согласен, такие балы бывают, но редко. Такие балы, более похожие на семейные радости, чем на балы, могут лишь даваться в таких домах, как, например, дом статского советника Берендеева. Скажу более: я даже сомневаюсь, чтоб у всех статских советников могли даваться такие балы. О, если бы я был поэт! – разумеется, по крайней мере такой, как Гомер или Пушкин; с меньшим талантом соваться нельзя, – я бы непременно изобразил вам яркими красками и широкою кистью, о читатели! весь этот высокоторжественный день. Нет, я бы начал свою поэму обедом, я особенно бы налёг на то поразительное и вместе с тем торжественное мгновение, когда поднялась первая заздравная чаша в честь царицы праздника. Я изобразил бы вам, во-первых, этих гостей, погружённых в благоговейное молчание и ожидание, более похожее на демосфеновское красноречие, чем на молчание. Я изобразил бы вам потом Андрея Филипповича, как старшего из гостей, имеющего даже некоторое право на первенство, украшенного сединами и приличными седине орденами, вставшего с места и поднявшего над головою заздравный бокал с искромётным вином, – вином, нарочно привозимым из одного отдалённого королевства, чтоб запивать им подобные мгновения, вином, более похожим на божественный нектар, чем на вино. Я изобразил бы вам гостей и счастливых родителей царицы праздника, поднявших тоже свои бокалы вслед за Андреем Филипповичем и устремивших на него полные ожидания очи. Я изобразил бы вам, как этот часто поминаемый Андрей Филиппович, уронив сначала слезу в бокал, проговорил поздравление и пожелание, провозгласил тост и выпил за здравие… Но, сознаюсь, вполне сознаюсь, не мог бы я изобразить всего торжества – той минуты, когда сама царица праздника, Клара Олсуфьевна, краснея, как вешняя роза, румянцем блаженства и стыдливости, от полноты чувств упала в объятия нежной матери, как прослезилась нежная мать и как зарыдал при сём случае сам отец, маститый старец и статский советник Олсуфий Иванович, лишившийся употребления ног на долговременной службе и вознаграждённый судьбою за таковое усердие капитальцем, домком, деревеньками и красавицей дочерью, – зарыдал, как ребёнок, и провозгласил сквозь слёзы, что его превосходительство благодетельный человек. Я бы не мог, да, именно не мог бы изобразить вам и неукоснительно последовавшего за сей минутой всеобщего увлечения сердец – увлечения, ясно выразившегося даже поведением одного юного регистратора (который в это мгновение походил более на статского советника, чем на регистратора), тоже прослезившегося, внимая Андрею Филипповичу. В свою очередь Андрей Филиппович в это торжественное мгновение вовсе не походил на коллежского советника и начальника отделения в одном департаменте, – нет, он казался чем-то другим… я не знаю только, чем именно, но не коллежским советником. Он был выше! Наконец… о! для чего я не обладаю тайною слога высокого, сильного, слога торжественного, для изображения всех этих прекрасных и назидательных моментов человеческой жизни, как будто нарочно устроенных для доказательства, как иногда торжествует добродетель над неблагонамеренностью, вольнодумством, пороком и завистью! Я ничего не скажу, но молча – что будет лучше всякого красноречия – укажу вам на этого счастливого юношу, вступающего в свою двадцать шестую весну, – на Владимира Семёновича, племянника Андрея Филипповича, который встал в свою очередь с места, который провозглашает в свою очередь тост и на которого устремлены слезящиеся очи родителей царицы праздника, гордые очи Андрея Филипповича, стыдливые очи самой царицы праздника, восторженные очи гостей и даже прилично завистливые очи некоторых молодых сослуживцев этого блестящего юноши. Я не скажу ничего, хотя не могу не заметить, что всё в этом юноше, – который более похож на старца, чем на юношу, говоря в выгодном для него отношении, – всё, начиная с цветущих ланит до самого асессорского, на нём лежавшего чина, всё это в сию торжественную минуту только что не проговаривало, что, дескать, до такой-то высокой степени может благонравие довести человека! Я не буду описывать, как, наконец, Антон Антонович Сеточкин, столоначальник одного департамента, сослуживец Андрея Филипповича и некогда Олсуфия Ивановича, вместе с тем старинный друг дома и крёстный отец Клары Олсуфьевны, – старичок, как лунь седенький, в свою очередь предлагая тост, пропел петухом и проговорил весёлые вирши; как он таким приличным забвением приличия, если можно так выразиться, рассмешил до слёз целое общество и как сама Клара Олсуфьевна за таковую весёлость и любезность поцеловала его, по приказанию родителей. Скажу только, что, наконец, гости, которые после такого обеда, естественно, должны были чувствовать себя друг другу родными и братьями, встали из-за стола; как потом старички и люди солидные, после недолгого времени, употреблённого на дружеский разговор и даже на кое-какие, разумеется, весьма приличные и любезные откровенности, чинно прошли в другую комнату и, не теряя золотого времени, разделившись на партии, с чувством собственного достоинства сели за столы, обтянутые зелёным сукном; как дамы, усевшись в гостиной, стали вдруг все необыкновенно любезны и начали разговаривать о разных материях; как, наконец, сам высокоуважаемый хозяин дома, лишившийся употребления ног на службе верою и правдою и награждённый за это всем, чем выше упомянуто было, стал расхаживать на костылях между гостями своими, поддерживаемый Владимиром Семёновичем и Кларой Олсуфьевной, и как, вдруг сделавшись тоже необыкновенно любезным, решился импровизировать маленький скромный бал, несмотря на издержки; как для сей цели командирован был один расторопный юноша (тот самый, который за обедом более похож был на статского советника, чем на юношу) за музыкантами; как потом прибыли музыканты в числе целых одиннадцати штук и как, наконец, ровно в половине девятого раздались призывные звуки французской кадрили и прочих различных танцев… Нечего уже и говорить, что перо моё слабо, вяло и тупо для приличного изображения бала, импровизированного необыкновенною любезностью седовласого хозяина. Да и как, спрошу я, как могу я, скромный повествователь весьма, впрочем, любопытных в своём роде приключений господина Голядкина, – как могу я изобразить эту необыкновенную и благопристойную смесь красоты, блеска, приличия, весёлости, любезной солидности и солидной любезности, резвости, радости, все эти игры и смехи всех этих чиновных дам, более похожих на фей, чем на дам, – говоря в выгодном для них отношении, – с их лилейно-розовыми плечами и личиками, с их воздушными станами, с их резво-игривыми, гомеопатическими, говоря высоким слогом, ножками? Как изображу я вам, наконец, этих блестящих чиновных кавалеров, весёлых и солидных, юношей и степенных, радостных и прилично туманных, курящих в антрактах между танцами в маленькой отдалённой зелёной комнате трубку и не курящих в антрактах трубки, – кавалеров, имевших на себе, от первого до последнего, приличный чин и фамилию, – кавалеров, глубоко проникнутых чувством изящного и чувством собственного достоинства; кавалеров, говорящих большею частию на французском языке с дамами, а если на русском, то выражениями самого высокого тона, комплиментами и глубокими фразами, – кавалеров, разве только в трубочной позволявших себе некоторые любезные отступления от языка высшего тона, некоторые фразы дружеской и любезной короткости, вроде таких, например: «что, дескать, ты, такой-сякой, Петька, славно польку откалывал», или: «что, дескать, ты, такой-сякой, Вася, пришпандорил-таки свою дамочку, как хотел». На всё это, как уже выше имел я честь объяснить вам, о читатели! недостаёт пера моего, и потому я молчу. Обратимся лучше к господину Голядкину, единственному, истинному герою весьма правдивой повести нашей.
Дело в том, что он находится теперь в весьма странном, чтоб не сказать более, положении. Он, господа, тоже здесь, то есть не на бале, но почти что на бале; он, господа, ничего; он хотя и сам по себе, но в эту минуту стоит на дороге не совсем-то прямой; стоит он теперь – даже странно сказать – стоит он теперь в сенях, на чёрной лестнице квартиры Олсуфья Ивановича. Но это ничего, что он тут стоит; он так себе. Он, господа, стоит в уголку, забившись в местечко хоть не потеплее, но зато потемнее, закрывшись отчасти огромным шкафом и старыми ширмами, между всяким дрязгом, хламом и рухлядью, скрываясь до времени и покамест только наблюдая за ходом общего дела в качестве постороннего зрителя. Он, господа, только наблюдает теперь; он, господа, тоже ведь может войти… почему же не войти? Стоит только шагнуть, и войдёт, и весьма ловко войдёт. Сейчас только, – выстаивая, впрочем, уже третий час на холоде, между шкафом и ширмами, между всяким хламом, дрязгом и рухлядью, – цитировал он, в собственное оправдание своё, одну фразу блаженной памяти французского министра Виллеля, что «всё, дескать, придёт своим чередом, если выждать есть смётка». Фразу эту вычитал господин Голядкин когда-то из совершенно посторонней, впрочем, книжки, но теперь весьма кстати привел её себе на память. Фраза, во-первых, очень хорошо шла к настоящему его положению, а во-вторых, чего же не придёт в голову человеку, выжидающему счастливой развязки обстоятельств своих почти битые три часа в сенях, в темноте и на холоде? Цитировав, как уже сказано было, весьма кстати фразу бывшего французского министра Виллеля, господин Голядкин тут же, неизвестно почему, припомнил и о бывшем турецком визире Марцимирисе, равно как и о прекрасной маркграфине Луизе, историю которых читал он тоже когда-то в книжке. Потом пришло ему на память, что иезуиты поставили даже правилом своим считать все средства годящимися, лишь бы цель могла быть достигнута. Обнадёжив себя немного подобным историческим пунктом, господин Голядкин сказал сам себе, что, дескать, что иезуиты? Иезуиты все до одного были величайшие дураки, что он сам их всех заткнёт за пояс, что вот только бы хоть на минуту опустела буфетная (та комната, которой дверь выходила прямо в сени, на чёрную лестницу, и где господин Голядкин находился теперь), так он, несмотря на всех иезуитов, возьмёт – да прямо и пройдёт, сначала из буфетной в чайную, потом в ту комнату, где теперь в карты играют, а там прямо в залу, где теперь польку танцуют. И пройдёт, непременно пройдёт, ни на что не смотря пройдёт, проскользнёт, да и только, и никто не заметит; а там уж он сам знает, что ему делать. Вот в таком-то положении, господа, находим мы теперь героя совершенно правдивой истории нашей, хотя, впрочем, трудно объяснить, что именно делалось с ним в настоящее время. Дело-то в том, что он до сеней и до лестницы добраться умел, по той причине, что, дескать, почему ж не добраться, что все добираются; но далее проникнуть не смел, явно этого сделать не смел… не потому, чтоб чего-нибудь не смел, а так, потому что сам не хотел, потому что ему лучше хотелось быть втихомолочку. Вот он, господа, и выжидает теперь тихомолочки, и выжидает её ровно два часа с половиною. Отчего ж и не выждать? И сам Виллель выжидал. «Да что тут Виллель! – думал господин Голядкин. – Какой тут Виллель? А вот как бы мне теперь того… взять да и проникнуть?.. Эх ты, фигурант ты этакой! – сказал господин Голядкин, ущипнув себя окоченевшею рукою за окоченевшую щёку, – дурашка ты этакой, Голядка ты этакой – фамилия твоя такова!..» Впрочем, это ласкательство собственной особе своей в настоящую минуту было лишь так себе, мимоходом, без всякой видимой цели. Вот было он сунулся и подался вперёд; минута настала; буфетная опустела, и в ней нет никого; господин Голядкин видел всё это в окошко; в два шага очутился он у двери и уже стал отворять её. «Идти или нет? Ну, идти или нет? Пойду… отчего ж не пойти? Смелому дорога везде!» Обнадёжив себя таким образом, герой наш вдруг и совсем неожиданно ретировался за ширмы. «Нет, – думал он, – а ну как войдёт кто-нибудь? Так и есть, вошли; чего ж я зевал, когда народу не было? Этак бы взять да и проникнуть!.. Нет, уж что проникнуть, когда характер у человека такой! Эка ведь тенденция подлая! Струсил, как курица. Струсить-то наше дело, вот оно что! Нагадить-то всегда наше дело: об этом вы нас и не спрашивайте. Вот и стой здесь, как чурбан, да и только! Дома бы чаю теперь выпить чашечку… Оно бы и приятно этак было, выпить бы чашечку. Позже прийти, так Петрушка будет, пожалуй, ворчать. Не пойти ли домой? Черти бы взяли всё это! Иду, да и только!» Разрешив таким образом своё положение, господин Голядкин быстро подался вперёд, словно пружину какую кто тронул в нём; с двух шагов очутился в буфетной, сбросил шинель, снял свою шляпу, поспешно сунул это всё в угол, оправился и огладился; потом… потом двинулся в чайную, из чайной юркнул ещё в другую комнату, скользнул почти незаметно между вошедшими в азарт игроками; потом… потом… тут господин Голядкин позабыл всё, что вокруг него делается, и, прямо как снег на голову, явился в танцевальную залу.
Как нарочно, в это время не танцевали. Дамы гуляли по зале живописными группами. Мужчины сбивались в кружки или шныряли по комнате, ангажируя дам. Господин Голядкин не замечал этого ничего. Видел он только Клару Олсуфьевну; возле неё Андрея Филипповича, потом Владимира Семёновича, да ещё двух или трёх офицеров, да ещё двух или трёх молодых людей, тоже весьма интересных, подающих или уже осуществивших, как можно было по первому взгляду судить, кое-какие надежды… Видел он и ещё кой-кого. Или нет; он уже никого не видал, ни на кого не глядел… а, двигаемый тою же самой пружиной, посредством которой вскочил на чужой бал непрошеный, подался вперёд, потом и ещё вперёд, и ещё вперёд; наткнулся мимоходом на какого-то советника, отдавил ему ногу; кстати уже наступил на платье одной почтенной старушки и немного порвал его, толкнул человека с подносом, толкнул и ещё кой-кого и, не заметив всего этого, или, лучше сказать, заметив, но уж так, заодно, не глядя ни на кого, пробираясь всё далее и далее вперёд, вдруг очутился перед самой Кларой Олсуфьевной. Без всякого сомнения, глазком не мигнув, он с величайшим бы удовольствием провалился в эту минуту сквозь землю; но что сделано было, того не воротишь… ведь уж никак не воротишь. Что же было делать? Не удастся – держись, а удастся – крепись. Господин Голядкин, уж разумеется, был не интригант и лощить паркет сапогами не мастер… Так уж случилось. К тому же и иезуиты как-то тут подмешались… Но не до них, впрочем, было господину Голядкину! Всё, что ходило, шумело, говорило, смеялось, вдруг, как бы по мановению какому, затихло и мало-помалу столпилось около господина Голядкина. Господин Голядкин, впрочем, как бы ничего не слыхал, ничего не видал, он не мог смотреть… он ни на что не мог смотреть; он опустил глаза в землю да так и стоял себе, дав себе, впрочем, мимоходом, честное слово каким-нибудь образом застрелиться в эту же ночь. Дав себе такое честное слово, господин Голядкин мысленно сказал себе: «Была не была!» – и, к собственному своему величайшему изумлению, совсем неожиданно начал вдруг говорить.
Начал господин Голядкин поздравлениями и приличными пожеланиями. Поздравления прошли хорошо, а на пожеланиях герой наш запнулся. Чувствовал он, что если запнётся, то всё сразу к чёрту пойдёт. Так и вышло – запнулся и завяз… завяз и покраснел; покраснел и потерялся; потерялся и поднял глаза; поднял глаза и обвёл их кругом; обвёл их кругом и – и обмер… Всё стояло, всё молчало, всё выжидало; немного подальше зашептало; немного поближе захохотало. Господин Голядкин бросил покорный, потерянный взор на Андрея Филипповича. Андрей Филиппович ответил господину Голядкину таким взглядом, что если б герой наш не был уже убит вполне, совершенно, то был бы непременно убит в другой раз, – если б это было только возможно. Молчание длилось.
– Это более относится к домашним обстоятельствам и к частной жизни моей, Андрей Филиппович, – едва слышным голосом проговорил полумёртвый господин Голядкин, – это не официальное приключение, Андрей Филиппович…
– Стыдитесь, сударь, стыдитесь! – проговорил Андрей Филиппович полушёпотом, с невыразимою миной негодования, – проговорил, взял за руку Клару Олсуфьевну и отвернулся от господина Голядкина.
– Нечего мне стыдиться, Андрей Филиппович, – отвечал господин Голядкин так же полушёпотом, обводя свои несчастные взоры кругом, потерявшись и стараясь по сему случаю отыскать в недоумевающей толпе средины и социального своего положения.
– Ну, и ничего, ну, и ничего, господа! ну, что ж такое? ну, и со всяким может случиться, – шептал господин Голядкин, сдвигаясь понемногу с места и стараясь выбраться из окружавшей его толпы. Ему дали дорогу. Герой наш кое-как прошёл между двумя рядами любопытных и недоумевающих наблюдателей. Рок увлекал его. Господин Голядкин сам это чувствовал, что рок-то его увлекал. Конечно, он бы дорого дал за возможность находиться теперь, без нарушения приличий, на прежней стоянке своей в сенях, возле чёрной лестницы; но так как это было решительно невозможно, то он и начал стараться улизнуть куда-нибудь в уголок да так и стоять себе там – скромно, прилично, особо, никого не затрагивая, не обращая на себя исключительного внимания, но вместе с тем снискав благорасположение гостей и хозяина. Впрочем, господин Голядкин чувствовал, что его как будто бы подмывает что-то, как будто он колеблется, падает. Наконец он добрался до одного уголка и стал в нём, как посторонний, довольно равнодушный наблюдатель, опершись руками на спинки двух стульев, захватив их, таким образом, в своё полное обладание и стараясь по возможности взглянуть бодрым взглядом на сгруппировавшихся около него гостей Олсуфья Ивановича. Ближе всех стоял к нему какой-то офицер, высокий и красивый малый, пред которым господин Голядкин почувствовал себя настоящей букашкой.
– Эти два стула, поручик, назначены: один для Клары Олсуфьевны, а другой для танцующей здесь же княжны Чевчехановой; я их, поручик, теперь для них берегу, – задыхаясь, проговорил господин Голядкин, обращая умоляющий взор на господина поручика. Поручик молча и с убийственной улыбкой отворотился. Осекшись в одном месте, герой наш попробовал было попытать счастье где-нибудь с другой стороны и обратился прямо к одному важному советнику, с значительным крестом на шее. Но советник обмерил его таким холодным взглядом, что господин Голядкин ясно почувствовал, что его вдруг окатили целым ушатом холодной воды. Господин Голядкин затих. Он решился лучше смолчать, не заговаривать, показать, что он так себе, что он тоже так, как и все, и что положение его, сколько ему кажется, по крайней мере тоже приличное. С этою целью он приковал свой взгляд к обшлагам своего вицмундира, потом поднял глаза и остановил их на одном весьма почтенной наружности господине. «На этом господине парик, – подумал господин Голядкин, – а если снять этот парик, так будет голая голова, точь-в-точь как ладонь моя голая». Сделав такое важное открытие, господин Голядкин вспомнил и о арабских эмирах, у которых, если снять с головы зелёную чалму, которую они носят в знак родства своего с пророком Мухаммедом, то останется тоже голая, безволосая голова. Потом, и, вероятно, по особенному столкновению идей относительно турков в голове своей, господин Голядкин дошёл и до туфлей турецких и тут же кстати вспомнил, что Андрей Филиппович носит сапоги, похожие больше на туфли, чем на сапоги. Заметно было, что господин Голядкин отчасти освоился с своим положением. «Вот если б эта люстра, – мелькнуло в голове господина Голядкина, – вот если б эта люстра сорвалась теперь с места и упала на общество, то я бы тотчас бросился спасать Клару Олсуфьевну. Спасши её, сказал бы ей: "Не беспокойтесь, сударыня; это ничего-с, а спаситель ваш я". Потом…» Тут господин Голядкин повернул глаза в сторону, отыскивая Клару Олсуфьевну, и увидел Герасимыча, старого камердинера Олсуфия Ивановича. Герасимыч с самым заботливым, с самым официально-торжественным видом пробирался прямо к нему. Господин Голядкин вздрогнул и поморщился от какого-то безотчётного и вместе с тем самого неприятного ощущения. Машинально осмотрелся кругом: ему пришло было на мысль как-нибудь, этак под рукой, бочком, втихомолку улизнуть от греха, этак взять – да и стушеваться, то есть сделать так, как будто бы он ни в одном глазу, как будто бы вовсе не в нём было и дело. Однако, прежде чем наш герой успел решиться на что-нибудь, Герасимыч уже стоял перед ним.
– Видите ли, Герасимыч, – сказал наш герой, с улыбочкой обращаясь к Герасимычу, – вы возьмите да и прикажите, – вот видите, свечка там в канделябре, Герасимыч, – она сейчас упадёт: так вы, знаете ли, прикажите поправить её; она, право, сейчас упадёт, Герасимыч…
– Свечка-с? нет-с, свечка прямо стоит-с; а вот вас кто-то там спрашивает-с.
– Кто же это там меня спрашивает, Герасимыч?
– А уж, право, не знаю-с, кто именно-с. Человек от каких-то-с. Здесь, дескать, находится Яков Петрович Голядкин? Так вызовите, говорит, его по весьма нужному и спешному делу… вот как-с.
– Нет, Герасимыч, вы ошибаетесь; в этом вы, Герасимыч, ошибаетесь.
– Сумнительно-с…
– Нет, Герасимыч, не сумнительно; тут, Герасимыч, ничего нет сумнительного. Никто меня не спрашивает, Герасимыч, меня некому спрашивать, а я здесь у себя, то есть на своём месте, Герасимыч.
Господин Голядкин перевёл дух и осмотрелся кругом. Так и есть! Всё, что ни было в зале, все так и устремились на него взором и слухом в каком-то торжественном ожидании. Мужчины толпились поближе и прислушивались. Подальше тревожно перешёптывались дамы. Сам хозяин явился в весьма недальнем расстоянии от господина Голядкина, и хотя по виду его нельзя было заметить, что он тоже в свою очередь принимает прямое и непосредственное участие в обстоятельствах господина Голядкина, потому что всё это делалось на деликатную ногу, но тем не менее всё это дало ясно почувствовать герою повести нашей, что минута для него настала решительная. Господин Голядкин ясно видел, что настало время удара смелого, время посрамления врагов его. Господин Голядкин был в волнении. Господин Голядкин почувствовал какое-то вдохновение и дрожащим, торжественным голосом начал снова, обращаясь к ожидавшему Герасимычу:
– Нет, мой друг, меня никто не зовёт. Ты ошибаешься. Скажу более, ты ошибался и утром сегодня, уверяя меня… осмеливаясь уверять меня, говорю я (господин Голядкин возвысил голос), что Олсуфий Иванович, благодетель мой с незапамятных лет, заменивший мне в некотором смысле отца, закажет для меня дверь свою в минуту семейной и торжественнейшей радости для его сердца родительского. (Господин Голядкин самодовольно, но с глубоким чувством осмотрелся кругом. На ресницах его навернулись слёзы.) Повторяю, мой друг, – заключил наш герой, – ты ошибался, ты жестоко, непростительно ошибался…
Минута была торжественная. Господин Голядкин чувствовал, что эффект был вернейший. Господин Голядкин стоял, скромно потупив глаза и ожидая объятий Олсуфия Ивановича. В гостях заметно было волнение и недоумение; даже сам непоколебимый и ужасный Герасимыч заикнулся на слове «сумнительно-с»… как вдруг беспощадный оркестр ни с того ни с сего грянул польку. Всё пропало, всё на ветер пошло. Господин Голядкин вздрогнул, Герасимыч отшатнулся назад, всё, что ни было в зале, заволновалось, как море, и Владимир Семёнович уже нёсся в первой паре с Кларой Олсуфьевной, а красивый поручик с княжной Чевчехановой. Зрители с любопытством и восторгом теснились взглянуть на танцующих польку – танец интересный, новый, модный, круживший всем головы. Господин Голядкин был на время забыт. Но вдруг всё заволновалось, замешалось, засуетилось; музыка умолкла… случилось странное происшествие. Утомлённая танцем, Клара Олсуфьевна, едва переводя дух от усталости, с пылающими щеками и глубоко волнующеюся грудью упала, наконец, в изнеможении сил в кресла. Все сердца устремились к прелестной очаровательнице, все спешили наперерыв приветствовать её и благодарить за оказанное удовольствие, – вдруг перед нею очутился господин Голядкин. Господин Голядкин был бледен, крайне расстроен; казалось, он тоже был в каком-то изнеможении, он едва двигался. Он отчего-то улыбался, он просительно протягивал руку. Клара Олсуфьевна в изумлении не успела отдёрнуть руки своей и машинально встала на приглашение господина Голядкина. Господин Голядкин покачнулся вперёд, сперва один раз, потом другой, потом поднял ножку, потом как-то пришаркнул, потом как-то притопнул, потом споткнулся… он тоже хотел танцевать с Кларой Олсуфьевной. Клара Олсуфьевна вскрикнула; все бросились освобождать её руку из руки господина Голядкина, и разом герой наш был оттеснён толпою едва ли не на десять шагов расстояния. Вокруг него сгруппировался тоже кружок. Послышался визг и крик двух старух, которых господин Голядкин едва не опрокинул в ретираде. Смятение было ужасное; всё спрашивало, всё кричало, всё рассуждало. Оркестр умолк. Герой наш вертелся в кружке своём и машинально, отчасти улыбаясь, что-то бормотал про себя, что, «дескать, отчего ж и нет, и что, дескать, полька, сколько ему по крайней мере кажется, танец новый и весьма интересный, созданный для утешения дам… но что если так дело пошло, то он, пожалуй, готов согласиться». Но согласия господина Голядкина, кажется, никто и не спрашивал. Герой наш почувствовал, что вдруг чья-то рука упала на его руку, что другая рука немного оперлась на спину его, что его с какою-то особенною заботливостью направляют в какую-то сторону. Наконец он заметил, что идёт прямо к дверям.
Господин Голядкин хотел было что-то сказать, что-то сделать… Но нет, он уже ничего не хотел. Он только машинально отсмеивался. Наконец он почувствовал, что на него надевают шинель, что ему нахлобучили на глаза шляпу; что, наконец, – он почувствовал себя в сенях, в темноте и на холоде, наконец и на лестнице. Наконец он споткнулся, ему казалось, что он падает в бездну; он хотел было вскрикнуть – и вдруг очутился на дворе. Свежий воздух пахнул на него, он на минутку приостановился; в самое это мгновение до него долетели звуки вновь грянувшего оркестра. Господин Голядкин вдруг вспомнил всё; казалось, все опавшие силы его возвратились к нему опять. Он сорвался с места, на котором доселе стоял, как прикованный, и стремглав бросился вон, куда-нибудь, на воздух, на волю, куда глаза глядят…
Глава V
На всех петербургских башнях, показывающих и бьющих часы, пробило ровно полночь, когда господин Голядкин, вне себя, выбежал на набережную Фонтанки, близ самого Измайловского моста, спасаясь от врагов, от преследований, от града щелчков, на него занесённых, от крика встревоженных старух, от оханья и аханья женщин и от убийственных взглядов Андрея Филипповича. Господин Голядкин был убит – убит вполне, в полном смысле слова, и если сохранил в настоящую минуту способность бежать, то единственно по какому-то чуду, по чуду, которому он сам, наконец, верить отказывался. Ночь была ужасная, – ноябрьская, мокрая, туманная, дождливая, снежливая, чреватая флюсами, насморками, лихорадками, жабами, горячками всех возможных родов и сортов, одним словом, всеми дарами петербургского ноября. Ветер выл в опустелых улицах, вздымая выше колец чёрную воду Фонтанки и задорно потрогивая тощие фонари набережной, которые в свою очередь вторили его завываниям тоненьким, пронзительным скрипом, что составляло бесконечный, пискливый, дребезжащий концерт, весьма знакомый каждому петербургскому жителю. Шёл дождь и снег разом. Прорываемые ветром струи дождевой воды прыскали чуть-чуть не горизонтально, словно из пожарной трубы, и кололи и секли лицо несчастного господина Голядкина, как тысячи булавок и шпилек. Среди ночного безмолвия, прерываемого лишь отдалённым гулом карет, воем ветра и скрипом фонарей, уныло слышались хлёст и журчание воды, стекавшей со всех крыш, крылечек, желобов и карнизов на гранитный помост тротуара. Ни души не было ни вблизи, ни вдали, да казалось, что и быть не могло в такую пору и в такую погоду. Итак, один только господин Голядкин, один с своим отчаянием, трусил в это время по тротуару Фонтанки своим обыкновенным мелким и частым шажком, спеша добежать как можно скорее в свою Шестилавочную улицу, в свой четвёртый этаж, к себе на квартиру.
Хотя снег, дождь и всё то, чему даже имени не бывает, когда разыграется вьюга и хмара под петербургским ноябрьским небом, разом вдруг атаковали и без того убитого несчастиями господина Голядкина, не давая ему ни малейшей пощады и отдыха, пронимая его до костей, залепляя глаза, продувая со всех сторон, сбивая с пути и с последнего толка, хоть всё это разом опрокинулось на господина Голядкина, как бы нарочно сообщась и согласясь со всеми врагами его отработать ему денёк, вечерок и ночку на славу, – несмотря на всё это, господин Голядкин остался почти нечувствителен к этому последнему доказательству гонения судьбы: так сильно потрясло и поразило его всё происшедшее с ним несколько минут назад у господина статского советника Берендеева! Если б теперь посторонний, неинтересованный какой-нибудь наблюдатель взглянул бы так себе, сбоку, на тоскливую побежку господина Голядкина, то и тот бы разом проникнулся всем страшным ужасом его бедствий и непременно сказал бы, что господин Голядкин глядит теперь так, как будто сам от себя куда-то спрятаться хочет, как будто сам от себя убежать куда-нибудь хочет. Да! оно было действительно так. Скажем более: господин Голядкин не только желал теперь убежать от себя самого, но даже совсем уничтожиться, не быть, в прах обратиться. В настоящие минуты он не внимал ничему окружающему, не понимал ничего, что вокруг него делается, и смотрел так, как будто бы для него не существовало на самом деле ни неприятностей ненастной ночи, ни долгого пути, ни дождя, ни снега, ни ветра, ни всей крутой непогоды. Калоша, отставшая от сапога с правой ноги господина Голядкина, тут же и осталась в грязи и снегу, на тротуаре Фонтанки, а господин Голядкин и не подумал воротиться за нею и не приметил пропажи её. Он был так озадачен, что несколько раз, вдруг, несмотря ни на что окружающее, проникнутый вполне идеей своего недавнего страшного падения, останавливался неподвижно, как столб, посреди тротуара; в это мгновение он умирал, исчезал; потом вдруг срывался как бешеный с места и бежал, бежал без оглядки, как будто спасаясь от чьей-то погони, от какого-то ещё более ужасного бедствия…