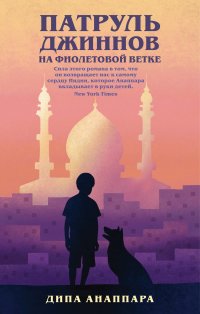
Читать онлайн Патруль джиннов на Фиолетовой ветке бесплатно
- Все книги автора: Дипа Анаппара
Deepa Anappara
Djinn patrol on the purple line
Copyright © Deepa Anappara 2020
© Новикова К., перевод на русский язык, 2020
© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2020
Посвящается Дивье Анаппара и Параму
Один
Эта история спасет твою жизнь
При жизни Псих был боссом восемнадцати или двадцати ребят, и он почти никогда не поднимал руку ни на кого из них. Каждую неделю он давал им шоколадку «5 Стар», чтобы они разделили ее на всех, или пачку драже «Джемс», а еще он делал их невидимками для полиции и для разных евангелистов-проповедников, что хотели спасти их с улиц, и для мужчин, что голодными глазами наблюдали за детьми, спрыгивающими на железнодорожные пути за пластиковыми бутылками, прежде чем их переедет поезд.
Псих не злился, если его мальчишки-мусорщики приносили ему пять бутылок из-под «Бислери» вместо пятидесяти, или если ловил их в лучшем наряде в те часы, когда они должны были работать, у кинотеатра, в очереди за билетом на премьеру, который они не могли себе позволить. Но в те дни, когда они заявлялись к нему с красными носами, со словами, что мешались в их речи как кровь и вода, и глазами, опухшими, как полные луны, от того, что они нанюхались замазки-корректора, он обрушивал на них весь свой гнев. Псих тушил «Голд Флейк Кингз» об их запястья и плечи и называл это пустой тратой сигарет.
Острый запах горелой плоти преследовал его мальчишек и стирал сладкий и короткий кайф от «Дендрайта» и «Эрейзекса». Псих чуток вправил им мозги, о да.
Мы никогда не встречали его, потому что он жил в этом районе задолго до нас. Но люди, которые его знали: парикмахер, что бреет щетинистые щеки уже несколько десятков лет, и безумец, что натирает пеплом грудь и зовет себя святым, – до сих пор говорят о нем. Они говорят, что ребята Психа никогда не устраивали драк из-за того, кто запрыгнул в несущийся поезд первым, и из-за того, кто возьмет себе мягкую игрушку или завалившуюся в щель за сиденьем гоночную машинку. Псих учил своих мальчишек быть иными. Вот почему они жили дольше остальных детей, работавших на вокзалах по всей стране.
Но однажды умер сам Псих. Его мальчишки знали, он этого не планировал. Он был молод и здоров и обещал взять напрокат микроавтобус и отвезти их в Тадж, прежде чем муссоны придут в город. Oни оплакивали его несколько дней. На бесплодной земле, омытой их слезами, выросла трава.
А потом мальчишкам пришлось работать на людей, совсем не похожих на Психа. В их новой жизни не было ни шоколадок, ни фильмов: лишь руки, обожженные железнодорожными рельсами, сверкающими золотом на жарком летнем солнце, из-за которого воздух нагревался до сорока пяти градусов уже к одиннадцати утра. Зимой же температура падала до одного-двух градусов, и иногда, когда туман становился белым и зернистым, как пыль, острые, словно бритвы, края ледяных рельсов срезали кожу с их мозолистых пальцев.
Каждый день после сбора мусора ребята умывались водой, капавшей из протекающей трубы на станции, и все вместе молились Психу, чтобы он спас их, прежде чем колеса поезда перемелют их руки и ноги в костную пыль или в воздухе просвистит ремень, разрывая сгорбленные спины пополам, и они никогда больше не смогут ходить.
За месяцы, последовавшие за смертью Психа, в погоне за поездами погибли два мальчика. Коршуны вились над их трупами, а мухи целовали их в сине-черные губы. Люди, на которых они работали, решили, что подбирать и кремировать тела – пустая трата денег. Поезда не останавливались, паровозы по-прежнему гудели по ночам.
Однажды вечером, вскоре после тех смертей, трое мальчишек Психа перешли дорогу, отделявшую вокзал от нагромождения магазинов и отелей с красно-белыми телефонными вышками и черными бочками «Синтекс» на террасах. Неоновые вывески мигали словами «ЭКОЛОГИЧНЫЕ ВЕГЕТАРИАНСКИЕ ПРОДУКТЫ» и «ВИД НА СТАНЦИЮ», и «НЕВЕРОЯТНАЯ ИНДИЯ», и «СЕМЕЙНЫЙ КОМФОРТ». Ребята направлялись в одно место неподалеку: к кирпичной стене с железными перилами, на которых Псих сушил одежду и под которыми он спал по ночам, крепко, как жену, обнимая мешок со всем своим имуществом.
В желто-розовом свете букв «ОТЕЛЬ РОЯЛ ПИНК» они увидели маленьких глиняных богов, которых Псих расставил в стенной нише: Господа Ганешу с хоботом, свернутым на груди, и Господа Ханумана, поднимающего гору одной рукой, и Господа Кришну, играющего на флейте, а высушенные солнцем бархатцы были придавлены камнями у их ног. Ребята прижались лбами к стене и спросили Психа, как же он мог умереть. Когда один из них прошептал ветру настоящее имя Психа – секрет, известный лишь им, – в переулке зашевелилась тень. Ребята подумали, что это кошка или летучая лисица, хотя в воздухе появилось напряжение, а на их языках – металлический привкус электричества, мигнула радужная вспышка света и исчезла так быстро, словно им померещилось. Их вымотала охота за бутылками, и головы кружились от голода. Но на следующий день, копаясь в мусоре на полу поезда, под разными сиденьями каждый из тех трех мальчиков нашел по пятьдесят рупий.
Они поняли, что деньги – это подарок от Психа-призрака, потому что воздух вокруг них заструился теплым дыханием и запах сигаретами «Голд Флейк Кингз». Он пришел к ним, потому что они назвали его настоящее имя. Мальчишки начали оставлять у его стены сигареты и чашки из фольги с пряным нутом, приправленным соком лайма и украшенным листьями кориандра и кусочками красного лука. Они отпускали грубые шутки о запахах и звуках, которые Псих издавал в те дни, когда съедал четверть кило нута за один присест. Призраку не было дела до их шуток, и потом они находили на рубашках дырки от сигарет.
Мальчишек Психа теперь разбросало по всему городу, и, по слухам, некоторые из них стали взрослыми, женились и завели собственных детей. Но и сегодня голодный мальчик, что заснет с настоящим именем Психа на потрескавшихся губах, проснется и встретит белого туриста, что купит ему мороженого, или пожилую леди, что сунет парату ему в руки. Не бог весть что, но Псих при жизни не был богачом, не стал он богатым и в своем призрачном воплощении.
Забавно, что прозвище Психу дали его мальчишки. Впервые встретив его, они поняли, что он во многом суров, но его взгляд смягчался, когда они показывали ему недостающий пальчик на ноге или извивающийся, словно умирающая рыба, шрам на задней стороне бедра – след от побоев раскаленными железными цепями. Они решили, что только Псих может быть полудобрым в этом прогнившем мире. Но сперва они звали его Братом, а самые маленькие – Дядей, и лишь намного позже они стали говорить: «Псих, глянь-ка, сколько бутылок я нашел сегодня», – и он не возражал, потому что знал, отчего они остановились на этом прозвище.
Через несколько месяцев после того как он стал Психом, весенней ночью, осушив несколько стаканов бханга[1], он купил мальчикам кремовых фирни[2] в глиняных чашках и прошептал им имя, которое дали ему родители. Он рассказал, что сбежал из дома в семь лет, после того как мать отшлепала его за то, что он прогулял школу и болтался с Уличными Ромео, что разражаются пронзительной песней всякий раз, когда мимо них проходит девушка.
Первые недели в городе Псих жил на вокзале, охотился за объедками из пакетов с едой, что пассажиры выбрасывали из окон поездов, и прятался от полиции в нишах под пешеходными мостами. Каждый шаг снизу ощущался как удар по голове. Какое-то время он верил, что родители приедут на поезде, чтобы его найти, отругать за то, что напугал их, и забрать его домой. По ночам он то и дело просыпался, потому что слышал, как мать зовет его по имени, но то был лишь ветер, грохот поезда или безжизненный женский голос, объявляющий, что Северо-Восточный экспресс из Шиллонга задерживается на четыре часа. Псих думал вернуться домой, но не сделал этого, потому что ему было стыдно и потому, что город превращал мальчиков в мужчин, а ему до смерти надоело быть ребенком: он хотел стать мужчиной.
Теперь, когда Псих стал призраком, он мечтает, чтобы ему снова было семь лет. Мы думаем, именно поэтому он хочет слышать свое прежнее имя. Оно напоминает ему о родителях и о мальчике, которым он был, прежде чем запрыгнул в тот поезд.
Настоящее имя Психа – секрет. Его мальчишки никому не расскажут. Мы думаем, это имя настолько хорошее, что если бы Псих оказался в Мумбаи, а не здесь, то какая-нибудь кинозвезда стащила бы его себе.
В этом городе много таких, как Псих. Мы не должны их бояться. Наши боги слишком заняты, чтобы слушать наши молитвы, но духи – духам нечего делать, кроме как ждать и бродить, бродить и ждать, и они всегда нас слушают, ведь им скучно, а это – один из способов скоротать время.
Но помните, они не работают бесплатно. Они помогают нам, только если мы предлагаем им что-то взамен. Для Психа это голос, называющий его настоящее имя, а для других – стаканчик выпивки или гирлянда жасмина, или кебаб от Устада. Никакой разницы с тем, что просят у людей боги, вот только в отличие от богов большинство духов не хотят, чтобы мы постились или жгли лампы и свечи, или раз за разом писали их имена в тетрадке.
Самое сложное – найти правильного призрака. Псих – только для мальчишек, потому что девчонок он никогда не брал, но есть духи-женщины и духи-старухи, и даже духи-девочки, которые могут защитить девушек. Может быть, нам духи нужны больше всех, потому что мы – мальчишки с железной дороги, и у нас нет ни родителей, ни дома. Если мы все еще здесь, то только потому, что знаем, как вызывать духов.
Некоторые думают, что мы верим в сверхъестественное, потому что нюхаем клей, вдыхаем героин и пьем такую крепкую деси дару[3], что от нее вырастают усы даже у младенцев. Но этих людей, людей из мира мраморных полов и электрических обогревателей, их не было рядом с мальчишками Психа той зимней ночью, когда полиция прогнала их с вокзала.
Той ночью в городе дул сильный ледяной ветер и превращал пути в камень. У мальчиков не было даже двадцати рупий на всех, чтобы арендовать одеяло на восемь часов, и одеяльщик-валла выругался на них, когда они спросили, не мог бы он дать им одеяло в кредит. Они сидели, дрожа, под потухшим уличным фонарем с разбитым стеклянным плафоном на улице у ночлежки, в которой не осталось свободных мест. В их руки и ноги иглами вонзалась боль. И когда они больше не могли ее выносить, они позвали Психа.
«Извини, что беспокоим тебя снова, – сказали они. – Но мы боимся, что можем умереть».
Разбитый уличный фонарь затрещал и засветился. Мальчики посмотрели вверх. Лучи света, сладкого и желтого, с теплотой полились на них.
«Стойте-ка, – сказал им призрак Психа, – давайте посмотрим, что еще я могу сделать».
Я смотрю на наш дом,
перевернутый вверх тормашками, и насчитываю пять дырок в жестяной крыше. Их, может быть, и больше, но я их не вижу, потому что черный смог снаружи стер с неба все звезды. Я представляю, как по крыше спускается джинн: его глаз вращается, словно ключ в замке, наблюдая за нами в дырку, – он ждет, пока Ма, Папа и Руну-Диди не уснут, чтобы он мог выпить мою душу. Джиннов не существует, но если бы они существовали, то воровали бы только детей, потому что у нас самые вкусные души.
Мои локти на кровати дрожат, поэтому я прислоняюсь ногами к стене. Руну-Диди перестает считать секунды, которые я простоял вверх ногами, и говорит: «Аррей, Джай, я тут, прямо перед тобой, а ты все равно жульничаешь-жульничаешь. Тебе не стыдно, кья?» Голос у нее высокий и взволнованный, потому что она слишком радуется, что я не могу простоять на голове так же долго, как она.
У нас с Диди соревнование по стойке на голове, но оно нечестное. Занятия йогой у нас в школе начинаются с шестого класса, а Руну-Диди в седьмом, так что она может учиться у настоящего учителя. А я в четвертом, поэтому приходится рассчитывать только на Девананда Бабу из телевизора, который говорит, что если дети будут стоять на голове, то они:
♦ никогда в жизни не будут носить очки;
♦ никогда не будут иметь седины в волосах или черных дырок в зубах;
♦ никогда не будут иметь разжижения в мозгах или медлительности в руках и ногах;
♦ всегда будут № 1 в школе + колледже + офисе + дома.
Мне нравится стоять на голове намного больше, чем делать упражнения-пыхтелки, скрестив ноги в позе лотоса, как Девананд Баба. Но если я прямо сейчас продолжу стоять вверх ногами, то сломаю шею, поэтому я плюхаюсь на кровать, которая пахнет порошком кориандра и сырым луком и Ма, кирпичами и цементом и Папой.
– Джай Баба оказался мошенником, – кричит Руну-Диди, как дикторы с лицами, красными от злых новостей, что они должны читать по телевизору каждый вечер. – Неужели наша нация будет просто стоять и смотреть?
– Уфф, Руну, у меня голова болит от твоих криков, – говорит Ма из кухонного угла нашего дома. Она превращает лепешку роти в идеальный круг той же скалкой, которой бьет меня по заднице, если я кричу плохие слова, когда Диди разговаривает с Наной и Нани по мобильному телефону Ма.
– Я победила, победила, победила, – поет Диди. Она громче, чем телевизор соседей и чем плачущий ребенок соседей соседей, и чем другие соседи, которые каждый день ругаются из-за того, кто украл воду из чьей бочки.
Я затыкаю уши пальцами. Губы Руну-Диди двигаются, но она как рыба, что разговаривает пузырьками внутри аквариума. Я не слышу ни слова из ее чик-чириканья. Если бы я жил в большом доме, я бы побежал с заткнутыми ушами наверх, перепрыгивая через две ступеньки, и забился бы в шкаф. Но мы живем в басти, поэтому в нашем доме всего одна комната. Папа любит говорить, что в этой комнате есть все, что нужно для счастья. Он имеет в виду меня и Диди, и Ма, а не телевизор – лучшую вещь, что у нас есть.
Со своего места на кровати я хорошо вижу телевизор. Он смотрит на меня с полки, еще на ней стоят стальные тарелки и алюминиевые банки. Круглые буквы на экране телевизора гласят: «Дилли: пропавший кот Комиссара полиции обнаружен». Иногда индийские новости написаны такими буквами, словно они сейчас брызнут кровью, особенно когда задаются сложными вопросами, на которые у нас нет ответа, например:
Живет ли в Верховном суде призрак?
или
Голубей-террористов тренирует Пакистан?
или
Бык – лучший клиент в магазине Сари Варанаси?
или
Разгулла[4] разрушила брак актрисы Вины?
Ма любит такие истории, потому что они с Папой могут спорить о них часами.
Мои любимые шоу – это те, которые, как Ма говорит, я еще не дорос смотреть, например, «Полицейский патруль» и «Преступление в прямом эфире». Иногда Ма выключает телевизор прямо посреди убийства, потому что говорит, что ее от этого тошнит. Но иногда и не выключает, потому что ей нравится угадывать злодеев и говорить мне, что полицейские – сычиные дети – не могут обнаружить преступников так же быстро, как она.
Руну-Диди перестала болтать и теперь растягивает руки за спиной. Она думает, что она Усэйн Болт, но она всего лишь бегает эстафеты за школьную команду. Эстафеты – это не настоящий спорт. Вот почему Ма и Папа позволили ей заниматься, хотя некоторые из чач и чачи[5] у нас в басти говорят, что бег приносит девушкам бесчестье. Диди говорит, что люди из басти сразу же заткнутся, как только ее команда выиграет районный турнир, а еще чемпионаты штата.
Пальцы в ушах немеют, поэтому я вытаскиваю их и вытираю о домашние штаны, которые уже забрызганы чернилами и грязью, и жиром. Вся моя одежда грязная, как эти штаны, и форма тоже.
Я просил Ма позволить мне надеть новую форму, которую нам бесплатно дали в школе, но она хранит ее на полке, до которой мне не достать. Она говорит, что только богатые люди выбрасывают одежду, пока она еще цела. Если я покажу ей, что мои коричневые штаны заканчиваются уже сильно выше лодыжек, Ма скажет, что даже кинозвезды теперь носят одежду не по размеру, потому что это сейчас модно.
Она все это выдумывает, чтобы обмануть меня, как раньше, когда я был младше. Она не знает, что каждое утро Пари и Фаиз смеются, когда видят меня и говорят, что я похож на ароматическую палочку, но с ароматом пердежа.
– Ма, слушай, моя форма, – говорю я и останавливаюсь, потому что снаружи раздается такой громкий крик, что мне кажется, он снесет стены нашего дома. Руну-Диди охает, а рука Ма по ошибке хватается за горячую сковородку, и ее лицо сморщивается, как шкурка горькой тыквы.
Я думаю, это Папа пытается нас напугать. Он вечно распевает старые индийские песни хриплым голосом, который катится по улочкам нашей басти, как пустой газовый баллон, будит бездомных собак и детей, заставляя их подвывать. Но тут новый крик бьет в наши стены, Ма выключает плитку, и мы выбегаем из дома.
Холод скользит вверх по босым ногам. По всей улице мечутся тени и голоса. Смог расчесывает мои волосы пальцами, одновременно дымными и влажными. Люди кричат: «Что происходит? Что-то случилось? Кто кричит? Кто-то кричал?» Козы, наряженные хозяевами в старые свитера и рубашки, чтобы они не простудились от холода, прячутся под чарпаями[6] по обе стороны улицы. Огни в хайфай-зданиях возле нашей басти мигают, как светлячки, а затем исчезают. Отключилось электричество.
Я не знаю, где Ма и Руну-Диди. Женщины, звеня стеклянными браслетами, выставляют перед собой фонарики мобильных телефонов и керосиновые лампы, но их свет в смоге слабый-слабый.
Все вокруг выше меня, и их взволнованные бедра и локти попадают мне в лицо, пока они расспрашивают друг друга про крики. Сейчас уже понятно, что крики идут из дома Пьяницы Лалу.
– Там творится что-то плохое, – говорит чача, который живет на нашей улице. – Жена Лалу бегала по басти, спрашивала, не видел ли кто ее сына. Ходила даже на свалку, звала его.
– Да этот Лалу, на, все время бьет жену, бьет детей, – говорит какая-то женщина. – Еще увидите, однажды и его жена исчезнет. На что тогда этот никчемный малый пойдет ради денег? Откуда будет добывать свою выпивку, хаан?
Интересно, кто из сыновей Пьяницы Лалу пропал. Самый старший, Бахадур-заика, учится в моем классе.
Земля дрожит, когда где-то под ней недалеко от нас грохочет метро. Оно выползет из туннеля, приблизится к недостроенным хайфай-домам и заберется по мосту на наземную станцию, прежде чем вернуться обратно в город, потому что именно там заканчивается Фиолетовая ветка. Станция метро новая, и Папа был одним из тех, кто строил ее блестящие стены. Сейчас он строит башню, такую высокую, что у нее на крыше нужно будет поставить мигающие красные огоньки, чтобы они предупреждали пилотов не летать слишком низко.
Крики прекратились. Мне холодно, зубы стучат. Затем из тьмы вырывается рука Руну-Диди, хватает и тащит меня вперед. Она бежит быстро, как будто в эстафете, а я – палочка, которую нужно передать товарищу по команде.
– Стоп, – говорю я и торможу. – Куда мы бежим?
– Ты чего, не слышал, что люди говорили про Бахадура?
– Он потерялся?
– Ты что, не хочешь разузнать побольше?
Руну-Диди не видит мое лицо в смоге, но я киваю. Мы следуем за фонарем, который качается у кого-то в руках, но он недостаточно яркий, чтобы осветить лужи воды, оставшиеся после мытья посуды, и мы постоянно в них наступаем. Вода грязная, и мне надо бы вернуться, но я тоже хочу узнать, что случилось с Бахадуром. Учителя никогда не спрашивают его на уроках из-за заикания. Когда я был во втором классе, я тоже попробовал начать делать ка-ка-ка, но мне за это настучали по пальцам деревянной линейкой. Линейкой намного больнее, чем розгами.
Я почти спотыкаюсь о буйвола Фатимы-бен, который лежит посреди переулка, словно гигантское черное пятно, неотличимое от смога. Ма говорит, что буйвол подобен мудрецу, который медитировал сотни и сотни лет под солнцем, дождем и снегом. Мы с Фаизом как-то раз притворились львами и зарычали на Буйвола-Бабу, и бросались в него галькой, но он даже не моргнул своим большим буйволиным глазом и не помахал на нас изогнутыми назад рогами.
Все фонари и огоньки телефонов остановились возле дома Бахадура. Нам ничего не видно из-за толпы. Я говорю Руну-Диди подождать и проталкиваюсь между ногами, одетыми в штаны, сари и дхоти, и руками, что пахнут керосином, потом, едой и металлом. Мама Бахадура плачет на пороге, сложившись пополам, как лист бумаги: моя Ма – с одной стороны от нее, а наша соседка Шанти-Чачи – с другой. На корточках рядом с ними сидит Пьяница Лалу, его голова дрожит, а красные в прожилках глаза косятся на наши лица.
Я не знаю, как Ма попала сюда раньше меня. Шанти-Чачи гладит маму Бахадура по волосам, по спине и говорит что-то вроде: «Он всего лишь ребенок, он должен быть где-то поблизости. Не мог уйти далеко». Мама Бахадура не перестает рыдать, но промежутки между ее всхлипами становятся дольше. Это потому, что в руках Шанти-Чачи есть магия: Ма говорит, что чачи – лучшая акушерка в мире. Если ребенок рождается синий и тихий, чачи может вернуть румянец ему на щеки и вложить крик в его губы, просто пощекотав его пятки. Ма видит меня в толпе и спрашивает:
– Джай, Бахадур сегодня был в школе?
– Нет, – говорю я. Мама Бахадура выглядит такой грустной, что мне очень хочется вспомнить, когда я в последний раз его видел. Бахадур особо не разговаривает, поэтому никто не замечает, есть он в классе или нет.
И тут из моря ног высовывается Пари и говорит:
– Он не ходил в школу. Мы видели его в прошлый четверг.
Сегодня вторник, а значит, Бахадура нет уже пять дней. Пари и Фаиз бормочут «в сторону – в сторону – в сторону» словно официанты с подносами горячего чая, и люди расступаются перед ними. Затем они встают рядом со мной. Они оба все еще в нашей школьной форме. Ма велела мне переодеваться в домашнюю одежду, как только я вхожу в дом, чтобы моя форма не испачкалась еще сильнее. Она слишком строгая.
– Где ты был? – спрашивает Пари. – Мы тебя повсюду искали.
– Только тут, – говорю я.
Пари заколола челку так высоко, что стала похожа на половину луковичного купола мечети. Прежде чем мне удается спросить, почему до сегодняшнего дня никто не понял, что Бахадур пропал, Пари и Фаиз мне объясняют, ведь они мои друзья, и могут читать мысли у меня в голове.
– Его мамы тут не было неделю или около того, – шепчет Фаиз.
– А его папа…
– …главный в мире алкаш № 1. Даже если бандикут[7] отгрызет ему уши, он этого не поймет, потому что все время пьяный, – громко говорит Пари, словно хочет, чтобы Пьяница Лалу услышал ее. – Чачи-соседки должны были заметить, что Бахадур пропал, как думаешь?
Пари всегда спешит обвинять других, потому что считает, что она сама идеальна.
– Чачи приглядывали за братом и сестрой Бахадура, – объясняет мне Фаиз. – Они думали, что Бахадур гостит у друга.
Я подталкиваю Пари и смотрю в сторону Омвира, который прячется за взрослыми и крутит на пальце колечко, светящееся белым в темноте. Омвир – единственный друг Бахадура, хотя учится в пятом классе и нечасто ходит в школу, потому что ему приходится помогать папе, гладильщику-валле, что выглаживает мятую одежду хайфай-людей.
– Послушай, Омвир, ты не знаешь, где Бахадур? – спрашивает Пари.
Омвир прячется в свой бордовый свитер, но уши мамы Бахадура уже услышали вопрос.
– Он не знает, – говорит она. – Я у него первого спросила.
Пари направляет свою луковицу на Пьяницу Лалу и говорит:
– Должно быть, это все его вина.
Мы каждый день видим, как Пьяница Лалу болтается по басти, изо рта у него капают слюни, он ничего не делает, только воздух тратит. Он из тех попрошаек, что пристают даже к нам с Пари, нет ли у нас лишней монетки, чтобы он мог купить стакан кадак-чая[8]. Это мама Бахадура приносит деньги, работая няней и служанкой для семьи из одного хайфай-здания рядом с нашей басти. Ма и многие другие чачи из басти тоже работают на хайфай-людей, которые там живут.
Я поворачиваюсь, чтобы взглянуть на эти здания с причудливыми названиями: «Палм Спрингс», «Мэйфэр», «Золотые Ворота» и «Афина». Они совсем рядом с нашей басти, но кажется, что далеко, потому что между нами свалка, а еще – высокая кирпичная стена с колючей проволокой поверх, но Ма говорит, что она недостаточно высокая, чтобы сдержать вонь. За мной много взрослых, но сквозь просветы между их шапками-балаклавами я вижу, что в хайфай-домах уже дали свет. Должно быть, у них есть дизельные генераторы. У нас в басти по-прежнему темно.
– Ну зачем я ушла? – спрашивает мама Бахадура у Шанти-Чачи. – Мне нельзя было оставлять их одних.
– Ее хайфай-семья поехала в Нимрану, и они взяли маму Бахадура с собой. Чтобы присматривать за их детьми, – говорит Пари.
– Что такое Нимрана? – спрашиваю я.
– Это дворец-крепость в Раджастане, – говорит Пари. – На вершине холма.
– А может, Бахадур у своих наны и нани, – говорит кто-то маме Бахадура. – Или с кем-то из своих чач и чачи.
– Я звонила им, – говорит мама Бахадура. – Он не у них.
Пьяница Лалу пытается встать, опираясь на землю рукой.
Кто-то помогает ему подняться, и, качаясь из стороны в сторону, он хромает к нам.
– Где Бахадур? – спрашивает он. – Вы же играете с ним, нет?
Мы отступаем назад, натыкаясь на людей. Омвир и его бордовый свитер исчезают в толпе. Пьяница Лалу опускается перед нами на колени, почти опрокидывается, но ему удается установить свои стариковские глаза вровень с моими. Затем он хватает меня за плечи и трясет туда-сюда, как будто я бутылка газировки и он хочет, чтобы я зашипел. Я пытаюсь вырваться из его рук. Вместо того чтобы прийти мне на выручку, Пари и Фаиз убегают.
– Ты знаешь, где мой сын, да? – спрашивает Пьяница Лалу. Я думаю, что мог бы помочь ему найти Бахадура, потому что я много чего знаю про детективные расследования, но его вонючее дыхание устремляется мне в лицо, и все, чего я хочу – это убежать.
– Оставь этого мальчика в покое, – кричит кто-то.
Мне кажется, что Пьяница Лалу не послушается, но он ерошит мне волосы и бормочет: «Хорошо, хорошо». Потом он отпускает меня.
Папа обычно уходит на работу рано, пока я еще сплю, но на следующее утро я просыпаюсь и чувствую запах скипидара от его рубашки и его шершавые руки, трущие мои щеки.
– Будь осторожен. Идешь в школу и обратно вместе с Руну, слышишь меня? – говорит он.
Я морщу нос. Папа относится ко мне как к маленькому ребенку, хотя мне уже девять лет.
– После занятий – сразу домой, – говорит он. – Не шатайся по Призрачному Базару один. – Он целует меня в лоб и снова говорит: – Ты будешь осторожен?
Интересно, что, по его мнению, случилось с Бахадуром? Он думает, Бахадура украл джинн? Но Папа не верит в джиннов.
Я выхожу на улицу, чтобы сказать ему «окей-тата-пока», потом чищу зубы. Мужчины папиного возраста намыливают лица, кашляют и плюются, словно надеются, что все, что скопилось у них в горле, выпрыгнет на землю. Я хочу проверить, как далеко смогу доплюнуть пеной, поэтому делаю ртом бум-бум взрывы.
– Прекрати сейчас же, Джай, – говорит Ма. Они с Руну-Диди несут горшки и канистры с водой, которую набрали из единственной в нашей басти колонки, что работает, но только с шести до восьми утра и иногда – часок по вечерам. Диди снимает крышки с двух бочек для воды, стоящих по обе стороны от нашей двери, и Ма опрокидывает в них кастрюли и канистры, в спешке обливаясь.
Я заканчиваю чистить зубы.
– Почему ты все еще здесь? – рявкает Ма. – Хочешь опять опоздать в школу?
На самом деле это она опаздывает на работу, поэтому убегает, на ходу заправляя выбившиеся из пучка волосы. Хайфай-мадам, у которой убирается Ма, – злая леди, и она уже поставила два минуса рядом с именем Ма за опоздания. Однажды ночью, когда я делал вид, что сплю, Ма сказала Папе, что мадам угрожала порезать ее на крошечные-крошечные кусочки и бросить их с балкона коршунам, что кружат над высоткой.
Мы с Руну-Диди идем с ведрами, в которые бросили мыло, полотенца и кружки, в туалетный комплекс возле свалки.
Черный смог все еще клубится над нами. Он колет мне глаза, и от него у меня на щеках слезы. Диди дразнит меня, говорит, что я, должно быть, скучаю по Бахадуру.
– Из-за дружка плачешь? – спрашивает она, и я бы велел ей заткнуться, но у туалетов длинные очереди, хоть вход в них и стоит две рупии, и мне надо сосредоточиться на переносе веса с одной ноги на другую, чтобы задница не лопнула.
Смотритель, который сидит за столом у главного входа в туалеты – там, где он делится на дамский и мужской, принимает деньги и пропускает людей целую вечность. Он должен работать с пяти утра до одиннадцати ночи, но он запирает комплекс когда хочет и уходит. Тогда мы должны делать свои дела на свалке. Это бесплатно, но там любой может увидеть твою задницу – и твои одноклассники, и свиньи, и собаки, и такие же старые, как Нана и Нани, коровы, которые слопают твою одежду, если не повезет.
Руну-Диди стоит в очереди в дамский туалет, а я – в мужской. Диди говорит, что мужчины вечно пытаются заглянуть к ним. Видимо, чтобы проверить, чище ли у них туалеты и ванные.
Люди в моей очереди болтают про Бахадура.
– Этот мальчик, наверное, где-нибудь прячется, – говорит один чача, – и ждет, когда мать вышвырнет его отца вон.
Все согласно бормочут. Они решают, что Бахадур вернется домой, когда устанет от драк с бездомными собаками за черствые роти из мусорных куч.
Мужчины обсуждают, как громко кричала мама Бахадура прошлой ночью – так громко, что могла бы напугать духов, что живут на Призрачном Базаре, и шутят о том, сколько им самим понадобилось бы времени, чтобы понять, что один из их собственных детей пропал. Часы – дни – недели – месяцы?
Один чача говорит, что даже если заметит, то не скажет об этом.
– У меня восемь детей. Какая разница – меньше на одного или больше? – говорит он, и все смеются. Смог им тоже щиплет глаза, поэтому они одновременно плачут.
Я добираюсь до конца очереди, отдаю деньги смотрителю и быстро делаю свои дела. Интересно, не сбежал ли Бахадур туда, где туалеты чистые, а ванные пахнут жасмином. Если бы у меня была такая ванная, я бы в ней мылся из ведерка каждый день.
Вернувшись домой, Диди дает мне чай и галеты на завтрак. Галета твердая и безвкусная, но я послушно жую. Мне не удастся поесть ничего другого до полудня. Затем я переодеваюсь в форму, и мы идем в школу.
Хотя Папа мне и запретил, я планирую улизнуть от Руну-Диди, как только смогу. Но вокруг Буйвола-Бабы полно людей, некоторые стоят на пластиковых стульях и чарпаях и вытягивают шеи, чтобы хорошенько все разглядеть. Они преграждают нам путь. Я слышу голос, который узнаю по прошлой ночи.
– Найди моего сына, баба, найди моего сына для меня. Я не отойду отсюда, пока мой Бахадур не найдется, – кричит Пьяница Лалу.
– Ахча, что, теперь ты жить не можешь без сына? – восклицает какая-то женщина. – Что же ты об этом не думал, когда колотил его?
– Только полиция сможет помочь нам, – говорит другая женщина. – Его нет дома уже шесть ночей. Это слишком долго. – Я думаю, это мама Бахадура.
– Мы так опоздаем, – говорит Руну-Диди. Она держит школьную сумку перед собой и использует ее, чтобы расталкивать людей и отодвигать их, и я делаю то же самое. К тому времени, когда мы выбираемся из толпы, волосы у нас грязные, а форма мятая.
Руну-Диди поправляет свой камиз[9]. Прежде чем она успевает меня остановить, я прыгаю через канаву и бегу мимо коров и кур, и собак, и коз, одетых в свитера лучшие, чем у меня, мимо женщины в наушниках, подметающей улицу и слушающей громкую музыку с телефона, и седой бабушки, лущащей фасоль. Моя школьная сумка задевает старика, сидящего на пластиковом стуле: одна ножка стула короче других, и под нее подложены кирпичи. Стул опрокидывается, и старик падает задницей в грязь. Я потираю левое колено, которому немножко больно, и затем снова кидаюсь бежать, и проклятия старика несутся мне вслед вплоть до следующего переулка, который пахнет лепешками чхоле бхатур.
Пари и Фаиз ждут меня возле магазина, который продает «Тау джи», «Чулбуле»[10] и другие соленые закуски, обваленные в масале. Сегодня ярко-красные, зеленые и синие обертки выглядят уныло из-за смога, и муж и жена, которые заправляют магазином, сидят за стойкой в масках. Смог меня не беспокоит так, как их, наверное, потому, что я сильный.
– Этот Фаиз, на, – говорит Пари, как только я присоединюсь к ним, – идиот.
Ее челка-минарет выглядит так, словно рухнет в любую секунду.
– Это ты идиотка, – говорит Фаиз.
– Вы видели? – спрашиваю я. – Пьяница Лалу молится Буйволу-Бабе, как будто Баба – правда бог.
– Мама Бахадура говорила, что пойдет в полицию, – говорит Пари.
– Она экдум – чокнутая, – говорит Фаиз.
– Полиция выгонит нас, если мы пожалуемся, – говорю я. – Они всегда угрожают прислать бульдозеры и снести нашу басти.
– Они ничего не смогут сделать. У нас есть продовольственные карточки, – говорит Пари. – А еще мы платим им хафту. Если они нас вышвырнут, то у кого им вымогать деньги?
– Много у кого, – говорю я. – В Индии больше людей, чем в любой другой стране мира. Кроме Китая. – У меня в зубах застряла галета, и я выковыриваю ее языком.
– Фаиз считает, что Бахадур мертв, – говорит Пари.
– Бахадур наш ровесник. Мы не настолько старые, чтобы умирать.
– Я и не говорил, что он умер, – протестует Фаиз, а затем кашляет. Он сплевывает слюну и вытирает рот руками.
– Может, у Бахадура астма разыгралась из-за смога, он упал в канаву и не смог выбраться, – говорит Пари. – Помните, как он задыхался, когда мы были во втором классе?
– Ты расплакалась, – говорю я.
– Я никогда не плачу, – говорит Пари. – Ма плачет, а я – нет.
– Если бы Бахадур упал в канаву, кто-нибудь бы ему помог. Гляньте, сколько тут народу, – говорит Фаиз.
Я смотрю на людей, что идут мимо нас, и пытаюсь понять, похожи ли они на тех, кто поможет. Но их лица наполовину скрыты платками, чтобы помешать смогу проникнуть в уши, нос и рот. Несколько мужчин и женщин лают что-то в мобильные телефоны сквозь самодельные маски. На обочине – продавец чхоле бхатур, и, хотя лицо у него не закрыто шарфом, оно спряталось в облаке дыма из чана с шипящим горячим маслом, в котором он жарит лепешки бхатур. Его клиенты – рабочие по пути на фабрики и стройки, дворники и плотники, механики и охранники в торговых центрах, которые возвращаются домой после ночной смены. Люди черпают чхоле[11] стальными ложками и жуют, платки спущены на подбородки. Их взгляды направлены в тарелки с горячей едой. Даже если бы на них прямо сейчас шел демон, они не заметили бы.
– Слушайте, – говорю я, – почему мы бы нам не поискать Бахадура? Он либо лежит где-нибудь в больнице…
– Его мама ходила по всем больницам рядом с басти, – говорит Пари. – Женщины в туалетном комплексе говорили об этом.
– А если его украли, то мы можем еще и раскрыть дело о похищении, – говорю я. – В «Полицейском Патруле» рассказывают, как найти пропавшего без вести. Сперва вам надо…
– Может, его джинн украл, – говорит Фаиз, касаясь золотистого тавиза на потертой черной нитке вокруг шеи. Этот амулет защищает его от сглаза и злых джиннов.
– Даже дети не верят в джиннов, – говорит Пари.
Фаиз трет лоб и бороздку белого шрама на левом виске, что проходит совсем рядом с глазом и углубляется, как будто что-то тянет его кожу изнутри.
– Пойдемте, – говорю я. Смотреть, как эти двое спорят – самая скучная штука на земле. – Мы опоздаем на собрание.
Фаиз шагает быстро, даже когда мы добираемся до переулков Призрачного Базара, на котором слишком много и людей, и собак, и велорикшей, и авторикшей, и электрорикшей. Пытаясь поспеть за ним, я не могу делать то, что обычно делаю на базаре, например, посчитать окровавленные козьи копыта, которые продаются в магазине Чачи Афсала или стянуть кусочек дыни у продавца фруктового чаата[12].
Никто мне не поверит, но я на сто процентов пакка, потому что на базаре мой нос становится длиннее от его запахов: чая и сырого мяса, и булочек, и кебабов, и роти. Уши мои тоже растут – из-за звуков ложек, скребущих кастрюли, стука ножей мясников о разделочные доски, гудков рикшей и скутеров, и стрельбы, и ругани, гремящей из залов видеоигр, что прячутся за грязными шторами. Но сегодня мой нос и уши остаются обычного размера, потому что Бахадур исчез, мои друзья дуются, а все вокруг расплывается из-за смога.
Прямо перед нами на землю сыплются искры из гнезда электрических проводов, что висят над базаром.
– Это предупреждение, – говорит Фаиз. – Аллах велит нам быть осторожными.
Пари смотрит на меня, ее брови лезут на лоб.
На всякий случай всю дорогу до школы я заглядываю в канавы, если вдруг Бахадур попал в одну из них. Все, что я вижу – это пустые обертки и дырявые пластиковые пакеты, и яичную скорлупу, и мертвых крыс, и мертвых кошек, и куриц, и бараньи кости, высосанные добела голодными ртами. Никаких следов джиннов, никаких следов Бахадура.
Наша школа закрыта
шестифутовой стеной с колючей проволокой и железными воротами с фиолетовой дверью. Снаружи она выглядит как тюрьмы, которые я видел в кино. У нас даже есть школьный сторож, хотя его никогда не бывает у ворот, потому что он должен выполнять поручения директора: забрать блузку госпожи директор у ее портного на Призрачном Базаре или наполнить гулаб-джамунами[13] ланчбоксы их сына № 1 и сына № 2.
Сегодня сторожа тоже нет. Вместо него есть очередь у двери, слишком узкой, чтобы мы все могли пройти через нее одновременно. Директор не открывает главные ворота полностью, потому что думает, что в школу вместе с нами просочатся какие-нибудь чужаки. Он любит говорить нам, что каждый божий день в Индии пропадают
180 детей. Он говорит: «Чужак – это враг», – он украл эту строчку из песни в каком-то индийском фильме. Но если бы он и правда переживал из-за чужаков, то не стал бы постоянно отсылать сторожа из школы.
Наверное, директор нас ненавидит. Иначе зачем заставлять нас ждать в смоге у ворот зимними утрами, такими, как это, когда холод делает дыхание белым. Даже голуби, сидящие рядком, распушив перья, на обвисшем электрическом проводе над нами, еще не открыли глаза.
– Ну почему эти дети не могут стоять в очереди как следует? – говорит Пари, сердито глядя на несколько коротких очередей, которые ветвятся от основной. – Мы будем стоять здесь вечно.
Она говорит это каждый день.
Самая короткая очередь ползет вперед, словно чтобы доказать, что она не права. Я втискиваюсь в нее за мальчиком из класса Руну-Диди. Из заднего кармана его брюк торчит расческа цвета чая с молоком. Он достает расческу, причесывается, вытаскивает прядки, застрявшие в ее мелких зубьях, и заталкивает ее обратно в карман. Лицо у него все в пятнах, как подгнивший банан.
Пари и Фаиз встают в очередь передо мной.
– Да как вы смеете? – говорю я им, но они ухмыляются, потому что знают, что я шучу, и я ухмыляюсь в ответ. Я оглядываюсь вокруг, чтобы проверить, не объявился ли Бахадур. Может быть, он не знает, что его мама вот-вот вызовет полицию в басти. Но его тут нет, и я не хочу говорить о нем, потому что это сотрет улыбки с лиц Пари и Фаиза. Они уже забыли, что ссорились несколько минут назад.
Я вижу, как до школьных ворот добирается Четвертак. Он девятиклассник, но проваливал экзамены девятого класса уже два или три раза. Его отец – прадхан нашей басти и член «Хинду Самадж» – крикливой партии, которая ненавидит мусульман. Мы теперь почти не видим прадхана, потому что он купил хайфай-квартиру и встречается только со всякими хайфай-людьми. Я не знаю, правда ли это, или Ма просто так говорит, когда колонка в басти пересыхает на несколько дней и приходится скидываться на водяную цистерну.
Четвертак стоит у ворот, направляя движение очереди, словно полицейский на оживленной дороге. Он вытягивает длинную правую руку в воздух ладонью вперед, чтобы наша очередь остановилась. Я сразу подчиняюсь, остальные тоже.
У нас в школе Четвертак – главарь банды, которая избивает учителей и сдает в аренду подставных родителей ученикам, если у них проблемы и директор школы хочет встретиться с их мамой или папой. Четвертак не работает бесплатно, и я не знаю, откуда у этих учеников деньги, чтобы купить папу или маму. Фаиз работает на многих странных работах и отдает большую часть денег своей амми, а немножко откладывает, чтобы покупать любимое мыло «Фиолетовый лотос» и «Крем люкс», и шампунь «Сансилк сияние темных волос». Фаиз говорит, что мама и папа стоят дороже дюжины мыл и шампуней.
Какие-то парни задерживают очередь, чтобы поболтать с Четвертаком. Они вечно рассказывают ему, как наорали на учителя или полицейского, чтобы доказать, что тоже могут быть грубыми и крутыми.
Но Четвертак такой один, потому что:
♦ во-первых, он каждый день заходит в одну тхэку на Призрачном Базаре, чтобы выпить четверть пега дару – именно так он и получил прозвище Четвертак. У него всегда красные опухшие глаза, и он пахнет дару;
♦ во-вторых, он никогда не носит школьную форму;
♦ в-третьих, он одевается во все черное: черная рубашка, черные брюки и черная шаль на плечах, если ему холодно;
♦ в-четвертых, каждое утро, сразу после общего собрания, директор выгоняет Четвертака за то, что он не в форме. Учителя вечно угрожают вычеркнуть его из списков, потому что у него нулевая посещаемость, но до сих пор этого не сделали.
Вместо того чтобы ходить на занятия, Четвертак без дела слоняется по Призрачному Базару, пока не приходит время обеденного перерыва. Тогда он прорывается обратно в школу и стоит под деревом ним на школьной площадке в окружении учеников, которые хотят присоединиться к его банде или нанять членов его банды, и идиоток-старшеклассниц, которые наводят друг на друга пальцы-пистолеты и называют себя Рани-Револьверы. Большинство девушек обходит Четвертака стороной, потому что он вечно пялится на них.
Четвертак – единственный криминальный тип, которого я видел вблизи. Полицейские его никогда не арестовывали, может быть, оттого, что его папа-прадхан подкупил их. Интересно, не заплатил ли кто Четвертаку, чтобы Бахадур исчез. Но кто бы мог такое сделать?
Наша очередь движется вперед.
Я решаю, что Четвертак – мой главный подозреваемый. Он и джинны, но я не могу допросить джиннов. Их, возможно, не существует.
Когда мы достигаем ворот, я набираюсь смелости и говорю Четвертаку:
– А у нас в басти мальчик пропал. – Я раньше никогда с ним не разговаривал, но сейчас стою прямо, как будто собрался петь гимн на собрании. Я слежу за лицом Четвертака, чтобы заметить, не будет ли он выглядеть застигнутым врасплох, ведь хорошие копы и детективы могут понять, что человек врет, по тому, как он моргает или сжимает губы.
Четвертак улыбается масленой улыбкой старшекласснице, стоящей позади меня. Он приглаживает волосы, растущие над губами и на щеках, слишком редкие, чтобы называться настоящими усами и бородой, а ведь он, должно быть, уже очень старый: ему семнадцать или типа того. Затем он говорит «Чало-чало-чало» и пихает меня к воротам.
– Пропавший мальчик, его зовут Бахадур, – говорю я.
Четвертак щелкает пальцами слишком близко к моим ушам, так что их кончики начинают гореть.
– Чал-хут[14], – рычит он.
Я бегу на школьную площадку.
– Ты чокнутый или как? – спрашивает Фаиз. – Зачем ты говорил с этим парнем?
– Четвертак мог бы отрезать тебе руку и бросить в одну из этих урн, – говорит Пари, указывая на урну-пингвина поблизости.
Желтый клюв пингвина открыт так широко, что в него могут поместиться наши головы. Его белый животик кричит «ВОСПОЛЬЗУЙСЯ МНОЙ». Обертки от ирисок рассыпаны по полу вокруг, потому что ученики бросают мусор в клюв пингвина издалека и промахиваются.
– Я занимался детективной работой, – говорю я Пари.
Следующая война между Индией и Пакистаном, которая может разразиться в любой момент, как говорят в новостях, началась в нашем классе. Из-за того, кто должен выиграть в «Маленьких Чемпионах Са Ре Га Ма Па». Индусская сторона считает, что лучший певец на конкурсе – Анкит, пухлый мальчик, которого все зовут Джалеби, потому что у него сладкий-пресладкий голос. Пакистанская сторона хочет, чтобы выиграла Саира, мусульманская девочка в хиджабе, которая, наверное, на голову ниже меня ростом, – по утрам она ходит в школу, а во второй половине дня поет на улицах Мумбаи за деньги, чтобы прокормить свою семью. Мы с Пари пытаемся всем рассказать, что пропал Бахадур. Половина моих одноклассников это уже знает, потому что живут с нами в одной басти. Но им плевать на Бахадура, у них война в разгаре.
– Люди Саиры убивают коров и индусов, – говорит Гаурав, которому мама каждое утро ставит пальцем красное пятнышко-тилак на лоб, словно отправляя его на сражение.
Фаиз никогда меня не убьет. Он сам даже иногда забывает, что он мусульманин.
– Гаурав – осел, – шепчу я Фаизу.
В нашем классе, кроме Фаиза, девять или десять мусульманских детей. Они тихо сидят за открытыми учебниками. Мы с Фаизом занимаем места за партой в третьем ряду. Пари сидит рядом с нами. Она делит парту с Танви, у которой рюкзак в форме кусочка арбуза, розовый с черными косточками.
– А что, если Четвертак и правда украл Бахадура? – спрашиваю я у Пари. – Может, это его новый бизнес – воровать детей. Может, он теперь и подставных детей сдает в аренду, как подставных родителей.
– Четвертак даже не знает, кто такой Бахадур, с чего бы? – говорит Пари.
– Я видела, как Четвертак высмеивал Бахадура, – объявляет Танви, поглаживая свой рюкзак, как кошку. – Он называет его Ба-Ба-Ба-Бахадур.
В класс заходит Кирпал-сэр. «Тишина, тишина», – кричит он, поворачиваясь к доске и ухватив кусок мела кончиками пальцев. Рука у него дрожит, потому что год назад она сломалась и неправильно срослась. Он пишет на самом верху доски слово КАРТЫ и под ним слово ИНДИЯ, затем начинает рисовать неровную карту Индии.
– Бачао-бачао, – шепчу я Пари. – Я всего лишь бедненький мелок, а этот учитель сейчас задушит меня до смерти.
Все остальные тоже шепчутся, но Пари хмурится и шипит:
– Шшш, шшш.
Я сгибаю правую руку, как будто это голова кобры, и впиваюсь клыками в ее левое плечо.
– Сэр, учитель-сэр, – кричит Пари.
Я вжимаюсь в стул, пока большая часть меня не оказывается под столом. Так Кирпал-сэр не сможет меня увидеть. В классе темнее обычного из-за смога.
Пари встает с поднятой рукой и снова кричит: «Учитель-сэр!»
– Что? – спрашивает он раздраженно, может быть, оттого, что ненавидит рисовать.
– Вам не кажется, что вы сперва должны проверить нашу посещаемость? – спрашивает Пари.
Кто-то из учеников хихикает. Фаиз чихает, не отрываясь от ругательства, которое он вырезает на нашей парте циркулем.
– Сэр, – говорит Пари, – если вы устроите перекличку, мы сможем понять, все ли присутствуют или нет.
Я сажусь ровно. Конечно, Пари бы никогда не наябедничала на меня.
Кирпал-сэр кладет мел на стол, и тот катится к журналу посещаемости, который он никогда не открывает. Его нос дергается, как это обычно бывает, когда он достает деревянную линейку и начинает размахивать ею.
– Сэр, вы помните Бахадура, он сидел вон там, – говорит Пари, обернувшись, чтобы посмотреть на место в последнем ряду позади нее. – Мы вчера обнаружили, что его нет дома уже пять дней.
– И что я должен делать? Пойти искать его на рынке? Его родителям следует подать заявление в полицию.
– Если ученик отсутствует в течение двух-трех дней, разве школа не должна сообщить его семье?
Пари изо всех сил таращит глаза и говорит нараспев, но ее ужимки не могут одурачить Кирпал-сэра.
– О-оу, – бормочет Фаиз, его циркуль все еще вырезает буквы. – У Пари проблемы. Большие проблемы.
Нам понятно, почему Пари задает Кирпал-сэру эти вопросы. Нельзя, чтобы мы замечали, что кто-то пропал, спустя целых пять дней. Но перекличка Кирпал-сэра уже не поможет Бахадуру. Слишком поздно.
Я единственный, кто может что-то с этим сделать. Я смогу найти Бахадура, потому что я видел сотни программ по телевизору и точно знаю, как детективы вроде Бемкеша Бакши ловят плохих людей, что воруют детей, и золото, и жен, и бриллианты.
Склонив голову, Кирпал-сэр ходит вокруг стола, словно стол – это храм, а он молча молится.
– Если я буду каждое утро проверять посещаемость, то кто будет учить? Ты? Ты будешь учить? Ты? – Кирпал-сэр тыкает пальцем в учеников на первом ряду, потом потирает правое запястье.
Пари оттопырила нижнюю губу, как будто вот-вот разревется. Фаиз возвращает циркуль в коробку для черчения, хотя он не закончил вырезать на столе ха-ра-ми[15] со стрелочкой, указывающей на мальчика слева от него.
– Сколько вас здесь? Сорок, пятьдесят? – спрашивает Кирпал-сэр. – Знаешь, сколько понадобится времени, чтобы назвать каждое имя?
Пари садится и тычет в свою челку-купол карандашом. Несколько прядей вываливаются. Она пытается сдержать слезы. Это в новинку для нее. Она не привыкла, чтобы на нее кричали, как на всех нас.
– А ваши родители постоянно забирают вас из школы, чтобы свозить в родные места, ни слова нам не говоря, – продолжает Кирпал-сэр, хотя Пари не пропустила ни единого учебного дня. – Вы все вылетите отсюда, если я буду поступать по правилам.
– Сэр, но мы же вам ничего не сделаем, если вы отметите, что нас нет, – говорю я. – Мы еще маленькие.
– Аррей, паагал, – говорит Фаиз себе под нос, – ты что, совсем не умеешь держать язык за зубами?
Весь класс затихает, не считая шмыганья носом и покашливаний. Я слышу, как учителя в соседних классах задают вопросы, а пронзительные голоса учеников хором отвечают. Брови Кирпал-сэра сходятся в латинскую букву V.
Затем он берется за пыльный мелок и поворачивается к доске.
– Кто-нибудь иной устроил бы тебе хорошую порку, – шепчет Фаиз.
Я так не думаю. Я не сказал ничего плохого.
В прошлом году Четвертак проклял сэра и превратил его в мышь. Это случилось после того, как сэр вычеркнул имена трех старшеклассников из журнала, потому что они не посещали школу четыре месяца. Неделю спустя, когда Кирпал-сэр отправился домой на своем старом мопеде «Баджадж Четак», парни Четвертака последовали за ним и, как только он остановился на красном светофоре, настучали ему по голове железными прутьями. Он был в шлеме, поэтому я не думаю, что они хотели его убить: это было предупреждение, вроде тех, что делает Ма, когда смотрит на меня несколько секунд и ждет, перестану ли я делать то, что ее бесит, прежде чем начать кричать на меня.
В итоге парни Четвертака сломали сэру кость на правой руке. Несколько дней после этого мы не ходили в школу, потому что учителя устроили забастовку, требуя у властей защиты, но потом они вернулись, и поэтому нам тоже пришлось вернуться. Два парня, которых в конце концов полиция арестовала за нападение, были не из нашей школы, поэтому Четвертака не исключили. С того дня Кирпал-сэр перестал делать перекличку, но журнал все время носит под мышкой. Это никакой не секрет. Даже директор знает, что сэр никогда больше никого не выгонит за прогулы.
Мел Кирпал-сэра опять скрипит. Некоторые из мальчиков на первом ряду вывернули шеи, чтобы посмотреть на меня. Я задираю верхнюю губу и показываю им передние зубы. Они хихикают и отворачиваются.
Пари черкает на газете, в которую обернут ее учебник по общественным наукам. У Фаиза приступ чихания. Я отодвигаюсь, чтобы его сопли-пули не попали в меня.
– Тишина, – разворачивается и кричит Кирпал-сэр. Я думаю, что он произносит «тишина» чаще, чем любое другое слово; наверное, он кричит его даже во сне. Он кидает мел в мою сторону, но промахивается, и мел падает между нашими с Пари партами.
– Но сэр, – говорю я, – я ничего не делал.
Он берет журнал в левую руку и шелестит страницами неловкой правой рукой.
– А вот и ты, – говорит он. Он поднимает брови на меня, когда говорит «ты». Затем достает ручку, прикрепленную к карману рубашки, пишет что-то на странице, захлопывает журнал и бросает его на стол. – Ну вот. Доволен?
Я не знаю, почему я должен быть доволен.
– И что ты тут до сих пор делаешь? – говорит Кирпал-сэр. – Давай, Джай, собирай вещи. Я отметил твое отсутствие, как ты и хотел. А это значит, Хузур, что у вас выходной, – он машет руками в сторону двери классной комнаты. – Пошел вон.
– Если тебе просто так дают выходной, – говорит Фаиз, – то бери его.
Я не хочу выходной. Не хочу пропустить обед, потому что тогда я останусь голодным до ужина, а до него больше часов, чем я могу сосчитать на пальцах.
– Вон, сейчас же, – говорит Кирпал-сэр. Весь класс молчит. Все поражены, что сэр показывает свой гнев вместо того, чтобы проглотить его, как обычно.
– Сэр…
– Тут есть другие ученики, которые, в отличие от тебя, хотят учиться. Oни надеются стать врачами и инженерами, и тому подобное. Но, – в уголках рта у него пена слюны, – твоя судьба – стать гундой. А этому ты лучше научишься за воротами школы.
Гнев из живота перепрыгивает мне на грудь, руки и ноги. Я бы хотел, чтобы парни Четвертака тогда убили Кирпал-сэра. Он ужасный учитель.
Я запихиваю вещи в сумку, выхожу в коридор и встаю на цыпочки, чтобы заглянуть за стену школы. Может быть, Четвертак там. Спрошу его, можно ли мне стать членом его банды.
Кирпал-сэр вырывается в коридор, все лицо у него в странном холодном поту – и говорит:
– Эй, бездельник, разве я не велел тебе идти вон? Никакого бесплатного обеда сегодня.
Меня выгоняли из класса и раньше, потому что я забывал сделать домашнее задание или ввязывался в драку, но меня никогда не выгоняли из школы. Я иду к воротам, останавливаюсь пнуть пингвинов и ни разу не оглядываюсь. Я брошу школу навсегда и буду вести жизнь преступника, как Четвертак. Я стану самым страшным доном в целой Индии, и все будут меня бояться. Мое лицо будут показывать по телевизору, а я буду прятаться за большими темными очками, и буду лишь немного похож на себя, но никто не сможет быть уверен, что это я, даже Ма, или Папа, или Руну-Диди.
Я иду по Призрачному Базару и воображаю свою
преступную жизнь гунды. Это будет нелегко. Придется вырасти высоким и тяжелым, потому что только тогда люди будут воспринимать меня всерьез. Сейчас даже лавочники относятся ко мне как к шелудивому псу. Когда я прижимаюсь носом к стеклянным шкафчикам, в которых они выставляют свои товары: оранжевые ряды халвы и полумесяцы пирожков гуджия, украшенные пудрой зеленого кардамона, – они стучат мне по голове метлами и угрожают облить холодной водой из кружки.
Ноги соскальзывают в ямку на мостовой. «Бета, смотри куда идешь», – говорит какой-то чача, лицо у него все в складках, как моя рубашка. Он прихлебывает чай в чайной, которая выходит в переулок. По радио играет песня из старого индийского фильма, которую очень любит Папа. «Это путешествие так прекрасно», – поет герой.
Мужчины, сидящие на бочках высотой до колена и перевернутых пластиковых ящиках рядом с заботливым чачей, не видят меня. У них грустные глаза, потому что сегодня им не предложили никакой работы. Должно быть, они все утро простояли на развязке у шоссе и ждали бригадиров, что подъезжают на джипах и грузовиках, чтобы нанять людей для укладки кирпича или покраски стен. Мужчин слишком много, а бригадиров слишком мало, поэтому не все получают работу.
Папа тоже так стоял и ждал на шоссе, пока не получил хорошую работу на Фиолетовой ветке метро, а потом на стройке. Он рассказывал о злодеях-бригадирах, которые крадут деньги у своих рабочих и заставляют их мыть хайфай-окна, болтаясь в потрепанных веревочных люльках. Папа говорит, что не хочет для меня такой опасной жизни, поэтому я должен хорошо учиться и получить работу в офисе и сам стать хайфай-человеком.
Мне начинает жечь глаза, когда я думаю о том, как ему будет стыдно, если я стану гундой-преступником. Я решаю, что все-таки не хочу быть Четвертаком-2.
Я поворачиваю в переулок, ведущий к нашей басти, и кашляю, прикрыв рот рукой. Таким образом, если какая-нибудь леди из маминой сети в басти увидит меня и нажалуется Ма, что я прогуливаю уроки, то ей придется добавить, что я выглядел немножко больным.
Я осознаю, что кашель вышел громкий, как самолет. Что-то не так, но я не могу понять, что. Я останавливаюсь и оглядываюсь. Задерживаю дыхание и прислушиваюсь. Сердце стучит в ребра. Я широко открываю рот, выдыхаю воздух и ловлю его обратно, как делает Девананд Баба по телевизору. Постепенно узлы в животе слабеют. И тут я понимаю, что не так.
Переулок тих и пуст. Никого нет: ни дедушек, читающих газеты, ни безработных мужчин, играющих в карты, ни матерей, замачивающих одежду в старых ведрах из-под краски, ни малышей с грязными коленками, вьющихся вокруг них. Грязная посуда, кое-где наполовину вымытая, разбросана вокруг пластиковых бочек с водой, что стоят у каждой двери в нашей басти. Что-то грохочет за завесой смога. Может быть, это джинн. Меня охватывает плохое предчувствие. Хочется писать.
Слева от меня скрипит дверь. Я отпрыгиваю. Меня сейчас поймают. Но это просто женщина в сари. Пробор волос у нее в ярко-красной пасте, паста размазана по всему лицу.
– Мальчик, у тебя мозгов нет? – рычит она. – Тут у нас повсюду полицейские. Хочешь, чтобы они тебя поймали?
Я трясу головой, но в туалет уже не так хочется. Полицейские, конечно, страшные, но не такие страшные, как джинны. Я хочу спросить у женщины, почему здесь полицейские и привезли ли они с собой бульдозеры, чтобы напугать нас, и не пора ли кому-нибудь начать собирать деньги, чтобы откупиться от них, но вместо этого говорю:
– А у вас синдур по щекам размазался.
– Что подумает твоя мама? – спрашивает женщина. – Она так много работает, что у нее даже нет времени помолиться в храме, и вот, посмотрите-ка на него. Прогуливаешь уроки и развлекаешься, да? Не делай этого, мальчик. Не разочаровывай свою маму. Возвращайся в школу сейчас же. Не то однажды пожалеешь об этом. Понимаешь, о чем я?
– Понял, – говорю я. Мне не кажется, что они с Ма подруги.
– И чтоб я тебя тут больше не видела, – говорит она и закрывает дверь у меня перед носом.
Поверить не могу: из-за мамы Бахадура к нам в басти пришла полиция. Вот почему все прячутся. Я тоже должен бы спрятаться, но мне хочется разузнать, что делают полицейские. Полиция должна нам «служить» и «давать защиту», но копы, которых я вижу на Призрачном Базаре, делают все наоборот. Они пристают к лавочникам, набивают животы бесплатной едой с тележек разносчиков и предлагают тем, кто задержался с уплатой хафты, выбрать между ударом дубинкой по заднице и визитом бульдозера.
Смог на этот раз мне на руку, это хорошее укрытие. Я жмусь к обочине переулка, поближе к бочкам с водой, хотя земля возле них топкая из-за постоянного мытья посуды. Я прохожу мимо двух продавцов с тележками, накрывающих свои овощи и фрукты брезентом. Недалеко от них сидят на корточках три сапожника, черные щетинки щеток для обуви торчат из мешков на их плечах. Они готовы сделать на старт-внимание-марш при первом же намеке на неприятности.
Я не испуган, как все эти люди. И я не бесхребетный, как второй муж Шанти-Чачи. Говорят, он делает все, что ему прикажет чачи: готовит ей, стирает ее нижние юбки и развешивает их сушиться, даже когда вся улица его видит. Чачи зарабатывает акушеркой больше денег, чем ее муж, хотя у него целых две работы.
Я вижу Буйвола-Бабу на обычном месте посреди переулка и полицейского в форме цвета хаки. За копом также наблюдают: Фатима-бен, которая, наверное, переживает, что полицейский сделает что-нибудь плохое с ее буйволом, дедушки, скрестившие руки на груди, матери с младенцами на бедрах, дети, которые не ходят в школу, чтобы шить или готовить на дому, ма Бахадура и Пьяница Лалу, хотя они даже не живут на этой улице.
Я подбираюсь поближе, шныряя под бельевыми веревками, тяжелыми от мокрых рубашек и сари, чьи края касаются моих волос. Всего в двух домах от места, где все стоят, – черная бочка с водой у закрытой двери. Это идеальное укрытие. Я кладу школьную сумку, сажусь за бочкой и делаю дыхание легким, чтобы никто меня не услышал. И выглядываю одним глазом.
Полицейский пихает Буйвола-Бабу ботинками и спрашивает у Пьяницы Лалу:
– Так это правда? Это животное никогда не встает? Как же оно ест?
Может быть, полицейский думает, что Буйвол-Баба прячет Бахадура под своей грязной задницей.
Второй полицейский выходит из чьего-то дома. На нем рубашка цвета хаки с красными нашивками в форме стрел, указывающих вниз.
Только старшие констебли носят такие нашивки. Я знаю, потому что в прошлом месяце видел эпизод «Преступления в прямом эфире» про мошенника, который обманывал людей, одевшись в форму старшего констебля. Фальшивый коп даже зашел в полицейские казармы в Джайпуре попить чаю с настоящими копами и смылся с их кошельками.
– Подружился с буйволом? Неплохо, неплохо, – говорит старший констебль полицейскому, у которого нет никаких значков на рукаве, а значит, младшему. Потом старший переступает через хвост Буйвола-Бабы, чтобы встать перед мамой Бахадура.
– Ваш мальчик, у него есть проблема, как я понял, – говорит старший. – Он тугодум, да?
– Мой сын хорошо учится, – говорит мама Бахадура. Голос у нее охрип от плача и крика, но он будто светится алым, потому что внутри тлеет гнев. – Спросите в школе, они вам скажут. У него небольшие проблемы с речью, но учителя говорят, что все налаживается.
Старший констебль поджимает губы и выдыхает воздух в лицо мамы Бахадура. Она даже не вздрагивает.
– На мой взгляд, – говорит младший констебль, – лучше всего несколько дней подождать. Я видел много таких случаев. Дети сбегают, потому что хотят свободы, а потом прибегают обратно, потому что понимают, что свобода их не накормит.
– Хотя, – говорит старший, – похоже, ваш муж… ну… как бы сказать, – он бросает взгляд на Пьяницу Лалу, и тот опускает голову, – плохо обращался с вашим сыном?
Переулок заполняет колючая тишина, прерываемая кудахтаньем кур, которые сбежали из криво сплетенных проволочных клеток, и блеяньем козы из чьего-то дома.
Никто у нас в басти не хочет, чтобы Пьяница Лалу оказался в тюрьме. Но и соврать нельзя, потому что старший констебль умный. Мне это ясно, потому что он молодой, как студент колледжа, а уже старший констебль, и задает точно такие же вопросы, как хорошие копы по телевизору. Он не хочет денег от нас. Его единственная миссия – сажать плохих парней за решетку.
– Сааб, ну кто хоть раз не бил своих детей, хаан, сааб? – отвечает за Пьяницу Лалу мужчина, который стоит рядом с ним. – Это же не значит, что нужно убегать. Наши дети умнее нас. Они знают, что мы желаем им лишь добра.
Старший констебль изучает лицо мужчины, мужчина нервно смеется и смотрит в сторону: на серебристые внутренности пустых пакетиков из-под намкина на земле и на малышей, что пытаются стряхнуть руки придерживающих их мам.
Пьяница Лалу открывает рот. Слова не выходят. Затем он трясется, словно сквозь его руки и ноги проходит какой-то поток из-под земли.
Пари и Фаиз не поверят мне, когда я расскажу им про то, что сейчас наблюдаю. Просто прекрасно, что моя серая форма – хороший камуфляж в смоге.
– Ты, – кричит старший констебль, указывая на меня. – Иди сюда сейчас же.
Я ударяюсь головой о бочку, когда быстро ныряю вниз, но уже понимаю, что был недостаточно быстр. «Он скормит тебе твое собственное дерьмо», – думаю я. Я однажды слышал, как это сказал мой одноклассник Гаурав-который-ненавидит-мусульман: он рассказывал, что Четвертак делает с теми, кто переходит ему дорогу.
– Куда он делся? Где этот мальчишка?
Мой взгляд прикован к повернутой в небо белой тарелке антенны на краю жестяной крыши с другой стороны переулка. Если я буду смотреть на нее в оба глаза, по-настоящему смотреть на нее, то перестану видеть все остальное. Все исчезнет, даже этот полицейский.
Но он уже стоит рядом со мной и барабанит пальцами по крышке бочки. Снимает фуражку цвета хаки. Тугая резинка оставила красную полоску посреди его лба.
– Поглядим, как она на тебе смотрится, – говорит он, широко улыбаясь и размахивая фуражкой у меня перед носом.
Я уворачиваюсь от фуражки, которая пахнет подмышками и, возможно, тюрьмой.
– Не хочешь? – спрашивает он.
– Нет, – говорю я таким тихим голосом, что сам себя не слышу. Полицейский возвращает фуражку на голову, но не натягивает ее на лоб. Потом соскребает грязь с черных кожаных ботинок о кирпич. Подошва его левого ботинка еле держится, швы хлипкие, как нитки слюны. Его ботинки такие же рваные, как мои старые.
– Сегодня нет школы? – спрашивает он.
Я не кашлял, поэтому говорю:
– Дизентерия. Учитель отправил меня домой.
– О-оу, – говорит полицейский. – Съел что нельзя, да? Мама невкусно готовит?
– Нет, вкусно, очень вкусно.
Сегодня все идет не так, и все из-за Бахадура.
– Мальчик, которого мы ищем, – говорит он, – знаешь его? Он учится в твоей школе?
– В моем классе.
– Он говорил что-нибудь про побег?
– Бахадур не может говорить. Заикается он, понятно? Он не может произносить слова, как остальные дети.
– А как же его отец? – Старший констебль понижает голос. – Этот мальчик говорил что-нибудь о том, что отец избивает его?
– Может быть, из-за этого Бахадур и сбежал. Но Фаиз думает, что его украли джинны.
– Джинны?
– Фаиз говорит, что джиннов создал Аллах. Есть добрые и злые джинны, как есть добрые и злые люди. Бахадура мог украсть злой джинн.
– Фаиз – это твой друг?
– Да.
Я чувствую себя немного виноватым из-за того, что ябедничаю старшему констеблю, но я ведь помогаю ему в расследовании. То, что я расскажу, окажется важной зацепкой, которая поможет ему раскрыть дело. И тогда какой-нибудь ребенок-актер сыграет меня в эпизоде «Полицейского патруля». Его назовут «Таинственное исчезновение невинного мальчика из трущоб – Часть 1» или «В поисках пропавшего заики: Душераздирающая сага о жизни в трущобах». У эпизодов «Полицейского патруля» всегда потрясающе названия.
– У нас в тюрьмах недостаточно места и для людей. Если еще начнем арестовывать джиннов, куда мы их посадим? – спрашивает полицейский.
Он смеется надо мной, но я не против. Я просто хочу угадать, каких слов он от меня ждет, чтобы я мог их сказать, и он бы нашел Бахадура. А еще у меня уже болит шея, оттого что я смотрю на него снизу вверх.
Полицейский скребет щеки. Мой живот урчит. Фаиз обычно помогает его унять, давая мне засахаренный фенхель из кармана, который он ворует из дхабы, где работает официантом по воскресеньям.
– Может, Бахадуру было тут скучно? – спрашивает полицейский.
Мой живот снова урчит, и я нажимаю на него, чтобы он утих.
– Его мама так сказала? – спрашиваю я. – Это она вам позвонила, да? Мы никогда не звоним в полицию.
Я сказал лишнее, но лицо у полицейского остается пустым. Он поддергивает брюки, поправляет фуражку и поворачивается, чтобы уйти.
– Через две улицы есть сапожник, – говорю я ему вслед.
Он останавливается и смотрит на меня так, как будто видит меня впервые только сейчас.
– Для ваших ботинок, – говорю я. – Очень хороший. Его зовут Сулайман, и после него ботинки будут выглядеть так, словно на них вообще нет швов, и он…
– И президент наградил его орденом Падма Шри за его службу? – спрашивает полицейский. Я не отвечаю, потому что это шутка, но не смешная.
Он отступает туда, где стоят все остальные. Кивает головой младшему констеблю: три коротких кивка, похожие на какой-то секретный сигнал, как между боулерами и филдерами в крикете. Нам с Пари и Фаизом тоже нужно придумать секретный сигнал.
– Здесь не на что смотреть, – кричит младший констебль. – Вы все, и я сейчас про всех вас, возвращайтесь по домам.
Отцы, матери и дети прячутся по домам, но коричневая коза в пятнистом свитере, в котором она выглядит частично леопардом, выходит из дома и бодает ногу младшего констебля.
– Ублюдина, – говорит он и пинает козу.
Я смеюсь. Выходит громче, чем хотелось бы.
– Чего пялишься? – спрашивает младший констебль. – На мобильник меня снимаешь?
– У меня нет телефона, – кричу я, чтобы он меня не арестовал. Я отхожу от своей бочки-укрытия, медленно, как киногерой, на которого направлен пистолет, и выворачиваю карманы брюк, чтобы он увидел, что в них лишь бита от школьной доски для игры в каррум[16], которую я забыл вернуть на место.
– Этот чокра сейчас сделает тут дело № 2, – говорит старший констебль младшему. – Пусть идет.
Я хватаю школьную сумку и бросаюсь за угол дома, у которого прятался, в переулок, такой узкий, что только дети, козы и собаки могут поместиться внутри. Здесь безопасно, хотя земля вся в козьих какашках.
Мои плечи касаются стен. Грязь попадает на форму. Ма сегодня будет очень расстроена из-за меня.
Я подбираюсь к выходу из переулка, держу ушки на макушке, чтобы уловить даже шепот, и выглядываю наружу. Младший констебль размахивает палкой, которую он, должно быть, поднял с земли.
– Все по домам! – кричит он на людей, которые все еще стоят в переулке. – Вы двое, останьтесь, – говорит он маме Бахадура и Пьянице Лалу.
Старший констебль подходит к ним поближе и что-то говорит, но я не слышу, что именно. Мама Бахадура крутит золотую цепочку на шее и пытается расстегнуть застежку. Пьяница Лалу тянется ей помочь, но мама Бахадура отталкивает его. Она любит свою золотую цепочку.
Когда несколько месяцев назад по басти пошли слухи, что у мамы Бахадура появилась цепочка из золота в двадцать четыре карата, и не подделка, как блестящие ожерелья с Призрачного Базара, Папа сказал, что она, наверное, украла ее у своей хайфай-мадам. Но мама Бахадура отвечала всем, что мадам ей ее подарила.
Ма сказала, что маме Бахадура не повезло с браком, но повезло с работой, и что у каждого человека в жизни есть то, что идет хорошо, и то, что идет плохо: хорошие или плохие дети, добрые или злые соседи, боль в костях, которую врачи могут вылечить легко или не могут вылечить вообще – так ты понимаешь, что боги по крайней мере попытались быть справедливыми. Ма сказала Папе, что пусть лучше у нее будет муж, который ее не бьет, чем цепочка из настоящего золота. Папа как будто немножко подрос после этих слов.
Теперь мама Бахадура расстегивает цепочку, кладет ее на ладонь и протягивает в сторону старшего констебля. Он отпрыгивает, как будто она попросила его потрогать огонь. Она поворачивается к Пьянице Лалу, но тот опять начинает трястись. Он ни на что не годен. Могу поспорить, она бы хотела, чтобы с ней была ее леди-босс, а не муж.
– Как я могу принять подарок от женщины? – говорит старший констебль. – Я не могу это принять, нет. – Голос у него глянцевый, как яблоки, которые продавцы натирают воском по утрам.
Мама Бахадура всасывает воздух сквозь сжатые зубы, шлепает Пьяницу Лалу по запястью и протягивает ему свою золотую цепочку. Старший констебль оглядывается, наверное, чтобы убедиться, что никто не смотрит. Поблизости только младший констебль, который рисует палкой линии на земле, Буйвол-Баба и я, но меня он не видит.
– Бахадур ки Ма, ты уверена? – спрашивает наконец Пьяница Лалу и трясет кулаком с цепочкой над ее головой.
– Все в порядке, – отвечает она. – Ничего.
– Если вы двое хотите поспорить, то делайте это у себя дома, – говорит им старший констебль. – Я здесь не для того, чтобы усмирять семейные разборки мийя с биви. Но кое-что я сделать могу, да и должен: арестовать вас за нарушение общественного порядка.
– Простите нас, сааб, – говорит Пьяница Лалу, передает золотую цепочку старшему констеблю, и тот быстро кладет ее в карман.
Полицейские из «Преступления в прямом эфире» никогда не берут взяток, даже у мужчин. Я чувствую себя плохим детективом, потому что не увидел злодея в старшем констебле.
– Ваш сын, – говорит тот, – дайте ему пару недель. Если не вернется, дайте мне знать.
– Но сааб, – говорит мама Бахадура, – ты же сказал, что начнешь искать его прямо сейчас?
– Всему свое время, – говорит старший. Затем он обращается младшему: – Отчеты сами себя не напишут. Чало, бхай, поторопись.
– От вас одни проблемы, от всех вас, – говорит младший констебль Пьянице Лалу. – Воруете электричество с путей, гоните самогон по домам, проигрываете все, что имеете. Будете продолжать бузить – муниципалитет пришлет бульдозеры, чтобы снести ваши дома.
Фатима выходит из дома после ухода полицейских, чешет Буйвола-Бабу между рогами и кормит его горсткой шпината. Я не хочу, чтобы нашу басти снесли бульдозерами. Когда я найду Бахадура, то врежу ему как следует за все эти неприятности. И он даже не станет меня останавливать, потому что в глубине души будет знать, что получает за дело.
Бахадур
Мальчик издали наблюдал, как трое закутанных в одеяла мужчин сгрудились у костра. Языки пламени с пеплом поднимались из большого металлического таза, в котором раньше возили цемент на стройке. Ладони мужчин замерли над огнем, словно совершая торжественный ритуал. Желтые искры подскакивали выше их лиц, но руки не возвращались в складки одеял.
Между этими мужчинами была некая молчаливая общность, из-за которой Бахадуру захотелось стать старше, чтобы он тоже мог присесть рядом с ними. Но он был всего лишь мальчишкой, что прятался под тележкой, от которой пахло гуавой – ее слабый аромат стекал к нему сквозь прогорклый зимний воздух.
Хозяин тележки спал на пешеходной тропинке неподалеку, тело повернуто к запертым ставням какого-то магазина и, словно труп, с головы до ног накрыто простыней, недостаточно толстой, чтобы заглушить его храп. Бахадур тщательно поискал гуаву под сложенными листами брезента и мешками на тележке, но не нашел ни одной. Ее хозяин, должно быть, ходил долго и далеко, чтобы продать все фрукты до единого.
Бахадур не мог сказать точно, как долго он наблюдал за мужчинами. Было далеко за полночь, и он знал, что должен спать, но он мерз и ему хотелось пройтись, чтобы немного согреться. Он вылез из-под тележки и обернулся, чтобы снова взглянуть на мужчин. Они что-то пили из общей бутылки: каждый делал по глотку, затем вытирал горлышко рукавом свитера, прежде чем передать бутылку дальше. Через час они будут дремать у костра, с кирпичами под головой вместо подушек, с ногами, наполовину укрытыми разложенными по переулку одеялами.
Переулки Призрачного Базара разверзались вокруг Бахадура как зияющие уста демонов. Ему не было страшно. Раньше – было: в первые ночи, когда он стал спать на улице, если мать оставалась на ночь в квартире, где работала, чтобы приглядывать за болеющим ребенком мадам или прислуживать гостям на вечеринке, которую устраивала мадам. До тех пор Бахадур видел базар только днем, когда он был полон и людей, и животных, и транспорта, и богов, призванных молитвами, доносящимися из громкоговорителей храма, сикхской гурдвары и мечети. Все запахи и звуки были настолько плотными, что просачивались сквозь него, словно он был сделан из марли.
Но в семь лет, когда он впервые прокрался на базар поздно ночью, чтобы сбежать от отца, неподвижность базара напугала его. Небо клубилось черно-синим над спутанными проводами и пыльными уличными фонарями. Рынок был в основном пуст, не считая свернувшихся тел спящих людей. Потом уши привыкли к постоянному далекому грохоту шоссе. Нос научился улавливать слабейшие запахи, задержавшиеся со дня – от гирлянд бархатцев, ломтиков папайи, что подаются с щепоткой приправы для чаата, хлебцев пури, жаренных в масле, – чтобы направлять его шаги в темных закоулках. Его глаза научились отличать бездомных собак в переулках по изгибам хвостов или форме белых пятен на коричневых или черных шкурах.
Теперь ему почти десять, он уже достаточно взрослый, чтобы быть самому по себе, хотя он никогда бы не сказал этого матери. Она не знала, что он ходит сюда. А в залитых спиртом глазах его отца мир погас так давно, что он не смог бы отличить живого от призрака.
В те ночи, когда матери не было дома, его брат и сестра упрашивали тетушек по соседству приютить их. Они думали, что семья какого-нибудь друга делала то же самое для него. Но Бахадур не хотел угла на чьем-то многолюдном полу. В каждом доме – даже у его единственного друга Омвира – была какая-нибудь чачи, которая начинала цокать языком и просить богов снять проклятие, которое на него наложили, или дети, которые смеялись над тем, что звуки прилипали к его языку, как бы он ни старался их выплюнуть. Для них он всегда был Идиотом или Тупицей, или Ка-Ка-Ка-Ка или Хе-Хе-Хе-Ро-Ро. Они звали его Крысоедом и спрашивали, не убирает ли его мать дерьмо в туалетах басти. На базаре ночью ничего этого не существовало. Ему не нужно было ни с кем разговаривать. Если хотелось, он мог даже вообразить, что он принц, патрулирующий свое королевство, прикинувшись бездомным ребенком.
Опущенные ставни магазинов изгибались словно волны. Как бы быстро он ни шел, холод нагонял его. Он остановился возле велорикши, спящего под одеялом на пассажирском сиденье своего транспорта. На руле висел белый пластиковый пакет, в который рикша складывал обед или ужин, с чем-то темным и плотным на дне. Бахадур тихонько развязал ручки пакета, затем отбежал подальше и осмотрел его содержимое. Одна ложка черного дала, который он мгновенно проглотил, запрокинув шею к небу.
Это была третья ночь его блужданий по базару. Он сможет как следует поесть во вторник, когда мать вернется домой, но сейчас всего лишь суббота, и часы тянулись, темные и бескрайние как небо. Он выбросил пакет в канаву, затем опустился на колени и стал копаться в куче мусора, скопившейся у палаток, где днем продавали папди чаат[17] и картофельные котлетки алу тикки c творогом и тамариндовым чатни. Но животные базара добрались до всего съедобного раньше его. Он вытер руки о дно выброшенной миски из алюминиевой фольги и встал.
На грудь навалилась тяжесть. Воздух был колючим от дыма – скоро щекотка в ноздрях превратится в кашель, от которого он начнет задыхаться. Он знал, что это пройдет, возможно, через несколько минут. Как же это все нечестно: ему приходилось бороться за то, что было так естественно для всех остальных – за то, чтобы говорить и дышать. Но он прекратил проклинать богов, прекратил попытки привлечь их на свою сторону молитвами.
Он прошел немного вперед к мастерской «Ремонт электроники и электрики у Хакима» – его самому любимому месту на базаре. Чача Хаким не ждал от него разговоров: вместо этого он сам рассказывал про перегоревшие конденсаторы и провисшие кабели и платил ему за работу в магазине, хотя Бахадур был готов работать и даром. Как-то раз мать Бахадура наняла двух мальчиков, чтобы те принесли к ним домой гремящий холодильник и телевизор, которые какая-то хайфай-мадам выбросила на свалку возле их басти. Бахадур быстро починил их, и они стали как новые. Чача сказал, что у Бахадура талант. Когда он вырастет, он станет инженером и будет жить в хайфай-квартире.
Бахадур желал, чтобы Чача Хаким был его отцом. Последние два дня, каждый раз, когда он заходил в магазин электроники, чача покупал ему свернутые из газет рожки, наполненные теплым арахисом, обжаренным с солью. Он делал это просто так, не зная, что Бахадур голоден. Бахадур тогда приберег немного орехов в кармане джинсов на потом, но все они уже кончились. Засунув руки глубоко в карманы, он без надежды проверил их снова. Несколько тонких, как бумага, шкурок пристало к кончикам его пальцев, когда он их вытащил. Он облизал пальцы, почувствовал вкус соли и слишком поздно вспомнил, что от нее захочется пить.
Вокруг уличных фонарей сгустился смог. Он вдохнул воздух несколькими большими глотками и свернулся на приподнятой платформе возле ремонтной мастерской, обхватив себя руками и подтянув колени к груди. Ему все еще было холодно. Он поднялся, нашел две покрытые грязью красные клети у магазина по соседству и накрыл ими ноги, но это не добавило удобства и не уменьшило холода. Он спихнул клети и снова лег.
Смог был словно дыхание самого дьявола. Он скрывал уличные фонари и делал тьму еще темнее. Чтобы успокоиться, Бахадур стал думать о всех тех вещах, которые любил делать: дергать за оранжевые уши синюю игрушечную слониху, держащую в хоботе слоненка размером с шарик гол гаппы[18], что была импульсивно куплена у уличного торговца на Призрачном Базаре; качаться на резиновых шинах, привязанных к ветвям дерева-зубочистки, держать теплый кирпич, обернутый в тряпки, который мама давала ему в холодные лунные ночи. Он представил, как она натирает ему грудь мазью «Викс», хотя он видел такое лишь по телевизору, у них дома даже не было тюбика с этой мазью. Но эта картина его успокаивала, и он решил удерживать ее в голове, пока не уснет.
И тут – какое-то движение в переулке, он почувствовал его в земле. Он навострил уши, чтобы расслышать шаги, но шагов не было.
Воспоминания о том, что он не хотел помнить, зашумели в голове. В одну летнюю ночь два года назад человек, от которого пахло сигаретами, с усами, толстыми, как беличий хвост, прижал его к стене одной рукой, а другой начал распутывать узелок на своем сальваре. Бахадур слегка затрясся, все еще ощущая давление ладони мужчины. Группа рабочих, возвращавшихся домой, увидела, что происходит, и погналась за мужчиной, дав Бахадуру достаточно времени, чтобы убежать. Он прекратил бродить по базару на несколько месяцев, пока страх не притупился, а ярость отца не показала себя вновь.
Бахадур задумался, не лучше ли ему выбрать другое место для сна. Переулок за ремонтной мастерской был слишком пуст. В любую другую ночь это было бы хорошо, но кто знает, что за зверь скрывается в смоге и ждет не дождется, чтобы сомкнуть клыки на его ноге? Откуда взялся этот смог? Он никогда не видел такого. Наверху на крыше заворчали и завозились голуби. Затем, словно испугавшись, они взлетели.
Он сел и уставился в темноту, ладони прижаты к земле, маленькие камушки впились в кожу. Мяукнула кошка, а собака гавкнула, как будто шикая на нее. Он подумал о призраках, в честь которых был назван Призрачный Базар: дружелюбных духах людей, которые жили на этих землях сотни лет назад, еще во времена правления Моголов.
«Клянусь Аллахом, – сказал Чача Хаким Бахадуру однажды, – они никогда нас не обидят».
Если к Бахадуру действительно приближался призрак с базара, то, возможно, он хотел помочь ему дышать или сказать, что глупо спать на улице в такую ночь. Может быть, если он покажет призраку свое лицо, след от отцовской руки на коже, то призрак позволит ему остаться. Чача Хаким ни разу и словом не обмолвился о его ранах или лейкопластырях, что клеила на него мать. Но буквально день назад Бахадур случайно увидел собственное отражение в экране старого телевизора в ремонтной мастерской, за которым прятал свои драгоценности, которые не мог хранить дома, и синяк под глазом выглядел блестящим и черным, как река, что делила город пополам.
Бахадур сказал себе, что он дурак. Призраки и монстры живут только в историях, которые люди рассказывают друг другу. Но воздух пульсировал страхом, осязаемым, как статический разряд. Ему казалось, что он видит призрачные конечности, очерченные белым, безгубые рты, тянущиеся за шумом его дыхания.
Может быть, ему нужно встать и бежать домой. Может быть, сегодня вечером ему нужно все-таки постучаться к Омвиру. Но в его кости проник холод, он чувствовал, какие они хрупкие: казалось, они вот-вот сломаются. Он хотел, чтобы тьма рассеялась, засияла луна, а мужчины, которых он видел у костра, прошли по этому переулку. Смог обвивался вокруг его шеи как конец грубой веревки.
Теперь он слышал их: топоток бандикутов, охотящихся за крошками из пакетов, ржущая где-то лошадь, лязг металлического ведра, опрокинутого кошкой или собакой, а затем медленные шаги чего-то или кого-то, которые явно приближались к нему. Он открыл рот, чтобы закричать, но не смог. Звук застрял в горле, как все остальные слова, что он никогда не мог произнести.
Сегодня наша последняя ночь
в басти, говорит Ма. Папа говорит, что не нужно всей этой драмы-баази. Что, если мы все потеряем, говорит Руну-Диди.
Я сижу на кровати скрестив ноги и смотрю, как Ма расчищает кусок пола. Она сдвигает к стене наши книги, пластиковые табуреточки для ног и горшки, в которых они с Диди носят воду с колонки. На опустевшем пространстве она раскладывает розовую простыню с черными цветами, что выцвели до почти серого из-за множества стирок. Затем она выбирает вещи, без которых мы не сможем обойтись, и складывает их в простыню: нашу лучшую одежду, включая мою форму в пластиковой упаковке, скалку и доску для раскатывания лепешек роти и небольшую статуэтку Господа Ганеши, которую Дада[19] подарил Папе много лет назад. Телевизор остается стоять на полке. Он слишком тяжелый, мы его не унесем.
– С каких пор наш дом превратился в декорацию индийского фильма, а, Джай? – спрашивает Папа, сидя рядом со мной с пультом от телевизора в руке. Я расправляю примятый воротник его рубашки. Он протерся в тех местах, где Руну-Диди или Ма терли слишком усердно, чтобы избавиться от грязи и пятен краски.
Диди пытается помочь маме, но только мешает ей. Ма не ругается на нее. Вместо этого она продолжает бормотать, что маме Бахадура нельзя было идти в полицию.
– У нее мозги не работают, – говорит Ма. – Все бегает по больницам – от этого любой сойдет с ума, я думаю. Аррей, она даже попросила Бенгали Бабу сказать ей, где ее сын. И ему тоже заплатила целое состояние. Все об этом болтали, когда мы с Руну вечером ходили за водой.
Бенгали Баба выглядит так, словно только что выбрался из пещеры в Гималаях: у него спутанные волосы и грязные ноги, но компьютером он пользуется. Однажды я видел его возле магазина киберпечати у Дэва на Призрачном Базаре – он держал в руках пачку плакатов, которые потом расклеил по базару. Плакаты утверждали, что он может решить такие серьезные проблемы, как измена жен, измена мужей, злые свекрови и тещи, голодные призраки, черная магия, безнадежные долги и безнадежное состояние здоровья.
Мама ходит по комнате, размышляя, что еще должно попасть в ее простыню. Она хватает свой будильник, который никогда не звонит вовремя, но ставит его обратно на полку.
– Что сказал Бенгали Баба? – спрашиваю я.
– Сказал, что Бахадур никогда не вернется, – говорит Руну-Диди.
– Этот баба – мошенник, – говорит Папа. – Он наживается на страданиях людей.
– Джи, ты не веришь в него, это нормально, – говорит Ма. – Но не ругай его такими словами. Мы же не хотим, чтобы он нас проклял.
Затем она встает на табуретку для ног и достает старый синий пластиковый тюбик натурального кокосового масла «Парашют» с верхней полки. Масла в тюбике нет. Вместо масла в нем несколько банкнот по сто рупий, которые Ма хранит на «крайний случай», хотя она никогда не уточняла, что за случай считается крайним. Она кладет тюбик на банку с манговым порошком, откуда его будет проще достать, если нам придется убегать из дома в темноте. Этот тюбик, он вроде маминого кошелька, только я никогда не видел, чтобы она его открывала.
– Слушай, – говорит Папа Ма, – Мадху, мери джаан, полиция ничего нам не сделает. Жена Пьяницы Лалу отдала им свою золотую цепочку. Никто не пригонит бульдозеры громить нашу басти.
Я смотрю на Папу с открытым ртом, потому что он только-только пришел домой, но уже узнал про золотую цепочку. А вдруг он знает, что Кирпал-сэр выгнал меня из школы?
Меня до сих пор никто не спросил, почему я рано вернулся домой: ни Шанти-Чачи, которая дала мне тарелку кади пакоры[20] с рисом, что приготовил для нее муж, ни Руну-Диди, чья работа № 1, как говорит Папа, – это хорошенько приглядывать за мной. Мама даже не заметила новых грязных пятен на моей форме, наверное, потому что в басти только и разговоров что о Бахадуре и полиции, страшных разговоров шепотом, из-за которых все забыли про меня.
– Что мы потеряем, если будем осторожнее? – говорит Ма. – Может, бульдозеры приедут, а может – и нет. Кто знает наверняка?
Она оборачивает в две хлопковые дупатты[21] грамоту в рамочке, что вручили команде Руну-Диди, когда они заняли первое место в эстафете штата, и аккуратно кладет ее на вершину кучи из вещей. Грамота соскальзывает вниз и, помявшись, ложится поверх скалки. Ма расправляет рамку, закусив щеки изнутри и тяжело дыша.
Свисающая надо мной лампочка гудит горячим током, и ее тень мечется по полкам, трещинам и пятнам от воды на стенах, оставшимся после муссонных наводнений, которые стали видны, потому что Ма свинула банки и тарелки. Ма любит, когда дома чисто, и ругается, если я не кладу учебники и одежду туда, куда она велит, но сейчас она устраивает беспорядок сама.
Папа обнимает меня за плечи и прижимает к себе, к запаху краски и смога.
– Женщины, на, – говорит он. – Переживают из-за ерунды.
– Это не ерунда, – говорю я.
– Джай, полиция не может просто так начать снос. Они должны предупредить об этом заранее, – говорит Папа. – Должны расклеить уведомления, поговорить с нашим прадханом. Наша басти тут уже много лет. У нас есть удостоверения личности, есть права. Мы не какие-нибудь бангладешцы.
– Да какие права? – спрашивает Ма. – Все эти министры вспоминают про нас лишь на неделю перед выборами. И как можно доверять этому бесчестному прадхану? Он даже не живет здесь больше.
– Это правда? – спрашиваю я. Трудно представить Четвертака в хайфай-квартире. Тюрьма ему как-то больше идет.
– Мадху, если полиция уничтожит нашу басти, у кого им тогда брать взятки? – говорит Папа то же самое, что и Пари. – Как тогда их толстые жены смогут каждый день есть курицу?
Папа делает вид, что отрывает зубами мясо от куриной ножки. Он издает голодные звуки и облизывает пальцы.
Я смеюсь, но у Ма губы сжаты, и она продолжает упаковывать вещи. Когда она наконец заканчивает, то кладет сверток у двери. Ей приходится поднимать его обеими руками, потому что она набрала слишком много вещей. Только Папа сможет бежать с ним на плече.
Потом мы садимся ужинать.
– Если нашу басти снесут, – говорит Руну-Диди, – вы отправите нас жить к Даде и Дади? Я туда не поеду, окей, говорю вам сразу. Не собираюсь соблюдать всю эту затворническую пурду-вурду. Когда-нибудь я выиграю медаль для Индии.
– В этот день осел запоет как Гита Датт, – говорю я.
Гита Датт – любимая папина певица. Она пела в черно-белых фильмах.
– Дети, – говорит папа, – худшее, что может случиться: мы не сможем поесть роти, пока ваша очень мудрая, очень красивая мама не достанет обратно скалку. И все. Ясно?
Он смотрит на маму и улыбается. Ма не улыбается в ответ.
Папа заправляет мне волосы за ухо левой рукой.
– Мы вовремя платили хафту полиции. А теперь у них есть еще и золотая цепочка. Как вторая премия к Дивали[22]. Они не будут беспокоить нас какое-то время.
Когда ужин закончен, а посуда помыта, Ма вытирает руки о сари и говорит, что сегодня ночью я могу спать на кровати. Папа выглядит пораженным.
– Почему? – спрашивает он. – Что я сделал?
– У меня болит спина, – говорит Ма, не глядя на него. – Лучше посплю на полу.
Диди вытаскивает из-под кровати матрасик, на котором мы с ней обычно спим. Она выдергивает его так резко, что сумки, которые хранит под кроватью Ма, рассыпаются.
– Аккуратнее, – говорит Папа, и сердитые морщины хмурят его лицо.
Я помогаю Диди собрать сумки: пластиковый пистолет и деревянную обезьяну, с которой я не играл целую вечность, и рваную одежду, из которой мы выросли. Мы раскладываем матрас на полу. Его края постоянно закручиваются в тех местах, где упираются в ножки кровати.
Папа включает телевизор. В новостях сегодня нет ничего интересного. Все про политику. Я стою у двери и слушаю, как наши соседи спорят о полиции и взятках и снесут ли нашу басти или нет.
Когда я найду Бахадура, больше не будет этих глупых споров. Вместо этого они все будут говорить обо мне, Джасусе Джае, Величайшем Детективе на Земле.
Завтра я попрошу Фаиза стать моим помощником. Мы будем как детектив Бемкеш Бакши и его помощник Аджит и станем вести расследования в темных от смога переулках Призрачного Базара. У нас даже будет собственный секретный сигнал, намного лучше, чем у тех констеблей из полиции.
Папа устает от новостей и велит мне укладываться спать. Я закрываю дверь и выключаю свет. Ма ложится на матрас рядом с Диди. Папа мгновенно начинает храпеть, а я щипаю себя, чтобы не заснуть. Что, если Папа не прав насчет бульдозеров? Я рисую карту басти в голове и думаю о самом быстром пути побега, который мы можем выбрать.
Я поворачиваюсь к плакатам Господа Шивы и Господа Кришны, которые Папа приклеил на стену. Я не могу разглядеть их в темноте, но знаю, что они там. Я прошу их и всех остальных богов, которых могу вспомнить, помочь нам. Я решаю произнести одну и ту же молитву девять раз, чтобы боги знали, как сильно я этого хочу. Ма говорит, что девять – любимое число богов.
Пожалуйста, Бог, не посылай бульдозеры в нашу басти.
Пожалуйста, Бог, не посылай бульдозеры в нашу басти.
Пожалуйста, Бог, не посылай бульдозеры в нашу басти.
Когда я найду Бахадура, то скормлю ему его собственное дерьмо.
Я хлопаю себя по лбу за то, что думаю плохие мысли во время молитвы.
– Комары? – спрашивает Ма.
– Ага.
Я слышу звон стеклянных браслетов Ма и шорох одеяла, которое она, наверное, подтянула к носу.
Дорогой Бог, не надо бульдозеров. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.
На следующее утро мы опаздываем в школу, и приходится бежать бегом, поэтому я не успеваю поговорить с Фаизом насчет моей идеи про детективов. Я устал и на собрании хочу спать. В классе глаза у меня тоже слипаются, поэтому приходится придерживать их пальцами. Бодрствовать легче, если запустить бумажную ракету или поучаствовать в состязании по армрестлингу, как все остальные.
Кирпал-сэр не пытается нас остановить. Он притворяется, что вчера ничего не было; как будто он не отругал Пари и не вышвырнул меня из школы. Я тоже умею притворяться. Когда я слышу громкое тарахтенье мотоцикла «Буллит» на улице, я бросаю карандаш на пол и наклоняюсь, чтобы его поднять. Спрятав голову под стол, я изображаю мотоцикл, «така-така-така». Как будто сотня петард разлетается во рту и наполняет его искрами. От этого я просыпаюсь как следует. Остальной класс смеется. Крипал-сэр кричит: «Тишина, тишина», но смех становится только громче.
Гаурав тарахтит как «Буллит» вместе со мной. Кирпал-сэр хватает линейку и стучит по столу. Класс медленно затихает.
Сэр учит нас общественным наукам один час, потом еще час – математике; он учит нас всем предметам, потому что в старшие классы его больше не пускают. Он перестает говорить, только когда звенит звонок на обед.
В коридоре мы садимся у стены, скрестив ноги. Я ищу Омвира, чтобы расспросить его про Бахадура, но нигде его не вижу.
Обеденные люди ставят перед нами тарелки из нержавеющей стали.
– Та карта Индии, которую нарисовал Кирпал-сэр, с солнцем на востоке? – говорю я. – Какая же она уродская. У него солнце было похоже на разбитое яйцо.
– Вот бы нам сегодня дали яйца, – говорит Фаиз.
– Да когда нам вообще давали яйца? – Я злюсь, что он мешает мне закончить то, что я хочу сказать, но против яиц все же не возражаю.
Я нюхаю воздух, чтобы понять, что нам приготовили обеденные люди, но сейчас везде пахнет одним лишь смогом.
– Хочу пури-субзи[23], – говорит Пари. Она поет «пури-субзи-пури-субзи-пури-субзи», и остальные ученики хихикают и подпевают, пока обеденные люди не принимаются разливать по тарелкам далию[24] с овощами. Она такая жидкая, что приходится ее пить, словно кашу, поднося тарелки ко рту. Тарелки быстро пустеют, а наши животы все еще урчат.
– Эти обеденные люди дурят правительство, – говорит Пари. – Они воруют всю хорошую еду для своих детей и дают нам вот это. – Она часто так говорит, но в ее тарелке не остается ни одной рисинки.
– Перестань ныть, йаар, – говорит Фаиз. – По крайней мере тут нет пестицидов, как в Бихаре.
Пари не может с этим поспорить, потому что именно она рассказала нам про детей из Бихары, которые умерли, съев школьный обед. Она столько всего знает, потому что читает все подряд: газеты с жирными пятнами, в которые оборачивают жареные лепешки нааны и паппады, обложки журналов, что висят у киосков, и книги в читальном центре возле мечети на Призрачном Базаре, куда ходит молиться Фаиз.
Одна диди в читальном центре как-то раз сказала маме Пари, что ей надо попросить какую-нибудь частную школу принять Пари по «квоте на малоимущих», потому что Пари слишком умная для государственной школы. Мама Пари сказала, что они пытались, но ничего не вышло. Пари утверждала, что ей неважно, где она будет учиться. В новостях она видела интервью мальчика из басти вроде нашей, который на «отлично» сдал экзамен на госслужбу и устроился работать районным инспектором. Если он смог, она тоже сможет, сказала Пари. Я был согласен с ней, но не сказал этого вслух.
Теперь мы умоляем о добавке далии, но обеденные люди нас не слушают, поэтому мы моем руки и спускаемся на площадку. Отсюда слышно, как шумит Призрачный Базар, но мы шумим еще сильнее.
Руну-Диди стоит в коридоре и разговаривает со своими подругами. Она не выглядит сонной, как я. Она может дрыхнуть, даже когда земля дрожит и разваливается на части. Но что в ней хорошо, так это то, что в школе она ведет себя так, будто не знает меня. Мне это по душе, потому что она никогда на меня не ябедничает.
Четверо мальчиков смотрят на группу Руну-Диди хитрыми глазами и зубасто улыбаются. Один из них – тот пятнистый парень, что стоял передо мной вчера в очереди в школу. Его друзья смеются над чем-то, что он говорит. Руну-Диди и другие девушки сверлят их взглядами.
Рядом с деревом ним, где Четвертак проводит свой полуденный совет, я нахожу веточку, которую смогу пожевать, чтобы убедить живот, что еда уже в пути. Несколько парней стоят вокруг Четвертака, засунув руки под мышки для тепла. Шестиклассник Пареш из нашей басти рассказывает Четвертаку о констеблях из полиции и Бахадуре.
Но, в отличие от меня, Пареша там даже не было, когда все случилось.
– Констебли потребовали у каждой женщины в басти отдать им все, что у них есть, золото или наличные, – говорит он. – А еще полицейский ударил дубинкой Буйвола-Бабу.
Я хочу поправить Пареша, но перемена скоро закончится, а у меня важное дело. Я говорю Пари и Фаизу следовать за мной на свободное место под деревом амальтас, цветы которого весной окрашивают землю в желтый цвет. Танви и ее рюкзак-арбуз, который она повсюду носит с собой, пытаются увязаться за нами, но я их прогоняю.
– Все эта история про то, как бедняжка Бахадур пропал, – говорю я Пари и Фаизу, – она как плохой индийский фильм, уже слишком затянулась.
Мне приходится повышать голос, потому что малыши, которые играют в каббади-каббади-каббади, слишком громко визжат, и от их быстрых-как-у-гепарда ног с земли большими коричневыми завитками поднимается пыль.
– Я стану детективом и найду Бахадура, – говорю я своим самым взрослым голосом. – А ты, Фаиз, будешь моим помощником. У каждого детектива есть помощник. У Бемкеша есть Аджит, а у Фелуды – Топше.
Пари и Фаиз смотрят друг на друга.
– Фелуда – детектив, а Топше – его двоюродный брат, – объясняю я. – Они бенгальцы. Продавец бенгальских сладостей на Призрачном Базаре, рядом с магазином Чачи Афсала, вы его видели. Ну, старик, который все время трясет метлой, если мы подходим слишком близко к его сладостям? Вот он. Его сын читает комиксы про Фелуду. Он как-то пересказал мне одну из историй.
– Что это за имя – Фелуда? – спрашивает Фаиз.
– А чего это ты будешь детективом? – спрашивает Пари.
– Вот именно, – говорит Фаиз. – Почему это ты не можешь быть моим помощником?
– Аррей, да что вы знаете про детективов? Вы не смотрите «Полицейскийпатруль».
– Я знаю про Шерлока и Ватсона, – говорит Пари. – А вы двое даже не слышали о них.
– Ват-Сон? – спрашивает Фаиз. – Это что, тоже бенгальское имя?
– Забудь, – говорит Пари.
– То, что ты читаешь книжки, не означает, что ты самая умная, – говорит ей Фаиз. – Я работаю. Жизнь – лучший учитель. Все так говорят.
– Так говорят только те, кто не умеет читать, – отвечает Пари.
Эти двое вечно ссорятся, как муж и жена, которые слишком долго живут вместе. Но они не смогут пожениться, когда мы вырастем, потому что Фаиз мусульманин. Слишком опасно играть свадьбу с мусульманином, если ты индуска. В новостях по телевизору я видел кроваво-красные фотографии людей, которых убили за то, что они женились на ком-то из чужой религии или касты. Кроме того, Фаиз ниже Пари, поэтому они в любом случае друг другу не подходят.
– Эта работа помощника, – говорит Фаиз, – сколько за нее платят?
– Никто нам не платит, – говорю я. – Мама Бахадура бедна. У нее была золотая цепочка, но теперь и ее нет.
– Тогда зачем мне это? – спрашивает Фаиз.
– Мама Бахадура так и будет ходить в полицию, полиция рассердится и разрушит нашу басти, – объясняет Пари Фаизу мою мысль. – Но мы сможем помешать этому, если отыщем его.
– У меня нет времени, – говорит Фаиз. – Мне надо работать.
– Чтобы волосы были «нежные и шелковистые»? – спрашивает Пари. – Или «ослепительно темные»?
– И чтобы я пах «Фиолетовым лотосом» с кремом, – говорит Фаиз.
– Его не существует. Это просто выдумка. Твоя учительница-жизнь забыла тебе рассказать об этом или что? – глумится Пари.
– Слушайте, – говорю я, чтобы они прекратили ругаться. – Я задам вам несколько вопросов. Тот, кто даст больше правильных ответов, сможет стать моим помощником.
Они оба громко стонут, словно ударились пальчиком ноги о большой камень.
– Джай, ну ты на, – говорит Пари.
– Он чокнутый, – соглашается Фаиз.
– Так, первый вопрос. Большинство детей в Индии похищают: а) люди, которых они знают или б) люди, которых они не знают?
Пари не отвечает. Фаиз не отвечает.
Звенит звонок.
– Мы можем поискать Бахадура вместе, – говорит Пари, – но я не буду твоим помощником или кем-то еще. Ни за что.
Мне жаль, что Фаиз не будет моим помощником, но девчонка тоже ничего. Может быть. Папа рассказывал мне о детективном шоу под названием «Карамчанд», которое давным-давно шло по телевизору. У Карамчанда была помощница по имени Китти, но, к сожалению, Китти была не очень умной, и Карамчанду все шоу приходилось говорить ей, чтобы она заткнулась. Эта история из тех, что приводят Пари в ярость. Если я велю Пари заткнуться, она мне врежет.
– Какой у нас будет секретный сигнал? – спрашиваю я Пари. – У детективов должен быть секретный сигнал.
– Это что, самое главное? Секретный сигнал? – спрашивает Пари. – Давай серьезно.
– Это серьезно.
Пари закатывает глаза. Мы идем обратно в класс.
– Если ребенок пропал без вести более чем на двадцать четыре часа, полиция должна открыть дело о похищении, – говорю я.
– Откуда ты это знаешь? – спрашивает Пари.
– Телевизор, – говорю я. – Полиция не сделала этого для Бахадура.
– А ты что, не читала про это полицейское правило у себя в книжках? – спрашивает Фаиз у Пари.
– Большинство детей в Индии похищают незнакомцы, – объявляю я им. Я не знаю этого точно, но, как по мне, звучит правильно.
Наше первое детективное задание
– это допросить Омвира. Он знает о Бахадуре больше, чем кто-либо другой. Это правило: наши друзья знают то, что мы скрываем от родителей. Ма понятия не имеет, что перед Дивали директор надрал мне уши, когда я спел «Сияй, сияй, маленькая звездочка»[25] вместо национального гимна «Йана, Гана, Мана» на собрании. А Пари и Фаиз знают. Они потом дразнили меня Звездочкой несколько дней, но скоро забыли про это. Ма никогда бы не забыла. Вот почему я ничего не могу ей рассказать.
Фаиз, а он ведь даже не в нашей детективной команде, сразу же разносит в пух и прах план допроса, который я предлагаю.
– Вы должны сначала допросить Четвертака, – говорит он, когда мы идем домой из школы. Смог залетает и вылетает из его рта, заставляет его кашлять. – Четвертак – твой подозреваемый № 1, верно, Джай? Вот почему ты заговорил с ним вчера.
– Да что ты знаешь? Ты думаешь, что Бахадура украл джинн.
Я говорю шепотом. Если джинны существуют, я не хочу, чтобы они меня услышали.
– Мы можем допросить всех, – говорит Пари. – Давайте зайдем в тхэку и поспрашиваем там людей про Четвертака. Если они пьяные, то могут рассказать нам правду.
– Ахча, ты теперь и по пьяницам эксперт? – спрашивает Фаиз.
Это я тут решаю, что нам делать, но, прежде чем я успеваю возразить, Фаиз бьет кулаком черный воздух и кричит:
– Тхэка чало.
Он опоздает на свою смену в магазинчик-кирану, в которой должен раскладывать по полкам мешки с рисом и чечевицей, но он не против. Он надеется, что застанет в тхэке своих старших братьев.
Мусульманам нельзя пить, а Тарик-Бхай и Ваджид-Бхай – хорошие мусульмане и молятся по пять раз в день, а еще иногда сбегают выпить бутылочку дару. Если Фаиз их застукает, они заплатят ему большие деньги, чтобы сохранить это в тайне от их амми. Не то Фаиз предложит амми вечером понюхать их дыхание.
– Что-то тут нечисто, тебе не кажется, амми? – многозначительно спросит он.
Он уже так делал.
Фаиз и Пари идут в переулок, который ведет к тхэке, и даже не ждут меня. Мое расследование еще не началось, но уже идет не по плану.
В переулке много подозрительных людей и запахов. Пожилая леди с бархатцем за ухом торгует в палатке биди и пааном, но когда мальчики и мужчины вручают ей деньги, она дает им упакованные пакетики с чем-то высушенным и коричнево-зеленым вместо сигарет.
– Сосредоточься, – шипит Пари мне на ухо и тащит прочь.
Пьяницы сидят на корточках или лежат на земле возле тхэки, поют и бормочут. Воздух трясется от громких басов, несущихся из бара.
– С этими идиотами не поговоришь, – замечает Пари.
Фаиз указывает на человека, торгующего яйцами и хлебом с тележки.
– Спроси анда-валлу. Он всегда здесь.
Мы стоим сбоку от тележки, потому что спереди сложены коробки для яиц; мы слишком маленькие, чтобы он увидел нас за ними.
– Четвертак, знаете его? – спрашиваю я. Анда-валла точит ножи, и их стук-звон громче, чем музыка из бара. Он не поднимает глаз.
– Четвертак, он всегда ходит в черном. Сын нашего прадхана, – говорит Пари. Потом она поворачивается к Фаизу и шепчет: – Как его зовут по-настоящему?
Фаиз пожимает плечами. Я тоже не знаю, как зовут Четвертака.
– Давай, быстрей-быстрей, – говорит покупатель перед тележкой.
Анда-валла откладывает ножи и бросает на сковородку кусок масла, затем горсть нарезанного лука, помидоры и зеленые перчики чили. Потом посыпает их солью, порошком чили и смесью специй гарам масала. У меня во рту слишком много слюней, чтобы задавать вопросы. Как раз сегодня днем мы говорили про яйца, а теперь я стою у тележки с яйцами. Интересно, бывал ли Бемкеш Бакши слишком голоден, чтобы вести расследования.
– Сэр-джи, – говорит Фаиз, – мы ищем Четвертака.
На самом деле глаза Фаиза рыщут по переулку в поисках братьев, но удача сегодня не на его стороне: их здесь нет.
– Он, несомненно, скоро почтит нас своим присутствием, – говорит анда-валла.
– А он был здесь, – спрашивает Пари и делает паузу, чтобы что-то подсчитать на пальцах, – семь ночей назад? В прошлый четверг?
Меня бесит, что этот вопрос хорош: если Четвертак был в тхэке в ту ночь, когда Бахадур исчез, то он не мог его украсть.
– Вероятно, – говорит продавец, одновременно разбивая два яйца над сковородкой. – Какое тебе дело, где он был?
– Мы ищем нашего друга, он пропал, – говорит Пари. – Он мог быть с сыном прадхана. Мы беспокоимся за него.
Она и правда выглядит обеспокоенной. Хлопает глазами, губы дрожат, как будто она вот-вот расплачется.
Анда-валла прижимает поварешку к плечу. На его рубашке теперь пятно от желтка.
– Четвертак и его банда обычно здесь, даже когда я ухожу в два или три часа утра. Но я не видел с ними ни одного ребенка. Они слишком взрослые, чтобы дружить с детьми.
– Но Четвертак был здесь на прошлой неделе каждую ночь? – спрашиваю я.
– Конечно, он был здесь. Ему не нужно платить за дару. Если тебе что-то дают бесплатно, ты ведь это возьмешь, не так ли?
Я с надеждой смотрю на яйца. Продавец перекладывает готовую бхурджи на бумажную тарелку, втыкает ложку в вершину яичной горы и вручает ее нетерпеливому клиенту.
– Смотри-ка, кто тут, – шепчет Фаиз.
Мимо тележки, пошатываясь, словно он уже пьян, проходит Четвертак и с любопытством смотрит на нас. Мы не можем расспрашивать людей про него, пока он сам поблизости, поэтому мы уходим.
Фаиз знает все о Призрачном Базаре, потому что проводит на нем больше времени, чем Пари или я.
– Тхэка работает благодаря прадхану, – говорит он, когда мы оказываемся на безопасном расстоянии от Четвертака. – Это незаконно, но он велел полиции не трогать ее.
Рука прадхана дотягивается до каждого закоулка у нас в басти. У него своя сеть информаторов, которые передают ему новости из басти 24/7. Ма презирает этих людей, что следят за нами и бегают к прадхану с докладом про новенький телевизор или холодильник в доме, или сплетней, как чья-то хайфай-мадам была щедра на бакшиш во время Дивали. Ма говорит, что прадхан подсылает полицейских, чтобы они отняли у людей то маленькое счастье, что у них есть.
Фаиз отправляется в кирану. У него плохой день. Яиц нет, братьев в баре нет, никаких больше расследований вместе с нами.
– Если Четвертак проводит каждую ночь в тхэке, означает ли это, что он не крал Бахадура? – спрашиваю я, отдергивая Пари с пути электрорикши, который, виляя, несется по переулку.
– Анда-валла не был уверен на сто процентов, – говорит Пари. – Он сказал, что обычно по ночам Четвертак там. Кроме того, мы не знаем, во сколько именно исчез Бахадур. Это могло быть и в четыре часа утра.
Вот это и есть расследование: сперва одни лишь догадки, даже у Бемкеша Бакши и, вероятно, у Шерлока тоже.
Мы идем к дому Омвира. Рядом с нами какой-то мальчик выгуливает бродячую собаку на веревочке. Его собака – понарошку лошадь; он держит веревочку, словно это повод, щелкает языком и делает «цок-цок», как лошадиные копыта.
– Нам тоже нужна собака, – говорю я Пари. – Она приведет нас к преступникам.
– Сосредоточься, – говорит Пари. – Зачем Четвертаку похищать Бахадура?
– Может, он хочет выкуп.
– Если бы кто-то потребовал у матери Бахадура выкуп, мы бы уже услышали об этом.
– Ей было бы нельзя никому рассказывать, – говорю я.
Мы не можем поговорить с Омвиром, потому что его нет дома.
– С тех пор как его друг пропал, он болтается на Призрачном Базаре, надеется, что где-нибудь наткнется на Бахадура, – говорит мама Омвира. Она держит на руках младенца, и тот постоянно бьет ее по лицу маленькими кулачками.
Брат Омвира писает в канаву рядом с их домом. Если делаешь дело № 1 и дело № 2 там, где живешь, у тебя в животе могут завестись длинные червяки, поэтому Ма настаивает на том, чтобы я ходил в туалетный комплекс. Мама Омвира устает от ударов своего младенца-боксера и идет в дом уложить его, задернув за собой занавеску-дверь.
Брат Омвира, мальчик помладше нас, заканчивает писать и застегивает джинсы.
– У Омвира есть мобильный телефон? – спрашивает его Пари. – Нам нужно поговорить с ним.
– Бхайя с папой. У папы есть мобильный. Хотите его номер?
– Нет, – говорю я. Трудно будет объяснить наше расследование взрослым.
– Омвир не ходит в школу или что? – спрашивает Пари.
– Бхайя занят. Он должен помогать папе целыми днями. Он забирает у клиентов мятую одежду, а потом привозит им обратно глаженую. Если у него есть свободное время, он тратит его на танцы, а не на учебу.
– На танцы? – спрашивает Пари.
– Он только про них и говорит. Он думает, что он новый Ритик.
Мальчик напевает мотив песни Ритика Рошана[26], размахивает руками, качает головой и трясет ногами. Мне требуется некоторое время, чтобы понять, что он танцует.
– Почему я такой? – вопит он радостно. – Почему я такой?
Пари ухмыляется. Она в восторге от шоу.
– Наша работа не закончена, – напоминаю я ей.
Входная дверь в дом Бахадура открыта. Когда мы заглядываем внутрь, там все точно так же, как у меня, но как будто всего побольше: с бельевых веревок над нами свисает больше одежды, на приподнятой платформе – кухонном уголке больше перевернутых кастрюль и сковородок, на стенах больше фотографий богов в рамках – их стекла закоптились из-за ароматических палочек, воткнутых в уголки, больше телевизор и даже есть холодильник, которого у нас нет вообще, поэтому летом все, что готовит Ма, надо съедать в тот же день. Мама Бахадура, должно быть, зарабатывает гораздо больше, чем мои Ма с Папой.
Пьяница Лалу спит на кровати вроде тех, что стоят в хайфай-спальнях, одеяло натянуто до плеч. Младшие брат и сестра Бахадура сидят на полу и выбирают камешки из риса в стальной тарелке.
– Намасте, – говорит Пари, стоя у порога. Она никогда никого так не приветствует. – Можете выйти к нам, пожалуйста? Мы хотим узнать про Бахадура.
– Бхайи тут нет, – говорит сестра Бахадура, послушно вставая и глядя на нас с открытым ртом, хотя мы с Пари носим такую же форму, какую она, должно быть, видела на Бахадуре. Ее брат тоже выходит.
– Вы знаете, где Бахадур? – спрашивает Пари, и этот вопрос плох. Они бы рассказали своей маме, если бы знали.
– Как тебя зовут? – спрашиваю я девочку, потому что хорошие детективы сперва пытаются подружиться с людьми, чтобы те говорили правду. Девочка раскачивается. На ней мальчишеские штаны, которые ей на несколько размеров велики – они заколоты на талии большой толстой булавкой.
– Мы одноклассники Бахадура, – говорит Пари. – Я Пари, а это Джай. Мы пытаемся найти вашего брата. Было ли у него место, куда он любил ходить после школы?
– На Призрачный Базар, – говорит мальчик. На нем женская блузка с белыми оборками и розовой вышивкой. Может быть, он поменялся одеждой с сестрой, а их мама не заметила.
– Куда именно на базар? – спрашивает Пари.
– Бахадур-Бхайя работал в магазине электроники Чачи Хакима. Он починил наш телевизор, наш холодильник, а еще кондиционер.
– Бахадур все чинит? – спрашиваю я. Покрытый паутиной розовый кондиционер закинут на стопку кирпичей напротив дырки-окошка в стене, откуда он может дуть холодным воздухом к ним в дом.
Пари стреляет в меня предупреждающим взглядом, изо всех сил вытаращив глаза. Если бы у нас был секретный сигнал, она бы использовала его прямо сейчас, чтобы заткнуть меня.
– Мы думаем, что Бхайя сбежал, – говорит мальчик.
– Куда? – спрашиваю я.
Девочка нажимает рукой на переносицу.
– Меня зовут Барха, – говорит она. Затем сует палец в нос.
– Бхайя говорил о побеге в Манали, – говорит мальчик. – С сыном гладильщика-валлы. С Омвиром.
– Нет, не в Манали. В Мумбаи, – говорит девочка.
– Так в Манали или в Мумбаи? – спрашивает Пари.
Мальчик почесывает ухо. Девочка вытаскивает палец из носа и смотрит на ногти.
– Омвир хочет поехать в Мумбаи, чтобы увидеть Ритика Рошана, – говорит мальчик. – А Бхайя хочет посмотреть на снег в Манали. Сейчас же зима, на, и там много снега.
– Омвир все еще здесь, – говорю я.
– Ну, может быть, Бхайя поехал в Манали один, – говорит мальчик. – Он вернется, как только наиграется в снегу.
– Дома все было в порядке? – спрашивает Пари. – В последний раз, когда я видела Бахадура в школе, он казался немного, – сморщившись, она пытается найти подходящее слово, – посиневшим.
– Папа часто бьет нас, – говорит брат Бахадура, словно это пустяк. – Бхайя давно бы убежал, если бы это его беспокоило.
– Кто-то еще беспокоил Бахадура? – спрашивает Пари.
– У него есть враги? – мне наконец удается задать вопрос.
– Бхайя никогда не попадает в неприятности, – отвечает мальчик.
– У вас есть его фотография? – спрашивает Пари.
Я бью себя за то, что не подумал об этом первым. Фотографии – самая важная часть любого расследования. Полицейские должны загрузить фотографию пропавшего ребенка в компьютер, а оттуда Интернет отнесет ее в другие полицейские участки так же, как вены относят кровь к рукам и ногам и мозгу.
Булавка, державшая штаны девочки, откалывается. Девочка начинает реветь. Мальчик ухмыляется. У него нет трех или четырех передних зубов.
Пари делает «уфф», как будто она сыта по горло, но говорит девочке:
– Не плачь. Сейчас все исправлю, минуту. Всего минутку. – Она закалывает булавку обратно за две секунды.
– У папы должно быть фото, – говорит мальчик, водя рукой по оборкам своей рубашки-блузы.
Мы на цыпочках заходим в дом Бахадура. Запах тут кислый, как от болезни, и сладкий, как от гниющих фруктов. Брат и сестра Бахадура садятся на пол, подальше от кровати. Я хочу, чтобы они разбудили Пьяницу Лалу, но их взгляды уже устремились на рис, разделенный на две части: одна уже очищена от камней, а другую еще нужно просеять.
– Давай ты, – шепчет мне Пари.
Из-под одеяла виднеется только лицо Пьяницы Лалу. Рот у него приоткрыт, глаза тоже. Как будто он следит за нами во сне.
– Не будь мокрой кошкой, – шепчет Пари.
Легко ей говорить. Она не стоит к нему так близко, как я.
Но делать нечего. Я Бемкеш и Фелуда, и Шерлок, и Карамчанд – все в одном. Я трясу правую руку Пьяницы Лалу, накрытую одеялом. Оно грубое и колючее. Одеяло соскальзывает, и когда я прикасаюсь к его ладони, она слишком горячая, словно у него жар. Он поворачивается и продолжает спать на боку.
Я снова толкаю Пьяницу Лалу, на этот раз сильно.
Пьяница Лалу вскакивает.
– Что такое? – кричит он, таращит испуганные глаза на испитом лице. – Бахадур? Ты вернулся?
– Его одноклассник, – говорю я. – У вас есть его фотография?
– Кто это? – спрашивает женский голос. Это мама Бахадура: у нее в руках пластиковые пакеты, наверное, со вкусной едой, которую, как я слышал, ее милая хайфай-мадам отдает ей каждый день. Она включает свет, и Пьяница Лалу сперва моргает, а затем прикрывает глаза руками, как будто лучи лампочки – это копья, что протыкают его.
– Мы друзья Бахадура, – говорит Пари. – Зашли узнать, нет ли у вас его фото. Хотим поспрашивать на базаре, вдруг его кто-нибудь видел. С фотографией будет проще.
Наверное, Пари удается так быстро придумывать разную ложь, потому что она прочитала много книг, и все истории из них теперь у нее в голове.
– Я уже спрашивала на базаре, – говорит мама Бахадура. – Его там нет.
– А как насчет железнодорожного вокзала? – спрашивает Пари.
– Вокзала?
Сестра и брат Бахадура смотрят на нас в ужасе. Кажется, они не рассказывали маме о планах Бахадура, может быть, потому, что боялись, что она будет ругаться, что они не наябедничали на него, когда он впервые заикнулся про Мумбаи-Манали.
– Проверим еще разок, – говорит Пари. – Хуже ведь не будет, если мы проверим еще разок, верно?
Мне кажется, что мама Бахадура сейчас прогонит нас, но она ставит свои пакеты на землю, открывает шкаф, вытаскивает из него какую-то тетрадку и перелистывает страницы, пока не находит фотографию и передает ее Пари.
Я пододвигаюсь, чтобы посмотреть на фото. Бахадур на ней в алой рубашке, его смазанные маслом волосы аккуратно разделены на пробор посередине. Красный цвет такой яркий и счастливый на тусклом кремовом фоне. Бахадур не улыбается.
– Ты мне ее вернешь? – спрашивает мама Бахадура. – У меня не так много его фотографий.
– Конечно, – говорю я.
Пари касается уголка фотографии и проводит пальцем вперед-назад, словно хочет порезаться.
– Люди думают, он убежал, – говорит мама Бахадура, – но мой мальчик, он никогда не дал бы мне повода для беспокойства. Вы знаете, он работает у Хакима и на деньги, что зарабатывает, покупает нам сладости. Если я слишком устала, чтобы готовить, он говорит: «Ма, подожди», – бежит на базар и возвращается с коробками лапши чоу-мейн на всех. У моего сына золотое сердце.
– Он лучше всех, – говорит Пари, и это еще одна ложь.
– Если бы он убежал, как сказали те полицейские, то разве он не взял бы с собой что-нибудь – деньги, еду? Из дома ничего не пропало. Одежда здесь, школьная сумка тоже. Зачем ему убегать в школьной форме?
Мать Бахадура смотрит куда-то над нами, наверное, на стену – в точку, на которой ее взгляд останавливается прежде, чем затуманиться. Она раскачивается вперед-назад. Я проверяю пол, чтобы понять, не трясется ли он. Но земля у меня под ногами твердая и неподвижная. Позади нас рыгает Пьяница Лалу.
– Никто у вас ничего не просил, а, чачи? – спрашивает Пари. – Скажем, денег за возвращение Бахадура?
– Думаете, его кто-то похитил? – спрашивает мама Бахадура. – Тот баба, Бенгали Баба, он сказал…
– Чачи, – говорит Пари, – иногда даже бабы ошибаются. Моя мама так говорит.
– Никто не требовал у меня денег, – говорит мама Бахадура.
– Я уверена, Бахадур вернется, – говорит Пари.
– Ел ли он хоть что-нибудь? – говорит мама Бахадура. – Он, наверное, сейчас такой голодный.
Затем она бросается к кровати, на которой сидит Пьяница Лалу. Он отодвигает ноги, чтобы освободить для нее место.
Пари открывает рот, чтобы еще что-то сказать, но я кричу:
– Окей-тата-пока, мы пошли. – Затем я быстро-быстро убегаю, потому что в этом доме грусть прилипает ко мне, как влажная от пота рубашка в жаркий летний день.
У нас достаточно времени, прежде
чем станет слишком темно, чтобы пойти на Призрачный Базар и поискать Хакима из мастерской по ремонту телевизоров. Ноги больше не хотят шагать со мной. Я должен заставлять их идти вперед.
Базар кажется все больше и больше. Я прохожу по переулкам, на которых никогда раньше не бывал. Пари тоже устала, и мы плетемся с черпашьей скоростью.
– Когда же мы будем делать уроки? – спрашивает она. Типичная Пари – вечно беспокоится из-за пустяков.
Я готовлю в голове список вопросов, чтобы Пари не смогла опять изображать из себя главную. Но когда мы встречаемся с Хакимом – чачей по ремонту телевизоров, он заговаривает про Бахадура без всяких наводящих вопросов.
– Я видел его в пятницу, может, даже в субботу, но определенно не видел его в воскресенье, – говорит он, поглаживая заостренную бороду, снизу оранжевую, как хна, а сверху белую, как его волосы. – Это через целых два дняпосле того, как его видели собственные брат и сестра, как я потом узнал. Он все время был в форме. Я предположил, что он прогуливает школу из-за хулиганов – вы, наверное, видели, как они дразнят Бахадура? Бедный ребенок. Угостить вас чаем? Вы молодцы, что ищете его. Заслуживаете награду.
Прежде чем мы успеваем ответить, он заказывает чай с кардамоном в палатке поблизости, и нам вручают высокие стаканы с пузырьками пены сверху. На вкус чай дорогой. Пока мы пьем, клубы дорогого пара согревают нам щеки.
– Бахадура здесь нет, ни в басти, ни на базаре, – говорит нам чача по ремонту телевизоров. – Если бы он был здесь, то уже пришел бы ко мне.
Я верю ему, потому что чача – самый славный человек, которого я когда-либо встречал. Он даже к нашему расследованию серьезно отнесся. Он говорит нам, что Бахадур:
♦ никогда ни с кем не дрался, даже с детьми, которые смеялись над его заиканием;
♦ ничего не крал из магазина;
♦ не планировал сбежать в Мумбаи-Манали.
Я спрашиваю чачу по ремонту телевизоров, был ли Четвертак одним из тех, кто издевался над Бахадуром, но чача не знает Четвертака, только прадхана.
– Этот человек, – говорит чача сморщив нос, как будто где-то воняет, – на все готов пойти ради денег.
– И ребенка украдет? – спрашиваю я.
Чача выглядит озадаченным. Пари смотрит на меня сквозь кардамоновый пар.
– А джинн мог украсть Бахадура? – спрашиваю я.
– Бывают злые джинны, – говорит чача, – которые могут овладеть твоей душой. Очень редко они похищают детей. Но конечно, их исключать нельзя. Некоторые джинны – большие разбойники.
Тут его отвлекает шум в переулке. Это двое нищих, я их раньше видел: они особенные, потому что один сидит в инвалидной коляске, а второй, с выгнутыми колесом ногами, шаркает позади и толкает коляску. Из динамика, висящего на спинке, несется записанный женский голос. «Мы оба мучаемся ногами, – говорит голос. – Пожалуйста, помогите нам деньгами. Мы оба мучаемся ногами, – продолжает он. – Пожалуйста…» Голос никогда не устает.
– Сюда, сюда, – чача подзывает их и покупает чай им тоже.
– Должно быть, уже поздно, – говорит Пари, когда уличные фонари окрашивают пятна черного смога в желтый.
Мы прощаемся с чачей и идем домой.
– Мой инстинкт подсказывает мне, что Бахадур сбежал, – говорит Пари как детектив. – Ни у кого из нашей басти нет причин похищать его. Должно быть, он заработал много денег у чачи и теперь уехал поработать в какой-нибудь другой мастерской по ремонту телевизоров. Подальше отсюда и от Пьяницы Лалу.
– В Манали?
– Почему бы и нет? В Манали люди тоже смотрят телевизор.
Нам машут мальчики и девочки из нашей школы, играющие в переулке. Я не машу в ответ. Не хочу давать им повод присоединиться к нашей команде детективов.
– Или мы расскажем маме Бахадура о его планах насчет Манали, – говорит Пари, – или поедем на главный железнодорожный вокзал, покажем людям его фото и поспрашиваем их, не видели ли они его.
– Мы не можем рассказать маме Бахадура и Пьянице Лалу. Они разозлятся на сестру и брата Бахадура или даже побьют их.
– Значит, нам придется съездить на городской вокзал, – говорит Пари. – И остановить Бахадура прежде, чем он сядет в поезд.
– Аррей, но что, если он уже в Манали?
– Если мы сможем выяснить наверняка, что он сел на поезд до Манали, полиция поищет его там. Они же не могут быть такими же плохими, как полиция у нас в басти, да? Сейчас мы не знаем, где вообще Бахадур. Все, что нам нужно, – это одна хорошая зацепка, вот и все.
Я помню, что на железнодорожной станции должны быть камеры видеонаблюдения; копы из «Полицейского патруля» часто просматривают кадры видеосъемки, чтобы поймать преступников и сбежавших детей. Я не говорю об этом Пари. Вместо этого я говорю:
– Ты что, забыла, что, во-первых, до вокзала нужно добраться, а он далеко-далеко в городе. Во-вторых, до него надо ехать по Фиолетовой ветке, а без билета даже на платформу не попасть. Метро – это тебе не «Индийские железные дороги».
– Я знаю.
– Твой папа что, миллионер-крорепати[27], и у него есть лишние деньги нам на билеты?
– Мы можем попросить денег у Фаиза.
– Никогда.
– Разве не ты говорил, что после первых сорока восьми часов пропавшего ребенка становится все труднее и труднее найти?
Я не помню, как говорил это, но звучит как то, что я мог бы сказать.
Когда я добираюсь до дома, уже темно, но мне повезло, Ма и Папы еще нет. Руну-Диди разговаривает с Шанти-Чачи и растягивается, стоя на правой ноге, как журавль. Ее левая нога согнута в колене.
– Ты разве не должна готовить ужин? – спрашиваю я у Диди.
– Только послушайте, как он со мной разговаривает, – жалуется она Шанти-Чачи. – Думает, он принц, а я должна исполнять все его прихоти.
– Когда он вырастет, – говорит Чачи, – если ему повезет, ему достанется такая жена, как я, которая научит его, что он может либо готовить себе сам, либо голодать, на свой выбор.
Возможно, поэтому первый муж Шанти-Чачи сказал ей «окей-тата-пока», а трое взрослых детей никогда ее не навещают. Но я не стану указывать на это.
– Я никогда не женюсь, – говорю я Руну-Диди, когда мы оказываемся дома.
– Не волнуйся, любая девушка почует твою вонь за милю и сразу убежит.
Я нюхаю подмышки. Не так уж и плохо я пахну.
Ма и Папа возвращаются поздно, но вместе. Они стоят в переулке и разговаривают с нашими соседями. Лица у них слишком обеспокоенные и раздраженные, чтобы спрашивать, где они столкнулись друг с другом. Руну-Диди заканчивает готовить рис и дал и зовет Ма с Папой, но они говорят ей: «Не сейчас, Руну».
– Аррей, тут человек умирает от голода, – говорю я и нажимаю на живот.
Руну-Диди выходит на улицу. Я шагаю за ней и пою «Почему я такой?». Из домов ползет дым, тяжелый от запаха дала и байнган-бхарты[28].
Папа указывает на меня и говорит:
– Если не присматривать за этим мелким шайтаном, он пропадет следующим.
– Что? – спрашиваю я.
– Сын гладильщика-валлы исчез, – говорит Ма. – Мы видели его всего два дня назад, хаан, Джай, помнишь?
Затем Ма поворачивается к остальным и говорит:
– Мы спрашивали этого мальчика: «Знаешь, где Бахадур?» Он сказал, что нет. Как он мог так спокойно врать, я никак не пойму.
– Омвир пропал? – спрашиваю я.
– Они с Бахадуром, должно быть, уже давно это планировали, – говорит Ма.
– Такие эгоистичные дети, – говорит какая-то чачи. – Даже не задумываются, как будут переживать их родители. Теперь в дело вмешается полиция. Они приедут сюда со своими машинами. Мы все потеряем дом.
– Давайте не будем спешить с выводами, – говорит Шанти-Чачи.
– Да, правда, – соглашается Ма, как будто это не она упаковала наш дом в сверток и поставила его у двери.
– Наши люди ищут детей, – говорит Шанти-Чачи. – Они приведут мальчиков домой сегодня вечером, я уверена.
– Возможно, они отправились в Мумбаи, – говорю я тихим голосом. – Или, может, в Манали.
Я рассказываю свой секрет, но не целиком.
– Что ты сказал? – спрашивает Папа, положив руки на бедра.
– Можно мне сходить к Пари? – спрашиваю я у Ма. Это неправильный вопрос в данный момент, и я это понимаю, как только задаю его.
– Чем бы вы с ней ни занимались, это подождет до завтра, – говорит Ма.
– Вы должны купить мне мобильный телефон, – говорю я и поворачиваюсь, чтобы вернуться в дом.